СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КАШИРИН ПОЛЕТ НА ЗАРЕ Документальная повесть и рассказы
Здесь нужно, чтоб душа была тверда. Здесь страх не должен подавать совета.
ДантеЛЕТЧИК И МОРЕ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ
САМОЛЕТ НЕ ВЕРНУЛСЯ НА АЭРОДРОМ
Военный аэродром, зажатый со всех сторон высокими, поросшими лесом сопками, напоминал собой огромный, с покатыми спусками котлован. Над ним тяжело нависали по-осеннему темные, рыхлые тучи.
Снизу серая облачная завеса была похожа на толстое покрывало с небрежно разлохмаченным начесом ватина. Казалось, кто-то предусмотрительно натянул от вершины к вершине необычно большой полог, чтобы сохранить в котловане тепло. Однако где-то, наверно, осталась прореха, и оттуда ощутимо тянуло холодным ветром.
Погода была промозглой. Стоял ноябрь, но уже повсюду лежал снег. Он выпал совсем недавно и ярко белел даже в сумеречном свете короткого северного дня.
Просторное летное поле из конца в конец разрезала бетонированная взлетно-посадочная полоса. Почти черная от сырости, она резко выделялась среди заснеженной поверхности аэродрома.
У начала этой длинной и прямой как стрела дороги возвышалось двухэтажное здание, выкрашенное в черно-белую клетку. Дворец не дворец, терем не терем, а что-то сказочно-бутафорское. Стены — ни дать ни взять — увеличенные шахматные доски. Над крышей — четырехугольная башня с деревянным балконом и широкими окнами. Посмотришь сбоку — так и подмывает любопытство: а что там внутри?
Такое причудливое сооружение можно встретить лишь на отдаленных, малоизвестных, если не сказать глухих, аэродромах. В нем располагается стартовый командный пункт. Проще — СКП. Контрастная раскраска помогает летчикам быстрее заметить его с воздуха при полете над однообразной, безориентирной местностью.
На мачте СКП колыхался на ветру голубой, пересеченный золотистыми лучами флаг Военно-Воздушных Сил. Это означало, что аэродром принимает и выпускает в небо самолеты.
Летный день был в разгаре. На стоянках, на рулежных дорожках, на взлетно-посадочной полосе да и в облаках все гудело. Гудела и вибрировала под ногами сама земля.
От одной из стоянок неторопливо шагал капитан Николай Костюченко. Его худощавое, обветренное лицо с крупным носом, казалось, пламенело. Ему действительно было жарко: он только что вернулся из учебного полета на перехват воздушной цели. Встав лицом к ветру — так легче спрятать в ладонях огонек спички, — Костюченко закурил, с удовольствием затянувшись ароматным дымом «Беломора».
Николаю все здесь было давно привычным, но снежный покров своей белизной сделал окружающие предметы как бы новыми. Четче рисовалась высокая, с косыми металлическими растяжками, мачта радиостанции. Словно вагоны поезда, оставленного на зиму в тупике, уныло жались друг к другу типовые служебные домики. Вулканическими воронками выглядели заброшенные, с оползшими валами насыпи. Мрачно темнело нутро ангара технико-эксплуатационной части, в котором были настежь распахнуты раздвижные ворота.
На рулежной дорожке прямо под открытым небом крылом к крылу выстроились серебристые остроносые истребители. Рядом с громоздким темно-зеленым транспортником реактивные самолеты выглядели настоящими красавцами. В изящно откинутых назад стреловидных плоскостях, в элегантных, прямо-таки прилизанных обводах фюзеляжей и килей — во всем их облике сквозило что-то необычайно легкое, птичье. И стояли они на тонких упругих амортизационных стойках шасси настороженно, как птицы, почуявшие приближение человека. Сделай еще шаг — вся стая разом взметнется в небо.
Дозаправленные топливом, снаряженные заботливыми руками техников и механиков к повторному вылету, машины выруливали к линии старта. За их хвостами ярко полыхали языки пламени, сизым дымком струились выхлопные газы. С той стороны ветер нес запахи керосина и масла. Иногда от самолета с работающим двигателем теплой волной проходил разогретый воздух.
Летчик окинул взглядом знакомую до мелочей картину, и его охватило чувство радостного удовлетворения. В гуле и грохоте турбин, под холодным, пронизывающим до костей ветром авиаторы спокойно делали свое дело. Но вдруг динамики громкоговорящей связи разнесли по аэродрому неожиданное распоряжение:
— Двигатели выключить! Работу прекращаем.
А в эфир полетела другая команда:
— Всем немедленная посадка!
«Вот так штука! С чего бы это?» Костюченко недоуменно посмотрел вокруг себя, на пасмурное небо. Голос руководителя полетов полковника Горничева, даже искаженный и усиленный репродукторами, звучал, как всегда, спокойно, ровно. Значит, можно надеяться, что ничего страшного не случилось. Но чем же вызвана необходимость столь срочно, в середине дня прервать выполнение полетных заданий?
Чаще всего команду о прекращении полетов отдают по радио в тот момент, когда ожидается внезапное и резкое ухудшение погоды. И тут уж не мешкай, как бы далеко ни находился, торопись вернуться на аэродром. Ну а тем, кто на земле, вылет, естественно, придется отложить.
Летчиков называют хозяевами высот. Даже в песне поется, что небо — их родимый дом. Но при всей смелости, увлеченности избранным делом и некоторой веселой бесшабашности, в какой-то мере свойственной этим людям, им порой бывает неуютно и трудно в горячо любимой стихии. Так трудно, что они подчас не знают, удастся ли после очередной передряги невредимыми вернуться на землю.
За десять лет службы в авиации капитан Костюченко убедился в этом на собственном опыте. Один случай на всю жизнь в память врезался.
Он летал тогда по незнакомому маршруту. Спокойно прошел один отрезок пути, второй. Взял новый курс.
Вдруг вот так же ни с того ни с сего на борт поступила радиограмма:
— Немедленно возвращайтесь! Как поняли? Немедленно!..
— Понял, понял, — недовольно отозвался Николай, не понимая, в чем дело. Откуда он мог знать, что к аэродрому, перерезая ему путь, стремительная лавина свирепых туч несла снежный буран!
Успех в поединке циклона с человеком решала скорость. Циклон опередил. Летчик заставил машину нырнуть под тучи, но там уже разыгралась метель.
В том положении не мудрено было сдрейфить и более подготовленному пилоту. Вокруг не видно ни зги. Белое небо, белая земля — границы нет. На минуту стало трудно дышать, на лбу и ладонях выступила испарина…
В таких случаях, когда летчик попадает в сложные условия и не может посадить машину без риска для жизни, ему предоставляется право выброситься с парашютом. На это Костюченко не пошел. Он уже имел навыки в пилотировании по приборам и решился произвести заход по системе слепой посадки.
Ему разрешили, и он начал снижение. Однако снегопад не прекращался. Пришлось снова уходить в облака. Как говорят авиаторы, на второй круг.
Потом была еще одна попытка пробиться, и еще одна. Бесполезно. Николай сделал тогда ни много ни мало шесть заходов к посадочной полосе, но так и не увидел земли. А снижаться ниже пятидесяти метров ему строго-настрого запретили: можно было угробить и машину, и себя. Между тем горючее в баках кончалось, и все острее вставал вопрос: что же дальше?
Казалось, остается одно — катапультироваться. Однако тяжело решиться на это: жалко истребитель. И вообще наши летчики идут на такой шаг лишь в самом критическом положении, исчерпав все возможности, и только при том условии, если знают, что падающий самолет не рухнет на какой-нибудь населенный пункт.
Вот и Костюченко не торопился покидать машину. Он кружил и кружил в небе, поднимаясь все выше и осматриваясь по сторонам. Неужели не найти никакого выхода из ловушки, в какую загнала его непогода?! И вдруг летчик увидел, что тучи под самолетом не были сплошными. Они наглухо, словно густая дымовая завеса, закрыли огромное пространство, но вдали разделялись на две гряды. Там в них образовалось большое «окно» шириной в добрую сотню километров, а то и побольше. На аэродроме, конечно, об этом и не подозревали, зато отсюда, с высоты, была хорошо видна освещенная солнцем земля.
— Дыра! — воскликнул Костюченко. — Прореха!
— Где дыра? Какая прореха? — всполошились на стартовом командном пункте. — Доложите как следует!
Николай запнулся. Действительно, что он выкрикивает! Надо объяснить обстановку членораздельно.
Он четко, обстоятельно радировал обо всем увиденном и, получив разрешение руководителя полетов, повел машину сквозь «окно» вниз. Во избежание аварии шасси не выпускал.
Метров триста, если не все пятьсот, истребитель полз на «животе», скрежеща корпусом о камни, и наконец остановился. Стало тихо. Замедляя вращение, еле слышно, успокаивающе ласково жужжал гироскоп застопоренного авиагоризонта, а Николай долго еще сидел в кабине. По лицу его ползли капли пота.
Когда к месту посадки прибыла аварийная команда, Костюченко стоял, прислонясь спиной к выходному соплу двигателя. Он еле держался на ногах от усталости и пережитого нервного напряжения.
— Ты чего? — спросил инженер.
— Греюсь, — ответил Николай. — Движок еще теплый.
Ему не хотелось рассказывать о том, что он испытал. Главное — самолет спасен. Правда, немного помята обшивка фюзеляжа, но могло быть хуже, гораздо хуже…
Да, тогда все обошлось благополучно, но вообще со стихией шутки плохи. И если руководитель полетов подал команду следовать на аэродром, то выполнять ее надо точно и без промедления. Это — закон. Тем более что здесь, на Севере, от погоды можно ожидать в любой момент самого гнусного подвоха, а посадочных площадок во всей округе, что называется, раз-два — и обчелся. Вот и летаешь весь день настороже. Иначе нельзя. То с утра, смотришь, солнце выглянет, потом вдруг со стороны холодного моря, срезая вершины сопок, поползут гнилые тучи, хлынет дождь или снег валом повалит.
Как-никак на дворе ноябрь. В эту пору за погодой следи да следи. И не случайно дежурный синоптик неотлучно находится на стартовом командном пункте, через каждый час вызывая по телефону метеостанцию. А иной раз и чаще звонит, чтобы своевременно информировать руководителя полетов о состоянии погоды по всему району, над которым бороздят небо истребители-перехватчики. Там, в небе, пилоты могут летать при любых условиях «вслепую», пилотируя самолеты по показаниям приборов. Но рано или поздно им придется возвращаться и снижаться к аэродрому по «коридору» между высоких сопок. Закроют внезапно этот «коридор» облака — беда!..
Словно спеша избежать опасности, самолеты, один за другим выныривая из туч, быстро снижались к посадочной полосе, приземлялись и рулили к стоянкам. Одного не понимал Костюченко: что же могло помешать полетам, если ухудшения метеообстановки не наблюдалось?
Николая догнал капитан Юрий Ашаев. Он, видимо, только что вернулся из полета. На его свежем, почти мальчишеском лице горел румянец.
— Юра, в чем дело? — обратился к товарищу Костюченко. — Ни с того ни с сего полеты отбивают. Не знаешь почему?
— Не знаю, — пожал плечами Ашаев, и было видно, что его тоже занимал этот вопрос.
К домику, раскрашенному в черно-белую клетку, направлялись и другие летчики. Лица их были озабоченными.
По-своему расценив хмурое молчание сослуживцев, Костюченко с возмущением сказал:
— Так что же все-таки случилось? Не иначе, опять метеорологи мудрят. Поднимут панику: шторм! Их только послушай… А потом, смотришь, извиняются: ошиблись. Вот уж перестраховщики. Летчики понимали Николая. Ему на сегодня был запланирован еще один вылет, а подняться в воздух больше не придется, вот и кипятится. Да и вообще он такой: чуть что — вспылит, начнет руками размахивать. Горячий парень, резкий.
— Не петушись, Николай, — негромко произнес Ашаев. — Вон идет Железников. Он сейчас все объяснит. Ведь два самолета еще не сели.
— В чем дело, товарищ майор? — заспешил навстречу Железникову Костюченко. — Летать надо, а тут…
Командир эскадрильи майор Железников поднял руку:
— Тихо, товарищи…
В это время со стороны дальней приводной радиостанции донесся гул работающего на малых оборотах реактивного двигателя. Оттуда, пробив облака, заходил на посадку еще один истребитель.
— Это Кривцов, — пояснил Железников. — Вот он сейчас все подробно расскажет. Там, в воздухе, что-то случилось с самолетом Кушщына. Куницын катапультировался…
— Кто? — будто не расслышав, подался вперед Костюченко. — Кто катапультировался? Иван?
— Да, Куницын, — хрипло сказал майор. — Полковник Горничев уже распорядился начать поиски. Я с Буяновым сейчас вылетаю туда на спарке…
Полковник Горничев, находясь у пульта руководителя полетов, вначале и не понял, о чем радировал ему капитан Куницын. Его индекс — тридцать восьмой. Он отрабатывал упражнение по перехвату скоростной высотной цели. За цель ему подыгрывал капитан Кривцов. Его позывной — пятьдесят первый. Все шло у них как положено, и вдруг — сигнал бедствия.
— Я — тридцать восьмой, самолет неуправляем… Горничев недоуменно взглянул на динамик, не веря самому себе. Уж не почудилось ли?
— Повторите, тридцать восьмой. Повторите… Молчание. Все замерли в напряженном ожидании, тихо стало на командном пункте. Что там в воздухе?
Наконец сквозь легкий шорох атмосферных помех в радиоприемнике послышалось что-то невнятное:
—..лет неупр… Пытаюсь…
— Пятьдесят первый, — вызвал полковник на связь капитана Кривцова, — вы видите тридцать восьмого? Продублируйте.
— Понял, дублирую, — взволнованно отозвался Кривцов. — «Самолет неуправляем, пытаюсь вывести…»
— Тридцать восьмой, ваша высота? Снова сдавленный, прерывающийся голос:
— Вы…та девять…
«Придет беда — отворяй ворота: одна идет — и другую ведет». Мало того что с самолетом что-то не в порядке, так еще и рация закапризничала. Или, скорее всего, Куницына сейчас так мотает, что он и говорить не может. Догадываясь, что это именно так, Горничев радировал:
— Тридцать восьмому разрешаю катапультироваться. Пятьдесят первый, продублируйте!
Как ни сдерживал себя полковник, стараясь хотя бы внешне оставаться спокойным, но, когда он отдавал Куницыну приказание покинуть самолет, голос его дрогнул. Он знал: истребитель находится сейчас над морем. Упасть в такую погоду в холодные волны — да от одной этой мысли мороз по коже продирает. Но что делать, как поступить иначе? Каждую секунду неуправляемый самолет теряет по нескольку сот метров высоты, машина и летчик неизбежно рухнут в морскую пучину. Правильнее будет все же катапультироваться. Только теперь надо срочно распорядиться о поиске.
— Высота три, катапультируюсь…
Это голос Кривцова. Он дублирует доклад Куницына и, наверно, еще видит падающий самолет. Пусть наблюдает, чтобы знать место аварии.
— Пятьдесят первый, проследите! — распорядился руководитель полетов. — Разрешаю пробить облака вниз.
Теперь полковником владели уже совсем иные заботы. Искать, срочно искать! Принять все меры к тому, чтобы как можно быстрее найти летчика в морских волнах.
Не выпуская из рук микрофона, Горничев резко повернулся к своему помощнику:
— В район приводнения Куницына пошлем спарку. Пойдут Железников и Буянов. Да, и вот еще что — срочно вызовите экипаж вертолета.
Вертолетов в истребительной части нет. Но случилось так, что на аэродром накануне прибыла с грузом одна из винтокрылых машин из эскадрильи вспомогательной авиации. Помощник руководителя полетов вопросительно взглянул на Горничева. «А имеем ли мы право распоряжаться чужим экипажем без согласования с начальством?» — можно было прочесть в глазах офицера.
Поняв его сомнения, Горничев сказал:
— Объясним потом. Сейчас нельзя терять время…
В динамике опять послышался голос Кривцова. Капитан сообщил, что место приводнения Куницына засечь ему не удалось.
Что ж, вполне понятно. Сверхзвуковой истребитель предназначен для стремительного полета на перехват воздушного противника и скоротечного боя. С него почти невозможно разглядеть человека, затерявшегося в бескрайнем море: слишком велика скорость. Спарка — учебнотренировочный самолет — тоже, конечно, не тихоход, но это машина двухместная. Один летчик будет пилотировать, второй — осматривать местность.
Разрешив капитану Кривцову возвращаться, полковник задумался. Точку, куда опустился на парашюте Куницын, на карте нельзя определить даже приблизительно. Радиус (разворота скоростной машины велик. К тому же надо учесть ветер. Не исключено, что летчика отнесло к побережью. Это было бы лучше. Но не менее вероятно, что на высоте ветер дует от берега. Тогда…
— Пошлем следом за спаркой Ли-2, — помолчав, угрюмо сказал Горничев.
Не забыть бы чего-нибудь, не упустить какой-либо существенной мелочи. Транспортный самолет Ли-2, на борту которого может находиться целая группа людей, обследует район более детально. Заметит Куницына — наведет вертолет. Но спустится ли вертолет к самой воде? Вряд ли. Несущий винт поднимет тучу брызг. Значит, нужен катер или хотя бы моторная лодка.
— Срочно соедините меня с начальником порта… Срочно, срочно, срочно! Все — срочно. Да иначе и быть не может. В море — человек. Покинув самолет, он, конечно, использует имеющиеся у него индивидуальные средства спасения. Они надежны, эти средства, но сколько времени можно продержаться в студеной купели? Скорее, скорее подобрать летчика!
И полетели во все концы тревожные сигналы. Люди разных должностей и профессий откликались на эти сигналы, отодвигая в сторону все другие дела и заботы.
— Экипаж вертолета к взлету готов!
— Взлет разрешаю.
Беспокойство о подчиненном тяжелым грузом легло на плечи командира полка. Он старался не выдавать своего волнения, но в голосе начинали прорываться нетерпеливые нотки.
Начальник порта, узнав, в чем дело, долго молчал, потом, как бы оправдываясь, виновато произнес:
— Зима на носу. Навигация почти закрыта. Суда на ремонте и в консервации.
— Но катер-то вы можете дать?
— Да, да, конечно, я понимаю. Сейчас распорядимся… Четверть часа спустя приходит более обнадеживающее сообщение: несколько судов еще в море. Они спешат. У них — график. В другое время график ломать ни за что не стали бы, но ввиду чрезвычайности событий капитанам дано указание изменить курс.
Начальник порта многословен. Это раздражает, но Горничев сохраняет вежливый тон:
— Благодарю вас!
— Какие благодарности! Мы же сознаем! Мы дали сигнал «SOS».
«SOS!» Когда в эфире звучит этот сигнал, суда, куда бы они ни спешили, тотчас поворачивают туда, где кто-то терпит бедствие.
— Радируйте им координаты…
Теперь моряки, даже если бы им пришлось рисковать собственной жизнью, будут делать все, чтобы спасти попавшего в беду летчика. Только бы он продержался на воде час-другой, до прихода судов.
— Синоптики, дайте погоду!
Прогноз не радует. Надвигается холодная ночь, туман с переходом в осадки и усилением ветра. Температура воздуха минусовая. Ах, «небесная канцелярия», ты еще не подвластна воле людей…
— Штурман, уточните время наступления темноты. Полковник Горничев смотрит на часы. Пятнадцать пятнадцать. Учебно-тренировочный самолет, на котором поднялись лучшие летчики части — командиры эскадрилий Железников и Буянов, — возвращается. Летая на бреющем над морем и над побережьем, они осмотрели весь район, где, по их предположениям, мог находиться сейчас Куницын. Увы, ничего. Облачно, серо кругом, сумеречно. Пятнадцать тридцать. Спарка приземлилась. Остается совсем немного относительно светлого времени. Черная тьма долгой северной ночи быстро идет на смену тем мглистым сумеркам, которые здесь в эту пору года принято считать днем. Почему ничего не сообщают вертолетчики?
— Вижу в волнах человека!..
Это голос командира экипажа вертолета капитана Савенко.
Ага! Наконец-то! Осунувшееся лицо Горничева смягчилось, взгляд посветлел.
— Нашли? — воскликнул молчавший до сих пор помощник руководителя полетов.
Вскочил со своего места дежурный метеоролог, облегченно вздохнул штурман, улыбнулся солдат-хронометражист. И вдруг тот же голос, полный разочарования и досады:
— Бревно…
В другое время полковник Горничев строго одернул бы командира экипажа вертолета за нарушение правил радиообмена — доклад не по инструкции, но сейчас он, видимо, и сам забыл о существовании таких правил. Все мысли об одном: найти, спасти, быстрее доставить капитана Кушщына на аэродром, домой!..
Снаружи кто-то открыл дверь, В помещение стартового командного пункта вошел начальник штаба:
— Товарищ полковник, какие будут указания?
Горничев, помедлив, сказал:
— Доложите командующему округом: на аэродром не вернулся один самолет. Летчик капитан Куницын катапультировался. Меры для поисков приняты.
— Есть!
Неслышно закрыв за собой дверь, подполковник ушел, и в комнате снова наступила тишина. Лишь в динамике командной рации временами раздавались резкие шорохи, будто кто-то невидимый неподалеку разрывал крепкую ткань. Перед глазами руководителя полетов размеренно отсчитывали секунды вмонтированные в пульт самолетные часы. Их сухое тиканье и треск атмосферных разрядов в динамике начинали раздражать. Минуты бегут и бегут, а Куницына никак не могут найти.
Горничев откинулся к спинке стула, положил микрофон, отодвинул ненужную теперь плановую таблицу. Он все время думал о Куницыне. Капитан вроде бы не должен удариться в панику, выдержка у него есть. Обидно только, что приходится пока сидеть в томительном ожидании, не имея возможности предпринять что-то более эффективное, чтобы помочь ему.
Из окон полковник хорошо видел чуть ли не весь аэродром, покрытый довольно плотным слоем снега. Пустынно чернела широкая лента похожей на автостраду бетонированной полосы. Вправо, под прямым углом к ней, тянулась такая же серая рулежная дорожка, вдоль которой расположились еще не зачехленные истребители. Возле них сновали зеленые, с фургонами, автомобили, хлопотали, заканчивая послеполетный осмотр, техники и механики.
С другой стороны «рулежки» стояла группа летчиков. Обсуждая что-то, многие возбужденно жестикулировали, наверно спорили. Над их головами струился легкий дымок: они курили.
Справа кто-то напрямик быстро шел к стартовому командному пункту, но, очевидно, раздумал или забыл что-то: вдруг повернул назад. Остановился. Опять пошел. Судя по высокой, чуть сутуловатой фигуре, это был капитан Костюченко. Этот порывистый, темпераментный летчик дружил с Куницыным, и Горничев догадывался, как он сейчас взволнован нежданно‑негаданно нагрянувшей бедой. Вот опять сюда идет. Нет, направился к товарищам…
Николай Костюченко не находил себе места. Он уже в который раз порывался пройти к СКП, но его останавливал строгий приказ командира части — не беспокоить во время работы. Капитан возвращался к сослуживцам, подходил то к одному, то к другому:
— Что же все-таки могло произойти?
Никто, конечно, ничего толком не знал, и Николай принимался вслух строить самые различные предположения и догадки о причинах аварии.
Этот вопрос мучил всех. Каждый из летчиков понимал, к чему приводит отказ рулей в воздухе. Куницын, конечно, поступил правильно. Но почему все-таки ему пришлось покинуть самолет?
— М-да, — протянул Ашаев, — был полк безаварийным, и вот…
— Что ты этим хочешь сказать? — насторожился Костюченко.
— Да вот думаю… Может быть, Иван сам чего-нибудь недосмотрел?
— Ну, это ты, Юрий, брось! — вскинулся Николай. Оп и мысли не допускал, что его друг мог проявить в чем-то халатность. Не такой Иван Тимофеевич человек.
— Да, ты прав, — согласился Ашаев. — Но ведь и на старуху бывает проруха. Помнишь случай с Назаровым?..
Это было давно. Летчики тогда только начинали осваивать новый истребитель. Первыми к самостоятельным полетам были допущены, как водится, наиболее опытные пилоты. Все остальные толпились у стоянок, наблюдая, как стартуют новые машины. Еще бы, такое событие! И вот самолет, пилотируемый заместителем командира эскадрильи майором Назаровым, едва оторвавшись от земли, круто полез вверх.
— Смотрите, смотрите, на петлю пошел! — воскликнул кто-то из молодых механиков.
— Не мели, чего не знаешь! — прикрикнули на него.
Не знал новичок, что сразу после взлета петлю Нестерова не сделаешь. Крутой набор высоты грозит потерей и без того небольшой еще скорости. Летчик изо всех сил отжимал ручку от себя, но машина не слушалась рулей в продолжала задирать нос. Наблюдая за тем, как она становится «на дыбы», все буквально оцепенели. Еще секунда-другая — и самолет свалится на крыло, грохнется на землю.
Майор Назаров в тот критический момент проявил редкое самообладание и находчивость. Он мгновенно принял исключительно верное решение — включил форсаж. Это его и спасло. Разом возросшая тяга мощных двигателей сделала то единственное, что нужно было в таком положении: истребитель, как бы опираясь на реактивные струи, в самом деле помчался по вытянутой кривой на петлю и на высоте в несколько сот метров лег на спину.
Казалось, произошло что-то невероятное, но и это было не все. Там, в верхней точке, летчик с непостижимой быстротой вывернул самолет, сделав полубочку. Право, такого зрелища в авиации до сих пор никто не видел. Выполнить без разгона две фигуры сложного пилотажа не удавалось еще никому.
— Вот это техника! — восторженно говорили летчики, хотя, конечно, понимали, что не ради куража куролесил майор Назаров. Что-то, безусловно, стряслось с машиной. Что?
Назаров, идя уже по горизонтали, тоже ломал над этим голову. Осторожно пробуя рули, он не торопясь осматривал кабину. А когда понял, в чем дело, зло чертыхнулся: тумблер системы управления стоял склоненным к белой надписи «Электро». Майор перекинул его на включение основной системы, и самолет сразу стал послушным, как обузданный скакун.
Когда Назаров, возвратись на аэродром, рассказал о причине предпосылки к аварии, всем стало ясно, что так рисковать ему пришлось по вине какого‑то нерасторопного специалиста. Очевидно, кто-то из техников или механиков, работая в кабине истребителя, забыл после проверки поставить тумблер в нужное положение, а может, нечаянно зацепил.
Майор, безусловно, тоже был виновен: перед взлетом не проверил, как этого требует инструкция, правильно ли установлены в кабине все рычаги и переключатели.
С тех пор решили: после того как летчик осмотрит и примет самолет от техника, в кабину никто не должен даже заглядывать. Одним из тех, кто строжайшим образом выполнял это правило, был секретарь партийной организации эскадрильи капитан Куницын. Он стал еще внимательнее осматривать машину перед стартом в небо и требовал этого от каждого летчика.
— Да вот Решетников скажет, как Иван у него самолет принимает, — кивнул головой в сторону одного из техников капитан Костюченко. — И сам я не раз видел…
Николай часто наблюдал, как Куницын, словно бы не обращая никакого внимания на покорно шествующего за ним старшего техника-лейтенанта Решетникова, придирчиво медленно осматривал каждую деталь подготовленного им к вылету самолета.
Однажды Костюченко не выдержал и сказал своему другу:
— А тебе не кажется, Иван, что ты обижаешь своего техника?
— Чем?! — удивился Куницын. — Я не сказал ему ничего плохого.
— Да не о том речь, — махнул рукой Костюченко. — Похоже, не доверяешь ты ему. Но он же специалист отменный. Ты его сам не раз хвалил.
— От тебя, Коля, таких слов я не ожидал, — с укором отозвался Куницын. — Помнишь, нам еще в училище инструктор говорил: верить — верь, а проверить — проверь.
— Помню, Ваня, не хуже тебя помню, — не сдавался Костюченко. — Но могут сказать: боится Иван.
— Да? — иронически взглянул на друга Куницын. Затем нахмурился и уже серьезно произнес: — А я, может, смелость в том и вижу, чтобы таких вот реплик не бояться…
Костюченко смущенно замолчал. А через несколько дней Иван удивил его еще больше. Ему пришлось выполнять полет не на том истребителе, который был закреплен за ним (его машину поставили на профилактический осмотр). Вернулся он из полета — и к майору Железникову:
— На «семерке» больше не полечу.
— Это что еще такое? Все летают, а вы с капризами!..
— А вы прежде выслушайте…
Оказывается, Куницын заподозрил что-то неладное в системе управления истребителя. Естественно, вызвали инженера, но тот не нашел в рулях никаких неполадок. «Все, — говорит, — в норме, не знаю, в чем вы усомнились». А Иван — свое:
— Нет, можете что угодно думать, а я не полечу.
И не полетел, хотя кое-кто уже подтрунивать начал над его якобы неоправданной мнительностью. Инженер вынужден был еще раз проверить все тросы и тяги, все рычаги и ролики. И что вы думаете — был все-таки дефект. Пустяковый, правда, но был. Впрочем, это еще удивительнее: тонкое, значит, чутье машины у летчика.
Словом, вот он какой, Иван Куницын. Другой, упрекни его в излишней осторожности, махнул бы рукой и полетел: не считайте трусом. А Куницын — наотрез. Крепкий у него характер.
Теперь вспоминая обо всем этом, капитан Костюченко с жаром убеждал товарищей, что авария в полете не могла произойти по вине его друга. Дескать, об этом даже говорить не стоит. И летает Куницын — позавидуешь, и выдержки ему не занимать.
Хладнокровию Ивана, его умению держать себя в руках в самой рискованной ситуации подивился еще первый его инструктор летчик‑фронтовик Эдуард Санников. Он, бывало, часто говорил Куницыну:
— Тебе бы, Ваня, на штурмовике летать…
В годы войны Санников сам летал на штурмовике, о чем не раз рассказывал, беседуя с курсантами. Они любили слушать его воспоминания о жарких воздушных схватках, о том, как наши летчики громили врага и в небе, и на земле. Не удивительно, что каждый чувствовал себя безмерно счастливым, если удавалось заслужить похвалу такого инструктора. А наивысшей похвалой у Санникова было его излюбленное: «Тебе бы, парень, на штурмовике летать». Если же у курсанта что-то не получалось в летной учебе, он, спокойно анализируя его неверные действия, обычно заключал: «Ошибка в полете порой страшнее снаряда врага».
Были потом другие хорошие, опытные инструкторы, но того старшего лейтенанта, который дал ему путевку в небо, Куницын любил сильнее всех, как доброго и заботливого старшего брата. Сколько лет прошло после выпуска из училища, а он до сих пор на каждом шагу вспоминает Санникова и его советы. Скажет иной раз Горничев или Железников, что Куницын отлично выполнил полет, Иван вдруг озорно улыбнется и подмигнет Николаю:
— Мне бы на штурмовике летать!
В чем тут секрет, знают лишь они вдвоем.
Костюченко познакомился с Куницыным в летном училище. Они дружили с тех далеких курсантских лет. Их дружба, прокаленная суровой аэродромной страдой, с каждым годом становилась все крепче и была такой естественной, что Костюченко о ней как-то и не задумывался, просто не замечал, как не замечает человек своего здоровья, когда оно в порядке. Вспыльчивый, резкий на слово, Николай мог иногда и повздорить с Иваном, но дружбе это нисколько не вредило. И только сейчас Костюченко понял, как близок и дорог для него этот простодушный, всегда спокойный и уравновешенный парень.
Николай очень уважал Ивана и нередко даже завидовал ему. Все Ивану удавалось. Раньше всех он получил допуск к самостоятельным полетам на сверхзвуковом всепогодном истребителе-перехватчике. Быстро освоил «слепую» программу, и за первый самостоятельный вылет в ночное небо командир эскадрильи майор Железников объявил ему благодарность. А недавно Куницын, опять же в числе первых, сдал экзамен на звание военного летчика второго класса.
Костюченко не мог поверить, что сегодня Иван не вернулся и, чего доброго, не вернется на аэродром. Но факт остается фактом: он катапультировался. Впрочем, кто знает, удалось ли ему выброситься из гибнущего истребителя? Выстрел катапульты — не шутка…
«Что с ним? Где он сейчас? Неужели до сих пор ничего не известно? — Костюченко зябко повел плечами. — Как, куда, благополучно ли приземлился Иван? Говорят, что не приземлился, а приводнился. Ведь летел он над морем. Спросить бы у Кривцова, но того сразу после посадки вызвал командир полка. К нему же пошли, слетав на поиски, Железников и Буянов. Только что же они там так долго задерживаются? Похоже, видели Куницына, если послали вертолет. Но вертолет почему-то не возвращается».
Костюченко не мог больше ждать. Он снова зашагал к стартовому командному пункту. «Войду и спрошу, а после пусть как хотят ругают».
Войти в помещение Николай не успел. В дверях он столкнулся с майором Железниковым.
— Переживаете? — добродушно спросил командир эскадрильи. — Да-а… Такое дело… Понимаю, сам извелся. Но, кажется, нашли. Вертолетчики сообщили, что Куницына подобрала рыбацкая лодка.
Сзади послышались обрадованные голоса летчиков. Они оживились, заговорили разом, перебивая друг друга. Кто-то громко заявил, что другой вести и не ожидал. Чтобы Куницын, заядлый охотник и спортсмен, и не выбрался на берег из этой лужи? Да ему океан нипочем! Ему полета километров — семечки. Такой богатырь с грузом без привала всю сотню отмахает…
— А позавчера твой рекордсмен по физподготовке… того… подкачал малость, — подал голос Юрий Ашаев.
— Подумаешь, важность! — загудели пилоты. — Нечего тебе у начфиза очко зарабатывать… Просто не тренировался человек давненько… Подъем разгибом! А ты в плавании с ним потягайся. Или на лыжах…
Словом, у каждого отлегло от сердца, а Николай Костюченко вздохнул, будто гора с плеч:
— Ух… Теперь есть что сказать Лиле. А то хоть домой не возвращайся…
Дружили Иван и Николай — дружили их семьи. И жили они рядом, в смежных квартирах, дверь в дверь. Один идет на полеты — стучит другому, возвращаются с аэродрома тоже всегда вместе. Задерживается кто-то, жена уже тут как тут: «А мой где?» Особенно жена Ивана Лиля.
Вообще-то ее Лидой зовут. Лидией Сергеевной. Но Иван с давних пор — ой дружил с Лидой со школьных лет — называет ее Лилей…
— Только бы побыстрее Ивана домой привезли, — сказал Костюченко и, повернувшись к командиру эскадрильи, спросил: — Товарищ майор, а почему Куницына на борт вертолета не взяли?
— Пытался Савенке, да от воздушной струи лодка чуть не перевернулась, — объяснил Железников. — А до берега далеко. Теперь полковник Горничев в рыбацкий поселок звонит, чтобы там машину дали.
— Тогда порядок, — совсем уже успокоился Николай.
Радость летчиков оказалась между тем преждевременной. Не успел Костюченко договорить, как из стартового командного пункта вышел майор Буянов. Уже в самой походке его Николаю почудилось что-то тревожное, и он с нескрываемым беспокойством, почти с испугом посмотрел на него: «Что, что? Почему молчишь?»
— Плохи дела, ребята, — произнес наконец Буянов. — До рыбацкого поселка командир дозвонился, но Куницына там нет.
— А лодка? — шагнул к майору старший техник-лейтенант Решетников. Лицо его побледнело. — Кто же был в лодке?
— В лодке были рыбак и какой-то биолог, — устало ответил майор.
Все замолчали. Николай Костюченко нервно жевал погасшую папиросу. Юрий Ашаев сник, ссутулился, поднял воротник меховой куртки и смотрел куда-то в сторону. У Железникова от волнения даже губы посерели, он переступил с ноги на ногу, словно качнулся.
Над аэродромом нависла тоскливая тишина. Лишь возле самолетов все еще слышались голоса техников и механиков. Что бы ни случилось, эти люди должны содержать истребители в постоянной боевой готовности. Но и они работали сейчас как-то необычно тихо, почти бесшумно. Казалось, еще ниже спустились к земле тяжелые, мрачные тучи.
В небе виновато протарахтел вертолет. Его мотор сердито взревел в момент приземления, как бы злясь на собственную беспомощность, и разом замолк. Вертолет тоже возвратился ни с чем.
…На землю ложилась темная и холодная ночь. В военном городке, раскинувшемся на пологом склоне горы, невдалеке от аэродрома, уже начали зажигаться в окнах огни.
— А ведь сегодня суббота, — вспомнил вдруг Ашаев.
— Тяжелая суббота, — послышался голос полковника Горничева. Он подходил к летчикам и услышал последнюю фразу. Теперь все с надеждой повернулись к нему: уж он-то найдет правильное решение.
Так оно и было.
— Вот что, мужики, — заговорил Горничев (у него была привычка называть летчиков мужиками), — я созвонился с начальником порта. Там выделили для поисков Куницына несколько катеров, но людей у них мало. Нужно помочь. Я понимаю, все устали, но…
— Какие могут быть разговоры! — не сдержавшись, перебил командира капитан Костюченко. — Мы готовы.
— Вот и хорошо, — одобрительно кивнул полковник. — Возглавит группу капитан Ашаев. А вам, Костюченко, предстоит более трудная задача. Вы должны вместе с замполитом побеседовать с женой Куницына.
Замолчав, Горничев обвел всех ожидающим взглядом, но никто, даже Костюченко, ничего не сказал. Тогда полковник распорядился отправить поисковую группу немедленно.
Торопить никого и не надо было. Все понимали, что дорога каждая минута, что их товарищу нужна срочная помощь. И вскоре по направлению к порту двигался битком набитый людьми зеленый военный автобус.
А Николая Костюченко еще сильнее охватило смятение. Если Куницына не нашли, то где же он? А вдруг не смог катапультироваться! Ведь не исключено, что на поврежденном при аварии истребителе заклинило фонарь кабины или не сработал стреляющий механизм…
АВАРИЯ В СТРАТОСФЕРЕ
Самолет вздрогнул, словно человек, которого укололи чем-то острым, и мгновенно перешел в крутое пике. С каждой секундой увеличивая и без того бешеную скорость, машина метнулась вниз, к серой массе слегка всхолмленных облаков. Она падала, не слушаясь руля, все круче опуская нос, и гудение реактивных турбин переходило в протяжный стон…
В первый момент капитан Куницын не понял, что случилось. Несколько минут назад он, выполняя команды штурмана наведения, пробил многоярусный слой свинцово-темных туч и, достигнув стратосферы, начал поиск «противника».
— Тридцать восьмой, вам курс…
— Понял. Выполняю…
Куницына наводил на цель штурман командного пункта капитан Перфильев. «Противником» был летчик из их же эскадрильи — капитан Кривцов. Словом, бой предстоял самый обычный, учебный. Такое упразднение Куницын отрабатывал, поднимаясь в небо, уже не впервые, но погоня за скоростной целью сразу захватила его целиком, не оставляя места посторонним мыслям. Летчик слился в единое целое с грозным сверхзвуковым истребителем, чутко отзывавшимся на каждое движение рулей.
На этом самолете Куницын начал летать недавно, но быстро освоил замечательную машину и глубоко поверил в ее надежность. Больше того, летчик полюбил ее, мощную, стремительную, послушную, можно сказать — умную. Те самолеты, на которых приходилось летать раньше, казались ему «суздальской стариной».
И сегодня поначалу все шло нормально, все было привычным и в то же время волнующим. Когда истребитель звенящей стрелой пронзил неприветливо-холодную полосу сизых туч, кабину сразу залило солнце и все вокруг закружилось в лучистом, радужном водопаде. Там, на земле, где над заснеженными сопками висят лохматые гривы слоисто-дождевых облаков, сейчас пасмурный, тусклый день, а здесь — бездонное голубое небо, по-летнему ласковое солнце. И никто, кроме летчиков, даже не подозревает об этом.
Упражнение было зачетным. Надо во что бы то ни стало настичь «противника», атаковать его и сделать несколько прицельных очередей, хотя тот постарается увернуться. Правда, сразить цель нужно не из пушек, а фотопулеметом, но все остальное в таком воздушном бою самое настоящее — и скорость, и головокружительные маневры, и дерзкие контратаки.
— Тридцать восьмой, форсаж! — радирует Перфильев.
По указанию штурмана наведения Куницын включает двигатели на максимальный режим. Скошенные назад стреловидные крылья, чуть вздрагивая, поднимают машину все выше и выше. Она мчится теперь со скоростью артиллерийского снаряда. Внизу широко открывается взгляду неповторимый, быстро меняющийся ландшафт верхнего слоя облаков, а впереди летчик замечает белую, тающую в синеве волнистую прядь — инверсионный след, оставленный самолетом Кривцова. Ага, вот она, цель. Теперь не уйдет!
Охваченный азартом преследования, летчик нетерпеливо подался вперед, точными, координированными движениями довернул истребитель и, прицеливаясь, замер.
На приборы он больше не смотрел. Он был весь во власти того приподнятого, «летящего» настроения, которое всякий раз испытывал в воздушном бою. И вдруг…
Как солдат, над окопом которого свистнула пуля, летчик насторожился. Однако сообразить, откуда ему грозила опасность, он не успел: последовал страшный рывок.
Сперва показалось, что перехватчик попал в сильную воздушную струю, образуемую реактивным двигателем впереди идущего самолета. У Куницына однажды произошло нечто подобное во время атаки тяжелого бомбардировщика. Его истребитель внезапно тряхнуло, бросило вниз, завертело, и он сам на какое-то мгновение почувствовал себя не летчиком, а беспомощным котенком, угодившим в бурлящий водоворот. Но тогда он быстро вывел самолет в горизонтальное положение, а сейчас машина не слушалась руля высоты.
Летчик не растерялся. Как у человека, которому помешали осуществить важное намерение, в нем шевельнулось чувство досады и даже злости. Поэтому руки и ноги, лежащие на рычагах управления, продолжали действовать еще энергичнее. И хотя Куницын, не успев осмыслить происшедшее, работал рулями интуитивно, профессиональное чутье не обмануло его: движения были именно теми, какие требовались для вывода самолета из почти отвесного пикирования, переходящего в крутую спираль.
Двигатели, как бы протестуя, отчаянно выли и содрогались. А высота падала, скорость росла, неотвратимо неслась навстречу серая поверхность облаков. Кресло уходило из-под летчика, и привязные ремни больно впивались в плечи. Какая-то чудовищная сила выдирала его из кабины.
Кровь прилила к голове, в висках застучало так, словно рядом начал работать паровой молот. «Газ… Щитки!» — пронеслось в затуманенном мозгу, и руки как бы сами делали свое дело. Куницын, удерживая машину от крена, затянул рычаги управления двигателями, выпустил воздушные тормоза и продолжал выбирать на себя ручку руля высоты. Однако самолет не повиновался ему, по-прежнему пикировал, все круче опуская нос. Поняв наконец, что случилось, летчик нажал кнопку передатчика:
— Я — тридцать восьмой. Самолет неуправляем. Пытаюсь вывести…
В наушниках шлемофона тотчас послышался голос руководителя полетов, но Куницын не успел, не смог вникнуть в то, что ему сказали. Истребитель затрясся, точно приходя в ярость оттого, что ему не дают нестись куда хочется. Затем машина резким рывком вышла из пике, взмыла вверх, встала почти вертикально, и страшная перегрузка вдавила летчика в кресло. У него потемнело в глазах, тело налилось свинцовой тяжестью.
Фюзеляж скрипел и стонал каждым своим металлическим суставом, как будто с него сдирали обшивку. Пилот испытывал состояние, близкое к обморочному, чистое небо казалось ему подернутым белесым туманом, но сознание и сила воли были сильнее любых перегрузок. «Самолет, идя вверх, теряет скорость. Свалить его на крыло. Так…»
С командного пункта запрашивают высоту. Как отчетливо звучит каждое слово! Продолжая бороться с неуправляемой машиной, Куницын, преодолев немоту от сдавившей горло перегрузки, еле вымолвил:
— Отказали рули. Высота…
Снова перехватило дыхание. Высота только что была более двенадцати тысяч метров, а сейчас уже девять. Что ж, можно еще попробовать подчинить взбунтовавшуюся машину.
Велика скорость, но быстрее ее мысль. В сознании летчика вихрем проносятся самые различные предположения о причинах неуправляемости самолета. А истребитель снова рванулся вниз и в сторону, словно чьи-то невидимые сильные руки швырнули его, как детскую игрушку. Машина делает головокружительные трюки, будто насмехается над пилотом, который прилагает все усилия, чтобы обуздать ее, и оказывается бессильным.
— Тридцать восьмой, катапультируйся! — резко стегнул по ушным перепонкам требовательный голос руководителя полетов. — Пятьдесят первый, продублируйте!
Куницын все слышит и все понимает. Ему разрешают покинуть самолет. Пятьдесят первый — это позывной Кривцова. Вот он повторяет команду руководителя полетов. И все же Куницын медлит. Он имеет право на прыжок, но, пока есть запас высоты, продолжает бороться. Происходящее кажется ему просто непостижимым, абсурдным. Ну ладно бы отказали, остановились двигатели, но они тянут. Так неужели ничего не удастся сделать? Надо попытаться!
Один умопомрачительный бросок сменяется другим. Стрелка высотомера неумолимо бежит влево, авиагоризонт отмечает беспорядочное вращение. Самолет мечется, как живое существо в предсмертной агонии. Серая поверхность облаков то косо встает перед смотровым стеклом, то, опрокидываясь, исчезает из поля зрения, и солнце катится куда-то вверх.
Послышался металлический треск. Страшных перегрузок не выдержала сталь, которой закреплены подвесные баки, и во время одного из немыслимых пируэтов они оторвались. Приборы, облака, солнце, небо — все смешалось в шальной, невообразимой круговерти. Вот так, наверно, затягивает ослабевшего пловца коварный омут. Это глубокая спираль, штопор.
— Тридцать восьмой, прыгай! — врывается в наушники голос Кривцова. Он уже не дублирует ничьих команд. Он сам видит, как катастрофически теряет высоту самолет Куницына. Теперь мешкать нельзя. На малой высоте катапультироваться опасно.
Что ж, Куницын прыгнет. Он сделал все, что мог, но машина не подчинилась. Ее придется покинуть.
До чего же противное это чувство, когда не ты управляешь самолетом, а самолет тянет тебя куда ему вздумается. Однако и здесь спешить опасно. При штопоре выбрасываться с парашютом надо без паники, расчетливо и умело, иначе малейшая оплошность может стать роковой. Ведь если при такой скорости неосторожно высунуть за борт голову, встречный воздушный поток сломает шейные позвонки.
— Высота… ять… Катапультируюсь.
Капитан снял ноги с педалей, поставил их на подножки сиденья, выдернул фишку шнура, соединяющего шлемофон с самолетной рацией. Мелькнула мысль: «А вдруг колпак кабины не слетит?» Одернул себя: «Спокойно!» Подтянул привязные ремни, прижал голову к бронеспинке. Напряг мышцы, готовый к пушечному удару катапульты, затаил дыхание и тут же рванул красную скобу.
Выстрел. Одно короткое движение — и летчик вылетел, как снаряд, в небо.
Все произошло молниеносно, но и тут до предела обостренное сознание успело зафиксировать нужные детали. В кабину с гулом ворвался холодный поток воздуха. Значит, фонарь слетел. Был еще треск: очевидно, лопались шланги герметизации. Следом — резкий удар, запах пороха и — тишина. Или, может, от выстрела заложило уши?
Привязные ремни отстегнулись сами — сработал автомат. Летчик оттолкнул ногами ненужное теперь кресло. Сколько раз он проделывал все эти движения при наземных тренировках! Тогда такие занятия подчас раздражали своим надоедливым однообразием, зато как хорошо вышло все сейчас, когда промедление и ошибка были бы поистине смерти подобны!
Свободное падение. Куницын, как при учебном десантировании, отсчитал три секунды, выжидая, чтобы оставленные им истребитель и кресло ушли подальше вниз. Теперь с ними, пожалуй, не столкнешься: они тяжелее и должны обогнать его.
А что это перед глазами? Облака. Их первые хлопья промелькнули, словно клубы холодного пара. Потом они стали гуще и темнее. Солнце почти сразу скрылось из виду, отдав человека во власть зыбкого мутного сумрака.
Над головой прокатился, замирая, гул реактивных двигателей. Кто это? Кривцов? Или почудилось?
Тишина.
Парашют раскрылся автоматически. Мягко шурша, огромный шелковый шатер наполнился воздухом, последовал грубый рывок, и Куницын закачался на туго натянутых стропах. Висеть было неловко. Он поудобнее сел в лямках подвесной системы, расправил вздернутую почти к подмышкам меховую куртку. Что теперь? Инструкция предписывает: осмотри купол, от динамического удара он может лопнуть.
Нет, купол цел, все в порядке. Что дальше? Надо бы определить, нет ли сноса. Только разве в облаках что-либо поймешь?
Сняв меховые перчатки, он сунул их за отворот куртки, посмотрел на часы. Было четырнадцать тридцать.
Подивился собственному спокойствию. Ведь только что подвергался страшной опасности, а сейчас уже заботился о каких-то мелочах, ощущает, как жмут лямки подвесной системы, туго охватывающие грудь и ноги, интересуется, который час, отстегивает кислородную маску.
Прикинул: катапультировался примерно на двух с половиной тысячах метров. Значит, падал вместе с машиной, пытаясь спасти ее, почти десять километров. Да. А самолет жаль, до боли жаль. Но что же все-таки стряслось с управлением?
Повеяло холодом. Летчик нагнулся, чтобы посмотреть себе под ноги, и крякнул с досады: выскользнули перчатки. А, ладно! Но куда он опускается?
Неприятный холодок пополз по спине, как будто под теплой курткой кто-то провел по коже сверху вниз мокрым полотенцем. Море!.. Он совсем забыл о нем, а оно, притаясь, ждет его под облаками. Куницын содрогнулся от этой мысли, но тут же взял себя в руки. Надо готовиться к приводнению. Волны для парашютиста еще более неприятны, чем лес или горы.
Торопливо нашарив рукой на груди резиновые соски, летчик надул надетый на нем поверх меховой куртки спасательный жилет. Похлопал по нему ладонью, проверяя, достаточно ли. Расстегнул замок подвесной системы: приводняясь, от парашюта надо избавиться заблаговременно. Ведь если эта масса шелка и строп накроет его в воде, то так опутает, что можно и не выбраться, пойти ко дну, как рыба в сетях.
Облака оборвались, и почти в тот же момент упали ножные обхваты. Теперь Куницын держался только за плечевые ремни. Неуклюже вытягивая шею, он пытался определить, далеко ли до воды. Нет, ничего не понять, все кругом мутно-серое. Как бы не упустить мгновение, когда надо оставить парашют. Однако не рассчитал, разжал руки слишком рано и еще быстрее полетел вниз. Падая, успел заметить, что купол понесло ветром в сторону.
Море приняло летчика со злорадным, утробным вздохом. Стылая вода обожгла тело так, что Куницын охнул и чуть не захлебнулся.
Погружаться пришлось невыносимо долго, и в морской пучине стало до ужаса жутко. Когда надутый воздухом жилет потянул его наконец кверху, летчик изо всех сил заработал руками и ногами. Казалось, еще секунда — и он не выдержит.
Вынырнув, Куницын судорожно вдохнул влажный горько-соленый воздух и закашлялся. Пока лихорадочно, толчками билось сердце, какое-то время — минуту или больше — он, распластавшись, отдыхал. Потом протер глаза, огляделся. Рядом с ним плавала резиновая лодка, которая входила в комплект спасательных средств на случай прыжка с парашютом в море. В момент приводнения она наполнилась от специального баллона газом и легко, упруго скользила, покачиваясь на волнах.
Меховые куртка и брюки, шерстяной свитер, большие, до колен, носки‑унтята и ботинки, такие удобные для полетов в жгуче-морозной стратосфере, теперь промокли до нитки, стали обременительно тяжелыми. Все его семьдесят набрякших водой одежек липли к телу, сковывали движения, тянули ко дну. Хорошо еще, что выручал спасательный жилет. Поддерживаемый им, летчик поплыл к лодке. Залезть в нее тоже было весьма не просто: она, словно дразня, крутилась, прыгала, как мяч, отскакивала в сторону. Когда наконец он забрался, его грузная, крупная фигура еле уместилась в лодке, и ему пришлось поджать ноги, чтобы не выскользнуть обратно.
Разгоряченное тело еще не ощущало холода, только сырая кожа шлемофона непривычно давила голову, и хотелось сбросить его. Но где же парашют? Не видно что-то. Вокруг лишь белые гребешки волн. Выливая стекавшую из рукавов воду, летчик вдруг заметил, что до сих пор держит в руке кислородную маску. Бросить? Нет, пожалуй, еще пригодится. Он засунул маску на самое дно. А парашют, наверное, все-таки потонул, пока он гонялся, барахтаясь, за лодкой. Вот досада: в ранце остались бортпаек, ракеты, запас патронов, фонарь, медикаменты, спички.
«Шут с ним, — беспечно подумал капитан. — Меня уже ищут».
В том, что его будут искать и обязательно найдут, Куницын не сомневался. Ему даже казалось, что это произойдет скоро, очень скоро. Ну, через час, от силы — через два. Командир примет все меры, чтобы подобрать его еще до наступления темноты. А коль так, то Лиле и волноваться не придется. Ей ничего и не скажут до его возвращения.
Рассуждая так, летчик еще не ощущал себя потерпевшим бедствие. Он сидел в лодке совершенно спокойно, облокотясь на ее упругие оранжевые бока, даже радовался: «Живой, черт побери, живой!»
А что? Упрекать себя не в чем: все было сделано правильно. Пока позволяла высота и оставалась надежда спасти машину, он боролся и, лишь исчерпав все возможности, катапультировался. Выстреливать себя из катапульты, если не считать наземных тренировок на специальном устройстве, ему опять-таки до сих пор не приходилось, но и тут он не оплошал: руки-ноги целы…
Настроение у него было приподнятым. Сознавая, что действовал разумно и четко, он испытывал легкое возбуждение. Ему, секретарю партийной организации, приходилось подчас деликатничать, убеждая сослуживцев в необходимости строгого соблюдения инструкций. Теперь он со всеми без исключения поговорит по-иному. «Тихо, вы, ворчуны! — скажет. Так и скажет: — Вам, видите ли, тренажи противны. Тысячу раз одно и то же отрабатывать? Да, тысячу! А то и больше. Это я вам говорю. Не будь тренажей, я определенно валялся бы сейчас на больничной койке с переломом. Понятно?..»
Набрякшее водой белье неприятно холодило. Куницын недовольно повел плечами. Затем, согнув руки в локтях, он энергично взмахнул ими, но тут же вынужден был схватиться за борта: лодка зыбко качнулась и, поднятая волной, чуть не опрокинулась. Нет, заниматься гимнастикой тут несподручно. Вместо того чтобы согреться, запросто бултыхнешься в море. Его плавсредство очень похоже на то, которым пользуются ребятишки, учась плавать где-нибудь в тихом заливе у Черноморского побережья.
А море волновалось, и не на шутку. Оно как будто нашло себе забаву: швырять его лодку. Толчок, второй… Ух, ты!..
В какой-то книге Куницын однажды прочел, почему море всегда, даже в штиль, неспокойно. Оно вечно колышется от не ощущаемых нами постоянных колебаний земной коры. Но тут волнение было далеко не штилевое. Вокруг вздымались и опадали огромные серые бугры, стоял неумолчный шум. Лодка скользила в провалы то задом, то боком.
Ветер — будь он неладен. Это он гонит волны, образуя на них рябь и шипящую пену. Ага, значит, лучше развернуться так, чтобы ветер и волны били в спину.
Интересно, а сколько времени? Куницын помнил, что катапультировался в четырнадцать тридцать. Он отвернул мокрый рукав куртки, чтобы взглянуть на часы. Увы! «Пылевлагонепроницаемые» стояли…
Надеясь, авось пойдут, он на всякий случай потряс рукой. Нет, бесполезно. Ненадолго их хватило после морского купания. Впрочем, двенадцатикратная перегрузка при выстреле катапульты тоже не была безвредной для тонкого механизма.
Не знать, который час, находясь в одиночестве, тяжело. Угнетает и бездействие. Надо что-то предпринимать. Но что? Весел в лодке не было, они остались в парашютном ранце. Придется ждать. На командном пункте, вне всякого сомнения, засекли координаты места, над которым он покинул самолет, и пошлют за ним именно в этот район. Но почему так долго нет даже намека на то, что его ищут? Конечно, путь сюда неблизкий, но и времени прошло немало.
Был еще день, но от свинцового цвета воды и низко нависшего над морем облачного неба казалось, что уже наступил вечер. В сущности, темнело и на самом деле. В эту пору года ночь на Севере начинается рано. Примерно около одиннадцати рассветает, а после трех день опять быстро идет на убыль. Тем более такой день, как сегодня: пасмурный, ненастный.
Неподалеку послышался гул реактивного двигателя. Судя по звуку, шла спарка. Но она промчалась где-то в стороне. Гудение смолкло. Куницын понимал, что рев пролетающего самолета всегда катится вроде бы над тобой, хотя в действительности доносится за несколько десятков километров. И все-таки ему стало тоскливо.
Тело стал пронизывать острый холод. Начало знобить. Мелкий, покалывающий озноб, встряхнув, отступил, но тут же нахлынул с новой силой и перешел в непрерывную дрожь. Как ни сжимай зубы, как ни корчись, ее не унять. Плыть? Но куда? Куда ни кинь взгляд — везде только волны, волны…
Море… Вблизи оно не такое, каким видишь его с высоты, пролетая над ним в ясный, солнечный день. И на пароходе… Да что на пароходе — на шлюпке с веслами приятно совершить прогулку по морю, если на нем штиль. Но сейчас, когда сидишь, почти касаясь руками воды, в каком-то смешном резиновом пузыре, море совершенно иное — страшное и беспощадное.
Неожиданно на лодку обрушился удар новой волны. Яростно налетев сзади, она со злым шумом накрыла Куницына с головой, опрокинула, вытолкнула за борт, увлекла в глубину.
Снова помог нагрудный спасательный жилет — капка, как называют его летчики. Капка вытащила пилота на поверхность. Он, вынырнув, быстро повернулся и поплыл к лодке. Она опять не давалась, вставала на дыбы, словно сердясь на человека за его беспечность. Но летчик все же забрался в нее и сел на колени, устраиваясь ненадежнее.
Лодочка… Обычно, собираясь подняться в небо, он считал ее ненужным, совершенно лишним предметом в комфортабельной кабине самолета. Сложенная в аккуратный плотный сверток под парашютом, она совсем не мешала ему, но он, уверенный в безотказности своей крылатой машины, все-таки ворчал порой: «И чего только не насуют перед вылетом! Пистолет, большой и тяжелый, как кинжал, пилотский нож, бортпаек, аптечка… Ни дать ни взять — в кругосветный полет снаряжают, словно космонавта. И вот на тебе — еще и лодка!»
Теперь, вспоминая о своих необдуманных словах, Куницын был недоволен собой. Ему стало стыдно перед техником самолета Володей Решетниковым, который, не обращая внимания на ворчание, всегда заботливо снаряжал машину к старту. Порой спокойно напоминал: «Проверьте лодку». Огрызнешься, бывало, в спешке: «Да выкинь ты ее ко всем чертям!» Володя сам осмотрит, не потерлась ли на сгибах сложенная конвертом резина. Надо будет непременно поблагодарить его…
Тут же капитан попытался оправдаться перед самим собой: раньше не летал над морем… И вообще, разве в спокойной обстановке думалось о том, что придется использовать надувную лодку вот так, в ее прямом назначении? Да… А сейчас, после аварии, только на нее и надежда. Она для него — спасательный круг. Надежная частица родного дома. Точнее — целый корабль. Ведь неизвестно еще, сколько придется дрейфовать в холодном, мятущемся море, пока отыщут и подберут. Вытряхнут волны душу — не будешь больше таким безалаберным…
Капитан почти с нежностью провел ладонями по округлым бортам лодки и похолодел от ужаса: округлые баллоны уже не были такими упругими, как в начале дрейфа. Кажется, из них выходил газ. Почему? Неужели он порвал ткань? Вполне вероятно: мог зацепить крючками ботинок в тот момент, когда забирался в лодку вторично.
«Теперь утону», — с тоской подумал летчик.
Сложив ладони рупором, он закричал. Изо всей силы, на какую был еще способен. Крикнул раз, другой, третий… Смелый в самолете, относительно спокойный еще минуту назад в своей легкой лодке, летчик все же был простым смертным, человеком, который любит землю, воздух, солнце, жизнь. Теперь он отчетливо ощутил свою слабость и беззащитность. Сейчас море отнимет у него все… Все и навсегда.
— О-о-о-о! — Голос вибрирует от озноба и прерывается.
Тишина. Зловещая тишина. Только сердито шумят волны.
Как долго продержит его на воде умирающая лодка? Полчаса? А может, и того меньше?..
Опасная это штука — жалость к самому себе. Ей лишь поддайся — она мгновенно загипнотизирует тебя, потянет, как головокружение, в омут безысходной тоски и отчаяния, парализует волю. Даже в повседневной жизни жалость к самому себе, стоит только уступить ее коварно-ласковой, сладкой, как любовь, но обманчивой силе, сразу начинает медленно и верно губить человека. Еще опаснее это тоскливо-тягостное чувство в тяжелую минуту. Оно лишит тебя твоего главного оружия — веры в самого себя. Тут надо крепко сопротивляться.
— О-о-о-о! — Это был уже не крик, не призыв на помощь и даже не мольба, а стон. Пожалуй, впервые в жизни летчик испытывал панический страх. Там, в воздухе, и при аварии у него были еще какие-то шансы на спасение. Он надеялся, что сумеет укротить взбесившуюся технику, ему придавала силы подсознательная мысль о катапульте и парашюте. Здесь же, в море, никаких надежд не оставалось. В одном спасательном жилете долго на воде не продержишься. В штилевую погоду еще куда ни шло, но когда в лицо, пресекая дыхание, бьют волны…
Это было как в кошмарном сне, когда порываешься бежать от опасности и не можешь. Но Куницын не спал — все происходило наяву, и он потерял голову. Руки у него опустились, грудь стеснило, стало трудно дышать. Ему казалось, что он уже тонет. Да, так и случится, если его в ближайшие полчаса не подберут.
На него снова нахлынули воспоминания о трагедии, разыгравшейся с ним за облаками, но теперь все представало в ином свете. Почему в аварию попал именно он, а не кто-то другой? Почему ему так не повезло? Почему рули отказали над морем? Ведь могли отказать над сушей, при возвращении к берегу, в момент старта, наконец. Тогда бы один удар — и все.
А-а, да что говорить! Ему всегда не везет. С малых лет. С проклятой войны. Сколько пришлось пережить! Во время войны малярия чуть не задушила, потом с голодухи едва не загнулся. Служить выпало опять-таки у черта на куличках. Есть же счастливцы — получили назначение в большие города, даже к побережью Черного моря, а он попал сюда — на Север. И профессию тоже выбрал себе…
Разве кто-нибудь может в полной мере представить, какая у летчика судьба? На трех типах самолетов пришлось летать в училище, на трех — здесь, на Севере. А каждая машина стоила нервов, каждая уносила с собой немало здоровья. Да что там говорить — любой самый обычный полет сопряжен с немалым риском. И любой парашютный прыжок. Тебя считают человеком смелым и хладнокровным, которому вроде бы все трын-трава. А ты, поднимаясь в воздух, словно под пули встаешь у окопа. Но сегодня-то войны нет. Так зачем же ежедневно подвергать себя смертельной опасности?!
Стоп!
Ты о чем?
Ты кто — офицер, военный летчик или жалкий хлюпик и трус? Ради чего ты пошел в летное училище? Из-за красивой формы? Чтобы поразить воображение соседских девчонок, удивить и обрадовать Лилю? Или, может, прельстили привилегии?
Нет и нет. Тысячу раз нет! Да, в небо тебя звала гордая мечта о смелом полете, но ведь можно было стать пилотом Гражданского воздушного флота. Да, тебе нравилась летная форма, и ты рад был показаться в офицерском мундире своей невесте, но она любила тебя и без того. Да, ты думал и о деньгах, потому что жилось несладко — рано остался без отца, а матери нелегко было тянуть четверых в тяжелое послевоенное время. Но ведь люди находят более высокие заработки на менее опасной работе…
А с кем ты, собственно, так горячо споришь? Сам с собой? Но ведь ты же знаешь, почему решил стать военным, именно военным летчиком. Уже в те далекие юношеские годы понял: Родине еще нужны солдаты, нужны воздушные бойцы.
Может, не сразу столь четкими стали мысли, но чувства, веление сердца были такими. И ты всегда считал себя смелым, видел в армейской службе, в полетах не только романтику, но и свое призвание. Что записал капитан Санников в твоей характеристике? «Летает смело и уверенно, в сложной обстановке действует без паники». А ты…
Без паники, только без паники!
Острая, будто удар ножа, неосознанная жалость к себе, перевернув в какое-то мгновение душу Куницына, отступила, вытесненная другими чувствами, которые родились при воспоминаниях о его любимом инструкторе, о боевых друзьях. Однако она еще окончательно не сдалась. Она только притаилась, выжидая удобного момента, чтобы с новой силой подступить к сердцу летчика.
На какое-то время его отрезвил холод. Согреться движениями? Но лодка, стравливая воздух, оседала в воде все глубже и глубже. Боязно шевелиться. И хотя от стужи совсем зашлись немеющие пальцы, он лишь потер кисти рук, подышал на них да несколько раз хлопнул ладонями по саднящим щекам.
Дело шло по всем приметам, к морозу. Днем была оттепель, снег таял, но дежурный синоптик на предполетном построении говорил, что к вечеру похолодает. Так оно и есть. Волны куда теплее ветра, а ведь температура воды тоже около нуля. И от дыхания — пар.
Иван сознавал: чтобы не окоченеть, надо двигаться, надо плыть. Плыть, пока держит лодка. Ведь ему не померещилось: ее борта в самом деле уже начинают собираться в складки. Но с какой стороны ближе берег?
Он напряг память, попытался сориентироваться, вспомнить хотя бы приблизительно район, над которым катапультировался. По его предположениям, это произошло не над центральной частью морского бассейна, а над заливом, широкой и длинной полосой протянувшимся на юго-запад. Если учесть еще, что ветер тоже юго-западный (летчик не забыл метеосводку), то при спуске парашют изрядно отнесло к северо-восточному берегу. И дрейфует он по ветру в ту же сторону. А какова ширина залива?
Этого капитан не знал. Раньше он не придавая значения подобным мелочам, поскольку скорость самолета позволяла проноситься над морем за самое короткое время. И вообще его, хозяина воздушной стихии, меньше всего занимали все эти, сравнительно небольшие, северные моря и их малозаселенное побережье, не имеющее характерных ориентиров. Обычно, рассчитывая маршрут очередного полета, он проводил на карте черным карандашом длинную линию, циркулем вычерчивал радиус разворота и вычислял общую протяженность пути, не заботясь о том, над какими заливами и островами будет вести истребитель. Ведь летать приходилось главным образом в облаках и ночью, когда земля не видна, а возвращаться, как правило, лишь на свой или близлежащий запасной аэродром.
Сожалея о том, что раньше не вникал в такие детали, пилот мысленно представил себе ширину морского залива, длинной, клинообразной голубой полосой обозначенного на его полетной карте. Карта тоже осталась в парашютном ранце, но у летчика была хорошая зрительная память, и он, поразмыслив, пришел к выводу, что находится в нескольких десятках или, может, в сотне километров от берега. Если, конечно, не ошибается, что приводнился в заливе, а не в открытом море.
Куницын вздохнул. Одолеть такое расстояние — об этом нечего и думать. Рос он у моря, плавать умел, мог бы грести руками, поскольку остался без весел, однако в студеной воде далеко не уплывешь.
Решить что-либо не помог ему и компас, пристегнутый к руке. Магнитная стрелка, отыскивая северный меридиан, металась в широком секторе, так как лодку все время высоко подбрасывали волны.
Море, не умолкая ни на минуту, непрерывно шумело. Оно уже сильно измотало летчика, и в стонах вздымаемых ветром волн ему начал чудиться приглушенный гул. Или в самом деле где-то неподалеку слышится завывающее гудение мотора?
Честное слово, что-то гудит. Самолет? Катер? Вертолет?..
Как легко обмануться, принять желаемое за действительное, если тебе чего-то очень хочется! Не отдавая себе отчета в том, что делает, Куницын привстал в своей слабеющей лодке, но зашатался, упал на бок и еле удержался за мягкий, податливый борт. Оседая на затекшие ноги, он опять закричал. Закричал с таким надрывом, что у него от натуги заболело горло. Тогда, выхватив из кобуры пистолет, летчик стал стрелять. Он стрелял, вытягивая руку как можно выше. Стрелял, пока в обойме не кончились патроны. Лодка сейчас начнет тонуть. Почему же никто не спешит на помощь? О нем забыли, его все покинули. А ему так не хочется умирать…
Крики и выстрелы слабо прозвучали в бушующем море. Их звук тотчас гас, точно тонул в плеске волн. Море уже как бы предвкушало скорую победу и злорадно рычало. Оно забавлялось со своим растерявшимся пленником, как сытый тигр с беззащитным котенком, швыряя его то вверх, то вниз, норовя, словно лапой, накрыть высокой волной. Человек находился во власти такой неодолимой силы, что его попытки сопротивляться выглядели просто жалкими. И лодка жухла все сильнее, слабела на глазах.
Так вот оно какое — одно из самых маленьких северных морей! Еще несколько дней назад, еще вчера, еще сегодня, пролетая над ним, летчик не думал о нем, не хотел удостоить его даже взглядом, и теперь оно жестоко отомстит ему. И никто не узнает, как волны расправились с ним. О, это коварное море знает много тайн. Но молчит. Молчит о всех тех, кого удалось похоронить в своей ненасытной пучине. А они, может быть, были более дерзкими и смелыми…
Человек понял, что ни его криков, ни его выстрелов никто не услышал, да и не мог услышать, если даже гул мотора ему не почудился. Сквозь грозный рев двигателя в кабину самолета не пробьются звуки пушечной пальбы, а тут — пистолет, хлопушка. К тому же никто над ним и не пролетал. Единственно реальными были волны, которые то и дело налетали со всех сторон, слепили глаза солеными брызгами.
Нервы сдали. Риск оказался куда большим, чем Куницын предполагал вначале. Его не нашли. Возможно, и не искали, решив, что произошла катастрофа и он погиб вместе с рухнувшим в море истребителем.
Он тотчас прогнал эту мысль, однако спокойнее не стало. Все равно его теперь не заметят: впереди ночь. Семнадцать часов северной ночи.
А что же все-таки с лодкой? Почему все больше и больше морщинят борта? Дрожащими руками Куницын лихорадочно ощупывал прорезиненную ткань, приникал к ней ухом. Ему показалось, что он слышит шипение стравливаемого воздуха.
Надеяться теперь было не на что. Одиноким, усталым человеком снова овладело отчаяние и безразличие. Словно безучастный зритель, он отрешенно и равнодушно ожидал собственной гибели…
«А ГДЕ НАШ ПАПА?»
— Самолет, самолет… Очень хитрый самолет…
— Тише, Сережа, Юрика разбудишь!
На какое-то время в комнате наступает тишина. Складывая кубики, Сережа на минуту умолкает, но вскоре забывает о предупреждении мамы и снова начинает повторять понравившиеся слова:
— Самолет, самолет… Очень хитрый самолет…
Дом, выстроенный из кубиков, с грохотом рушится. Не беда. Можно построить новый, еще лучше. Папа всегда так говорит. «Если домик упал, не плачь, Сережа. Ты мужчина. А мужчине плакать стыдно. А дом можно построить новый, еще лучший».
Сережа сопит носом и терпеливо возводит новое сооружение. Дом. Большой. Многоэтажный и широкий. Как тот, что виден в окошко слева. Он один такой огромный, а все остальные маленькие. Сережа делает похожий, кладет один ряд кубиков, другой…
«Тр-рах!..»
Дом был уже почти готов, но почему-то опять развалился.
— Сережа!
Странная эта мама. Самолеты целый день гремят и рычат так страшно, что в окнах стекла дребезжат, но Юрик спит. А если кубики упали…
— Сереженька, займись чем-нибудь другим. На тебе бумагу и карандаш. Рисуй самолеты.
Это можно. Рисовать самолеты его тоже папа научил. Только у папы самолеты получаются красивые. Как настоящие. А у него никак не получаются, и ему становится скучно.
— Самолет…
— Сережа, а почему самолет хитрый? — тихо, с улыбкой спрашивает мама.
— Еще какой хитрый! — важно отвечает Сережа и переходит на таинственный полушепот: — Самолет во-он какой большой-пребольшой! — Он разводит руки, показывая. — А полетел — и уже маленький. Хитрый самолет. Пусть думают, что он маленькая птичка.
Мама задумчиво улыбается. Сереже нравится, если она улыбается. Тогда она добрая-предобрая. Тогда ей все можно рассказать. И он рассказывает, торопясь и заглатывая слова.
— Самолет хитрый-прехитрый. Там, высоко-высоко, аж в небе в самом, могут быть эти… Ну, знаешь, как их? Во… Вот такие. Страшные. Тоже самолеты, но не наши. А наш — хитрый. Он из облака раз и — стой!..
Об этом Сереже тоже папа говорил. Мама тогда сердилась.
— Перестань, — махала она рукой. — Что ты ребенка перед сном пугаешь?
А теперь сама слушает. Ей тоже интересно. А тогда она, наверно, притворялась, что неинтересно. И еще она все с Юриком да с Юриком. А папа умеет сразу и с Юриком и с Сережей играть. Возьмет их обоих на руки и давай ходить по комнате. Потом ка-ак закружит. Сразу так хорошо станет и немножко страшно. Совсем немножко.
— Ж-ж-ж! — гудит папа, и Сережа догадывается: это он их на самолете катает.
— Ваня! — сердито окликает, вбегая, мама. — У детей головы заболят.
— Пускай привыкают, — нараспев отвечает папа и весело смеется: — Летчиками будут.
Как будто что-то понимая, Юрик радостно смеется, пытается тоже жужжать губами и пускает пузыри. Глядя на него, улыбаются все — и папа, и мама, и он, Сережа. Эх, жалко, что сейчас папы нет дома. Он бы сразу придумал, чем еще заняться…
«Ж-жж… Дз-зынь… Дзз…»
Вон как гудят самолеты. Даже стекла в окнах звенят. А Юрик спит в своей маленькой кроватке. Вот хорошо! Если он спит, то папа, когда приходит, всегда первого берет на руки не его, а Сережу. И ка-ак поднимет к потолку! Это еще лучше, чем кружиться. А если Юрик не спит, папа сначала к Юрику подходит. Подойдет, посмотрит и улыбнется. А то еще губами почмокает.
— Разденься! — пугается мама. — Ты же с мороза, сумасшедший! Простудишь ребенка. И руки вымой. С мылом.
Если мама заставляет что-то делать, с ней лучше не спорить. Папа быстро моет руки и опять спешит к кроватке Юрика. Он агукает с ним, берет и носит по комнате. Сереже завидно: все с Юриком да с Юриком — и мама, и тетя Лариса, и тетя Шура, и дядя Коля, и папа…
— Папа, я тоже хочу к тебе, — напоминает о себе Сережа.
Папа тотчас оборачивается к нему. Но все-таки лучше, если Юрик спит, когда папа приходит с полетов. А еще лучше встретить папу на улице.
— Мама, пусти погулять!
— На улице мороз, Сережа. Видишь, снег?..
На полеты и с полетов папа ходит вместе с дядей Колей. Большие, сильные, в одинаковых черных куртках с красивыми застежками и в фуражках с золотыми кокардами. Только это когда тепло — в фуражках, а когда холодно — в шапках. У Сережи на шапке тоже такая кокарда. Папа приколол.
Встречать папу Сережа выходит обычно с Танюшкой Костюченко. Танюшка несмелая. Она бежит сначала рядом, потом отстает, подойдет потихоньку к своему папе — дяде Коле — и уткнется лицом в полу его куртки. Ждет, чтобы по головке ее погладили. Как маленькая.
А Сережин папа еще издали позовет:
— Серега!
Сережа — кубарем. Прямо в папины руки. А папа его как подбросит:
— Ух!..
Еще:
— Ух!
У Сережи сердце так и замирает. А Танюшке боязно. Наташке Кривцовой еще больше боязно — она сразу убегает.
— Завидую я тебе, Иван, — скажет дядя Коля. — Мою подкинь — платьице, как парашют, развевается. И визжит. А парень…
Папа только усмехнется:
— Да, большой уже сын у меня. Тяжелый стал. Скоро и подбросить не смогу.
— Это ты не сможешь? Молчи уж, медведь.
— Дай лапу, — говорит «медведь» Сереже и берет его за руку.
Вместе они поднимаются по лестнице. Когда-то папа носил его на второй этаж на руках, но теперь Сережа поднимается сам:
— Пусти, я большой. Тяжелый.
— Ничего. Как-нибудь справлюсь, — растягивая слова, громко говорит папа, подхватывая Сережу.
— Мама, пусти погулять, — просит Сережа, и в голосе его слышится нетерпение. Ему все уже надоело: и кубики, и бумага, и карандаш, и даже новенькая машина, которую подарил ему на днях папа. Машина есть, а папы все нет. Пока гудят самолеты, он домой не придет. Сережке уже и в окно смотреть не хочется. Все равно ничего не видно. Самолеты улетают, а куда и где они — не поймешь.
— Мам, где самолеты?
— В облаках, сынок.
— А почему в облаках?
— День сегодня такой…
— Какой?
— Ну, с облаками.
— А что самолеты делают в облаках?
— Летают, сынок.
— А почему летают?
— Для того и самолеты, чтобы летать.
Сережа задумывается. Над аэродромом снова громко рычат самолеты. Это папа полетел, это — дядя Коля, а это — дядя Женя…
— Мам!
— А-а-а…
Юрик проснулся. Теперь и с мамой, конечно, не поговоришь.
Стекло в окне больше не звенит. Сережа проводит по нему пальцем. Нет, не звенит и не дребезжит. На аэродроме стало тихо, и стекло замолчало. Почему? А если ударить ладошкой?
— Сережа! Что ты делаешь? Разобьешь.
«Сейчас скажет — ребенка простудишь», — думает Сережа и настораживается. Нет, не слышно больше самолетов. Быстрее, быстрее на улицу, папу встречать.
— Мама… Пусти погулять…
— Да иди, иди, а то с тобой не сладишь. Весь в папу: если уж надумал что-то — не отступишься, — застегивая ему пальто, ворчливо говорит мама, но голос ее звучит ласково, глаза улыбаются, и Сережа пулей вылетает за дверь.
Танюшка и Наташка давно на улице.
— Вертолет… Вертолет… — кричат они, задирая головы.
Вертолет похож на большую-пребольшую стрекозу. И стрекочет он не так, как самолет. Надо будет спросить папу, летает ли он на вертолете. Только почему папа сегодня так долго не приходит? На улице ветрено, холодно, Сережа уже замерз, а папы все нет и нет.
— Сыно-ок…
Мама зовет. Домой не хочется. Вот если бы с папой, чтобы тот сказал: «Серега, лапу!».
И они пошли бы вместе, держась за руки. Как мужчина с мужчиной. Дядя Коля Костюченко говорит — как медведь с медвежонком, а Сереже больше нравится — как мужчина с мужчиной. Пусть завидуют девчонки.
— Сыно-ок… Сережа-а…
Надо идти, а то еще шлепка получишь. Не больно, но все-таки неприятно. Особенно если Танюшка и Наташка смотрят.
— Мама, а где наш папа?
— Придет скоро придет. Видишь, полеты закончились.
— Мама, а он принесет мне шоколадку?
Папа каждый день приносит ему что-нибудь вкусное. И все — большое. Яблоко — ух какое, красное! Или апельсин. Больше, чем рука у папы, если он сожмет пальцы. А сжимает он крепко. Так крепко — ну никак не разжать. Правда, папа иногда поддается: «Смотри, какой ты сильный». Но Сережа знает, что он понарошку отпускает пальцы. Тогда он требует: «Сожми, сожми!»
Ему очень нравится играть с папой, но чтобы игра была настоящей, взаправдашней.
Мама не любит взаправдашней. Однажды, когда они играли в жмурки, папа сказал, чтобы Сережа закрывал глаза и ловил его. Но глаза открывались сами собой, и тогда Сережа попросил: «Завяжи, завяжи платком».
Папа сначала не хотел завязывать, а потом согласился, и тогда все стало по-настоящему. Только папины шаги были слышны, и Сережа начал быстрее бегать, чтобы не слышать, да как стукнется обо что-то, да как заревет со страху! С тех пор мама не разрешает так играть. А жалко. Ведь он не стал бы больше стукаться о диван…
— Мама, а где наш папа?..
За окном уже темнело. Мама несколько раз подходила к окну, прижималась лицом к стеклу. Сереже смешно было видеть, как у нее расплющивается при этом нос, будто со двора кто-то нажимает невидимым пальцем, как папа Юрику. Но мама не смеялась и ничего не говорила. Она тоже ждет папу и, когда его долго нет, всегда молчит.
На лестнице послышались чьи-то тяжелые шаги. Сережа встрепенулся. Мама быстро открыла дверь и сказала таким голосом, как у Сережи:
— А где наш папа?
В коридоре кто-то не то кашлянул, не то хмыкнул, но больше Сережа ничего не услышал. Только громко и очень быстро хлопнула дверь соседней квартиры.
— Дядя Коля пришел? — догадался Сережа. — А где папа?
— Придет папа, сынок, придет.
В кроватке загукал Юрик. У, хитрющий! Он знает, когда просыпаться…
Как тихо кругом, когда не летают самолеты! Сережа не знает, плохо это или хорошо, если они не слышны. Если папа приходит домой, то тогда хорошо, а если папы нет, то плохо. Об этом можно догадаться, глядя на маму. Она все ходит, ходит, глядит в окно и молчит.
На дворе застучал топор. Кто-то рубит дрова возле их сарайчика. Неужели папа пошел туда, не заходя домой? Такого раньше не бывало, но мало ли что может придумать папа.
Сережа вопросительно посмотрел на маму. Мама накинула на плечи папину синюю куртку и скрылась за дверью. Она всегда в этой куртке ходит за дровами, только не так торопливо. Понятно, почему она спешит. Она тоже ждет папу. Сейчас они придут вместе, будут смотреть друг на друга и улыбаться чему-то, совсем не замечая своего сынишку, пока он сам не кинется к ним.
Нет, на лестнице тихо. Сережа придвинул к окну стул, встал на него и прижался к стеклу лицом. На минуту его заинтересовало то, что со двора на него глянул, как из зеркала, другой Сережа, но вскоре стекло запотело. Пришлось стирать мутную и совсем ненужную пленку ладошкой.
Сзади хлопнула дверь. Вошла мама. Одна.
— А где наш папа?
Мама не улыбнулась, но и не рассердилась оттого, что Сережа без конца задает ей один и тот же вопрос. Она знает: у него такая привычка — будет целый час спрашивать об одном и том же, пока его не отвлечешь чем-либо.
— Идем, сынок, кушать…
Покачивая под столом ногой, Сережа ел кашу и пил молоко. Он даже не заметил, когда открылась дверь и вошли тетя Шура Костюченко и тетя Лариса Кривцова. А когда увидел, удивился. Обычно они приходят с громким смехом и веселыми возгласами, а сегодня почему-то стоят у порога и молчат.
— Вы что, дуэтом хотите говорить? — засмеялась мама.
Сережа тоже засмеялся. Ему нравилось, когда к ним приходили гости. Они всегда начинали с ним разговаривать. Но на этот раз все почему-то молчали. Тетя Шура хотела что-то сказать, но посмотрела на него и ничего не сказала. А тетя Лариса посмотрела на маму, потом на тетю Шуру и тоже ничего не сказала, словно испугалась чего-то.
— Да вы что? — опять спросила мама, но глаза ее уже не смеялись.
И тут Сережа перестал что-либо понимать. Обе тети разом воскликнули:
— Ну и счастливая же ты, Лидуша!
И вдруг из глаз у них покатились слезы. Это было так неожиданно и так непонятно, что Сережа только переводил взгляд с одной на другую. Совершенно сбитый с толку, он был готов и заплакать и засмеяться одновременно.
Так оно и получилось, но этого никто не заметил. Всхлипывая и вытирая мокрые глаза, тетя Лариса и тетя Шура наперебой о чем-то говорили маме, а она очень странно смотрела на них. Сережа оборвал свой плач, бесконечно удивленный тем, что на этот раз его никто не утешал. Почему о нем все забыли?
— Иван? — каким-то чужим голосом воскликнула мама.
— Да ты не пугайся, не пугайся! — подбежали к ней обе тети. — Он жив. Он жив. Только в море. В лодке.
Они замолчали, словно разом выдохлись. А мама, сжав кулаки, поднесла их к своему лицу и глухо, будто грозя кому-то, сказала:
— Да он не может не прийти! Не имеет права.
Лицо у нее стало белым-белым. Как мел. И губы побелели. Потом по щекам медленно поползли слезы. Мама вскочила и тут же села на диван, прямая, с расширенными глазами. Она забыла предложить стулья своим гостьям и неотрывно смотрела куда-то мимо них, будто там было что-то особенное. Сережа проследил за ее взглядом, но ничего, кроме пустой стены, не обнаружил.
Он притих, боясь шевельнуться. Он ничего не понял из всего услышанного и скорее своим детским сердцем, чем умом, вдруг проник в самую суть: «Что-то случилось с папой!»
— Крепись, Лида, — тронула маму за плечо тетя Шура. — Возьми себя в руки.
А мама не шевелилась, сидела точно каменная. Лишь когда заплакал Юрик, вдруг очнулась, провела рукой по глазам, как бы снимая с них паутину, и подошла к кроватке.
Юрик замолчал. А через минуту, когда ему переменили пеленки, он уже улыбался. И мама улыбнулась ему. Только немножко-немножко, так, словно стояла она где-то далеко-далеко,
— Ты лучше поплачь, Лида, — посоветовала тетя Лариса, и эти слова изумили Сережу. Когда он начинает плакать, все его утешают и стыдят, а тут говорят маме, что она счастливая, и заставляют ее плакать. Какие всетаки непонятные эти взрослые. Никогда не угадаешь, что они могут сделать в следующий момент.
Вошел дядя Саша Железников. Быстро окинул всех взглядом, не ожидая приглашения, присел на стул. Сережа подошел к нему и вздохнул, когда он погладил его по голове: хоть один человек вспомнил о нем. Но дядя Саша смотрел не на него, а на маму. Зачем-то потрогав себя за шею, он хрипло проговорил:
— Ищут… Все будет хорошо. Не расстраивайся, тебе ребенка кормить.
Дядя Саша рассказывал еще что-то, но Сережа не понимал его. Да и мама, кажется, не понимала. Или не слушала.
— Можно?
В дверях стояла тетя Света Юлыгина. Ей никто ничего не ответил, но она и не ждала разрешения. Быстрая, спокойная, ласковая, она сразу разделась, пошла на кухню, вымыла там руки, взяла у мамы Юрика и тихо, но вроде бы сердито распорядилась:
— Ступайте все по домам! Я останусь, буду ночевать здесь.
Дядя Саша поднялся первым:
— До свидания.
— До свидания, — повторила тетя Лариса.
— Так ты присмотришь, Света? — спросила тетя. Шура.
Тетя Света только головой кивнула, а Сережа вдруг решился подойти к маме. Он сейчас сам ей все расскажет, а то эти взрослые только перебивают друг друга.
— Не плачь, мам. Папа скоро придет. Он в лодке, — торопливо заговорил Сережа и вдруг испуганно замолчал: мама, обхватив его за плечи, крепко прижала к себе, и на шею ему упали горячие капельки.
— Перестань, — спокойно, совсем как папа, сказала тетя Света.
И Сережа решил поддержать ее:
— Перестань, мам, а то и у меня слезы потекут. Мама, не поднимая головы, заплакала еще сильнее.
Тогда тетя Света взяла Сережу за руку и увела его в другую комнату, ласково приказав ему:
— Будем спать. Хорошо?
Он покорно кивнул головой. Ему нравилось, что о нем заботятся, да и глаза уже слипались. Однако, уже почти засыпая, Сережа поднял голову и шепотом спросил:
— Тетя Света, а где наш папа?
— Спи! — услышал он в темноте. — Папа придет утром. И чем быстрее ты уснешь, тем скорее пройдет ночь.
Сережа сразу успокоился. Он очень верил этой строгой и заботливой тете.
ШТОРМ В СТО БАЛЛОВ
Лодку подкидывало, мотало то вправо, то влево и несло, несло в неизвестном направлении. Как всадник, который оказался на спине полудикого коня без узды, Куницын мчался, скользил с гребня на гребень. Он не сопротивлялся влекущей его силе, лишь инстинктивно отклонялся то в одну, то в другую сторону, чтобы сохранить равновесие. От мысли, что близится печальный конец, немая тоска больно сжимала сердце, но страх уже прошел. Где-то рядом с мыслью о неизбежном конце продолжала упорно биться другая: а так ли уж безнадежно его положение, как ему кажется? Все ли средства спасения исчерпаны?
Напряженно размышляя, Куницын вдруг встрепенулся. К лодке должен быть прикреплен небольшой насос, сложенный в специальном кармане! В минуту растерянности он совсем забыл о нем. А в свое время считал, что хорошо знает нехитрое устройство лодки. Вот ведь как паника лишает памяти.
Насос действительно оказался на месте. Маленький такой, напоминающий собой кузнечный мех в миниатюре: две дощечки, оклеенные сложенной в гармошку влагонепроницаемой тканью. Схватив насос, Иван начал лихорадочными движениями накачивать воздух в борта-баллоны. Конечно, если прорезиненная ткань лопнула, если в ней появился хотя бы незаметный, как от иглы, прокол, то тут уж ничего не поделаешь. Но бороться надо до последней возможности.
Борта долго оставались сморщенными, жухлыми. Нагибаясь, летчик снова прислушивался, не шипит ли, вырываясь сквозь скрытое отверстие, нагнетаемый воздух? Нет, кажется, баллон цел.
Облегченно вздохнув, Куницын уже более спокойно продолжал сжимать и разжимать дощечки насоса. У него появилась уверенность в том, что ему удастся удержать лодку на плаву. О дальнейшем пока что думать он не мог и не хотел.
Трудно сказать, сколько времени продолжалась такая работа: может, час, а может, и два. Но она отвлекла от мрачных мыслей и немного согрела.
Наконец лодка была надута и снова обрела устойчивость, плотно облегла тело человека. Эх, если бы еще и весла, тогда и самому можно было двинуться в путь.
Мрак над морем тем временем сгущался все больше. Ночь, долгая северная ночь, полновластной хозяйкой вступала в свои права…
В этом диком северном краю капитан Куницын начал служить недавно, но казавшуюся нескончаемой темноту он переносил гораздо легче, чем круглосуточный день, когда солнце всего лишь на один час заходит за горизонт. Ночь в этих широтах была для него одним из самых удивительных явлений и нисколько не тяготила его.
Летчикам, прибывающим сюда, сразу же объясняли, что чудеса северной природы могут оказаться пагубными для них. Полярное сияние вызывает помехи в радиолокационной аппаратуре самолета, а рефракция — преломление света луны или солнца сквозь мглистую завесу ледяных кристаллов, повисших в воздухе, — искажает, как бы сдвигает видимые предметы в сторону, вводя в заблуждение пилотов при заходе на посадку. Но, даже зная об этом, Куницын все равно не мог оставаться равнодушным перед красотой таких магических явлений. Наблюдая их, капитан всякий раз испытывал ни с чем не сравнимое, возвышающее, обновляющее чувство. Но он стеснялся красивых слов и только негромко говорил стоящему рядом Николаю Костюченко:
— Смотри, смотри. Ух ты, красотища какая!..
— Ничего сказать не могу, — взволнованно откликался Николай.
В свои тридцать два года Костюченко оставался таким же непосредственным, каким был в курсантскую пору. Он радовался шумно и бурно и, приходя в сильное возбуждение, произносил отдельные слова с белорусским акцентом. Голос его переходил с тенора на глуховатый басок:
— Повезло нам, Иван Тимофеевич. Где еще такое чудо увидишь?
Тогда друзьям казалось, что вечно будет лучисто-ясным и неподвижным воздух, а служба здесь, на Севере, — одним из лучших периодов в их военной судьбе. Но как обманчивы и зыбки надежды! Еще вчера Куницын в кругу товарищей наслаждался тишиной и покоем, а сегодня он оказался во власти разгневанного моря. И сразу же ощутил, как невыносим гнет нескончаемой тьмы.
Конечно, командир, летчики и техники, сержанты и солдаты сделают все, что могут, чтобы найти его как можно быстрее. Коля Костюченко, редкий человек и искренний друг, прилетел бы, приплыл бы сюда на чем угодно, рискуя ради товарища собственной жизнью. Но даже всемогущий локатор бессилен нашарить одинокого человека в огромной пустыне моря, над которым низко, почти касаясь волн, ползут дождевые тучи.
«Значит, надо выбираться отсюда самому, — решает Куницын. — Надо грести руками».
Еще раз уточнив по ручному компасу, в каком направлении находится берег, летчик лег грудью на борт, опустил руки в воду. Пальцы и ладони обожгло словно огнем, тупо заныли суставы. Взмах, другой… Лодка двинулась вперед.
Попутный ветер усилился, но грести в таком положении было неудобно: мешал стоявший горбом спасательный жилет. Куницын снял его и положил на колени.
Шум ветра и моря напоминал гул горной реки во время весеннего разлива. Потом к судорожным вздохам волн присоединился какой-то странный шелест. Иван не сразу понял, что сверху по нему хлещет сильный дождь. А, да не все ли равно! И без того он промок, кажется, до самых костей.
Занятый то одной, то другой надвинувшимися бедами, Куницын долгое время не думал ни о чем постороннем. Не вспоминал даже о еде, хотя обычное время ужина давно миновало. Больше всего тревожила мысль о том что ему придется провести ночь один на один с морем, пробиваться к берегу сквозь кромешную тьму, бороться с волнами до самого утра. А грести тяжело. Давно ли, кажется, начал он двигаться, но уже хочется передохнуть, переменить позу: мокрая одежда тяжела и холодна, она давит и сковывает тело. «Прямо-таки как стальные рыцарские доспехи», — подумал летчик.
Посидев несколько минут распрямясь, чтобы дать отдых спине и мышцам рук, капитан опять лег на борт, но вдруг баллон легко прогнулся под ним. В чем дело, опять стравливается воздух? Так и есть. Надо снова браться за насос. И надеть жилет. Но где он?
Жилета не было, его, очевидно, выбили и унесли волны. Иван метался из стороны в сторону, резкими гребками поворачивая лодку. Но разве заметишь что-нибудь в такой беспросветной мгле, если с трудом видишь даже собственные руки…
На небе ни звездочки. Лодка ненадежна, то и дело приходится насосом накачивать воздух в ее баллоны. А под лодкой такая глубина, о которой страшно подумать. Ну до чего же он глупо поступил, сняв с себя капку! Теперь и близок локоть, да не укусишь…
В голову пришла странная мысль, возмутившая его до глубины души. Если он утонет, будут считать, что в полку произошла катастрофа. Если же его найдут — будет записана только авария. А это не одно и то же. Катастрофа — самое тяжелое происшествие, связанное с гибелью человека. В таком случае с командира части взыщут строже. Но ведь это будет несправедливо. Летчик-то погиб (Куницын так и подумал о себе — в третьем лице) не одновременно с самолетом, а спустя несколько часов после аварии, погиб только потому, что упал в море, а не на сушу.
В памяти шевельнулась знакомая фраза. Он как будто услышал ее среди шума и плеска волн:
— Смотри, мужик, не посрами русское воинство!..
Да, именно эту фразу любит повторять командир части полковник Горничев. Или назовет в другой раз не мужиком, а парнем. В его устах эти слова звучат как-то по-особому, подчеркивают расположение и доверие к человеку. Обычно он называет подчиненных по званию и фамилии, а скажет «парень» или «мужик», — значит, надеется на тебя, доволен тобой.
Полковник нередко напутствовал этой фразой, провожая в полет, и его, Ивана. И Куницын всегда старался выполнить задание как можно лучше, чтобы услышать после возвращения на аэродром глуховатый, с хрипотцой, басок командира:
— Хорошо летал сегодня, мужик!
Сегодня… Нет, это было вчера и позавчера. А сегодня… Полковник, конечно, и не представляет, сколько «мужик» успел натворить глупостей.
Нет, не в полете. Куницын не сомневался в том, что во время аварии он действовал правильно, зато после приводнения начал делать одну ошибку за другой. Во-первых, рано освободился от подвесной системы и бросил парашют. Во-вторых, поддался отчаянию и попусту выпалил целую обойму патронов. В-третьих, снял с себя и не уберег капку, хотя знал, что лодка травит воздух…
«Не спеши, шустрячок» — так, наверно, сказал бы с мягким укором командир, слушая торопливые, сбивчивые объяснения. Это — одно из тех слов, которые Горничев произносит редко и как бы невзначай. Говорит он, по своему обыкновению, негромко, в голосе его не услышишь намека на иронию или раздражение. Скорее, наоборот, в слове «шустрячок» прозвучит добродушное, по-отечески ласковое снисхождение, но если полковник обронил такое слово — остановись, подумай: ты или не сказал ему самого главного, перечисляя ошибки в полете, или необдуманно порываешься сделать что-то опрометчивое.
«Ну и слабак же я! — поморщился Куницын. — Раскис, совсем раскис со страху. Прямо обалдел. Вспомнить стыдно, не то что Горничеву или еще кому рассказать. Ладно, парашют потерял, ладно, сдуру палить начал в белый свет как в копейку, так еще, видишь ли, и жилет прохлопал. Ну не олух ли! Нет, так дальше нельзя, а то и в самом деле пойдешь ко дну как топор!..»
Однажды, выполняя стрельбу из пушек по наземным мишеням, Куницын затянул пикирование и вывел истребитель из атаки на предельно малой высоте. После руководитель стрельб сказал:
— Ну пикнул — аж пыль столбом!..
Это можно было расценить как лихачество, чего Горничев не терпел. Однако он не стал торопиться с выводами, внимательно выслушал объяснения Куницына и лишь потом рассудил:
— Все правильно, мужик. Поскольку ошибку осознал сам, наказывать не буду. Только впредь не повторять. Ясно?
— Так точно! — повеселев, отвечал Иван. И вдруг, смелея, спросил: — А что сказали бы вы, товарищ полковник, если бы я атаковал реальную цель?
— Шустрый ты парень, — добродушно улыбнулся Горничев. — Но дерзость в бою и бездумный риск — не одно и то же…
В другой раз Куницыну пришлось услышать слово «шустрячок» в ином звучании. Ему предстоял полет по маршруту в облаках, а руководитель полетов подняться в воздух не разрешил, так как синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды. Заметив проходящего по аэродрому командира, Иван кинулся к нему:
— Товарищ полковник, почему мне не дают лететь? Я справлюсь.
Он не сказал: «Как-никак я летчик второго класса», но подумал об этом. Горничев мягко остановил его:
— Не спеши, шустрячок. Прижмет облачность в воздухе — спохватишься, да поздно будет.
Прав был командир. Вскоре с северо-запада низко поползли густые, лохматые тучи, и Куницын, окажись он в небе, вряд ли смог бы пробиться сквозь них к посадочной полосе, тем более что справа от аэродрома гора, а слева высокая сопка.
Вот так всегда — где спокойной строгостью, где добрым словом — полковник Горничев умел удержать каждого от необдуманных, поспешных действий и неоправданного риска. А что сказал бы он сейчас? Нет, командир не одобрил бы его поведения после катапультирования.
А что сказал бы майор Железников?
Командиром эскадрильи Железникова назначили недавно. Молодой комэск не нашел еще верный тон в обращении с подчиненными и держался официально сухо, подчас резко. Его нарочитая степенность при невысоком росте и худощавой фигуре порой вызывала улыбку. Юра Ашаев как-то в шутку заметил, что у майора железо не только в фамилии, но и в характере.
Полковник Горничев, несмотря на более высокое служебное положение, был проще, доступнее. Он умел безбоязненно переступать границу начальственной сдержанности и дружелюбно, как бы на равных, беседовать с любым человеком. При этом лицо его выражало самую искреннюю, отечески добрую заинтересованность и готовность немедленно помочь словом или делом.
Горничева любили. Когда полковник руководил полетами, летчики, слыша его голос в эфире, всегда чувствовали командира так, словно он находился рядом, в одной кабине, понимали, что называется, с полуслова и летали уверенно, смело. Все были как бы связаны незримой нитью, а это чувство делало коллектив спаянным, сильным и целеустремленным.
Сейчас, борясь с волнами, Куницын особенно остро ощутил, как тяжело терять связь с тем, откуда черпаешь силы. Это ощущение и повергло его на какое-то время в уныние. Но с чего он взял, что о нем забыли? Чушь! Полковник Горничев сделает все, чтобы организовать поиски. Он до тех пор не уйдет из штаба домой, пока ему не доложат, что все его распоряжения выполнены. Командир — он у них такой: прежде всего заботится о подчиненных, а уж потом — о себе. Он из тех людей, которые не умеют жалеть себя.
Вглядываясь во мрак ночи, Куницын медленно греб и думал, думал. Последняя мысль, мысль о том, что есть люди, которые не жалеют себя, показалась ему в этом плавании настолько важной, что у него возникло непреодолимое желание немедленно до конца вникнуть в ее глубокий смысл. Да, да, надо разложить ее, как сложную алгебраическую формулу, на более простые значения, более доступные для понимания.
В сознании отчетливо всплыли чьи-то необычные слова: «Да здравствуют люди, которые не умеют жалеть себя!» Где он слышал или прочитал эту фразу, летчик вспомнить не мог, да к тому же до сего времени не очень-то и задумывался над ней. Ему представлялось, что не жалеть себя — не столь уж трудное дело. А чего тут сложного? Отдавай все силы без остатка работе, не щади себя; если грянет война, в бою отдай, не раздумывая, жизнь за командира и боевого друга; щедро дари внимание и заботу близким — разве этого мало?
Оказывается, жалость к себе — нечто более хитрое. Она прежде всего — инстинкт сохранения жизни и, как всякий инстинкт, настолько сильна, что иногда, пробудясь в своей первобытной сущности, может вырасти до невероятных размеров, обернуться гибелью. Видимо, в минуты страха некоторые абсолютно здоровые люди потому и умирают от разрыва сердца: их убивает, как мгновенный удар тока, невероятный импульс такой жалости.
Был же в авиации случай — парашютист погиб неизвестно отчего. Опустился — на теле ни царапинки, а уже не дышит. Единственное, что могло послужить причиной смерти, — испуг.
Вот так, наверно, и в пропасть срываются. Стоял человек прочно, а глянул вниз — и рухнул: его толкнул гипноз жалости к себе.
Или почему, скажем, мечется в бою трус? Он боится, что его убьют или ранят, заранее жалеет себя. Проще говоря, дрожит за свою шкуру, из-за чего и теряет голову. Страх парализует волю, лишает разума, толкает на безрассудные поступки, обессиливает физически.
В тот момент, когда начала жухнуть лодка, именно такой инстинктивный приступ страха за собственную жизнь испытал и Куницын. Летчик думал лишь о своей беде, лишь о себе, и это едва не погубило его: он забыл даже о том, что в лодке есть насос.
Не сразу к нему вернулась способность рассуждать. Ему было необходимо, чтобы кто-нибудь утешил его, подал хоть какую-то весть о том, что уже начаты поиски. Тут и пришли воспоминания о близких и друзьях. Правда, вначале это были мысли о самом себе, как ожидание чьей-то жалости и поддержки. Даже трусости своей он устыдился сперва лишь потому, что хотел выглядеть в своих глазах и перед людьми мужественным, смелым.
Туманными, расплывчатыми были также его размышления о важности профессии военного летчика. Они шли больше от того, что осело в мозгу из услышанного на митингах и собраниях, прочитанного в газетах и книгах, чем от сердца, и в глубинной своей подоплеке тоже замыкались на собственном «я». А первой проникновенно-личной заботой о других явилась мысль о том, что если его не найдут, то полку запишут катастрофу.
Он живо вообразил себе, как это будет выглядеть. На всех собраниях и совещаниях при подведении итогов боевой учебы за каждый месяц и квартал какой-нибудь старший начальник, отмечая достигнутые полком успехи, сделает паузу и грустно скажет:
— Все это хорошо, товарищи, но…
И за этим «но» пойдет речь о катастрофе, которая постигла его, капитана Куницына. И все летчики и техники, все сержанты и солдаты опустят голову, а полковник Горничев сокрушенно вздохнет, чувствуя себя виноватым больше всех.
Куницыну было очень обидно думать об этом. Разве можно подвести людей, которых любишь? Нет. Такого допустить нельзя.
Капитан снова испытывал страх за собственную жизнь. Но теперь это была жалость к себе ради других людей, ради большого коллектива. Она не расслабляла, она делала летчика злее и сильнее, пробуждая и укрепляя в нем волю к борьбе со стихией. Надо выстоять, спастись и рассказать, что случилось в воздухе с самолетом. Рассказать, даже умирая, первому встречному, чтобы тот все передал Горничеву. Хороший он человек, заботливый командир. Несмотря на занятость, всегда поинтересуется, как семья, дети.
Сыновья… Лиля… Как они сейчас там? Конечно, им уже сообщили о несчастье…
Они выросли в одном городе. Лиля сумела стать ему и любящей женой, и верным другом, и товарищем. Без нытья, с пониманием, часто с шуткой переносила она все неудобства кочевой жизни офицерской семьи. Ни разу не пожаловалась на тяготы, которые встретились после переезда сюда, в северный гарнизон. Ладно, мол, часом — с квасом, порой — с водой.
Лиля… Никогда не услышишь от нее упрека или сетований на судьбу жены летчика. Другие, смотришь, мечутся, упрашивают, настаивают, требуют от мужа невозможного: «Брось летать! Подумай о себе. Обо мне подумай. О детях!»
Да, есть и такие. Иван знает. Они не находят себе места, когда муж уходит в полет, не спят, ожидая его, и во многих окнах военного городка всю ночь не гаснет свет.
Лиля, конечно, тоже сильно переживает, но молчит; провожает его на аэродром и встречает радостно, с улыбкой, с шутками. Лишь глаза…
Иван словно увидел в ночном мраке глаза жены. В них нет слез. Они сухие, в них лучистое сияние счастья и в то же время глубоко затаенная боль, тревога, ожидание, надежда и всей силой женской воли сдерживаемый страх, почти крик:
«Нет! Нет!..»
Жена… Велико будет ее горе. При всей ее выдержке она все-таки женщина. А сыновья?
Сыновья совсем еще малыши. Сереже через пять дней исполнится четыре годика, а Юрику всего четыре месяца. Ничего не понимает. Если не выкарабкаться отсюда, то он отца и помнить не будет…
Пожалуй, еще вчера, еще сегодня утром Куннцын не мог даже представить, как дороги ему дети. Он гордился, что у него два сына, он хвастался ими перед товарищами, готов был нянчить их, не спуская с рук. После полетов бежал с аэродрома домой, торопясь узнать, что его ребятишки веселы и здоровы. Но все же чувства к детям, которые жили в душе Ивана до сих пор, он назвал бы теперь холодно-спокойными. Лишь сейчас, перед лицом опасности, Куницын до конца осознал силу отцовской ответственности и любви.
Эта ответственность за будущее детей заставила Ивана напрячь все силы. Сдаться — значит оставить их сиротами. А он сам рос сиротой, он знает, что значит с малых лет лишиться отца. То, что ему невыносимо трудно, в конечном счете не имеет никакого значения для ожидающих его детей. Надо бороться за свою жизнь ради них. В этом его отцовский долг.
Закоченевшие руки отказывались сгибаться, грести стало тяжелее. В плечах и локтях, в каждом суставе все острее ощущается боль. Вокруг не видно ни зги. Куда он плывет? Может, просто кружится по волнам на одном месте?
А что сделать, чтобы плыть наверняка? Отсыревшая стрелка компаса не светится, звезды скрыты за тучами. Глаза режет от напряжения и соленой морской воды. Временами приходится надолго закрывать их и двигаться вслепую. Остается одно: ориентироваться по ветру. Однако и на ветер надежды мало, он порывисто налетает то справа, то слева, крутит и мечется, словно гончая, потерявшая след зайца.
Положив на борт натруженные руки, Иван смежил веки: «Отдохну немного. Самую малость…»
Куницын знал другое море — южное. Он родился в приволжской степи, а рос в городе Туапсе, на берегу морского залива. Уйдя в армию, часто проводил там отпуск, любил купаться, охотиться, рыбачить. Когда в последний день отпуска вышел на рыбалку, водная гладь сверкала и переливалась в солнечных лучах, казалось, что вот-вот вспыхнет, загорится. Теплый был день, безветренный, ласковый…
Хлестнула волна, грубым рывком подбросила лодку. Иван вздрогнул и очнулся. Неужели он чуть не уснул? Ночь и море решили теперь убаюкать его, заставить забыть о своем положении.
«Этого еще не хватало! — испугался и разозлился капитан. — Усну — и конец, верная гибель».
Чтобы избавиться от расслабляющей тело и волю дремоты, летчик стал сильнее грести. Вначале это ему удавалось, но вскоре сон опять начал сковывать мышцы. Сами собой опускались веки, и открывать их навстречу колким брызгам становилось все труднее.
Снова впадая в забытье, Иван сквозь шум ветра и всплески волн услышал грустную и нежную мелодию. Сперва она доносилась будто издалека, потом сникла, затихла совсем и вдруг зазвучала отчетливее, громче, в ее переливы вплелись тревожные, берущие за душу аккорды. И он вспомнил: полонез Огинского «Прощание с родиной».
Впервые Куницын услышал эту мелодию, еще будучи курсантом — военного авиационного училища. А недавно они с Лилей слушали радиопередачу, посвященную трагической судьбе польского композитора и истории создания этого музыкального произведения. Но почему полонез зазвучал здесь, над ночным морем?
«Иллюзия, — пронеслось в сознании. — Опять засыпаю. Нет никакой музыки… И спать нельзя. Рано еще прощаться с Родиной. Надо жить!»
А как бороться с иллюзиями?
Иллюзии нередко возникают у летчиков в слепом полете, когда самолет идет в непроглядной темени облаков. Приборы показывают, что машина находится в горизонтальном полете, а пилота неотвязно преследует ощущение, что он мчится со снижением в крутом развороте.
В таком ложном ощущении всегда таится опасность. Стоит поддаться ему, отвести взгляд от приборов, двинуть рули не в ту сторону, которую диктует авиагоризонт, — и ты камнем полетишь вниз.
Впрочем, противостоять иллюзиям слепого полета не столь уж сложно. Тряхни головой, перемени позу, пошевелись, следи за показаниями приборов и верь только им.
Так, видимо, надо избавляться от иллюзий и здесь, в условиях полной темноты и непрерывной морской качки. Но вот беда — одолевает еще и тягучая дрема.
Как прогнать сон? Надо петь. Он где-то читал об этом.
Почти неслышным голосом, еле разжимая потрескавшиеся губы и отплевываясь от горькой морской воды, Куницын запел. О матери, которая куда-то провожает своего сына, и сыне, который прощается с ней.
Песня была грустной. Ну ее, эту песню! Затянуть бы что-нибудь веселое, но из головы выветрились все песни, которые он когда-либо знал. Ага, вот:
В жизни всему уделяется место, Рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, То неизвестно, кому повезло.Из всех слов лукавой, шуточной финской песни Куницын вспомнил сейчас только один этот куплет и ее задорный припев с непонятными словами: «Рулатэ, рулатэ, рула…»
Песня приободрила. Иван даже улыбнулся, догадываясь, почему пришли на ум именно эти слова.
Однажды Лиля рассердилась на него. Не хотела, чтобы он уходил на охоту.
— Опять будешь пропадать невесть где больше суток, а каково мне? Ты об этом и думать не хочешь. Вот возьму и уеду, тогда спохватишься.
В таких случаях, когда жена с укором выговаривала ему, Иван обычно отмалчивался. А тут усмехнулся и с нарочитым вздохом поддразнил:
— Уедешь, значит? Ну что ж, смотри, твое дело. Если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло…
Блеснув глазами, Лиля хотела рассердиться еще сильнее, а вместо этого рассмеялась. Она сама любила потихоньку напевать веселую финскую песенку, а в ней, оказывается, нашлись слова и против нее.
На второй день, когда Иван возвратился домой, Лиля встретила его как ни в чем не бывало. Она вообще не умела долго сердиться, а после разлуки, даже самой короткой, становилась еще внимательней и всё хлопотала возле стола, зная, что аппетит у Ивана завидный.
А уж как поел бы он сейчас, после многочасового купания в холодных морских волнах! При мысли об этом у Ивана засосало под ложечкой…
Нет, к черту воспоминания. Лучше петь. Песня отвлекает, помогает забывать невзгоды, отбиваться от сна. Только какие в ней дальше слова? Ага, вспомнил:
Песенка эта твой друг и попутчик…Если бы кто-нибудь мог наблюдать эту картину со стороны, он бы ужаснулся и счел ее невероятным видением. В неистово ревущем море, среди встающих на дыбы волн двигался человек на хрупкой лодке и пел хриплым, простуженным голосом веселую песню. Можно было подумать, что он сошел с ума. Но никто этой картины не видел, а сам Иван не размышлял о том, что показалось бы постороннему наблюдателю. Все свои мысли и усилия он старался сконцентрировать теперь на борьбе с дремотой, которая выключала сознание. А пока он не спал, сознание вело его вперед.
Вперед, вперед! Пядь за пядью! Петь! Разговаривать с самим собой!
Тяжело бороться в одиночку. Тяжело…
От непрерывного шума волн звенит в ушах. Звон усиливается, растет, переходит в басовое гудение, похожее на жужжание шмеля. В него вплетается какой-то хрустящий звук, точно над ухом рвут брезент, и откуда-то сыплются искры…
Какие искры? Это же трассирующие снаряды! В небе идет воздушный бой. В крутом вираже мчится наш краснозвездный «ястребок», а вокруг него, как осы, вьются вражеские истребители. Держись, друг, держись!..
Куницын сердито мотнул головой, усмехнулся: «Ну вот, теперь кино смотрю. Галлюцинации…»
Впрочем, почему галлюцинации? Разве не было такого, что один наш самолет вступал в схватку с целой группой фашистских? В истории полка записан эпизод, как младший лейтенант Владимир Судков встретился в воздухе с пятью «мессершмиттами». И не дрогнул, одного сбил, остальных рассеял.
Потом, когда он дотянул до аэродрома и посадил свою машину, все ахнули. Плоскости ее представляли настоящее решето. Сквозь ободранный снарядами фюзеляж виднелись бензобаки, обшивка стабилизатора висела клочьями, металлические ребра перебиты. На таком израненном самолете летчик сражался не на жизнь, а на смерть. И вышел победителем. В полку о нем сложили песню. Ее поют и сейчас.
Капитан попытался представить себе динамику того воздушного боя — и не смог. Это трудно даже вообразить: один против пятерых на подбитой машине! А он? Он сейчас тоже один против пятерых: море, ветер, холод, голод, жажда. Иван долго противился жажде, но не вытерпел. Ведь кругом — вода. Она, конечно, горько-соленая, он знает это, но почему не попробовать? Чуток. Самую малость. Чтобы смочить рот.
Он не устоял перед искушением и глотнул. Вода обожгла язык, словно наждаком прошла по деснам и нёбу. Фу, дьявол, ну и гадость! Ничего, терпи, казак, живым будешь. Еще глоток и еще…
«Ну вот, подкрепился, теперь можно с новыми силами двигаться дальше. Куда? Да бес его знает куда. Трус в карты не играет! Меня вроде как в бою сшибли, и я сиганул с парашютом. Так что же, в плен сдаваться, что ли? Нет, дудки! Будем пробираться к своим. Как Маресьев!»
— Врете, душегубы, не на того напали! — с ожесточением процедил летчик сквозь зубы, обращаясь к ветру и волнам, как к неким живым и злобным существам. Он вдруг осознал, что не имеет права на слабость. Ему теперь страстно хотелось добиться того, чтобы им гордились. Чтобы полковник Горничев мог сказать: «Я же знал, что Куницын выдюжит! Я верил и верю в своих летчиков!..»
А море продолжало штормить. Волны подбрасывали лодку, будто играли со щепкой. Одна из них подняла капитана над хаосом других гребней, и ему показалось, что впереди мелькнула какая-то точка света. Вроде крупной звезды. Мелькнула и пропала. Потом появилась снова.
«Не может быть! — не поверил Куницын. — Померещилось…»
Некоторые путешественники уверяют, что без воды можно прожить немногим более двадцати часов. Затем глаза наполняются светом, и это значит, что наступает конец. Неужели прошло уже столько времени с тех пор, как он катапультировался?
Летчик на минуту закрыл глаза, чтобы дать им отдых, и опять стал всматриваться в ночную мглу. Впереди и в самом деле призывно вспыхивал, то тускнея и пропадая, то появляясь вновь, красный огонь. В его мерцании угадывалась какая-то правильность, ритмичность.
Проверяя себя, Иван отводил взгляд, поворачивал голову в стороны. Если свет будет виден и там, значит, это галлюцинации. Нет, там только темень. Тогда впереди что? Катер? Но он бы двигался, рыскал по курсу, на нем были бы и другие огни.
— Маяк! — прошептал Куницын, еще не веря своим глазам, но сердце его забилось сильнее. — Конечно маяк…
Огонь маяка. У них на аэродроме тоже есть неоновый светомаяк. Он установлен возле ближней приводной радиостанции в створе посадочной полосы. Видишь его мигание — смело снижайся туда: впереди аэродром. Интересно, а что обозначает этот маяк? Очевидно, берег. Ивану очень хотелось, чтобы там был берег.
Вспышки все ярче и ярче. Похоже, что маяк уже недалеко, но Куницын не стал обманывать себя. По опыту ночных полетов он знал, что в темноте огни всегда кажутся очень близкими, однако это не так: ночь скрадывает расстояние. Учитывая это, Иван смирял охватившую его радость. Излишнее волнение пагубно не только в минуту опасности, но и в момент избавления от нее. Не торопи этот момент, распредели силы так, чтобы не выдохнуться, не проглядеть что-то на полпути. Ты летчик. Ты знаешь это.
Прежде всего — лодка. Поработать на всякий случай насосом, осмотреться как следует. Может, это какое-нибудь судно? Нет — маяк. А маяк в море всегда служит для людей путеводной звездой, ориентиром, куда надо держать курс.
Огонь больше не пропадал. Его не могли затушевать ни дождь, ни мрак. Мигал он размеренно, вроде бы бесстрастно и механически ровно, но сколько тепла и обещаний в каждой вспышке! Не спуская глаз с маяка, Куницын греб и греб одеревеневшими, не чувствовавшими холода руками. В его воображении уже рисовалась встреча со служителем маяка, который заботливо обогреет, напоит и накормит человека, попавшего в беду…
Хорошо бы сейчас в жаркую баню, а потом поесть перловой каши. Иван сам не знал, почему ему захотелось именно перловой. Где он ел эту кашу? Кажется, еще во время войны, мальчишкой. А потом — в подготовительной авиационной спецшколе. Там все называли перловую кашу «шрапнелью», досадовали, что их «заряжают» перловой по нескольку дней подряд. А ведь она вкусная. В летной столовой здесь, на Севере, кормят отменно, но самые изысканные блюда не могут идти в сравнение с горячей перловой кашей. Потом — чай. Такой, чтобы в стакане кипел. Он попросит старика (Иван полагал почему-то, что служителем маяка окажется старый рыбак), чтобы непременно был кипящий чай.
«Только бы не испугался, когда я постучусь в его сторожку, — размышлял летчик, — а то, чего доброго, и дверь не откроет. Надо подать голос заранее».
Маяк все ближе и ближе. Он как бы поднимается над волнами. Наверно, под ним очень высокая башня. Возможно, там есть и прожектор, и моторная лодка. Вот бы выслали навстречу!
— Э-э-эй!
Голос прозвучал хрипло. Никто не откликнулся на такой вялый призыв о помощи, никто его не услышал. А земля — вот она, рядом. Видимо, какой-то мыс или полуостров, далеко выступающий в море, потому что вокруг него — волны и волны. Вон с каким гулом и грохотом разбиваются они о камни.
Летчика ожидало разочарование. Перед ним был не берег и не мыс, а небольшой островок, вроде скалы, возвышавшейся над морем. На ней и стоял маяк, предостерегающий моряков от возможного столкновения с этой скалой в ночной темноте. Ладно, пусть островок, пусть скала. Только бы выбраться на сушу, ощутить под ногами земную твердь, отдышаться, прилечь, вытянуть онемевшие ноги.
Предвкушая отдых, Иван устремился вперед и не сопротивлялся, почувствовав, что его несет к скале, которая почти отвесно вставала из моря. Он не замечал, с какой яростью налетали на остров обгонявшие его волны. Лишь в самый последний момент, когда гремящий водоворот подхватил лодку и швырнул ее на темную гранитную стену, инстинкт, осторожность, а скорее всего, летная смекалка подсказали ему, что делать: защищаясь, летчик выставил руки вперед.
Назад, скорее назад! Он нарушил одно из главных правил, которые хорошо знают все мореплаватели: не приставать к берегу с наветренной стороны. Теперь волны свирепо били его о крутой каменистый берег.
Трудно сказать, сколько времени и сил потребовалось летчику, чтобы обогнуть эту скалу. Шлюпка терлась бортами о гранит, могла вот-вот превратиться в обыкновенный мешок и спеленать ему ноги. Иван так отчаянно отталкивался, греб с таким исступлением, что начал задыхаться. И все же ушел от опасного места. Сделав небольшую передышку, он обогнул островок и подплыл к берегу с подветренной стороны.
Здесь берег оказался более пологим, и Куницын кое-как выполз на сушу. В лодке было полно воды, но он потянул ее за собой.
Все тревоги и волнения, страх за свою жизнь, ежеминутная возможность утонуть — все это наконец осталось позади. Но у Ивана не было сил радоваться. Кружилась голова, стучало в висках, точно рядом по огромной наковальне бил многопудовый молот, и летчик свалился на каменистый грунт. Он неподвижно лежал на твердой, незыблемой земле, а ему все казалось, что море продолжает швырять его то вверх, то вниз, и маяк раскачивался перед глазами, словно на качелях.
Так вот она какая — морская качка во время шторма. Она намного тяжелее воздушной болтанки. На самолете в вихрях атмосферы броски бывают более сильными и злыми, но переносить их вроде бы легче. Болтанку к тому же можно в какой-то мере смягчить, парируя крены и клевки машины рулями. Морскую качку ничем локализовать нельзя. Ты целиком и полностью в ее неистовой власти. А она бьет и бьет, методично, последовательно, и бесконечно. Не случайно, наверно, есть такое выражение: «пытка качкой».
Моряки измеряют шторм в баллах. Сколько баллов сегодня? Три, пять? Все двенадцать? Для корабля такая качка, которую перенес он, может, и невелика. Но для его маленькой лодки сила волн казалась неимоверной. Было, пожалуй, все сто баллов. Даже здесь, с подветренной стороны, волны с ревом накатывались на берег. Порой они накрывали бессильно распластавшегося летчика. Куницын не шевелился, не подавал никаких признаков жизни, и никто не спешил к нему на помощь.
«ВСЕ РАВНО ПРИДЕТ!»
Ах, если бы это было возможно: не думать. Есть, видимо, такие счастливые люди, которые умеют не думать. Она не умеет. Мысли плывут и плывут…
В тот день она была в самом лучшем настроении. Это оттого, что Юрик спокойно спал ночью и она хорошо отдохнула.
— Ты, Лиля, сегодня какая-то… — Иван, собираясь уходить на аэродром, вдруг остановился, посмотрел на нее с удивлением ? будто давно не видел, и фраза эта вырвалась у него сама собой. Он тут же застеснялся нахлынувшей нежности и все свел к шутке: — Какая-то не такая…
— И ты какой-то не такой, — смеясь, в тон ему ответила Лиля. Ей хотелось спросить, не трудный ли предстоит полет, но она сдержалась. Муж не любил таких вопросов.
Когда Иван ушел, она выглянула в окно. Было еще темно, но Лиля сразу поняла, что погода скверная: на небе ни одной звездочки. Значит, день снова будет ненастный.
Утром по небу, поползли густые, черные тучи. Но странно, несмотря на мрачную погоду, у нее было такое ощущение, что все вокруг пронизано легким солнечным светом. Это у нее всегда так, когда хорошее настроение. И наверное, еще потому, что она южанка: у них на юге пасмурные дни редки.
Неожиданно — Лиля сама удивилась яркости возникшей перед глазами картины — вспомнился жаркий осенний полдень. Она с подругами шла из школы. Шла — и так легко-легко, радостно-радостно было на сердце! С самого утра ее переполняло предчувствие чего-то необычного. Так бывает в детстве перед праздником, когда тебе пообещают подарок.
«Чего я жду? Чего?» — спрашивала она сама себя и не могла ответить на этот вопрос.
Впереди возле самой дороги показались виноградники. Там, то пригибаясь, то выпрямляясь, ходили люди. Они срезали с кустов виноградные гроздья и клали их в корзины.
Лиля засмотрелась на виноград. Ягоды крупные, сочные и на солнце отливают янтарем. И вдруг…
Она не заметила, откуда перед ней появился Иван. Он протягивал ей большую, удивительно большую, ну, честное слово, прямо-таки немыслимо огромную гроздь винограда.
— Лиля… Это тебе, Лиля…
Она стушевалась. Ей совсем-совсем не хотелось винограда. Ну нисколечко. Она просто так смотрела, любовалась ягодами. Такие хорошие, красивые ягоды!
— Нет, нет. Сна…
Но гроздь была уже у нее в руках, и Лиля держала ее, как необыкновенный ароматный букет.
Дома она положила виноградную гроздь на тарелку, обдала водой, но к ягодам не прикоснулась, хотя все время останавливала на них взгляд. В ней еще трепетало то утреннее, счастливое предчувствие, но оно было уже каким-то иным. Потом, когда начало садиться солнце, ей на минуту стало грустно. Чего она ждала? Ведь ничего так и не случилось…
«Случилось, случилось, случилось!..»
Ах, это она теперь знает, что именно случилось. А в тот день еще не знала. Даже не подозревала…
А встреча в Москве? Первая после долгой разлуки. Такой долгой, что, казалось, ей уже и конца не будет…
Она пришла встречать его на перрон. Пришла чуть ли не за час до прибытия поезда и озябла на январском ветру до дрожи, но ни за что не хотела зайти в вокзал. И дождалась. Иван вышел из вагона с такой улыбкой, словно из-за его широких плеч глянуло южное солнце. А от его шинели повеяло вдруг щемяще-знакомым, чуть горьковатым запахом виноградных листьев и теплого моря.
Нет, лучше не думать, ни о чем не думать. Так хорошо было уткнуться лицом в его жесткую, колючую шинель, на минуту забыть все-все. Просто чувствовать, как поднимается и опускается от взволнованного дыхания его крепкая грудь. Никуда не идти, не спешить, не считать, сколько дней, сколько часов, сколько минут осталось до встречи с ним, и никуда-никуда не отпускать его.
— А это правда? — спросила она.
— Что? — не понял Иван.
— Правда, что мы вместе?..
Он засмеялся, найдя ее вопрос детским, но обнял так, что Лиля чуть не задохнулась. Ей было неловко, даже больно в тесных объятиях Ивана, но она счастливо молчала.
И в такси молчала. Только следила за тем, куда смотрит Иван, и Москва словно заново открывалась ей.
К их приходу девушки в общежитии накрыли стол. Лиля была так растрогана этой милой девичьей заботой, что тут же расцеловала всех. И еще ей очень понравилось, как непринужденно, будто в кругу давних знакомых, держал себя Иван. Высокий, стройный, красивый, он ничуть не стеснялся и нисколько не важничал. А подруги смущались, краснели и завидовали. Или, может, ей так казалось. Она очень гордилась тем, что Иван — офицер, военный летчик.
Говорят, жизнь жены летчика — сплошное самопожертвование. Она и сама где-то читала об этом. Собирается муж на полеты — не обмолвись лишним словом, чтобы ушел спокойным. Возвратился с аэродрома — не тревожь по пустякам: у него был трудный полет. Готовится к ночному вылету — не мешай отдыхать днем, а улетит — жди и тоскуй, изводя себя сомнениями: в небе может стрястись всякое.
Что ж, все это так. Но какие же тут жертвы? Если любишь, все это мелочи. Лиля пила вино, звонко чокаясь с подругами, и смеялась. Через четыре дня ей надо было сдавать первый экзамен, а она смеялась, и подруги с завистью говорили:
— Счастливая ты! Тебе и на экзамене повезет…
Вчера Шура Костюченко и Лариса Кривцова тоже так сказали, узнав, что Иван опустился на парашюте в море.
Ах, лучше ни о чем не вспоминать! Сосредоточиться на чем-то неотложном. Пеленки постирать…
В студенческие годы, мечтая о своей будущей семейной жизни, она даже не представляла себе, какое это огромное счастье — быть женой и матерью. Не сознавала этого и в первые годы замужества. Это пришло потом…
В загсе вышло все так нескладно и смешно. Оказывается, надо было сначала подать заявление, а потом — через неделю или две — зарегистрировать брак. А они не знали этого, да к тому же у Ивана подходил к концу отпуск. Он хмурился и сердился, прикладывал руки к груди:
— Да вы поймите: через день уезжаю…
Они уехали вместе.
Сколько лет промелькнуло с того дня! Наверно, это правда: счастливые часов не наблюдают, поэтому и летит так стремительно время. Зато как томительно долго тянется каждая минута сейчас…
Уже третий день она была в каком-то странном оцепенении. То и дело входили люди, успокаивали, рассказывали что-то.
Всегда такой уверенный и сдержанный (подчас он казался ей надменным), командир эскадрильи майор Железников нерешительно остановился на пороге:
— Не отчаивайтесь, Лидия Сергеевна.
К нему подошел Сережа. Майор положил руку на плечо мальчика:
— Ищут твоего отца.
Ох, лучше бы он не говорил ничего. По голосу можно понять, что дела плохи. Не видела, как ушел Железников, не спала всю ночь. И Светлане Юлыгиной спать не дала. Лишь перед самым рассветом та прикорнула на диване.
Еще с вечера на Лиду начали обрушиваться то обнадеживающие, то разочаровывающие вести. Уже в темноте вернулся посланный на поиски Ивана вертолет, и вскоре в дверь постучался Николай Костюченко:
— Нашли! В лодке сидел, дал ракету.
Радость оказалась преждевременной. Не прошло и часа, как кто-то виновато сообщил:
— Чужая лодка, ошибка вышла. Подруги начали утешать:
— Найдут. К утру найдут.
Нашли… жилет. Спасательный жилет. Она понятия не имела, что представляет собой такой жилет, но ее начала терзать мысль, почему Иван снял его с себя. Утонул?
Ей объяснили, что выскользнуть из жилета Иван никак не мог: там очень прочные застежки. Значит, сам бросил. По-видимому, поплыл на надувной лодке.
И это было для нее открытием. Она и не подозревала никогда, что Иван, поднимаясь в небо, берет с собой лодку. Он ничего не рассказывал ей о полетах, и сама она не приставала к нему с расспросами. Боялась показать, как болеет душой, провожая его на аэродром.
— Лиля, ты жена летчика, — говорил ей Иван. — Ты моя боевая подруга. Вот и будь боевой.
Она улыбалась:
— Ты все подтруниваешь надо мной. А я и без тебя все о тебе знаю.
Ничего она не знала. И всегда боялась, как бы с ним чего не случилось. Часто не спала, когда Иван летал ночью. Гордилась тем, что он летчик, военный летчик, истребитель, старалась отгонять мрачные мысли, уверила себя в том, что никакой беды не будет. А беда все-таки нагрянула.
Утром — очередная новость:
— Нашли подвесной бак.
Лида заплакала. Обиженно сопя носом, к ней робко подошел Сережа. Он жалостливо попросил:
— Мам, не надо… не плачь, а то и у меня слезы текут.
У нее больно сжалось сердце. Она быстро осушила глаза платком, выпрямилась:
— Не буду, сынок, не буду. А ты иди, иди, побегай, не смотри на меня…
О том, что нашли подвесной бак от самолета, Лиде сказала жена командира полка Тамара Ивановна Горничева. Вместе с ней пришла Юлия Петровна Дегтярева. Лида долго и пристально смотрела то на одну, то на другую, слышала и не слышала, о чем они говорят.
— Успокойся, Лидуша, — провела рукой по ее плечу Тамара Ивановна. — Не надо отчаиваться, надо верить.
В этом осторожном, угловато-неловком жесте женщины, которая была намного старше ее, сквозило что-то очень доброе, почти материнское. Лида на минуту застыла в мучительном напряжении.
— А я и верю. Верю! — вырвалось у нее. — Он придет, Все равно придет!..
Лидия Сергеевна ни тогда, ни много дней спустя не могла объяснить словами свое состояние, но она твердо убеждена, что в ней жило тогда предчувствие благополучного исхода. Она верила. Верила в Ивана.
И все же затянувшееся ожидание было настоящей пыткой. Когда ее утешали, чужое сострадание рождало необъяснимый протест, вызывало желание спорить, заставить всех замолчать. Если же долго никто не приходил, становилось еще горше: «Вот ушли, и никому нет никакого дела до того, как мне горько и трудно в одиночестве».
Ее раздражал порою даже привычный домашний уют. Все в квартире напоминало о муже, и каждая мелочь жестоко кричала о его отсутствии. Опустошенная, притихшая, Лида бесцельно ходила по комнате, будто силилась и никак не могла вспомнить, что потеряла. Если на глаза попадалась какая-то вещь из его одежды, она отворачивалась к окну и тоскливо смотрела в сторону аэродрома.
Ночью бетонированная полоса и рулежные дорожки на аэродроме напоминали широкие и прямые улицы большого города. Вдоль них, ярко переливаясь в морозной темноте, горели, как свет в окнах домов, две цепочки электрических огней. Они иногда начинали сливаться, кружиться перед глазами, но Лида все же заметила, что огни неодинаковые, разноцветные: светлые, красные, синие, зеленые. Они перемигивались, словно вели какой-то свой разговор. Особенно ярко вспыхивал, гас и снова загорался продолговатый красный фонарь. Он добросовестно и настойчиво делал свое дело, уверенно посылая сигналы в темень.
«Маяк!» — догадалась Лида.
О маяках она знала. На морском берегу их ставят для моряков, на аэродроме — для летчиков. Только у этого луч какой-то очень уж беспокойный, суматошный. Похоже, мечется, трепыхается, бьет красным крылом, вырывается и не может вырваться из крепких силков большая жар-птица.
Лида поняла тревогу маяка. Поняла по-своему, сердцем. Не в небе сейчас Иван, не на самолете, а в море. Светит ли там ему хоть какой-нибудь огонек? Хоть один, чтобы знать, куда, в какую сторону плыть!
— Иван, — вслух сказала она. — Ваня… Дорогой мой…
Подошла Светлана, обняла:
— Лида, иди спать. Четыре часа уже.
— А?
— Прилегла бы…
— Не могу, Света. Понимаешь, он не спит, а я спать буду?
— Да что ты выдумываешь! Видишь, наши сегодня не летают, а на аэродроме огни. Это для вертолетов. Вертолеты сюда прилетят. Много вертолетов. Чтобы Ивана искать. А уж они-то найдут.
— Ох, если бы так! А то сил больше нет, до чего муторно на душе…
Светлана силой увела ее от окна, заставила лечь в постель, погладила, как маленькую, ладонью по голове и все шептала что-то, шептала, боясь говорить громко, чтобы не разбудить Юрика и Сережу. Но Лида не слышала, о чем она ей рассказывала. Она думала об Иване. И чем больше вспоминала, тем сильнее верила в него. «Все равно придет!»
Он такой сильный! Высокий. Она по плечо ему. Бывало, в первые годы после женитьбы они, оставшись наедине, начинали шалить, как дети. Только с ним разве справишься? Схватит в охапку, закружит и смеется: «В окно выброшу». А однажды поднял ее и посадил на шкаф. Она потом боялась спрыгнуть оттуда и все упрашивала, чтобы снял.
Ей всегда нравилось спокойствие Ивана, твердость его характера. Если он сказал что-то, пообещал — обязательно сделает. Правда, иногда настойчивость у него граничит с упрямством. Решил что-то — непременно настоит на своем, сколько ни возражай.
Как-то она, поспорив с ним, прочла по памяти стихи:
— «Мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь — колом ее оттудова не вышибишь…»
Иван понял намек, рассмеялся:
— Люблю таких мужиков!
Лида тогда притворно рассердилась. Дескать, ничем тебя не проймешь!..
Теперь она никогда не станет перечить ему по пустякам. У него такая работа! А охота и рыбалка — отдых. И пусть ездит…
С такими мыслями она уснула. А утром поднялась задолго до рассвета. Неторопливо умылась, причесалась, постирала пеленки, накормила проснувшихся детей и вдруг решила:
— Поеду в город.
— Правильно! — обрадовалась Светлана. — Отвлекись. А то извелась совсем. — Обняв за плечи, она подвела ее к зеркалу, пошутила: — Посмотри на себя… Придет Иван, глянет — разонравишься…
— Нет, — слабо улыбнулась Лида, — ты ничего не понимаешь. Дело не во мне. Надо ребятам подарки к празднику купить, а то Иван будет недоволен, что я все забыла…
НА БЕЗЫМЯННОМ ОСТРОВЕ
Куницына охватило чувство необычайного покоя. Вот так лежать бы и лежать, предоставив долгожданный отдых усталому телу, натруженным рукам и ногам. Лежать и смотреть на близкий, завораживающий огонь маяка. Становится теплее уже оттого, что видишь его почти рядом.
А позади буйствует шторм, оглушительно ревут ветер и море, будто там мечется в истерике тысяча дьяволов. Скажи сейчас кто-нибудь, что шторм вот-вот опрокинет остров, — летчик поверил бы. Иногда волны в дикой и необъяснимой злобе обрушивали на него свои яростные удары, грозясь вдребезги сокрушить неприступный гранит. Надо все-таки идти к будке, над которой установлен маяк, постучаться в дверь.
Капитан отстегнул от пояса шнур, держащий лодку, устало выпрямился, покачнулся и грузно сел. Больные ноги не стояли. Он медленным, тоскливым взглядом обвел скрытый тьмой островок, различил за вышкой маяка контуры небольшого строения и громко крикнул.
Никто не откликнулся. Он еще несколько раз подал голос, выбирая минуты относительного затишья:
— Э-эй… Помогите!
Почему не лает собака? Должна же она быть у одинокого смотрителя маяка.
Ни звука. Никто не отвечает на его зов. Спит старый рыбак, зная, что маяк работает исправно. Вот удивится нежданному гостю…
Превозмогая боль, Иван осторожно встал на ноги. Они кажутся ватными, чужими. Ничего, попробуем сделать шаг. Так, теперь второй. Хлюпают, скользят раскисшие ботинки, между пальцами противно чавкает вода.
Кое-как доковылял до замеченного им строения. Это был совсем маленький бревенчатый домик. Стукнул кулаком, прислушался — тихо. Открыл дверь. Изнутри пахнуло затхлым. Минуту назад Иван мечтал о большой русской печи или хотя бы лежанке. И уже явственно ощущал, как ее побеленные бока пышут жаром, а тут — пусто. Лишь возле стены он нащупал длинную неширокую лавку из шершавой, неструганой доски. Потом долго шарил в темноте, надеясь отыскать ведро с водой или что-нибудь съестное. Ни-че-го. Значит, остров безлюден, никто здесь не живет. Как же и где обогреться, просушить одежду?
Снаружи вокруг домика валялись поленья, обрезки бревен, щепки, куски досок. Из этого хлама мог бы получиться хороший костер, но чем его разжечь? Не догадался смотритель маяка оставить хотя бы коробку спичек. А впрочем…
Огонь маяка — вот что поможет развести костер. Летчик начал собирать поленья и доски. И тут он вдруг наткнулся на сохранившийся в небольшом углублении вчерашний снег. Снег! Ветер присыпал его песком, но все же можно утолить жажду. Куницын склонился, схватил горсть снега, жадно поднес ко рту. Заныли порезы на ладонях, засаднило десны, на зубах захрустел песок, но он не мог остановиться. Снег — это вода. Вода смягчала жжение и тупую боль в желудке. «Повезло… Еще махонький костерчик — и тогда я кум королю…»
Он снова принялся стаскивать поленья. Обрадовался, когда под руку попалась прошлогодняя трава: это хорошая растопка. Ну, марш за огнем! Быстрее, быстрее, тюха-матюха!
Фонарь маяка был расположен на вышке. По металлической лестнице летчик взобрался наверх. Фонарь представлял собой большой стеклянный колпак из толстых линз, который окружал металлический обод. Прислонясь к ободу, он попытался отвернуть гайку, чтобы снять колпак.
Гайка не поддавалась: заржавела. Слепящие вспышки света, чередуясь с мгновенными наплывами темноты, больно резали глаза, заставляли щуриться, спешить. Иван изо всех сил нажимал на крыльчатку, но бесполезно. Он быстро устал, дышать было трудно, словно ему недоставало кислорода. Наверно, это правда, что воздух в этих широтах разреженный, как и в высокогорной местности.
«Не слишком торопись, не все сразу», — сказал себе он. Стукнул по гайке рукояткой пистолета — вкось. Примерился и ударил вернее. Крыльчатка стронулась с места.
Горелка, расположенная внутри фонаря, была ацетиленовой. Иван понял это по характерному запаху и шипению. Вот и заветный язычок огня. Порядок. А что поджечь? Пошарив по карманам, летчик достал автоматический карандаш и сунул его в пламя. Это как раз то, что надо.
Пластмасса вспыхнула ярко и сильно. Фу ты, дьявол, не то! Карандаш сгорит раньше, чем он с его больными ногами успеет спуститься вниз и. добежать до груды дров. Иван испуганно дунул, погасил карандаш, но рука сама собой потянулась к огню. Все тело кричит, требует, настаивает: тепла, быстрее тепла! И Куницын, переоценивая свои силы, решает: успею! Он снова поднес карандаш к горелке, но тут произошло непоправимое — горелка от его неосторожного движения погасла.
Он не хотел, не мог поверить в случившееся. Он оцепенел. Ведь только что перед ним, трепеща и шипя, бил острый язык пламени, и вот нет его. В глазах еще колышется, переливается всеми цветами радуги отблеск огня, а вокруг уже беспредельно властвует тьма. Слышно лишь шипение газа да сухие щелчки. Ацетиленовый аппарат бесстрастно отсчитывает секунды, выбивая заданный маяку код.
Тут впору было заплакать. Он так мечтал погреться у костра! Как же быть? Ходить? Но у него болят ноги. Да вряд ли и ходьбой согреешься на холодном ветру, если на тебе мокрая одежда. Стуча зубами от озноба, он поплелся к домику, отжал там из одежды воду, затем нащупал возле стены лавку и, облокотясь на нее встал на колени.
Во время войны, когда он был еще одиннадцатилетним мальчуганом, его вот так же била малярия. Болезнь до того измотала, что у него начали отниматься кисти рук, и он не мог держать даже ложку. А потом и вовсе отказался от жидкой ржаной похлебки. Но другой еды в доме не было. И лекарства тоже. Спас старый моряк, дядя Петя, к которому кинулась мать, видя, что сыну совсем плохо. Он приготовил какое-то хитрое снадобье, от него и полегчало Ивану.
Вот и сейчас бы чего-нибудь выпить, что уняло бы изнуряющий озноб. Иван снова с сожалением вспомнил об аптечке, которая утонула вместе с парашютом. Эх, все-таки неправильно это: класть в парашютный ранец припасы, заготовленные на тот случай, если придется покинуть самолет. Да только кто же предусмотрит все те обстоятельства, в какие пилот может попасть после катапультирования! Если об авариях и думают, то лишь с тем, чтобы предупреждать их. А обычно многие летчики бортпайка даже и брать не хотят. Скоро, дескать, дома буду, так зачем лишние хлопоты.
Он опять распекал себя и за неосторожное обращение с газовой горелкой, и за необдуманные действия перед приводнением. Дрожа от холода, вспоминал, что и в полет часто уходил с непростительной беспечностью: совсем налегке, в одной кожаной куртке, без ножа и без пистолета. Не хотелось, чтобы что-то сковывало движения в кабине. И никогда не смотрел, что там кладут в ранец. А иногда еще беззаботно шутил: «Шоколад? Давайте лучше сейчас съем».
Куницын втягивал голову в плечи, пытался согреть руки дыханием, вскакивал, ходил, но быстро уставал и снова садился. Эх, скорее бы утро! Утром командир пошлет на поиски самолеты и вертолеты. А пока тихо, лишь барабанит в окно дождь да шумит, порывами налетая на домик, холодный ветер. Нескончаемо долго, как тяжелая болезнь, тянется ночь…
Чу!.. Что это поскрипывает? А, ступени лестницы под его ногами. В доме у них скрипучая деревянная лестница. Поднимаешься на второй этаж — и сразу обдают тебя знакомые запахи. На первом кто-то жарит рыбу. Рыбу он любит. Особенно свежую, горячую, чтобы только со сковороды…
Небо понемногу светлело. Зарождавшийся день вставал как бы из недр самого моря — призрачный, безрадостный, хилый. Ветер утихал. Темно-стальное, освещенное немощным осенним рассветом, море еще бушевало и пенилось, но шторм ослабевал. Дождь сменился мелкой, туманной изморосью.
В холодной ранней полумгле постепенно открылся взгляду весь островок, и Куницын решил обойти его. Ноги теперь совсем не сгибались в коленях, но тем вреднее было сидеть. К счастью, подвернулись две крепкие палки, и он приспособил их под костыли.
Островок был каменист и гол. В длину Иван насчитал что-то около полутора сотен шагов, в ширину — всего пятьдесят. Но и эти шаги стоили ему большого труда. Он вернулся к домику и присел, прислонясь усталой спиной к стене. Рассвет начинается около десяти. Пожалуй, не меньше часа потрачено на обход острова. Впереди — пять часов светлого времени. За это время его найдут. Но когда, когда?
Старые, гниющие бревна пахли плесенью. Рассыпанные вокруг замшелые, древние камни хранили холод еще доисторического ледника. Они, казалось, были недовольны непрошеным гостем. А он тоже был неподвижен и угрюм. Он — каменный гость…
Откуда это? Пушкин? «О, тяжело пожатье каменной десницы!..»
От ветра и морской воды, точно настеганное крапивой, горит лицо. И в голове гудит. Как телеграфный столб в непогодь. Понятное дело — после бессонной ночи. А это… Что это? Стой, слева вроде бы какой-то гул. Гул накатывался лавиной, и, застигнутый врасплох, Иван растерялся. Не зная зачем, торопливо выхватил пистолет, достал из кобуры запасную обойму. Мелко и противно дрожали непослушные руки, и выстрелить он не успел — самолет в мгновение ока пронесся над островком.
На взгляд летчика-истребителя, это была странная, неуклюжая, похожая на громадную водяную птицу машина — летающая лодка с широким днищем и поплавками, свисающими с концов крыльев. Она промчалась совсем низко. Куницын различил переплет фонаря кабины, ему показалось даже, что он видел силуэт сидевшего там пилота. Или штурмана. На таком большом корабле должен быть экипаж в составе нескольких человек.
«Эх, растяпа! — безжалостно выругал себя Иван. — Надо было не пистолет хватать, а вскочить, махать руками. Разве там, на борту, услышат сквозь рев двигателей жалкие хлопки пистолетных выстрелов? А может, все-таки заметили и гидросамолет вернется?»
Нет, грохочущий вал покатился по прямой и замер в отдалении. Значит, никто его не видел. Слишком велика скорость, а над морем, над островком слишком густая завеса мглистой дождевой измороси.
Очередная неудача привела летчика в замешательство. Чего еще ждать? На что надеяться?
«Околею тут к чертовой бабушке, — подумал капитан. — Обидно. И глупо».
Чтобы отвлечься от нелепых мыслей, он начал спорить сам с собой.
«Не падай духом. Раз пролетел гидросамолет, значит, ищут с самого утра».
«Ерунда! На нашем аэродроме летающих лодок нет».
«Не ной. Ты прекрасно знаешь, что полковник Горничев позвонил морским летчикам и в порт, чтобы дали катера».
«А если не позвонил?»
«Значит, сообщил куда надо, и там приняли меры».
«Оно и видно: от гула моторов содрогается небо».
«Ирония абсолютно не к месту. Сам видишь: небо сплошь обложило низкой облачностью, а над морем туман. В такую сволочную погоду не очень-то полетаешь».
«Вот то-то и оно».
«Не спеши. Пусть разойдется туман…»
«А если усилится? Ведь я не знаю прогноза на сегодняшний день».
«Надейся на лучшее».
«Умные люди говорят: всегда рассчитывай на худшее».
«В таком случае думай сам…»
Летчик думает. Погода явно нелетная. По всем приметам, благоприятной для поисков метеообстановки не будет. Да и катер может пройти совсем рядом, но вряд ли с его борта увидят человека на серой скале, скрытой туманом. Нужно чем-то привлечь внимание людей, которые ищут тебя. Чем? Только костром. Дымом.
Он пожалел, что не курит: у курящего всегда с собой спички. Усмехнулся своей абсурдной мысли: «Разве сохранились бы спички сухими?»
Как же все-таки разжечь костер?
Взгляд остановился на безжизненном маяке. Пламя в газовой горелке сбито, но ацетиленовый аппарат продолжает работать, щелкает и щелкает. Вхолостую. А не вспыхнет ли газ, если выстрелить в горелку?
Неторопливо прицелился, нажал курок. Брызнуло стекло. Выстрелил еще раз. Опять звенят осколки, но огня нет. Еще выстрелил, еще…
Спохватился: надо стрелять, вынув из патрона пулю, и — в упор. Наконец, таким выстрелом можно поджечь траву, тряпку. Но обойма, последняя обойма, была пустой…
Тревожно заныло сердце. Опять непростительная ошибка. В который раз умная догадка приходит задним числом! Будь он таким недотепой на полетах, ему давно была бы хана. Почему же он такой тугодум? От растерянности? Но страх-то уже прошел. Пора осмысливать свои поступки.
Куницын долго сидел не двигаясь, точно пригвожденный к месту. Он никого не упрекал, оказавшись совершенно неподготовленным к преодолению трудностей, которые встретились ему после катапультирования. Легче всего обвинять кого-то за то, что в плане командирской учебы не было занятий на тему о действиях летчика, прыгнувшего с парашютом в море. А что ты сделал для этого сам?
Время идет. И не с кем перекинуться словом, посоветоваться. Кругом — мертвящая тишина, лишь изредка слышится плеск и шипение волны, похожее на затаенный вздох.
Пронизывающий холод поднял его с земли. Опираясь на палки, Иван снова начал обход своего крошечного царства. Он качался, как хилый стебель под ветром, падал, расшибая колени об острые камни, но упрямо вставал, чтобы идти, двигаться. И он добился своего: тело согрелось. Память начала подсказывать ему, какими путями можно еще добыть огонь.
Способы эти для человека, владеющего самой современной техникой, были до обидного примитивными. Во время войны, например, когда не было спичек, пользовались дедовскими кресалами. Кремень, кусок стали, трут — вот и кресало. Удар — искра. Если найти кремень, бить по нему можно пистолетом или ножом. Но где взять трут?
Машинально блуждая, взгляд Куницына задержался на досках. А не потереть ли их? Взять вот эти, посуше…
«Ух ты, черт, какая заноза! Все равно не брошу!» Пощупал: нагреваются ли? Бесчувственные пальцы не уловили тепла. Приложил дощечку к щеке. Горячо. А ну еще… Он тер до изнеможения. Ну хоть бы дымок пошел. Ничего похожего. Все попытки оказались напрасными.
«Плохой из меня дикарь», — грустно усмехнулся Куницын.
Чтобы хоть чем-то занять себя, он начал строгать доски ножом. Нож у него острый, сам точил перед выездом на охоту. А для чего, собственно, можно применить нож вот сейчас, в этой обстановке? Он совсем не нужен. Разве выстругать новые весла? Летчик вспомнил о лодке. Где он бросил ее?
Дойти до берега Куницын не успел. Невидимый в густом тумане, приглушенно застучал катер.
— Сюда! Сюда! — закричал Иван.
Стук мотора становился все более отчетливым. Было похоже, что поблизости шел танк. Точно, катер. Сейчас он вынырнет из тумана…
Катер не показался. Примерно в километре от острова он или прошел стороной, или повернул в обход. Долго еще слышался замирающий стук двигателя, и долго еще, вконец расстроенный, неподвижно стоял Куницын. Сегодня второй раз судьба дразнит его, даря надежду на спасение и тут же безжалостно отнимая ее. А все из-за погоды. Густая ползучая мгла закрыла и небо, и море, и остров.
Подобрав свою лодку, он вернулся назад, к холодному, пустому, неуютному домику, чтобы коротать там оставшиеся светлые часы. Пожалуй, ни одно судно не рискнет подойти в тумане к этой страшной скале.
Борта лодки полностью стравили воздух. Совсем не задумываясь, зачем он это делает, капитан взялся за насос. Просто так, для проверки. Туго накачав баллоны, приник к ним ухом. Странно, не шипит, а все же где-то травит. Скорее всего — через пористую ткань насоса, потому что прокола нет. А вот в днище зияют дыры — это да. Порезы от тех острых камней. Зачинить их, что ли? Возможно, снова придется плыть. Как говорил дедушка, помирать собирайся, а хлеб сей.
Тягуче засосало под ложечкой. Желудок был пуст, и одно короткое слово «хлеб» снова пробудило голод и жажду. Иван отвязал от ножа шнур, расплел его и принялся заделывать разрывы в днище, стараясь не думать о еде и питье. Но это было невозможно. Он то и дело ловил себя на том, что грезит о добром куске мяса, тарелке горячего супа и стакане ароматного чая. Он даже видел этот стакан с ложечкой, косо преломленной в нем.
Починка лодки шла медленно. Каждое неосторожное движение вызывало острую боль в пальцах, но Иван упорно стягивал дырки крепкими нитками и довел дело до конца. Потом начал выстругивать из досок весла. Снова пришла мысль о том, что придется плыть дальше. Сегодня пятое ноября. Послезавтра — праздник. Смотритель маяка вряд ли появится на островке в эти дни, поскольку аппаратура здесь автоматическая. И запас ацетилена большой — вон сколько баллонов. Да, ждать здесь нечего.
Строгать было еще труднее, чем шить, но, взявшись за работу, Куницын уже не мог бросить ее незавершенной. Есть в авиации такое правило: поручили тебе какое-то дело — обязательно доведи его до конца. А в малолетстве к этому приучал еще отец. Когда-то он, по рассказам матери, был матросом, и его всегда влекло к себе море. Поэтому вроде бы Тимофей Григорьевич и настоял на том, чтобы семья переехала в Туапсе. Жили они там в рабочем поселке. Отец, кажется, плотничал, и воспоминания о тех счастливых детских годах у Ивана всегда связаны с шуршанием рубанка, со смолистым запахом стружек. А потом — война…
Иван вздохнул. Война на всю жизнь врезалась в память. Когда гитлеровцы летом сорок второго захватили Новороссийск, рыжие зигзаги траншей появились на окраине поселка почти рядом с их домом. Он бегал к окопам, просил у солдат пальнуть из винтовки.
А осенью его скрутила малярия. Оборону тогда держали уже моряки с крейсера «Коминтерн». В погреб, где Иван с матерью, братом и сестрой скрывались от непрерывных бомбежек, приходил корабельный фельдшер Петр Игнатьевич Лавренко. Только благодаря этому доброму человеку он и остался тогда в живых…
Работа подошла к концу. Две небольшие лопаточки с удобными рукоятками были обструганы гладко, можно не бояться порвать или протереть ими прорезиненную ткань лодки. Теперь есть чем грести.
Опять в море? Об этом страшно даже подумать. Самому не верится, что перенес такие мытарства, барахтаясь в злых волнах. Да и силы уже не те. Нет, нет, лучше подождать. Появится все-таки снова самолет или катер. Если островок находится в заливе…
В самом деле, какой это островок? Просто одинокая скала посреди моря, или она недалеко от берега? А возможно, это часть какого-то архипелага? В тумане вокруг ничего не увидишь. Как же он мало знает море, над которым летал! Правда, служит здесь, на Севере, совсем еще немного, но разве это оправдание? Детский лепет! Давно надо было более детально изучить район полетов, поинтересоваться не только общими очертаниями берегов, но и глубиной, и мелями, и островками. А так — гадай на пальцах, где ты. Сиди уж на месте, мореплаватель, и не рыпайся. Это будет благоразумнее…
У него появляется ощущение невесомости: то ли он плавно идет ко дну, то ли опускается на парашюте, и ему почему-то не хватает воздуха. Куницын широко, до судороги в скулах зевает. Опять наваливается сон, и летчику совсем не хочется бороться с ним. Забыть бы хоть на время обо всем, а там будь что будет. Нет, заснуть можно так, что потом, окоченев, уже не найдешь в себе сил и с земли подняться.
Подняться надо сейчас, немедленно. И ходить, ходить. Ты в черном шлемофоне, в черной куртке. И ботинки черные, и брюки. И земля на этом диком, наверняка безымянном острове тоже черная. На ней тебя, лежачего, никто не заметит ни с самолета, ни с катера. Встань!..
А остров, оказывается, немного больше, чем ты посчитал вначале. В ширину триста шагов, в длину — целых полкилометра. Наверно, шаги стали короче…
«О чем это я? Ах да, такой большой остров и — надо же! — необитаемый. Необитаемый остров в море, которое вдоль и поперек избороздили корабли. Даже катера проходят неподалеку, а острова, такого огромного острова, не видят. Или я приводнился после катапультирования в океан? А то и вовсе на другую планету?.. На необитаемую. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, я тоже затаил мечту подняться к звездам. И вот я на неизвестной, необжитой звезде…
Юра Гагарин… Вот — Человек! Вот пример для тебя, капитан Куницын. Отправляясь первым в мире в свой беспримерный космический рейс, он знал, что может не вернуться на землю, сгореть подобно метеору, но не дрогнул даже перед такой опасностью. Или ты считаешь, что он не думал об этом? Думал. Он тоже живой человек. А ты боишься моря.
«Безумству храбрых поем мы песню!..» Это — Горький. Ты прав, дорогой Алексей Максимович. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни». Теперь я знаю, что делать. Близится ночь. Час-полтора еще можно оставаться здесь, ожидая помощи. Но чтобы меня могли обнаружить с воздуха или с моря, надо ходить, махать руками. Так какая разница, где двигаться: по суше или по воде?
Разница есть. Одинаково холодно и здесь, в промозглой сырости, и там, в волнах. Но на суше мечешься на одном месте, как белка в колесе, а по морю можно плыть к земле, к людям. Там скорее и катер встретишь».
Куницын, почти не хромая, быстро пошел к берегу. Принятое решение прибавило сил.
Жаль только, что в маленькой лодке сидеть неловко. Вот если бы скамеечка, чтобы не поджимать больные ноги.
На бортах лодки петли для больших весел. У него — крохотные. Он продел в петли палку, которая служила ему костылем: это будет скамейка.
Море, навоевавшись за минувшие сутки, колыхалось устало, лениво, будто выбирая в своем огромном ложе более удобное положение, чтобы спокойно улечься на отдых. Летчик постоял перед ним минуту-другую в нерешительности, затем спустил лодку на воду и сел на «скамейку».
Ух! Лодка тут же опрокинулась, Куницын навзничь плюхнулся в волны. Он не учел, что, садясь на продетую в петли палку, сместит центр тяжести.
Чертыхаясь и отплевываясь, Иван вскочил на ноги. Одежда немного провяла на ветру и от собственного тепла, и вот, насквозь промокший, он опять будет дрожать от холода.
Он впервые глухо застонал. Не от боли. От обиды. Надо же — одно за другим все тридцать три несчастья. Глаза застилала горячая пелена. Наверно, поднимается температура. Простуды, конечно же, не миновать. Не отказаться ли от задуманного?
— Ни за что. Поплыву! — процедил он с ожесточением. — Все равно поплыву.
«Это безумие!» — леденящим шепотом отозвался прибой.
«Безумству храбрых поем мы песню…»
Выдернув палку, Иван со злостью отшвырнул ее в сторону и забрался в лодку. И — поплыл, загребая самодельными веслами.
Куда?
Вперед!
От берега, от холодной, но незыблемой суши он поплыл, бросая вызов стихии.
А море, словно заманивая его в свою бездну, вдруг прикинулось спокойным. Волны слегка кудрявились шелестящей пеной, но их шелест был ласковым, мягким.
Близилось время прилива.
ЧЕЛОВЕК ДОРОЖЕ ВСЕГО
— Товарищ полковник, разрешите?
— Да, я вас слушаю.
— Разрешите и мне поехать с командой…
Капитан Костюченко застыл в нетерпеливом ожидании. Взгляд возбужденный, на скулах нервно напряглись желваки, в выражении лица плохо скрытая обида. Горничев окинул летчика пристальным взглядом и опустил глаза к лежавшим на столе бумагам. Он понимал его душевное состояние, но, как всегда, не спешил принять решение.
— Садитесь.
— Спасибо…
Садиться, однако, Костюченко не стал. Придется объяснить капитану все по порядку…
Начальник порта сообщил, что на поиски отправлены все суда, которые были на ходу. Сегодня — аврал: готовят и те, что были поставлены на зимний ремонт. В воздух снова подняты вертолеты, только погода, как назло, ставит палки в колеса: видимость ноль. Приходится комплектовать поисковые группы дополнительно в прибрежные районы. Но не пошлешь же всех до одного! Нельзя и о боеготовности забывать. Надо продолжать занятия, вести работу на самолетах, нести боевое дежурство…
— Не беспокойтесь, Николай Васильевич, — мягко сказал Горничев.
У Костюченко упало сердце. Слишком хорошо знал он эту манеру командира — уважительно называть по имени-отчеству. Заговорил так — не проси, наотрез откажет. Ну вот, так и есть…
— Я понимаю вас, но, по-моему, его вот-вот найдут. Во всяком случае…
Костюченко молча смотрел на полковника и уже ничего не слышал. Сам того не замечая, сунул руку в карман, нащупал пачку с папиросами. Он вообще много курил, а когда был возбужден, часто даже в присутствии начальства держал в зубах дымящуюся папиросу. Ему не раз делали замечания. Он вспомнил об этом, опустил руки по швам, но из кабинета не вышел. Его худощавое лицо обиженно вытянулось и потемнело, быстрые, живые глаза смотрели холодно и сердито.
— Товарищ полковник, вы отпустили капитана Ляшенко…
Ляшенко вернулся из отпуска ночным поездом. Узнав, что случилось, он ни свет ни заря явился в штаб, и Горничев тотчас включил его в очередную поисковую группу. Но с ним — другое дело. Его в случае тревоги вот так сразу в полет не выпустишь, ему надо дать предварительный контрольный, а Костюченко в полной форме. И потом ему было дано другое поручение, весьма деликатное…
Зазвонил телефон. Нажав нужный регистр, полковник снял трубку:
— Слушаю… Так, так…
Подвинув к себе разостланную на столе карту, командир взял карандаш, сделал несколько пометок. На голубой краске, которой обозначены море и широкий, длинным острым клином врезающийся в сушу залив, уже сплошь пестрят условные знаки. Синий пунктир по зелени вдоль изломанной береговой черты — путь пеших команд, красные кружки — небольшие рыболовецкие поселки, где для поисков используются моторные лодки. Черные линии — маршруты вертолетов. Из порта пролег целый веер красных черточек с крестиками и цифрами возле них — номера судов. В порту все отдано в распоряжение авиаторов: теплоходы, катера, рации, телефоны…
— Проскуряков? Слушаю — Горничев…
Майор Иван Проскуряков — старший штурман полка. Расторопный офицер, из тех, о ком говорят — огонь. Прикажи — расшибется, но любое задание быстрее всех выполнит. И в небе такой. Его недавно орденом Красной Звезды наградили и в должности повысили. Сейчас он в одном из рыбацких поселков. Докладывает: капку нашли. Прислушиваясь, Костюченко подается вперед,
— Ткань без проколов? Что? Застежки не порваны? Говорите, была надута, но воздух стравлен? Странно…
Костюченко изучающе смотрит на командира. Лицо не скажешь — свежее, но чисто выбритое, спокойное, лишь чуть насуплены брови и возле глаз резче обозначились морщинки, белки глаз покраснели. Полковник умеет держать себя в руках, но все равно видно, что волнуется, переживает. Понятное дело: такая забота и ответственность нежданно-негаданно легли на его плечи…
Взгляд капитана останавливается на орденских планках командира. Орден Ленина, орден боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медали…
— Вы слышали, Николай Васильевич? Экипаж капитана Бежанидзе нашел спасательный жилет.
— Так точно, товарищ полковник, слышал, — отозвался Костюченко. Он не знал, кто такой капитан Бежанидзе, но догадался, что это командир экипажа одного из вертолетов, прибывших ночью на аэродром. И снова в душе Николая шевельнулась обида: вот какой-то совсем незнакомый человек ищет Куницына, а он, его друг, остается как бы в стороне.
— Выходит, ваш товарищ приводнился, а жилет снял, судя по всему, когда в лодку сел, — продолжал Горничев. — Жив, значит. Сейчас где-нибудь у рыбаков чаи гоняет.
— Это в его характере, — произнес молчавший до сего времени майор Железников. — Будет преспокойно сидеть в тепле и не догадается побыстрее сообщить о себе на аэродром.
Костюченко искоса взглянул на майора. Ну до чего же ворчливый мужик! Даже не подумает, что Иван сейчас, может быть, еле живой и ему не до того, чтобы сразу к телефону кинуться.
— Я о другом, — нахмурился Горничев. Строго глядя на Железникова, машинально повертел в пальцах карандаш, потом недовольно отложил его и спросил: — Вы уверены, что у него было все на случай приводнения?
— Так точно, товарищ полковник. — Железников поднялся со стула и, чувствуя, что в его слишком поспешном ответе не было должной уверенности, торопливо добавил: — Я говорил с Решетниковым…
«С Решетниковым он говорил, — опять с раздражением взглянул на Железникова Костюченко. — Надо было раньше с ним говорить. А теперь все, что так и что не так, может знать только Куницын».
— Сидите, — кивнул Горничев и аккуратно поправил сдвинутую к краю стола карту. — Мы иногда об этом забываем… Вот и занятий по изучению акватории не проводили…
— Кто же мог подумать?! Вчера я книжонку одну просмотрел — любопытно. Но зачем мне, летчику, знать, что в этом море сильные приливно-отливные течения? Из-за них даже кораблекрушения бывали.
— Вот как?.. М-да… — И тут же, как бы спохватись, Горничев включил селектор: — Начальника штаба и командиров эскадрилий прошу ко мне.
«Забыл он обо мне, что ли?» — смущенно подумал Костюченко и, чтобы напомнить о себе, гмыкнул, будто откашливаясь. Горничев посмотрел на него, хотел вроде бы сказать что-то, но не сказал. По лицу можно было догадаться: разговор исчерпан.
— Разрешите выйти, товарищ полковник?
— Да. Только из штаба не уходите, вы мне понадобитесь.
— Есть…
Капитан направился в методический класс. Там, склонясь над столами, заполняли полетную документацию начальник штаба эскадрильи Евгений Кривцов, командиры звеньев Федор Федоров (в шутку его иногда называли Федей в квадрате), Геннадий Чернов и Владимир Чеменев. Все, как по команде, подняли головы:
— У «мужика» был? Ну что?
В разговорах меж собой летчики называли Горничева тем же словом, с каким он часто обращался к ним, но эта заочная фамильярность выражала отнюдь не иронию, а симпатию, потому что они любили командира полка. Однако Костюченко был расстроен тем, что не добился своего, и принялся, размахивая руками, изливать наболевшее.
— Слушай, Коля, переключись-ка лучше на прием, — перебил его Кривцов. — Новости есть?
— Жилет нашли, — все еще не остыв, буркнул Костюченко.
— Слышали.
— «Слышали, слышали»! — рассердился Николай. — А зачем он его снял?
— В лодку перебрался, ну и выбросил за ненадобностью.
— Скажете тоже! Лодка… Жалкий поплавок. Тазик для бритья. Нет, тут что-то не так…
Летчики замолчали. В комнате, залитой электрическим светом, стало тихо. О чем говорить, если все предположения повторены уже тысячу раз и остаются лишь приблизительными догадками! Но даже в скованном молчании чувствовалось: все думают об одном — о своем товарище. Где он? Что с ним?
Большим водянистым пятном проступило в стене окно. Над аэродромом занимался поздний северный рассвет, но и он не радовал сегодня летчиков, навевая невеселые мысли. В полете может случиться всякое. Современный самолет — машина сложная. В ней столько больших и маленьких деталей, узлов, агрегатов, механизмов, приборов — учишь, учишь, а все чего-то не знаешь. И потом, металл — он тоже устает. Что ж, тогда — катапульта, парашют. Но чтобы вот так: с неба — в осеннее море…
Рывком распахнулась дверь, вошел Железников. Встречая старшего, офицеры встали. Он окинул их жестким взглядом, махнул рукой, разрешая сесть. Лицо его было расстроенным, тонкие губы поджаты. Костюченко догадался: «За что-то влетело от Горничева». Испуганно подумал: «Не положили Ивану бортпаек… Или ракеты».
— Костюченко, к командиру, — сухо сказал Железников.
— Я?
— Кто же еще? — с непонятным раздражением обронил майор. Он отвернулся к шкафу, потрогал какую-то папку, но не взял, опустил руку, плечи его поникли.
«Да что с ним?» Встревоженный, Николай поспешил к командиру. Можно было ожидать самого худшего, и он влетел в кабинет, как будто его туда втолкнули:
— По вашему приказанию…
— Ладно, ладно, мужик, — прервал его уставной рапорт полковник Горничев, вставая из-за стола. Подошел, положил руку на плечо: — Присядь, потолкуем.
— Случилось что?
— Да в том-то и беда, что никаких вестей. Нам не по себе, а уж Куницыной… Сам говоришь — худо… Вот об этом и речь. Никуда ни шагу, а там, понимаешь? В ваших семьях, насколько мне известно, все пополам, вот и в беде тоже… Кому же еще?
— Товарищ полковник! — поняв, что от него требуется, взмолился Костюченко. Он стеснялся этого жеста, а тут даже руки к груди прижал: — Да вы… Да какой из меня дипломат? Смотрю я на нее, а у меня слова в горле застревают… Нет, не могу.
— Потому, дорогой, к тебе и обращаюсь… С дровами как — посмотри; воды надо — у нее ведь малыш. И подбодри по-свойски…
— Не могу, — упавшим голосом тихо сказал Николай. — Иду туда — сам вроде виноват в чем-то. Дров наколол — все… И потом, что же я скажу?.. Нет, прошу вас, разрешите выехать! С Лидией Сергеевной жена пусть… У них это лучше получается…
— М-да, — Горничев потер виски, — ну, быть по-твоему. — И, переходя уже на официальный тон, распорядился: — Список у Железникова, машина возле казармы, отправление по готовности…
Командир полка принимал новые радиодонесения и телефонограммы. Они по-прежнему были безотрадными, и это не позволяло сосредоточиться, отвлекало от работы. Дела складывались так, как не хотелось бы. По всем показателям боевой и политической подготовки полк достиг высоких результатов, уже составлен предпраздничный приказ, осталось лишь уточнить некоторые детали и подписать, а тут, выходит, все надо отложить в сторону и заново более детально провести анализ мероприятий по борьбе за безаварийность полетов. А важнее всего — поиски Куницына…
Горничев снял трубку телефона, крутнул вертушку:
— Метео? Уточните прогноз на ближайшие часы.
— Туман, товарищ полковник, фронтальный туман, — сообщил дежурный синоптик, и в голосе его прозвучали нотки извинения, будто он лично был виновен в каверзе, какую так бессовестно подстроила неустойчивая северная погода. Для ведения поисков нужна видимость не менее километра, а фронтальный туман — это не что иное, как облачность, распространившаяся до поверхности земли. Над свободным ото льда морем она еще гуще, там сейчас морось…
Снова зуммер дальней связи. В трубке — хрипловатый басок начальника порта:
— Товарищ полковник…
— Да, я слушаю вас.
— Включил рейсовые. Сейчас выходят очередные.
— Спасибо, большое спасибо. Если что, немедленно…
— Обязательно…
На стартовом и командном пунктах тоже почти непрерывно звонили телефоны, раздавались позывные в приемниках радиостанций, то дискантом, то фальцетом пела морзянка. Все больше и больше людей включалось в поиски. Волны эфира будоражил мрачный сигнал: «Человек — в беде! Человек — в море!» — и люди, оставляя другие дела и заботы, спешили помочь…
— Товарищ полковник, экипаж Ли-2 в готовности!
— Ждите. При такой видимости вам вылетать опасно. В динамике — разочарованный вздох, и тут же другой голос:
— Вертолеты обследовали очередной квадрат.
— Направляйте в смежные…
— Есть…
Военный городок, приютившийся под мутным северным небом на склоне сопки, внешне жил обычной жизнью. Только если внимательно приглядеться к людям, можно было заметить, как они обеспокоены. Весь гарнизон — и командиры, и летчики, и техники, и солдаты, и жены офицеров, — все, даже дети, чутко улавливая перемены в настроении старших, ждали вестей о капитане Куницыне.
Летчикам было тяжелее всего. Порой становилось мучительно обидно: они, люди, умеющие летать и готовые, отдать за боевого друга жизнь, оказались безучастными, сторонними наблюдателями. Это не укладывалось в сознании. Оставшиеся на аэродроме завидовали тем, кого включили в поисковые команды; истребители, которые подчас снисходительно смотрели на пилотов тихоходных машин, теперь готовы были поменяться ролью с вертолетчиками.
Все нити этих настроений тянулись к полковнику Горничеву, который, неотлучно находясь в штабе, дежурил, точно капитан на мостике корабля. Его самого подмывало подняться в воздух на вертолете, и он мог это сделать, но сдерживал себя. Сознавал: место командира здесь, среди подчиненных, на нем лежит ответственность за каждого из них и за весь коллектив в целом. Тем более сейчас, когда люди нервничали. В поведении некоторых, в репликах, в разговорах начали проскальзывать нотки раздражения и сомнения. Шло это, скорее всего, из семей. И не составляло труда представить, догадаться, какие там завязывались душещипательные беседы. «Выбрал себе работу… Живут же люди по-человечески, а мы?..»
Утром второго дня позвонил жене:
— Была у Куницыных? Как она? Соберите накоротке женсовет… Нет, только без всяких официальностей, понимаешь? Деликатно. И не оставляйте одну… Что? Да, мы напали на след. Так и скажи…
Полковник Горничев старался обнадежить женщин, успокаивал других, но у самого на душе кошки скребли. Он все чаще брался за трубку.
— Проскуряков? Что нового?
— К сожалению, ничего, товарищ полковник. На побережье Куницына, по-моему, не было и нет: мы обшарили каждый куст.
— Ищите… Костры? Вам виднее. Посоветуйтесь с рыбаками, они подскажут.
Одна из судовых радиостанций с тревогой сообщила:
«Возле берега — припай… Крошево льда».
Никто, наверно, не ожидал такого нахальства от погоды. Если Куницыну придется плыть к берегу через покрытый льдом участок моря, он может порвать лодку и утонуть.
Горничев немедленно вызвал начальника метеостанции:
— Какова температура морской воды?
Синоптик подтвердил самые худшие опасения. Вместе с тем он доложил, что снова ожидается мороз.
Это обнадеживало в другом: осядет туман. Ах, если бы не туман! А пока он плотный — хоть ножом режь. Несколько дней над гарнизоном, над морем, над сопками клубами висели слоисто-дождевые облака. Из них выпал снег. Потом тучи опустились ниже, легли на покатые спины сопок, их мглистая пелена скрыла острие радиомачты, и вот все вокруг укутала беспросветная вязкая завеса. Воздух перенасыщен влагой, как на дне глубокой сырой ямы. Север. Обиженный природой Север. Дьявольский климат.
Сегодня произошла еще одна неприятность: туман прижал к земле и вертолеты. При нулевой видимости в воздух смогли подняться лишь два вертолетных экипажа, остальные сидели в кабинах своих машин на аэродроме.
В недавнем прошлом полковник Горничев читал в местной газете статью о поисках группы заблудившихся геологов. Их искали что-то около месяца. При этом один вертолет, идя бреющим полетом над тайгой, зацепил хвостовым винтом за вершину высокой ели. Винт сломался, летчик вынужден был срочно посадить неуправляемую машину.
В конце концов геологов нашли, но Горничев, как, наверно, и другие читатели, возмущался: до чего же плохо были организованы поиски! Теперь полковник понимал, что судил он тогда опрометчиво. Оказывается, стечение обстоятельств иногда может быть поистине безысходным. Шутка ли — обследовать огромную территорию! Да еще при плохой погоде, как нынче. Не только ночью — даже днем в непроглядном тумане пройдешь в трех шагах от человека и не заметишь его. А он, чего доброго, не в силах и сигнал подать.
Море не тайга, к тому же у Куницына оранжевая, хорошо видимая с воздуха лодка. Но туман, туман! Он делает все усилия бесполезными. Два вертолета, которые разрешено выпустить с аэродрома, пытаются снижаться до самых волн, однако поверхности воды не видят. Это опасно, крайне опасно.
Единственная надежда на катера. И то, пожалуй, все зависит от случая. Куницына можно заметить лишь случайно, радиопередатчика у него нет.
В довершение ко всему возникло подозрение, что в кабину его самолета не был уложен комплект «НЗ». Значит, он остался без бортпайка, без медикаментов, без ракет.
Кто-то сказал, что человек в ледяной воде может протянуть немногим более часа. Полковой врач не отрицал. Пришлось посоветовать ему, чтобы больше никому…
А тут еще пополз слушок, что Куницын и катапультироваться не сумел. Этого не должно быть, но слишком уж непонятно, почему оказалась в море капка. Возникает подозрение, что летчика «раздело» взрывом.
Вспомнилось: теряя в знойном мареве очертания, далеко-далеко видна посреди выжженной степи одинокая пирамидка — обелиск с красной жестяной звездой. На нем надпись: «Здесь погиб лейтенант…» Горничев забыл фамилию летчика, но в память с болью врезалось одно: было ему немногим более двадцати…
Что ж, авиация есть авиация, но паниковать, прежде времени опускать руки непозволительно. Когда научишь мало-мальски летать, отдашь зеленому юнцу, вчерашнему школьнику, всю душу, всего себя отдашь, полюбишь, как сына, и тогда каждая его ошибка горше собственной. А терять летчика — сердце терять…
Мысли кружились, точно снежинки в метель, все время возвращаясь к Куницыну. Этакий плечистый детина! Истребитель по всем статьям. Должен выдюжить. Поддержать бы, правда, не мешало хоть как-нибудь, пока видимости нет. Прогудеть над ним — и то дело. Чтобы понял: ищем…
Вертолеты — в воздухе. Суда — в море. Тоже риск немалый: в тумане и столкнуться недолго. Моряки — те сирены включают, а вот в небе…
— Командный пункт на связь!
— Капитан Перфильев слушает вас.
Штурман наведения Перфильев дежурил и в тот день, когда Куницын выполнял свой последний полет. Он, похоже, так и не уходил с аэродрома.
— Следите, чтобы не сближались вертолеты.
— Есть…
Была предусмотрена каждая мелочь, и оставалось лишь одно — ждать. За окном по-прежнему висела мрачная мгла. Сквозь нее самое острое зрение не могло различить предметов даже в нескольких метрах. В кабинете было холодно и тихо. Кто-то, боясь потревожить, прошел, осторожно ступая по скрипучему полу, и в коридоре тоже тишина. Все в эти дни ходят поникшие, в глазах — тревожный вопрос: «Не нашли еще?»
Куницын из тех людей, кто быстро находит общий язык с другими. Добряк… Вернется из полета — на лице еще след от кислородной маски, на шее красные пятачки — отпечаток ларингофонов, а в глазах уже счастливая улыбка. Похвалишь — смущается, устал — не подаст вида…
Есть летчики — много лет в части, а их и не знает никто, кроме командира да техника самолета. Что греха таить, есть и такие, кого недолюбливают за хвастовство и высокомерие. Иные, смотришь, играют роль своего парня в доску, но и к ним относятся с холодком, чуя фальшь. Куницын никогда ни перед кем не заискивал, не хвастался, хотя летает — дай бог каждому. Он был прямым и честным, не скупился на совет и помощь. Его сердце было открыто для людей, и они тянулись к нему.
«Почему «был»? — спохватился Горничев. — Он есть. Только его нужно найти. Эх, какая жалость — нельзя подняться в воздух самому! В гарнизон прибывает комиссия для расследования причин аварии, надо приготовить все необходимое для работы, а тут еще замполит подполковник Дегтярев — совсем новичок в полку, недавно прибыл из академии и не успел как следует познакомиться с коллективом».
Постоянные, привычные и непривычные, заботы, необходимость решать неотложные вопросы, выслушивать донесения и тут же отдавать новые приказания — все это помогало Горничеву быть собранным и распорядительным. Но подчас мысли становились сбивчивыми, временами приходило глухое раздражение: что он — волшебник? Есть обстоятельства, перед которыми любой беспомощен.
Он знал причину такого настроения и гнал от себя уныние. Ему не дано права показывать свою, хотя бы и минутную, растерянность. Наоборот, сам должен вовремя ободрить приунывшего, предупредить неуместное скептическое слово, помочь людям преодолеть нервное напряжение, так или иначе разрядить обстановку.
Что еще предпринять? Человек дороже всего. Поэтому надо при первой же возможности, при первом проблеске погоды поднять и реактивные самолеты. Командующий поймет необходимость такой меры или пришлет дополнительную группу вертолетов.
Горничев встал, прошелся в раздумье по кабинету, потер уставшие от бессонницы глаза. Взглянул на часы. Почему нет очередных донесений? Еще не время? Нет, не потому. Поисковым группам пока что докладывать нечего. Да и мало их, мало. При такой погоде нужно удвоить, утроить число команд. Но где взять людей?
Полковник решительно шагнул к телефону:
— Соедините меня с командующим!
Услышав знакомый спокойный голос, он вдруг заволновался, боясь, что слишком сбивчиво и бессвязно излагает свои соображения. А через минуту лицо его просветлело. Оказывается, генерал уже отдал соответствующие распоряжения. Помимо авиаторов на поиски капитана Куницына вышли солдаты и офицеры других частей. Они прочесывали берег, где мог оказаться приземлившийся с парашютом летчик, заботливо делали пометки на деревьях, ставили указатели направления на ближайший поселок, оставляли записки со словами: «Держитесь, вас ищут».
Сделано было несравнимо больше, чем мог ожидать Горничев. Ему стало неловко за свои недавние сомнения, и он с чувством сказал:
— Большое вам спасибо, товарищ генерал. От имени всего нашего гарнизона.
— Передайте людям, что будет сделано все возможное, — послышалось в трубке. — Да, и вот еще что. Смотрите, чтобы при поисках не случилось никакой неприятности.
— Понял, товарищ генерал, — ответил полковник Горничев. И добавил по‑уставному: — Есть!..
САМЫЙ СТРОГИЙ ПРИКАЗ
К тому времени, когда Куницын снова пустился в свое рискованное плавание, шторм утих, но море еще хранило память о нем. Даже при безветрии оно сильно волновалось, и летчик сквозь тонкую ткань днища чувствовал его нервное колыхание. Волны, как живые существа, толкали его то в один бок, то в другой, будто недовольные появлением человека. Чудилось: весь мир — одно сплошное море. Сотни, тысячи километров заполнены этой зыбкой массой. И кажется, на всей планете нет ни клочка суши.
Он оглянулся. Не лучше ли, пока не поздно, повернуть назад? Нет, острова уже не видно. Да и зачем возвращаться? Там, на голой скале, мокрый камень высасывает последние капли тепла.
В лодке вода. Набралась сквозь дырки в днище. Пружинящие оранжевые борта чуть выступают над водой, и, когда Куницын налегает на них, волны касаются лица.
Какой он все-таки беззаботный и непредусмотрительный: забыл оставить на острове записку. Можно было карандашом нацарапать несколько слов на доске, на двери, на стене домика. Впрочем, поймут и без того, что он был там. По груде поленьев, по разбитому выстрелами фонарю маяка…
Вперед. А какой курс? Если отсыревший компас не врет, его начало сносить влево. Течение? Попробуй пойми… Ну ладно, отклониться влево не страшно: середина моря, его наиболее глубоководная воронка, должна находиться справа.
Хотя руки устают, грести веслами-дощечками гораздо удобнее, чем ладонями. Все чаще приходится делать остановки, давать отдых ноющим мускулам. А что, если грести попеременно то одной рукой, то другой? Получается. Надо бы раньше додуматься до такой простой истины.
Больше всего работал правой. Без попутного ветра, который подгонял его вчера, лодка двигалась медленнее улитки, но все же двигалась. Тело постепенно перестало ощущать холод. Согрелся? Вряд ли. Скорее всего, прозяб до бесчувствия. Сильнее, сильнее грести, не дать остановиться стынущей крови. Вон как посинели кисти рук! Похоже, что их окрасила под свой цвет темная, почти черная вода.
Странно, вода здесь какая-то мутная. И не отражает ничего, словно глаз мертвого. В Черном море куда светлее. Все наоборот… Короткий, как мимолетная улыбка, северный день быстро иссяк. На море ложилась ночь. Вторая ночь. Снова до самого рассвета, на целых семнадцать часов, придется оставить надежду на то, что его подберут.
Иногда в темноте Ивану казалось, что он слышит какой-то шум, словно где-то в отдалении шли автомобили. Когда он, совсем еще мальчишка, находясь в прифронтовой полосе, не спал ночами, в их сырой подвал вот так же глухо доносился гул невидимого боя.
Может, это самолет? Вот бы в кабину! Считанные минуты — и дома. Или хотя бы катер… Стоит оказаться на его борту, и сразу прекратятся все муки.
Как только летчик напрягал слух, звук исчезал. Неужели с наступлением ночи поиски прекратили? Нет, такого не должно быть. Если бы он был там, на берегу, и знал, что где-то в море мечется человек, то не дал бы покоя ни себе, ни другим.
— Ну ничего, — говорил он вслух, отгоняя щемящий душу страх. — Я выберусь и сам. Все равно выберусь…
Ему отчетливо виделось, как он доплывает до берега, выползает на насыпь железной дороги, которая проходит неподалеку, и ложится на шпалы. Стоять он не в силах, слишком болят ноги, но машинист заметит его, остановит поезд:
«Садитесь, товарищ капитан. Располагайтесь в вагоне как дома. Посмотрите, как по Руси поезда ходят».
«Вот спасибо!..»
Иван улыбается своим мыслям. По России поезда здорово ходят. Далека отсюда Сибирь, а на скором всего несколько дней ехали. Только лучше мчать прямо на юг, от моря к морю. Выедешь в мае — сначала снег, зима, в Ленинграде — уже весна, а в Туапсе — жаркое лето. Хорошо ехать от зимы к лету, от холода — к зною. Вагон мягко покачивается, в открытые окна ветерок веет, и бегут, бегут за окном бескрайние родные просторы…
Опять задремал.
Курсантская рота авиационного училища идет по городу. Прохожие останавливаются, улыбаясь, смотрят на подтянутых, молодцеватых парней.
— Летчики идут…
— Орлы!..
«Пал с неба сокол с разбитой грудью…»
Это — урок литературы в спецшколе Военно-Воздушных Сил. Курсанты поочередно читают наизусть «Песню о Соколе».
«А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся…»
Вниз — страшно. Но если надо… Как Гастелло!..
Сплю? Песню!
Славное море священный Байкал, Славный корабль — омулевая бочка.Хорошая песня. Русская. А Лиля любит другую.
Ой ты, Северное море…Тоже красивая песня. И у Лили приятный голос. Ему нравится ее голос. Когда соберутся друзья, она веселая, компанейская.
«Лиля, ты знаешь, какая у меня профессия. Если со мной…»
«Не надо об этом, Ваня…»
«Лиля, подожди. Я о детях. Ты расскажи, каким был их отец…»
«Почему был? Есть. И будет!..»
Какие бессвязные, отрывочные мысли! От слабости. Слабеют руки. Почти бесчувственные пальцы отказываются держать дощечки. Сжать. Грести. Движение — это жизнь. Только в нем спасение. Пусть это граничит с безрассудством — блуждать по морю вот так, как он, в темноте, черепашьими темпами, устремляясь невесть куда, — и все же плыть надо: еще нелепее погибнуть здесь в бездействии.
И он плыл. Греб, не зная сам, откуда у него берутся силы.
Словно в награду за это нечеловеческое упорство, ночью, в сплошной темноте, на горизонте метнулся из стороны в сторону луч прожектора. Потом донесся гул мотора, в небо взлетели три ракеты. Сомнений нет: это катер. Значит, его ищут и ночью…
— Э-гей!.. Сюда! Сюда! — закричал Куницын. — Я здесь! Здесь я!
Катер шел, шаря лучом по волнам, вроде бы совсем недалеко: иногда были видны озаряемые ярким светом пенные гребни водных валов. Ох, и высоки же они! Или это оттого, что он плывет лежа на борту? Распрямиться, чтобы набрать побольше воздуха, и крикнуть во весь голос:
— Эге-ей!.. Сюда-а! А-а-а!..
Как он кричал! Он сам удивлялся тому, что еще может издавать такие звуки. Но катер прошел стороной. И опять в пустынном ночном море Куницын остался один.
Ему показалось, будто нечто подобное он уже пережил. Где? Когда? Вспомнить трудно, но, честное слово, было. Только не в море, не в воде. Зимой, в заснеженном лесу. В вершинах деревьев вот так же, как сейчас над волнами, шумел ветер. И так же, как сейчас, у него страшно болели ступни ног. Он шел, опираясь на палку, и вдруг застыл у поворота узкой лесной дороги: там стояли подбитые немецкие вездеходы, а вокруг них валялись трупы гитлеровцев. Партизаны… Может, они еще не ушли далеко?
— Ого-го… Партизаны!.. Партизаны!..
Бред. Это было не с ним. Это было с Алексеем Мересьевым. Он читал «Повесть о настоящем человеке», смотрел фильм и переживал так, будто все происходило с ним самим.
«Иван… Ты дрожишь… — На руку легла теплая ладонь Лили. — А еще летчик».
«Тише. Мересьев…»
Куницын часто спрашивал себя:
«А я на месте Мересьева смог бы так?»
«Смог бы!»
Он готовил себя к этому. Морально. Полковник Горничев говорил:
— Волю нужно тренировать так же, как и мускулы. Летчик не имеет права быть слабым, безвольным ни физически, ни психологически.
Иван со смущением слушал командира. Не так как-то надо говорить об этом. Проще, доходчивее. А впрочем, дело не в красиво построенной фразе. Важна суть, точность мысли…
Он закалял себя изо дня в день. Тренировал и мышцы, и волю. Много занимался спортом, ходил на охоту, учился быть хладнокровным в небе.
«А я на месте Мересьева смог бы так?»
«Смог бы Г»
«Так докажи теперь на деле, что это не просто слова».
«Докажу. Но…»
Мересьеву было, пожалуй, немного легче. Он шел и полз в сухой одежде. Ел кору и ягоды. И еще — снег. А снег — это вода…
Как тебе не стыдно! Ты опять жалеешь себя, ищешь оправдания своей слабости, ищешь лазейку, чтобы счесть тяготы, выпавшие на твою долю, самыми невыносимыми. Сравни: Мересьева не искали — тебя ищут. Не нашли? Но днем был моросящий дождь, а ночью — темень. Потом, море не озеро. В его бесконечном пространстве найти человека так же трудно, как иголку в стоге сена. Терпи, жди утра. Утром обязательно найдут.
Утро, едва забрезжив, повергло Куницына в смятение: на море лег туман. Густой, непроглядный. В трех шагах ничего не видно. Ну и дела…
Стало еще холоднее. Ноги временами сводила судорога. Хотелось вытянуть их, но сделать этого было нельзя: лодка сразу опрокинулась бы. И он лишь время от времени менял позу, покачиваясь, двигал ступнями.
Сквозь туман вяло пробивался рассвет. Вдруг в тишине родился какой-то неуверенный, словно стыдливый, звук. Он быстро перерос в гул. Это был вертолет. Описывая широкие круги, вертолет рокотал иногда совсем рядом, то приближаясь, то уходя в сторону, но был не виден. Куницын понимал, что летчикам еще труднее заметить его, и все-таки перестал грести, надеясь на лучшее.
— Ниже… Ниже… — шептали губы.
Ниже вертолет спуститься не мог: слепой полет в тумане над самым морем опасен. Гудение становилось все тише, тише, и вот уже снова ни звука, только серое море да серая мгла.
А это что? В воде мелькнуло какое-то темное тело. Акулы здесь вроде не водятся. А впрочем, кто его знает? Если в открытом море встречаются полярные акулы, то разве они не могут заплывать и сюда!
Пристально вглядываясь в воду, Иван с досадой поморщился. Он совершенно не знает этого моря. Слышал, что в нем обитает около полусотни видов рыб, но помнил лишь о таких, как семга, сельдь, треска, камбала и навага. Дальше его познания не простирались. Эх, а еще рыбак…
Пусто кругом. Просто очередное наваждение сквозь дрему, игра воображения. Ведь ему сейчас не было бы никакой пользы даже от того, если бы вокруг лодки собрались все живущие в море рыбы. Голой рукой их не поймаешь. Нужна хотя бы удочка. В парашютном ранце была леска с рыболовными крючками… Была…
Туман постепенно редел. Как сквозь матовое стекло, открывалась взгляду строго-холодная, безрадостная поверхность мутно-серого моря, тяжело волновавшегося в тумане. Но впереди в самом деле что-то плывет. Что? Или кто?
Это был тюлень. Вынырнув, он держался в отдалении. Его, наверно, пугала форма и оранжевый цвет лодки. Затем, видя, что незнакомое, необычайной окраски существо двигается медленно и неуклюже, он осмелел и подплыл ближе. Куницын с любопытством следил за тюленем и даже заговорил с ним.
— Ишь ты, млекопитающее… Плыви рядом, — приглашал он, радуясь, что встретил не акулу. На этих животных охотятся, а они по глупости своей иногда близко подпускают человека.
Тюлень дразнил его. Пошевеливая ластами, он легко скользил по воде, нырял, показывая лоснящуюся спину, потом, тоже не без любопытства, уставился на летчика своими немигающими глазами, будто что-то соображая. Иван, стараясь грести без плеска, украдкой подвигался к нему. Им скорее руководил инстинкт, нежели мысль: «Вот бы хватить ножом!» Но тюлень, почуяв подвох, нырнул, выплыл далеко в стороне и скрылся из виду.
Куницыну стало грустно. Опять вокруг ни одного живого существа, лишь угрюмое море, и кажутся умопомрачительными долгие часы одиночества. Напрасно он говорил о том, что смог бы запросто провести, как Гагарин, несколько дней в сурдокамере. Человеку нелегко одному. Но, пожалуй, в сурдокамере легче: знаешь, что за стеной — люди, жизнь. Нажми кнопку — тотчас отзовутся. Здесь никто не придет на самый настойчивый призыв. Его положение не с чем даже сравнить…
А Зиганшин?
Зиганшин тоже был не один. С ним вместе находились три товарища. Как же их фамилии? Все газеты писали о подвиге отважной четверки советских солдат — экипажа самоходной баржи «Т-36», командиром которого был младший сержант Асхат Зиганшин, — а Куницын уже забыл их имена. И сколько суток провели они в океане?.. Вот так штука: мысли и те окоченели…
Вспомнил. С Зиганшиным были Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов. Они дрейфовали в океане, куда их баржу унесло штормом. Правда, баржа не надувная лодка, так ведь сорок девять суток. И никто из них не дрогнул, не впал в отчаяние, несмотря на голод и холод. Все перенесли и выстояли советские солдаты. После о них так и писали: «Советские…»
Это Зиганшин сказал, отвечая на вопрос американского корреспондента. Тот не верил нашим парням, что они, почти умирая от жажды и голода, не ссорились и не подрались между собой.
— Что же вы за люди? — не то спросил, не то удивился он.
— Обыкновенные. Советские, — спокойно ответил Асхат.
Куницын знал, что удивляло американского журналиста. В книге «Гордое слово», написанной известным полярным летчиком Михаилом Водопьяновым, он читал рассказ о том, как экипаж дирижабля одной капиталистической страны потерпел катастрофу при перелете из Европы через Северный полюс в Америку. Уже через неделю жизни в ледяном плену Арктики члены экипажа, видя, что продуктов остается все меньше, и опасаясь голодной смерти, завязали между собой перестрелку и убили трех своих товарищей.
О звериных законах чуждого нам мира не хочется и думать. Лучше вспомнить о чем-нибудь родном и близком. О приближающемся празднике.
Тут летчику пришла на ум еще одна деталь, которая почему-то показалась ему существенной: четверку отважных нашли в океане восьмого или девятого марта. Значит, в бескрайних просторах моря корабли ходят и в праздничные дни. Значит…
Он то цеплялся, как ребенок, за любое бесхитростное утешение, подбадривая себя, то бросался в другую крайность, рисуя свое положение самыми мрачными красками. Взгляд его рассеянно блуждал по горизонту.
«Земля! Честное слово, земля! Берег…»
Нет, он не кричал. Он лишь мысленно произнес эти слова, различив впереди темную полоску земли.
Летчик веселее взмахнул руками, подгребая дощечками. Теперь есть цель: плыть туда, к берегу, который смутно вырисовывается на горизонте.
Смотри-ка, и тумана как не бывало. Просторно, ясно и свежо кругом. А он и не заметил, когда это произошло. У него возникло мучительное, непреодолимо острое желание: выскочить из лодки и кинуться вперед бегом. Бежать и бежать. Ведь это же нестерпимо — двигаться так медленно!
Увы, по волнам не помчишься вприпрыжку. Не сходи с ума. Плыви… Сколько метров до показавшегося на горизонте берега? Если ты находишься на относительно ровной поверхности — а море ровное, — то горизонт виден в радиусе четырех километров или что-то около этого. Четыре километра — это четыре тысячи метров. Если гребок — метр, осталось четыре тысячи взмахов. Это не так много.
— Раз. Два. Три… И четыре. И пять…
Считая взмахи, Иван упорно греб. Сто гребков — отдых.
— Пятьдесят три…
Тяжело. Отдохнуть? «Грош мне цена, если не выдержу первой сотни».
— Шестьдесят один…
Жарко. Это хорошо. Черт побери, он живет. Он еще поборется.
— Девяносто два…
Как трудно дышать! Не хватает воздуха. Во рту все пересохло. Хотя бы один глоток воды.
— Сто!
Танталовы муки. Сизифов труд. Грозилась синица море поджечь. Взялся летчик море переплыть…
«Вы слышали?»
«О чем?»
«Как летчик море переплыл».
«Это зачем?»
«Шутки ради».
«Брось чудить».
«Не веришь? А я его знаю. Своими глазами видел. Разговаривал с ним. По плечу хлопал. Вот как тебя. Парень на все пять баллов. Наш. Пилотяга. Представляешь? Нет, ты только представь: летчик и море. Один на один. Ночь. Шторм. Дождь. Туман. А он — один».
«Подожди, друг. Загибать ты мастер. Читал я, что кто-то там через Ла-Манш плыл. Или собирался. Ты про него?»
«Ха!.. Ты где, в отпуске был? Тогда простительно. Ведь парень из нашего полка. Ваня Куницын».
«Куницын? Такие шутки о нем? Да ты, часом, не того, а?»
«…А я уже разговариваю сам с собой. И перед глазами все кружится. Со счета давно сбился. Нет, так не годится. Видишь — берег. Это — ориентир. Держи курс прямехонько на него. И утки туда потянули. Эх, ружьецо бы! Стой, а где берег?»
Берега нет. Куда же он девался? Померещилось? Да нет же, вот он. Просто, если долго грести одной рукой, уклоняешься в сторону. Но если при небольшом уклонении видишь не землю, а море, то впереди не берег. Точно, впереди — остров. Не прежний ли? Вот будет шутка: пробарахтался целый день в холодной воде ради того, чтобы покружит в море и вернуться туда, откуда уплыл.
Ах, какая разница! Старый остров — пусть так. Все равно. Судороги раз за разом сводят ноги и спину. Лучше к самому черту в зубы, чем оставаться в ледяных волнах. Это же наказание. Пытка. Сердце молотит, как реактивная турбина, а кровь застыла в жилах, и ты чувствуешь себя связанным, скованным тяжелыми цепями. Порвать их, порвать…
Так, еще сто метров. Отдохни и не надрывайся, рассчитывай силы, финиш еще далеко. Четыре километра минус…
«Какое — четыре? Все сорок. Дистанция марафонского бега. А я плохой гонец. Почему плохой? Я — разрядник. И — летчик. Военный летчик. Капитан».
«Капитан Куницын!»
«Я».
«Слушайте приказ! Вам надлежит срочно доставить вплавь через море срочное донесение командиру части полковнику Горничеву. Передайте ему устно, что ваш самолет потерпел аварию, а не катастрофу. Выполняйте».
«Есть».
«Приказ должен быть выполнен точно, беспрекословно и в срок…»
«Знаю, так гласит воинский устав. Да вот срок…»
Три с половиной километра — это примерно три тысячи пятьсот гребков. Каждый взмах руки для гребка — две секунды. Семь тысяч секунд. Два часа. Даже меньше, если приналечь на весла. Вечереет? Какая разница — в темноте плыть или при дневном свете! На этом острове тоже установлен маяк, ориентиром будет его свет.
И Куницын снова плыл. Долго плыл, очень долго. То ли расчеты его оказались неверными, то ли течение относило лодку назад или в сторону, но давно наступила ночь, третья ночь одиночества, а он все еще не обнаружен.
Мысли об этом вызывали щемящее чувство досады и горечи. Превозмогая усталость и боль в одеревеневшем теле, он греб уже почти машинально. У него осталась одна-единственная и последняя надежда: доплыть до острова, разжечь от маяка костёр и обогреться.
В довершение ко всему совсем занемела шея, сама собой опускалась голова. И тут вдруг Иван заметил, что вода при каждом взмахе рукой отчего-то искрится, горит. Несмотря на изнеможение, он, как загипнотизированный, смотрел на фосфоресцирующий блеск, пытаясь понять его происхождение. У него рябило в глазах…
Лодка наконец ткнулась днищем в отмель. До берега было рукой подать, но у летчика едва хватило сил выбраться на сушу. Ноги совсем не держали его. Особенно правая, на которой он больше сидел. Куницын прилег. И тотчас замельтешили в глазах радужные пятна. Было такое ощущение, будто он проваливается в пропасть.
Его привела в чувство волна. Она словно подтолкнула капитана, и он пополз.
Передвигаться таким образом было, пожалуй, даже унизительно. Иван невесело хмыкнул. Он, заядлый охотник и спортсмен-разрядник по бегу, хаживал, бывало, десятки километров, а тут какую-то сотню метров вынужден ползти, как черепаха, пока доберется до маяка…
Маяк был копией той конструкции, что и на предыдущем острове. Здесь так же валялось много бревен, обрезков досок и щепок, пахло прелью. В сторожке, где стояли баллоны с горючим газом, он нашел сухую палку и расколол ее на растопку. Помня свой прежний печальный опыт, решил сделать что-то вроде факела. Но из чего? Одежда мокрая, в ней не найдешь сухого куска, который можно поджечь. Поразмыслив, Куницын снял со шлемофона компенсаторную тягу. В полетах при сильных перегрузках она прижимала к лицу кислородную маску. Пусть послужит ему еще раз. Из зеленой ленты и резины действительно получилось что-то похожее на факел.
На вышке маяка летчик с осторожностью, на какую был еще способен, приподнял колпак и сунул в пламя свой факел. Резиновые жгуты плавились, обугливались и гасли. Упрямо поджигая их, Иван не один раз поднимал, а затем опускал колпак, чтобы не потушить горелку. А факел упорно не хотел гореть, чадил, тлел, покрывался нагаром, но не занимался пламенем. Только потом, когда летчик завернул в него карандаш и расческу, грубая ткань наконец вспыхнула. Как величайший дар, он понес огонь к груде поленьев.
Костер тоже разгорался медленно. Сырые поленья долго шипели и дымили. От дыма резало воспаленные глаза, текли слезы. И летчик пожалел о том, что не носил на шлемофоне очки. Думал: зачем они в герметичной кабине реактивного самолета? А как бы пригодились после приводнения да и сейчас!
Огонь все-таки победил влагу, и радости пилота не было предела. Он протягивал к пламени руки, поворачивался то одним боком, то другим, постанывая от удовольствия, потом прилег отдохнуть и посушить одежду. От мокрого обмундирования повалил пар, запахла кислым овчина куртки, начало припекать, а Ивану не хотелось отодвигаться от костра.
Он долго лежал, наслаждаясь теплом и покоем. Тело постепенно отходило, но боль сменилась невыносимо противным зудом, и еще сильнее начали мучить голод и жажда. У него так пересохло во рту, что язык, казалось, шуршал, как бумага, а нёбо и десны горели, открытым ртом нельзя было дышать. А рядом, как бы дразня, шумело море. Целое море воды! Это просто пытка: знать, что вода — вот она, и не иметь возможности напиться…
«Иван, ты знаешь, почему в море много воды?»
«Нет, не знаю, отец. А почему?»
Отец хитро улыбается и рассказывает:
«Это, значит, вот как было: цыгане на юг ехали. Всем табором. Дело к осени шло, ну они и тронулись к теплу. День катили, другой, третий. Сначала лесом, потом по степи. А тут, на грех, солнце припекло. Жарища — не дай бог. От колес, от копыт — пыль столбом. Песок на зубах захрустел. Пить хочется, а где попьешь в голой степи? И вдруг прохладой потянуло. Глядь — озеро. Огромное. Большущее такое…
— Мираж? — спросил кто-то, не веря своим глазам.
— Не озеро и не мираж, — сказал старый цыган. — Это море.
Море. Лениво накатывается на берег теплая волна. Подошли к ней лошади, встали — не пьют.
— Умные кони, — сказал старый цыган. — После долгого бега сразу пить нельзя. Да и спешить некуда: воды много, всем хватит.
И сам, по праву старшего, шагнул к воде первым. Помедлил. Зачерпнул полные пригоршни воды. Жадно глотнул и…
Полезли у мудрого цыгана глаза на лоб от удивления.
— Так вот почему в море много воды: ее никто не пьет да и не станет пить. Горькая…»
На лице отца добрая, лукавая улыбка. «Не смейся, отец. Мне так трудно…» «Крепись, сынок…»
«Засыпаю? Рано. Вот просохнет одежда — потом. А вода… Питьевую воду отец называл пресной».
Потрескавшимися губами Иван полушепотом произнес:
— Пресная…
Пресная — выходит, безвкусная. Странно: на земле, дома, где можешь пить воду, когда захочешь и сколько захочешь, совсем не думаешь, что она — пресная. Холодная, теплая, горячая, мутная — это ощущаешь и видишь, а о том, что пресная, не думаешь.
Тем четверым, что сорок девять дней боролись в океане с голодом и жаждой, воды тоже негде было взять. А ели они солидол и свои кожаные ремни, потом даже гармошку съели…
У него на поясе — кожаная кобура. Вот бы сварить! Положить в морскую воду, чтобы кожа набрякла и стала мягче? Да, надо встать и доползти до берега. Ведь неизвестно, сколько времени придется ждать помощи. А-а, ерунда, из кобуры каши не сделаешь…
Подниматься не хотелось. Тепло разморило летчика, по всему телу разливалась блаженная истома, лень было даже пошевелиться. А что, если и в самом деле немножко вздремнуть? Совсем немного. Всего пять минут…
Впадая в сладкое забытье, отрешенно подумал: «Усну — проснусь нескоро, и костер погаснет. Тогда опять — холод и мрак. А костер — это сигнал для тех, кто меня ищет…»
Борясь с сонливостью, он поднес к глазам руку. Вся в ссадинах и порезах, кровоточащая кисть в красном свете костра была похожа на потрескавшуюся резиновую перчатку, надутую воздухом. Рука безвольно опустилась…
Удобно примостившись рядом, Сережа положил головку ему на грудь, и он ощутил теплое тело сына. Ивану от тяжести нельзя вздохнуть полной грудью и неловко долго лежать в одном положении, однако он боится пошевелиться, чтобы не потревожить ребенка. А где Юрик? В своей кроватке или с Лилей? И почему так тянет холодом с другого бока? Видимо, одеяло сползло. Нужно укрыться получше. Летчик пошарил вокруг себя рукой, нащупывая одеяло, и открыл глаза.
«Так недолго на сырой земле и концы отдать. Костер-то потух. А дома ждут дети…»
Мысль о смерти в момент, когда он уже вырвался из лап моря, находится на земле и сидит у костра, словно наэлектризовала его. Капитан рывком сел. На глаза навернулись слезы. Однако он думал не о себе. Дети!..
Перед его мысленным взором в который раз возникали лица сыновей и жены. И это было как удар, от которого сыпались искры. Куницын порой готов был отказаться от борьбы во имя собственного спасения, но стоило ему представить полные тоскливого ожидания и мольбы глаза Лили, глаза своих мальчишек, как его с новой силой охватывала жалость к ним. Даже в воображении он не мог выносить их плача. И тогда летчик, отец и муж, забывая о своей беде, спешил к ним. Не он, а они нуждались в поддержке, заботе и помощи. Иван торопился спасти их от роковой вести, от долгого горя.
«Не сдаваться, терпеть, жить! — снова и снова приказывал себе Куницын. — Подбросить в костер дров…»
Дрова тлели, пламени почти не было. Он слишком долго лежал в бездействии, даже дремать начал, а теперь расплачивался за это. По тому, какими холодными и скользкими были поленья, Иван определил: нагрянул мороз. Чем же оживить костер? В домике стоят баллоны с ацетиленом. Притащить один, открыть вентиль и направить струю в пламя? Но как отсоединить баллон от остальных? И не произойдет ли взрыва? Придется ждать, пока огонь сам сделает свое дело. Видишь — темнота отступает.
Он не сразу понял, откуда льется свет. И вдруг, вскинув голову, замер: пылало небо. Пылало самыми фантастическими красками. Уследить за сменой красок было невозможно. Нежнейшие оттенки цветов — красного, малинового, желтого и зеленого — внезапно переходили в пурпурные, фосфорически‑зеленые, лиловые и молочно-белые.
Огромный сноп лучей незаметно развернулся и мгновенно образовал грандиозный занавес. По нему проходили разноцветные волны. Неуловимо для взгляда рядом повис, искрясь и переливаясь, еще один… И еще… Потом вся эта феерическая картина исчезла. На темном небе вновь остались только звезды, но они казались теперь колючими, как иней, потом стали тускнеть.
Третья ночь после аварии была нескончаемой. Подумать только — третья ночь! Куницына томила, подобно неутолимой жажде, потребность оказаться среди людей, прикоснуться к кому-нибудь, услышать живой голос, посетовать на свое положение, чтобы в ответ раздалось хотя бы самое равнодушное:
— Да брось ты!.. Бывает хуже…
Если расслабиться и не двигать ни одним мускулом, боли не ощущаешь. Но откуда эта неясная тревога? Слышишь: кто-то сидит рядом. Тогда почему он молчит? Кто это, такой неразговорчивый? Костюченко? Он, видимо, за что-то обиделся на него. Ладно, пусть. Обида пройдет, и вдвоем они быстрее придумают, что делать дальше. Вдвоем всегда веселее, и посоветоваться можно…
«А почему я не иду домой?»
Верно: почему? Это так просто — встать и пойти домой. Переодеться, попить и поесть.
«Так почему же я продолжаю сидеть?»
«А-а! Я на боевом дежурстве. Начались тактические учения, летчикам объявили тревогу, они заняли готовность номер один и вот уже который день находятся на аэродроме. Никто не имеет права уйти домой до тех пор, пока не дадут отбоя. Только почему все молчат? Обычно в нашем аэродромном домике стоит оживленный гомон, стучат о стол костяшки домино, хлопает дверь, а сейчас тихо и холодно».
Холодно? Иван очнулся, словно от толчка. Костер догорал. Над морем, над островком рассветало. Он выбрал поленья покрупнее и положил их на кучу тлеющих углей. Пусть дымят. Дым — это лучший сигнал.
В робком свете наступающего дня Куницын ползал по острову, собирая все, что могло пригодиться для костра. Остров был довольно обширным, больше первого. Поверхность его тоже оказалась голой. Лишь кое-где стелился ползучий кустарник. На веточках Иван заметил какие-то ягоды. Сок их показался ему приятным. Он сжевал несколько штук и решил потерпеть. Вот если через часок-другой не начнет мутить, не появится боль или резь в желудке, тогда можно еще поесть. А пока — хватит. Он заставил себя отвернуться и медленно побрел в сторону, к костру.
Костер разгорелся. Ветра не было, черный дым поднимался над островком высоко к небу. Но почему же никто не обращает внимания на этот дым? Неужели в море сегодня нет ни одного судна?
Вполне вероятно. Сегодня — шестое. Завтра — большой праздник. Самый торжественный: Седьмое ноября. Годовщина Великого Октября. Никогда не предполагал, что придется встречать этот праздник одному, на диком скалистом островке, затерянном посреди моря.
Тишина.
Так тихо бывает в строю, когда прозвучит команда «Смирно».
Замрут на мгновение шеренги. Кажется, даже не дышит никто. А потом…
— К торжественному маршу… Побатальонно… И грянет оркестр.
И вздрогнет от единого удара сотен армейских сапог нарядная, празднично убранная площадь.
Парад…
Нет, не только в парадной колонне приходилось Куницыну встречать праздники. Был курсантом — стоял на посту. Стал летчиком — нес боевое дежурство. Одно всегда оставалось неизменным: рапорт стране, народу о том, чего достиг в учебе и службе. Рапорт и одновременно клятва — добиться еще большего.
Это вошло в привычку. Но что сделать сейчас? Может быть, попытаться плыть дальше?
Капитан огляделся кругом, увидел серые валуны, рыжеватый островок скудной северной растительности во впадинке, вышку маяка на бугре, призрачную даль над холодным морем. Тишина. Лишь глухо накатываются на берег мутные волны.
«Нет, силы уже не те, чтобы снова отправляться в плавание. Нужно ждать здесь. Ждать, если понадобится, еще три дня, десять дней. За этот срок если не поисковая группа, так смотритель маяка появится».
— Ждать! — приказал себе летчик.
Это был самый строгий приказ из всех приказов, которые когда-либо получал капитан Куницын за время многолетней службы в армии. Вся жизнь воздушного бойца была связана с выполнением приказов, но ни один из них не требовал от него такого поистине нечеловеческого напряжения. Привыкший жить в большом и дружном коллективе, он вдруг смертельно устал от одиночества, и теперь ему понадобилось огромное усилие воли, чтобы заставить себя остаться, подобно Робинзону, на клочке необитаемой земли.
Борясь со страстным, жгучим желанием вскочить, бежать, плыть, ползти куда угодно, лишь бы уйти отсюда, Куницын вдруг вспомнил окопы и красноармейцев, к которым он ползал, будучи мальчишкой. Сколько раз фашисты ходили на них в атаку! Однако они не отступили.
— Ни шагу назад! — гремело над полем боя. — Стоять насмерть! Паникерам и трусам не место среди нас. Ни шагу назад!
— Ни шагу!.. — шептал Иван потрескавшимися губами. — Тебя ищут, и ты должен подавать людям сигнал дымом. Займись чем-нибудь. Не засни. Собери еще дров. Работай…
Так, то разговаривая сам с собой, то подолгу замолкая, он подбрасывал в костер дрова, с помощью ножа и пистолета мастерил костыли и время от времени обводил взглядом сливающуюся с мутным небом сизую поверхность моря.
Вокруг глухо шумели волны. От воды резко пахло сыростью и рыбой.
СИГНАЛЫ В ТУМАНЕ
Несмотря на крайне неблагоприятную погоду, фронт поисков расширялся с каждым часом. Район побережья по приказанию командующего прочесывали уже не только авиаторы. Сюда со всех сторон прибывали мотострелки, танкисты, артиллеристы. На своих машинах, с переносными радиостанциями.
В небольшом рыбацком поселке, который стал центром действия наземных групп, повсюду военные. Им было предоставлено все — жилье, телефоны, катера, лодки. Судьба летчика, попавшего в беду, взволновала жителей. Они, чем могли, помогали воинам.
В диспетчерской морского порта тоже ни на минуту не прекращалась работа. На большой карте, испещренной линиями движения рейсовых теплоходов, прибавлялись картонные силуэты новых кораблей, вышедших в море.
В кабинете полковника Горничева обстановка напоминала фронтовой штаб. Сюда непрерывно поступала информация от поисковых отрядов, от начальника порта, с бортов самолетов и вертолетов.
Постепенно картина прояснялась. Были найдены надувной жилет Куницына, подвесной бак с его истребителя и элерон. Эти предметы находились далеко, очень далеко один от другого, но все — возле северного берега залива. Из этого следовало, что летчик либо опустился с парашютом в том районе, либо оказался в море и, должно быть, выбрался на один из островов.
Теперь недоставало лишь погоды, чтобы обследовать острова с воздуха. Горничев, посоветовавшись со своими помощниками, передал уточненные данные в порт. В указанный район двинулось большинство теплоходов и сейнеров.
Суда шли параллельным курсом, отрывистыми гудками обозначая себя в тумане. В другой раз моряки при столь ограниченной видимости ни за что не стали бы приближаться к извилистым каменистым берегам, но сегодня дерзко подбирались к ним почти вплотную.
— Никогда не подумал бы, что здесь так много островов, — удивленно произнес капитан Юрий Ашаев. Он стоял в рубке одного из катеров рядом с рулевым.
Капитан катера Рейн Янсон, совсем еще молодой эстонец в щеголевато заломленной форменной фуражке с морской «капустой», не отвечает. Он занят: сосредоточенно всматривается в расстеленную перед ним, как простыня, лоцманскую карту. Впереди под туманом лишь колыхание свинцово-серых волн, а на этой карте четко обозначены все большие и маленькие островки. Умело и быстро ориентируясь в россыпи мелких кружочков, Янсон искусно направляет судно в обход видимых и невидимых скал, камней и отмелей.
Ашаев и не ждет ответа. Он понимает: Янсону не до него. Островов здесь действительно не сочтешь. Они то и дело вырастают перед носом катера. Один побольше, другой поменьше, третий вообще крохотная скала, едва выступающая из воды. Вокруг больших камней — камешки помельче. Тут гляди да гляди, а то запросто напорешься на какой-нибудь коварно затаившийся выступ.
Издали темные, покатые скалы напоминают собой влажные, бугристые спины каких-то животных, спокойно дремлющих на поверхности моря. А когда возникает сразу несколько бурых глыб, то впечатление такое, будто кто-то взял да и вытряхнул сюда добрый кузов огромных валунов.
— Луды, — поясняет Рейн, догадываясь, о чем думает Ашаев.
— Луды? — переспрашивает Юрий. — Любопытно. Похоже — глыбы.
Острова разделены то широкими, то совсем узкими проливами. Много островов — много проливов, и все они словно ненастоящие: что-то вроде миниатюр-акваторий, искусственно сделанной для наглядного обучения молодых моряков. Как рельефный макет местности, по которому летчики изучают район полетов.
— Салмы. — Рейн Янсон тычет пальцем в карту, где нарисованы и острова, и проливы во всем их многообразии.
Группа островов, окруженных мелюзгой скал-валунов, представляется Ашаеву архипелагом. «Архипелаг» пустынен, на нем ни единого намека на присутствие человека. Темные, источенные волнами утесы с редкими пятнами порыжевшего мха. На отдельных скалистых буграх установлены маяки, но и возле них — никого, они работают автоматически.
— А подводные отмели кошками называют, — негромко поясняет Янсон.
«Интересно, — размышляет Ашаев. — Это, наверно, потому, что они под водой притаились, поджидая судно, как кошка зазевавшуюся мышь. Морской жаргон…»
А вслух Юрий спрашивает о другом:
— Обойдем, посмотрим с другой стороны?
Янсон согласно кивает и отдает распоряжение рулевому:
— Право руля!
Катер тотчас поворачивает вправо, огибая остров, ложится на обратный курс и движется совсем малым.
Янсон молчит. Он понимает Ашаева. Он и сам тревожится о незнакомом ему летчике, которому пришлось покинуть неисправный самолет и прыгнуть с парашютом в волны этого неласкового моря. В другой раз он ни за что не стал бы так рисковать судном, чуть ли не вплотную подходя к гранитным берегам островов, но сейчас — дело иное. Издалека ничего не увидишь на серых кручах, а там, может быть, погибает пилот. Шутка ли — выстрелить собой, как из пушки, из кабины сверхзвукового истребителя. Морская служба тоже опасная, но…
— Знаете, товарищ капитан, какие здесь приливы? — поднял голову Янсон. — В заливе приливная волна входит в суженное ложе, и разность между полными и малыми водами достигает семи метров. Представляете?
— Представляю, — невесело протянул Ашаев. — Если Куницын попал на один из островов, то море его и там достанет.
Тем временем катер вошел в полосу такого густого тумана, что, казалось, его можно было черпать ведром, словно сметану. На палубе включили сирену, и ее звук поплыл над водой, словно жалоба.
Неожиданно внизу в корпус что-то глухо стукнуло, затем раздался скрежет. Можно было подумать, что катер задевает морское дно. Юрий испуганно взглянул на Янсона.
— Льдина, — сказал тот. — Летом здесь верхние слои воды нагреваются градусов до пятнадцати, но уже к концу октября появляется припай.
— А сейчас ноябрь… Странно, соленая вода — и все равно замерзает.
— Да, соленость здесь намного выше, чем в южных морях. Тем не менее все относительно. В Ледовитом океане куда холоднее. Наверно, поэтому сюда зимой приходят тюлени. Тысячами. Представляете? Когда начинается день, так они целыми стадами на льдинах лежат. Охотников на них с самолета наводят.
Юрий пытается представить огромные ледяные пространства, покрытые черными лоснящимися телами, и не может. Он недоверчиво косится на Янсона. Его слова кажутся ему выдумкой, преувеличением. Видимо, пытается отвлечь от грустных размышлений. Только напрасно. О чем бы ни заходил разговор, мысли невольно обращаются к Куницыну. Будь сейчас море покрыто льдом, его, конечно, нашли бы быстрее. Черное на белом далеко видно. А тут, как назло, видимость нулевая. Даже островков уже не видно. Хорошо, хоть свет маяка неподалеку просматривается.
Не знал Ашаев, что на одном из островов маяк был неисправен. Не знал он и того, что его погасил Куницын. А катер проходил как раз в том районе, лавируя между луд.
— Не лучше ли остановиться? — спрашивает Ашаев. — Опасно все-таки, а?
— Нет, — глухо отозвался Янсон. — Будем потихоньку двигаться. Это полоса такая попалась. Дальше уже светлее.
И снова оба они надолго умолкают, вслушиваясь в ритмичное дыхание машины и всплески рассекаемых волн. Ашаев уже все рассказал Янсону о Куницыне и о полетах на сверхзвуковом, а Рейн — о своих морских делах. А впереди маячит новая гряда темно-бурых островков, и они кажутся выпуклыми днищами опрокинутых ржавых котлов.
Откуда-то доносится прерывистый, заунывный звук. Где-то очень далеко включили сирену, и ее голос, приглушенный туманом и расстоянием, напоминает вой животного, которому зажимают пасть. Это — сигнал с блуждающего по морю катера. Вот ему отвечает второй, третий…
В рубке холодно: открыты окна. Но наблюдателям на палубе еще холоднее. Они сменяются через каждый час.
— Как часовые на посту в сильный мороз, — замечает Ашаев и опять с тревогой думает о Куницыне: «Тут в сухой, теплой одежде пробирает насквозь, а ему…»
Ссутулясь, Юрий поднял воротник меховой куртки: промозглая сырость ползет по плечам. Над морем — моросящая мгла и тишина. Сирены оборвали свою тревожную перекличку: видимость несколько улучшилась, но еще не настолько, как хотелось бы. Монотонно гудит машина, катер покачивается, за кормой шумит бурун. Наблюдатели внимательно просматривают каждый метр морской поверхности и серые кручи островов. Может быть, на одной из этих каменных глыб, помеченных на лоцманской карте цифрами, приютился Куницын? Сейчас вскочит на ноги, взмахнет рукой, выстрелит, даст ракету…
В рубке сухо потрескивает динамик судовой рации. Время от времени в нем звучат голоса радистов с теплоходов и катеров, что идут где-то поблизости. Их сообщения словно скопированы: «Обследовали Н-ский квадрат, ничего не обнаружили…»
Россыпь островов осталась позади, туман слабел, шире открывая море, но минуты текли все так же тягуче и бесплодно. Вот уже двое суток поиски не приносят никаких результатов. Позавчера и вчера катера и теплоходы, точно слепые щенки, ползали по волнам почти безостановочно, а что толку? Неужели…
Вопрос даже мысленно не хочется произносить до конца. Нет, только не это…
В рубку вошел капитан Юрий Юлыгин. Он должен сменить на дежурстве Ашаева, но тот сделал вид, что не заметил его.
— Иди, иди, тезка, — заботливо выпроводил товарища Юлыгин. — Сам установил график, так выполняй.
Наблюдателями заступили сержанты Андрей Тришин и Григорий Гидьян. Один — впередсмотрящий, другой — на корму. Оба почти не отрывают бинокли от глаз. Вид у них удрученный: на горизонте ни пятнышка.
— Это не Крайний Север, а край света, — ворчал Гидьян. Ему, уроженцу солнечного юга, больше всех досаждал пронизывающий ветер. Именно поэтому и распорядился Ашаев ставить его наблюдающим на корму: там можно повернуться к ветру спиной. А Гидьян этого не понимал и сердился, что его назначают на пост, который казался ему второстепенным. Он по-мальчишески завидовал Тришину, и лицо его было непоправимо обиженным.
Иногда в небе гудели пролетающие вертолеты. Чувствовалось, что их не меньше эскадрильи. Дважды прошел над катером, переваливаясь с крыла на крыло, неуклюжий транспортник. Потом прошли еще два.
Гул авиационных моторов не отвлекал от невеселых мыслей. Много людей ищет Куницына, но ведь и акватория немаленькая.
Чтобы хоть чем-то приободрить подчиненных, капитан Ашаев попросил Янсона включить громкоговоритель: был час передачи последних известий. Зазвучали голоса московских дикторов. На какое-то время словно шире распахнулся горизонт. Советские люди со всех концов страны рапортовали о трудовых достижениях, о выполнении социалистических обязательств в честь годовщины Великого Октября. В столицу нашей Родины прибывали делегации братских коммунистических партий, чтобы принять участие в торжествах. Свободная Куба стойко боролась с объявленной ей экономической блокадой, и наш народ протягивал ей руку помощи.
Каждый день слушали солдаты и офицеры последние известия, но здесь, в море, воспринимали все то, что давно стало привычным, как бы в ином свете. Вот какая она, наша Советская Родина: верша дела большого государственного и мирового значения, не забыла и об одном, ничем особым не отличившемся, рядовом сыне своем…
— А вы, Рейн, читали о судьбе русского броненосца «Русалка»? — повернулся к Янсону Ашаев.
— Нет, не читал. А что? Когда это было?
— Когда было? Год точно не назову, до революции еще. Да… Шторм застиг «Русалку» в Финском заливе, и до Кронштадта она не дошла. А на корабле что-то около двухсот моряков было. Вы думаете, искали их? Никто и пальцем не пошевельнул. Царь, выслушав доклад морского министра, двумя словами отделался. «Скорблю о погибших», — на рапорте написал. Лишь спустя сорок лет наши водолазы, эпроновцы, нашли «Русалку»…
— Мы тут недавно одного рыбака подобрали, — отозвался Рейн. — На каком языке говорил, я не понял, но его тоже никто не искал. В холодной воде его скрючило. Так он себя ножом колол, помогает от судорог.
Подошел молодой матрос, судя по замасленной брезентовой робе и ветоши в руках — моторист. Постоял, послушал разговор и обратился к Ашаеву:
— Товарищ капитан, а я книгу читал, «Голубая стрела» называется. Там рассказывается, что наш новый реактивный самолет или аварию потерпел, или сбили его над морем. То есть вроде диверсия была. А летчика чужая подводная лодка подобрала. Она как будто за ним охотилась. Потом, конечно, наши военные моряки не дали ей уйти. Вот я и думаю — это на самом деле было или писатель сочинил?
Ашаев понимал, к чему клонит моторист. Неизвестность рождала всевозможные догадки и предположения. Позавчера на побережье распространился слух о том, что охотники слышали в небе какой-то взрыв. Где охотники, какой был звук, никто толком объяснить не мог, а в душу людям закралось сомнение: стоит ли продолжать поиски, если летчик, видимо, погиб?
Наутро — новая версия: нашу воздушную границу нарушил в шпионских целях иностранный самолет. Его атаковал и заставил повернуть назад капитан Куницын, но в бою был сбит и сам.
Ох, эти слухи! Ашаев поморщился.
— Вы знаете, что такое художественный вымысел? — спросил он моториста.
Тот кивнул.
— Ну вот, — продолжал офицер. — Так о чем речь?
Туман поднимался все выше, редел, местами уже появились голубые просветы. Крупная морская зыбь вздымала и опускала катер. Маленькое суденышко то чайкой взлетало на гребень волны, то врезалось в воду почти по рулевую рубку, и тогда на палубе с шипением оседали хлопья пены. Кругом расстилался грозный в своей необъятности, вечно шумящий простор, по-прежнему пустынный, серый и безнадежный.
Неужели и сегодня поиски не принесут никаких результатов? Вполне возможно. Север ревниво оберегает свои тайны. О трагической гибели Руаля Амундсена узнали лишь спустя десять недель, когда на побережье Норвегии был обнаружен разбитый поплавок гидроплана «Латам». Судьба шведских аэронавтов, летевших к Северному полюсу на воздушном шаре «Орел», выяснилась только через тридцать три года. Девять месяцев продолжались полеты советских самолетов, занятых розыском экипажа Леваневского, но до сих пор нет ни одного достоверного факта, который позволил бы приблизиться к истине. А что можно сделать за каких-то три дня? Конечно, сил и средств на обследование района, в котором, предположительно, мог находиться капитан Куницын, сейчас выделено несравнимо больше. Однако стихия остается стихией…
Укрывшись за рулевой рубкой от встречного ветра, Ашаев закурил. Прикинул: с момента аварии прошло шестьдесят шесть часов. Шестьдесят шесть…
— Дым! — крикнул вдруг сержант Тришин. — Смотрите, на горизонте дым!
Призывно звякнул сигнальный колокол, из кубрика донесся возбужденный шум, по трапу торопливо застучали чьи-то сапоги. Обгоняя Ашаева, с кормы спешил сержант Гидьян. Шмыгая красным простуженным носом, он бормотал:
— Где дым? Какой, понимаешь, дым? Наверно, пароход. А то самоходная баржа.
— Пароход! — с иронией отозвался Тришин, напряженно вглядываясь в даль. — Пароходов давно нет, и баржи тут не ходят.
Внезапно Ашаева словно порывом ветра качнуло. Вдалеке, насколько хватает глаз, видны лишь клочья поднимающегося тумана да низко плывущие темные тучи. Местами из них тянутся вниз косые пряди — дождь или снег. Однако среди этих полос был различим черный, как тушь, расширяющийся и бледнеющий вверху столб. Он, словно большой смерч, подпирал пелеву облаков и растекался под ними, будто нефть на воде.
Рейн Янсон между тем подал команду взять курс в том направлении. Катер теперь шел самым полным.
— Ракетницу! — севшим от волнения голосом прохрипел Ашаев. — Быстрее…
Куницыну не давали покоя найденные на острове ягоды. «Ядовитые или нет?» — думал он, чувствуя легкую тошноту и слабое жжение в желудке. Стоило сосредоточиться на этих ощущениях — и они усиливались. «Похоже, ядовитые. Вот не везет… Ну и черт с ними, не сдохну!..»
И все-таки побрел к низкорослому кустарнику, опустился там на колени и, склонясь, стал рассматривать изжелта-красные бусины. Если они съедобные, то их могли клевать птицы. Но они ягод не трогали, иначе остались бы побитые, с порванной кожицей, как это бывает после налета воробьев на виноградник. Хотя какие в этих широтах птицы!
Иван поднял голову, словно ожидал увидеть летающих неподалеку птиц, но заметил другое: на туманном горизонте маячило суденышко. Летчик так долго ждал этой минуты, что не обрадовался, а скорее испугался. Вдруг его опять не заметят, пройдут мимо, как это случалось уже не раз за трое неприютных суток?!
Страх заставил его вскочить. Забыв о боли в ногах, он кинулся было к берегу, но тут же, оступившись, упал. Перед глазами замельтешили радужные пятна, в сгибе под правой коленкой что-то хрустнуло — и по голени прошел огонь. Иван застонал, выругался сквозь зубы, снова поднялся и, прихрамывая, повернул к маяку. Скорее, скорее… Какой крутой склон…
Добежав до строений, капитан обессиленно оперся о ступени металлической лестницы. Кружится голова, плоскость моря опрокидывается перед глазами набок, словно он, находясь в полете, вводит машину в крутой крен. Сердце готово разорваться от напряжения, рот жадно хватает воздух. Передохнуть? Нет, быстрее на вышку! Дать сигнал!
Ботинки кажутся пудовыми гирями. Ступенька, вторая, третья… Не упасть бы… Вот он, обод. Летчик сел на него и, не помня себя, схватил пистолет, высоко над головой поднял руку: выстрелить.
Звонко щелкнул курок. Осечка? Какая осечка, если давно нет патронов. Куницын сипло закричал, взмахивая сжатым в руке пистолетом:
— Сюда-а!.. Сюда-а!..
Судно было еще далеко, но его, кажется, заметили. Уже отчетливо видны контуры катера, мачта…
Он кричал и махал, пока не увидел, как в воздухе одна за другой взвились три ракеты. Потом спустился вниз и пошел к берегу. Под ноги не смотрел, взгляд его был устремлен туда, к людям. Уже можно различить их фигуры, застывшие у поручней, белую полоску на серовато-серой рубке, тускло поблескивающие иллюминаторы.
Катер шел прямо к тому месту, где стоял Куницын, но вдруг разом сбавил ход, отработал назад и повернул в обход мелководья. Он приближался к берегу медленно, осторожно, будто крадучись, его маневры длились пятнадцать — двадцать минут, а Ивану казалось, что им не будет конца. Но вот машину застопорили, кто-то крикнул:
— Иди на нашу сторону!
— Не могу! — сердито откликнулся Иван. Он стоял на ногах во весь рост, но не то что идти — шевельнуться не мог и только измученно дрожал всем телом. Катер между тем, продолжая двигаться по инерции, ткнулся носом в песок.
На остров кинулись люди. Первым бежал Ашаев. За ним — Тришин и все остальные.
— Ваня, дорогой! — воскликнул Ашаев. — Как ты?
— Как лев, — попытался пошутить Иван, но вместо улыбки исказила лицо судорожная гримаса. Он пошатнулся и начал оседать на землю. Его подхватили на руки и понесли.
— А зачем пистолет, товарищ капитан? — осторожно спросил сержант Тришин.
Только теперь Куницын заметил, что все еще держит в руке пистолет. Он догадался, как выглядит со стороны, и ему стало смешно. Да, вид у него… Исхудал, глаза красные, на впалых щеках — щетина, копоть от костра, распухшие пальцы в ссадинах, куртка и брюки мокрые и грязные, а в руке — пистолет. Подумают, что он после аварии самолета и трех суток одиночества не в себе.
— Возьмите, — протянул он пистолет Ашаеву. — Там ни одного патрона…
Пока Куницын переодевался, на остров приземлился вертолет, пилотируемый капитаном Савенко. Борттехник старший лейтенант Тепикин прибежал на катер, растолкал всех, схватил Ивана и долго сжимал его в объятиях. Потом, спохватившись, достал флягу, налил в стакан спирта:
— Выпей. Тебе сейчас вот так надо. Согреешься.
— Нельзя. Ослаб я очень, — колеблясь, запротестовал Иван, но сделал два осторожных глотка, и глаза его потеплели.
В дверях кубрика, негромко переговариваясь, толпились летчики и матросы из команды теплохода. Рейн Янсон принес банку с разогретыми консервами.
— А есть мне сейчас — смерть, — решительно отстранил Куницын вкусно пахнувшие консервы. — Дайте горячего сладкого чая. Да покрепче.
Его растерли спиртом, закутали, усадили в мягкое кресло и подали чайник. Отдуваясь, блаженно жмурясь, он пил стакан за стаканом.
— А у тебя, Иван Тимофеевич, даже насморка нет, — удивленно заговорил Юрий Ашаев, наливая ему пятый стакан.
— Охота, наверно, помогла. На охоте всякое бывает, закалился, — отвечал Куницын и шутливо пошмыгал носом.
— Ну, а домой, охотник, на катере или на вертолете?
— Побыстрее хочется, — признался Иван и вдруг обеспокоенно спросил: — А они там… знают?
— А как же! Всем сообщили, как только увидели тебя. Иначе откуда бы здесь вертолет так быстро появился?
— Тогда — поехали…
И вот Куницын в кабине винтокрылой машины. Когда вертолет, подрагивая всем корпусом, пошел вверх, капитан повернул голову и посмотрел вниз. Море с высоты походило на гигантский котел, наполненный темной, чуть зыблющейся водой; над ним клочьями холодного пара поднимались седые пряди тающего тумана.
Память невольно вернула Ивана к началу его передряг. Он вспомнил свой последний полет, аварию в стратосфере, прыжок с парашютом и немыслимо долгое плавание по холодным волнам в почти игрушечной лодке. Между той точкой, куда он приводнился после катапультирования, и крошечным островком лежало трое суток и, как чувствовал летчик, — целая жизнь.
Басовито гудя мотором, вертолет нес его домой. Уже засыпая, Иван подумал: «Скорее бы на землю». И закрыл глаза. Ему больше не хотелось видеть мутные волны, противные до обморочной тоски.
НАГРАДА
Его снова качало в волнах. Волны на этот раз были странно горячими, а в горячей воде плыть, оказывается, еще тяжелее. Или такое ощущение от простуды?
У него кружилась голова. Он задыхался, жадно хватал раскрытым ртом воздух. Надо же, как не повезло! Торопясь быстрее попасть домой, не захотел остаться на катере, сел в вертолет и опять очутился в море.
«Неужели погибну зазря?»
«Не бывать тому! К берегу, скорее к берегу!..»
Фу, вот она — твердая, незыблемая земля. Теперь лечь и лежать долго-долго, не двигаясь.
Нет, бесцельно валяться нельзя. Ему нужно идти на аэродром.
Он пошел. Пошел, как есть, даже бриться не стал. Спешил, потому что очень соскучился по друзьям, по самолету. Да и к началу летного дня опаздывать не хотелось. Это не в его правилах — опаздывать на службу.
А инструктор старший лейтенант Санников, едва взглянув на него, рассердился:
— В каком виде вы прибыли на полеты?! Объявляю вам выговор!
«Бред какой-то, — тоскливо вздыхал Иван. — Если я еще курсант, то при чем тут море? Если же я не побрился после аварии, то откуда Санников?..»
Так он метался в больничной постели. Наконец догадался, что видит навеянный пережитым сон, и заставил себя проснуться.
Открыл глаза — темно, тихо. Попытался сесть — не смог.
Да ну, не может быть! Уперся локтями, напряг все мышцы, приподнялся чуть-чуть и тяжело, со стоном повалился назад. Еще попытка, еще — безуспешно. Иван беспомощно обмяк. Лицо, шею и грудь покрыла испарина.
Ему стало страшно. Там, в надувной лодке, летчик тоже порой испытывал растерянность, но боролся и находил в себе силы одолеть панику, а тут вдруг его захлестнуло отчаяние. Ладно бы болело что, так нет, боли он не чувствовал, однако и встать не мог, словно у него вынули позвоночник. Тело как будто разделилось на две отдельные части: руки и туловище ощущались, а ног вроде не стало. Что с ногами? Неужели отнялись?
Сдержав стон, Куницын повернул голову. Незнакомая комната. Во тьме возле кровати угадывается стул и накрытая салфеткой тумбочка. Возле противоположной стены — диван, справа — окно, на нем белеют задернутые на ночь занавески.
Постепенно успокаиваясь, он восстанавливал в памяти последние события.
Когда вертолет доставил его на аэродром, к нему подбежали солдаты с носилками. Он нахмурился, решительно отстранил их, не дал никому даже прикоснуться к себе.
— Не надо. Не такой я слабак. Пойду сам.
Не мог капитан допустить, чтобы его, такого грузного, кто-то нес. Неуклюже выбравшись из кабины, постоял немного, даже улыбнулся встречающим. На самом деле он маскировал улыбкой свою слабость и, как ребенок, впервые пытающийся пойти, примерялся, чтобы шагнуть. Потом качнулся и пошел. Готовые поддержать, рядом молча шли товарищи.
Доковыляв до трапа военного транспортника, который должен был доставить его в Ленинград, Куницын присел на ступеньку. Вокруг собрались все свободные от дежурства летчики и техники.
Запыхавшись, прибежал капитан Ляшенко:
— Иван! Это ты?!
— Я…
Обнял, растроганно прижался щекой к щеке, отошел и все смотрел, смотрел со стороны, будто не узнавал.
Если человек, занятый общим с тобой рискованным делом, вышел живым из смертельной передряги, нельзя остаться безучастным. Ведь и ты, и любой другой мог попасть в такой переплет.
А что чувствует сейчас Куницын? О чем рассказывает? Как выглядит?
Хотя Иван бодрился, вид у него был неважный, и все сдержанно молчали. Зачем бередить душу расспросами, ему и без того тяжело.
С Горничевым и Дегтяревым приехали Лида и Сережа. Расцеловав их, Куницын спросил сына:
— А ты знаешь, где я был?
— Знаю, — похвастался своей осведомленностью сын, и глазенки его радостно заблестели: — Ты в речке плавал.
Офицеры, стоявшие рядом, опустили головы. А закадычный друг Ивана капитан Костюченко закрыл руками лицо и, согнувшись, побрел в сторону, стыдясь своих невольных слез. И все же не совладал с собою, как ни крепился. Судорожно, со всхлипом вздохнув, вдруг разрыдался.
— Коля! — догнала его Лидия Сергеевна… — Ну что ты, голубчик… Не надо…
Нервно потирал пальцами лоб полковник Горничев. Врасплох захваченный острым чувством жалости, не знал, что предпринять подполковник Дегтярев. Растерянно покашливали примолкшие пилоты. И Куницын, испытывая неловкость оттого, что поставил всех в какое-то неудобное положение, попытался помочь друзьям шуткой.
— Скажите физруку, — повернулся он к командиру полка, — чтобы мне пятерку по гребле поставил.
— Конечно, конечно, — торопливо отозвался Горничев, и окружающие одобрительно загудели.
А Лиля — молодец. Не плакала. Даже Николая утешала.
Не знал он, чего стоила ей эта выдержка. Она успокаивала Костюченко, а у самой разрывалось сердце, дрожали руки, перехватывало дыхание. Потом, когда за мужем закрылась тяжелая металлическая дверь военного самолета, будто окаменела. Знала: все теперь должно быть хорошо, а ночью опять не могла ни на минуту сомкнуть глаз и рано утром была уже у Горничевых:
— Помогите улететь… Тот понял ее.
— Хорошо, хорошо, сделаю.
Он сам отвез ее на аэродром. Провожая, подбодрил:
— Не волнуйтесь, Лидия Сергеевна. Мне сообщили, вашего супруга будет лечить цвет нашей советской медицины. Лучшие военные врачи, понимаете? А от нас вот это письмо передайте. Вчера на митинге всем полком приняли. Ну-ну, только без этого… Муж — герой, и жене негоже…
Она была в том возбужденном состоянии, когда человек не очень понимает обращенные к нему слова. А едва вошла к Ивану в палату и увидела его на больничной койке, вообще растерялась:
— Не хочу! Не хочу, чтобы ты снова…
«Эх, Лиля, да разве можно летчику без неба!» Иван подумал об этом совершенно спокойно, даже со снисходительной улыбкой. Ему и в голову не приходило, что его могут не допустить к полетам. Вот подлечится малость, вернется в часть — и опять в кабину истребителя.
Между тем врачи Ленинградской военно-медицинской академии были серьезно озабочены состоянием своего подопечного. Всех удивлял уже тот факт, что Куницын остался в живых. Не разразился бы кризис сейчас!
— История необыкновенная, — сказал профессор, генерал-майор медицинской службы Тувий Яковлевич Арьев. — Нечто выходящее за пределы обычного…
В тех же широтах, где оказался после катапультирования капитан Куницын, причем в ту же пору года, во время войны был потоплен фашистский корабль. Всего несколько часов пробыли тогда немецкие моряки в холодных волнах — и все погибли. Почему же никто не уцелел, не доплыл до берега? Ведь у них были спасательные круги и пробковые нагрудники.
До сих пор существовало мнение, что человек, оказавшийся в воде при температуре от ноля до десяти градусов, через полчаса — час теряет сознание и погибает. Даже у самых закаленных ненадолго хватает сил, чтобы плыть: начинаются судороги, окоченение мышц и, наконец, полное, до обморока, безволие, за которым — смерть.
Примеров и доказательств тому — тысячи. Исследуя их, немецкий хирург Гроссе Брокгоф пришел к выводу: тут физиологический барьер, преодолеть который не дано никому.
Капитан Куницын провел в ледяной воде не час и не два, а гораздо больше. Практически — почти трое суток, так как мокрая одежда не защищала его от холода. Теперь возникало опасение, что сильнейшая простуда рано или поздно даст себя знать самым худшим образом. Небольшая степень внешнего обморожения не исключала тяжелого поражения организма.
Под руководством главного терапевта Советской Армии, действительного члена Академии медицинских наук генерал-лейтенанта Николая Семеновича Молчанова был созван консилиум. Куницына поместили в отдельную палату под строжайшее наблюдение лечащего врача.
— Там был один и здесь — один, — шутливо ворчал летчик. — Одичать можно.
Хотя он старался не подавать вида, состояние его резко ухудшалось. К каким только средствам ни прибегали, окоченевшие и отекшие руки и ноги почти не действовали. Особенно ноги. Они не ощущали ни жары, ни холода, ни уколов, и это сильно тревожило медиков. Впрочем, их настораживало даже то, что больной слишком много спал. А он, открывая глаза, смеялся:
— Отсыпаюсь за все трое суток. Как Обломов: сплю и во сне вижу, что спать хочу…
Первыми к нему прорвались военные журналисты. В тот же день о его подвиге сообщило ленинградское радио. Одиннадцатого ноября большая корреспонденция появилась в «Правде». С того дня дежурные уже не могли остановить натиска многочисленных посетителей. Приходили сотрудники научно-исследовательского института и других клиник, военные летчики и пилоты ГБФ, ветераны войны и пионеры. Пришел Асхат Зиганшин, который учился тогда в Ленинграде, навестил трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб. Он преподнес Куницыну модель вертолета с бортовым номером «05». Это была точная копия той самой машины, на которой Ивана Тимофеевича вывезли с безымянного острова.
А букетов ему надарили — целую гору. В комнате стоял аромат осенних цветов — как в оранжерее.
На тумбочке росла кипа газет и телеграмм. От Министра обороны Советского Союза, от начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, от однополчан, из редакций «Красной звезды» и «Комсомольской правды», от знакомых и незнакомых людей со всех концов страны, даже из-за рубежа. Все они, будто сговорившись, называли его скитания по морю подвигом, а самого — героем.
Иван был обескуражен. Какой он герой? Такой же летчик, как Юрий Ашаев, как Коля Костюченко, как все…
— Нет, вы человек необыкновенный, — сказал один из иностранных журналистов. Он все ссылался на Гроссе Брокгофа, и, по его мнению, выходило, будто за те шестьдесят восемь часов советский летчик должен был умереть по крайней мере раз тридцать.
Что тут можно было сказать? Куницын пожал плечами:
— А я, как видите, живой.
— Поздравляю вас, поздравляю. А скажите, что вы испытывали там, в море? Меня больше всего интересует ваше психологическое состояние.
Куницына раздражал этот «психолог». Видит же, что ему и так трудно, но до чего бесцеремонный — дольше всех сидит.
— Знаете что? — с досадой сказал Иван. — Это очень просто. Заберитесь на полчасика в ванну с холодной водой — сразу все станет ясно.
— Еще, пожалуйста, последний вопрос, — не унимался иностранец. — О чем вы думали на втором острове? Ведь вас могли не найти долго, очень долго. Или вы исключали подобный вариант?
— Нет, не исключал. Просто я приказал себе ждать помощи десять дней.
— О-о! Простите, мне это непонятно…
После неловко было читать о сберегаемом им «на последний случай последнем патроне».
— А вы, Иван Тимофеевич, не удивляйтесь, — заметил лечащий врач. — Такой купели никто не выносил. Вот и не верят.
На следующий день полковник медицинской службы Леонид Федорович Волков принес Куницыну книгу французского доктора Алена Бомбара:
— Читали? Очень интересная вещь.
Бомбар изучил истории свыше двухсот тысяч морских крушений. Он утверждал, что потерпевших эти катастрофы убило не море, не голод и не жажда, а страх. Страх перед бескрайним морским пространством, перед грозящей гибелью лишал их воли, гипнотизировал, сковывал, и они, преждевременно прекращая попытки спастись, умирали под жалобные крики чаек, хотя могли бы еще бороться и остаться в живых.
Куницын до того не читал Бомбара. Зато он знал Корчагина и Мересьева, он видел перед собой четверку отважных советских воинов, сорок девять суток боровшихся с океаном. Он был так воспитан, чтобы не опускать рук в самые критические минуты.
— Я летчик, Леонид Федорович…
Он даже не подумал о том, что его ответ кому угодно показался бы странным. Сказал бы: моряк — другое дело, а то — летчик. Рабочее место летчика — небо, да и там он хозяин положения лишь до тех пор, пока находится за штурвалом исправного самолета или хотя бы в лямках раскрытого парашюта. А в море, особенно в штормящем, летчик беспомощен.
Впрочем, было бы неверным забывать о специфике летной профессии. Каждый полет — это всегда поединок пилота со стихией. Тут тебе и ветер, и тучи, и туман. И вообще воздушное пространство сродни морскому. В море — качка и шторм, в небе — болтанка и гроза, под кораблем — глубина, под самолетом — высота. А еще — постоянный риск, ибо на каждом шагу может подкараулить опасность. Все это закаляет характер, учит самообладанию, кует волю.
— Ну и потом я знал, что меня ищут, — добавил Куницын. — Верил.
Волков с уважением смотрел на Ивана Тимофеевича. Крепкий парень, уравновешенный. Интересно, какой он там, в небе, когда его сильные руки сжимают рычаги сверхзвукового истребителя?
А ноги? Врач попытался представить, как пилот работает в самолете ножным управлением, но не смог. Тут его воображение не простиралось дальше велосипедных педалей. Только боевая крылатая машина не велосипед. Нет, не летать, пожалуй, этому человеку, не летать.
Куницын чутко уловил перемену в настроении врача.
— Скоро вы меня отремонтируете? — спросил он. — Надоело уже валяться. Хлопцы летают, а я…
— Видите ли, в чем дело, — мягко сказал Леонид Федорович, — вы человек твердый и воспринимайте все по-мужски. Не исключено, что профессию вам придется поменять.
— То есть как? — привстал Иван. — Ну нет! Пронзительная боль бросила его обратно на подушки.
Казалось, взявшись за ступни, кто-то с силой дернул и начал, как штопор, вывертывать ему ноги. В пальцы, в голени, в колена впивались иглы. Из глаз — не то слезы, не то искры, а Иван вдруг засмеялся:
— Ну вот — чувствую… Ах как колет!
Что было дальше, помнилось смутно. Он долго еще не мог без посторонней помощи повернуться с боку на бок. Каждый день — осмотр, натирание, массаж и противная слабость от зудящей боли. Стыла на тарелке, вызывая тошноту, котлета с рисом, лежали неочищенными апельсины, сестра не успевала менять марлевые салфетки и бинты, однако летчик даже в бреду твердил, что встанет и пойдет. Обязательно!
И он пошел. Сначала с костылями, потом, как шутили подружившиеся с ним больные, на полутора ногах — правая пока отказывалась служить ему. Ходил подолгу, из одного конца коридора в другой. Радостно смеялся.
— Не зря говорят, что в этом заведении человека могут из частей собрать…
В его глазах играли веселые искорки. Он весь так и светился от одной мысли о том, что уже ходит. Значит, будет и летать!
Был еще случай, когда врач попытался намекнуть, что в жизни помимо летной немало других интересных профессий. Иван деликатно согласился и перевел разговор на другую тему. Он думал о своем.
Раньше он жил — смотрел лишь вперед. Как при разбеге самолета перед отрывом от земли. Вот и получилось, что жизнь шла вроде бы самотеком, будущее рисовалось ясным и простым. Главное — хорошо летать, стать летчиком первого класса. Потом наверняка замкомандира эскадрильи назначат. А дальше…
Дальше мечты были туманными, расплывчатыми. Молодой, здоровый, он был неосознанно преисполнен ожиданием чего-то хорошего, радостного. И вдруг — беда.
Беда заставила осмотреться, да и на самого себя взглянуть со стороны. Куда податься, если в самом деле не допустят к полетам?
Работу, конечно, можно выбрать любую. Очевидно, предложат должность штурмана наведения. Решишь на гражданку уйти — и там устроиться помогут. В нашей стране безработных нет, так что нечего беспокоиться о своей судьбе, о том, как прожить с семьей. Но хотелось заниматься не вообще чем угодно, а именно любимым делом. Только любимый труд приносит удовлетворение, делает человека счастливым. Это он осознал теперь отчетливо и твердо решил, что вернется в строй.
Долгое время Иван считал, что главное для пилота — врожденные качества. Он преклонялся и благоговел перед известными советскими асами, мечтал быть хоть в чем-то похожим на них, хотя втайне опасался, что для него, рядового летчика, это недостижимо. Люди, о чьих подвигах он узнавал из книг, казались ему необыкновенными. Неожиданно со многими из них ему довелось познакомиться лично.
Несмотря на свои двадцать восемь лет, Куницын в присутствии таких людей терялся, чувствовал себя мальчишкой, скованно молчал. Постепенно он осмелел и разговорился с Кожедубом. Прославленный летчик расположил его к себе своей простотой.
— Знаешь, тезка, — пробасил он, — я не считаю себя слабым, здоровьем, как видишь, не обижен, но такого крещения, честное слово, не вынес бы.
Присев рядом, Иван Никитович долго беседовал с ним, подробно расспрашивал обо всех перипетиях аварии и необычного плавания. Выслушав, задумчиво протянул:
— Да-а, катавасия! Ну, а чем объясняют твою, так сказать, жизнестойкость врачи? Армейской закалкой?
— С точки зрения медицины все действия Ивана Тимофеевича в море — лечебная физкультура, — сказал полковник Волков. — Он не давал себе ни минуты отдыха. Греб, плыл, ходил, мастерил костыли. Словом, занимался гимнастикой. Это его и спасло. Теплая кровь приливала к охлажденным местам тела и обогревала их. В этом — единственно возможная разгадка…
— Богатырь, а? — засмеялся Кожедуб. Повернулся к присутствующим здесь корреспондентам, посоветовал: — Пишите подробнее. Может, для других пригодится…
И тут Куницын решился завести речь о том, что уже давно занимало его.
— Товарищ генерал, — спросил он, — что, по-вашему, важнее всего для летчика? Талант?
— Да как сказать! — отозвался Иван Никитович. — Талант, конечно, в любом деле нужен. Но ведь мы говорим, что талант — это прежде всего труд. А еще я так рассуждаю… — Раньше на самолете было что-то около двадцати простеньких приборов, сейчас — более двухсот. Раньше так называемых особых случаев нашему брату надо было знать наперед пять — семь, а теперь — около полусотни. Вот и прикидывай, что к чему…
Куницын прикидывал. Выходило одно: нужно учиться.
Об этом страшно было даже подумать. Все, что знал после десятилетки, перезабыл давно. Вряд ли сдать вступительные экзамены в вуз.
А Кожедуб? Он пошел в академию уже после войны, будучи трижды Героем…
Нет, об академии боязно даже мечтать. Ну, да что так далеко загадывать, нужно долечиваться. В конце концов, в части тоже идет непрерывная учеба. Командирская… — Через две недели Куницын прогуливался по коридору уже без костылей. Эти «прогулки» были нескончаемыми: он ходил и ходил, заново тренируя мышцы. Когда ему предлагали отдохнуть, смеялся: от самого летчика зависит, сколько он возьмет вывозных полетов — минимум или максимум.
Выздоравливая, Иван заболел другой болезнью — днем и ночью думал о возвращении в полк.
— Хорошая болезнь, — одобрительно шутил полковник Волков. — Клин — клином.
— Ходить — и никаких гвоздей! — в тон ему отзывался летчик, хотя сам то и дело морщился от боли.
А однажды лечащий врач вошел в палату раньше обычного. Всегда сдержанный, строгий, он был чем-то взволнован. В руках у него была газета.
— Читай! — торжественно произнес он.
— Очередная статья? — усмехнулся Иван. Но пробежал глазами по первой полосе и не поверил сам себе. Строчки прыгали, расплывались. В газете крупными буквами было напечатано:
«УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ЛЕТЧИКА
КАПИТАНА И. Т. КУНИЦЫНА
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
За мужество, стойкость и самообладание, проявленные в сложных условиях при аварии самолета над морем, наградить летчика капитана Куницына Ивана Тимофеевича орденом Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ».
«ЦЕЛЬ ВИЖУ!»
Гроза рождалась на земле. В тихом июньском небе не было ни единого облачка, и гром катился не в вышине, не по горизонту, а снизу вверх. Вверх и в сторону моря. Это с аэродрома один за другим стартовали сверхзвуковые ракетоносцы. Их турбины при включении форсажа извергали ослепительно белое пламя и скрежещущий грохот.
Море при солнечной погоде было видно издалека. Словно огромное зеркало, оно отражало голубое небо и как-бы сливалось с ним. Поэтому трудно было понять, где исчезают уходящие ввысь самолеты: тонут в бескрайней водной шири или растворяются в воздушной синеве. Зато на экране кругового обзора — вся картина беспредельного пространства. Не сверху, а с командного пункта видно все. И летели отсюда в эфир властные распоряжения:
— Тридцать восьмой, взлет!
— Понял…
— Тридцать восьмой, вам курс…
Выключив микрофон, полковник Горничев повернул голову к сидящему рядом штурману наведения:
— Куницын пошел?
— Так точно, товарищ полковник…
Горничев хотел сказать еще что-то, но тут послышался новый запрос:
— «Заря», я — тридцать восьмой, высота…
И почти тотчас помещение командного пункта наполнилось разноголосым гомоном — на связь вышло сразу несколько летчиков. Тактические учения, едва начавшись, приобретали тот боевой накал, когда руководителю полетов только поворачивайся. И Горничев не успел вслух высказать свою мысль о том, что вот летная судьба опять свела его с Иваном Куницыным. А Куницын в этот момент вел истребитель уже далеко над морем. Оттуда, где горизонт затушевывала голубая дымка, вскоре должны были появиться бомбардировщики.
После северной одиссеи Куницына прошло уже несколько лет. Слушатель Военно-воздушной Краснознаменной академии, он был командирован в строевую часть для летной стажировки. А полковник Горничев, который не так давно получил повышение в должности, прибыл сюда для проведения тактических учений. Здесь они и встретились.
— Летаешь, мужик? — в обычной своей манере спросил Горничев, крепко пожимая руку Куницыну.
У летчиков так уж заведено — если долго не виделись, первым делом спросить: «Летаешь?» Это нечто большее, чем приветствие. Летаешь — значит здоров, верен своей мечте, работаешь, и неплохо, иначе тебя давно списали бы из-за профессиональной непригодности. В таком вопросе и мужественная беспощадность равных: не летаешь — значит в чем-то не повезло тебе, но духом падать было бы не по-нашенски, не по-пилотски. И Куницын, хорошо понимая все это, был счастлив ответить:
— Летаю, товарищ полковник…
Говорят, летчику, когда он пилотирует машину, некогда думать о чем-то постороннем: его работа специфична и опасна, поэтому, поднимаясь в воздух, все земное он оставляет на земле. Это и так и не так. Человек, где бы он ни находился и что бы ни делал, повсюду несет в себе все свои мысли и чувства, весь свой внутренний мир. И Куницын, идя над морем, был еще под впечатлением встречи с Горничевым. В памяти невольно оживало прошлое. Тогда, в тот день, он тоже летел над морем и полетами руководил Горничев.
«Летаешь, мужик?..» Думал ли он там, в холодных волнах, что снова будет летать? Думал, и, если на то пошло, эта мысль, рождая злость, прибавляла сил. «Выстоять, выкарабкаться! Ведь я еще так мало сделал…»
— Тридцать восьмой, разворот вправо, крен сорок пять…
— Понял, выполняю…
Цель еще далеко. Ему пока не известно, где она. Но цепкий луч локатора уже поймал ее, и на экране засветилось небольшое пятнышко. Оно, словно бусинка, катится по экрану, оставляя за собой короткий размытый след. Это отметка неизвестного самолета. Его надо перехватить, атаковать, не пропустить к тому объекту, на который он намеревается сбросить свой смертоносный груз. Таково условие сегодняшней тактической задачи.
Пока высота была небольшой, море хорошо просматривалось вглубь. Теперь его поверхность неразличима, но долго глядеть вниз неприятно: темно-зеленая пучина гипнотизирует. Знаешь и чувствуешь, что самолет абсолютно надежен, и все же, вопреки рассудку, ожидаешь падения.
Особенно острым было такое впечатление в первых полетах после приезда в часть. Психологически это объяснимо: не забылся тот, давний полет, когда пришлось катапультироваться. Усилием воли Куницын подавил в себе воспоминания, однако сердце порой трогает знобкий холодок.
Долгий полет над бескрайней водной ширью утомителен. Далекие волны, синева неба, горизонт — все слилось в блеклый голубой туман. Совсем не ощущаешь скорость, теряется представление о своем положении в пространстве. Сказывается еще и то, что летать, учась в академии, приходится не часто: лишь во время летних стажировок.
— Ты и сегодня летаешь, студент? — спросил полковник Горничев, когда они разговаривали на аэродроме.
«Студентами» называют в шутку тех, кто прибывает в строевую часть для прохождения летной практики из академии. Ответственных заданий им обычно не поручают. Куницын, несмотря на длительный перерыв в полетах, довольно быстро восстановил навыки в технике пилотирования, ему разрешили участвовать в тактических учениях, о чем приятно было сообщить своему бывшему командиру.
— Ну-ну, — удовлетворенно отозвался Горничев. — Смотри…
Вспомнилось: «Не посрами, парень, русское воинство». Полковник не произнес этой фразы. Забыл? Нет, очевидно, хотел сказать по-иному: «Не подкачай, покажи, как летали в нашем полку».
«Не подведу!» — думал Куницын и все же волновался. Трудно решать тактическую задачу в аудитории, у доски, не легче и в небе, при поиске и атаке «противника». Здесь мысли и действия должны сливаться воедино, а он еще далеко не ас.
Смущало его и то, что тактические учения, в которых ему неожиданно довелось участвовать, были весьма необычными. Начались они внезапно, и сигнал тревоги застал летчиков врасплох. Одни преспокойно занимались в классах, другие заполняли в штабе свои летные книжки, а некоторые, сменившись с дежурства, отдыхали дома. Вдруг — распоряжение: «Всем на аэродром!» Не успели ознакомиться с обстановкой — над стартовым командным пунктом взвилась ракета: «Воздух!»
Словно вихрь сорвал — слетели с истребителей чехлы. На ходу застегивая гермошлемы, пилоты кинулись к боевым машинам. И пошли, пошли ракетоносцы ввысь, хотя никто не знал, где «противник», откуда, на какой высоте идут неизвестные самолеты и сколько их.
Такова служба авиаторов противовоздушной обороны. Где бы ни находились, что бы ни делали, в любую минуту, по первому сигналу они должны подняться в воздух, встретить и уничтожить тех, кто попытается вторгнуться в наше небо.
Вскоре стало ясно: бомбардировщиков много, очень много. Чтобы отразить их нападение, потребовалось ввести в бой все имеющиеся на аэродроме силы. Очевидно, предвидя это, командир части заранее предупредил Куницына, что полетит и он. А следом за ним стартовал и сам. Его место на командном пункте занял полковник Горничев.
«Вот о такой обстановке и говорят: максимально приближенная к боевой», — рассуждал Куницын, вспоминая рассказы ветеранов войны. Тогда приходилось подчас взлетать навстречу врагу, невзирая ни на что. Не доспал, не доел — потом. Упал самолет, стартующий впереди тебя, горит в сотне метров от аэродрома, проходи над ним и — в бой. Горько, тяжело? Переживать будешь после…
В эфире между тем начиналась невообразимая сумятица. В наушниках, больно стегая по перепонкам, что-то звонко щелкало, хрипело, дребезжало, завывало: «противник» применял радиопомехи. В эту какофонию непрерывно вплетались людские голоса. Одни из них звучали очень громко, совсем рядом, другие — вдалеке, приглушенно, подчас, еле слышно, но те и другие были полны нетерпения, решимости и даже злости.
— Тридцатый, куда тебя несет? Увеличь крен…
— Не понял…
— Удаление…
— Крен, говорю, крен увеличь…
— Смотри, смотри справа…
— «Заря», «Заря», они внизу…
— Атакую!..
Отрывистые команды и выкрики возбуждали, рождали нервное напряжение, заставляли настороженно шарить глазами по сторонам. Часто отвлекая взгляд от приборов, Куницын замечал, что в его полете нет должной четкости — стрелки на шкалах то и дело уходили с нужных делений. Это вызывало досаду. Отстал в летной учебе, ему теперь трудно равняться с теми, у кого за плечами опыт ежедневных тренировок в ведении современного воздушного боя.
Да, летчики здесь — как на подбор. Без преувеличения каждый — ас. Любой, даже самый зеленый, лейтенант наносит неотразимый удар по цели с первой атаки.
О тех, кто постарше, и говорить не приходится. Стартовал как-то один из них ночью, а штурман наведения ошибся в своих расчетах и задал ему неправильный, очень большой радиус разворота для выхода в заднюю полусферу «противника». Словом, повел не туда, куда следовало. А он не проскочил мимо, атаковал. Как? Уму непостижимо: прямо-таки на ощупь. Реактивная струя от самолета-цели чуть слышно, словно кто тронул осторожной рукой, колыхнула истребитель. Летчик тотчас сделал энергичный доворот, поймал мишень лучом бортового локатора и не дал пройти безнаказанно, хотя при слежении ему пришлось перевернуть свою машину на спину.
Дерзость? Бесспорно. Не каждый решится на столь отчаянный трюк в кромешной тьме. Но еще более удивительна профессиональная интуиция, сочетающаяся с мгновенной реакцией.
— Глаза боятся, а руки делают, — с улыбкой сказал Иван и вспомнил: эти слова часто любил повторять отец…
«Глаза боятся, а руки делают…» Вот и сейчас, в полете над морем, он испытывал состояние, о котором можно сказать такими словами. Помимо воли в сердце таилась тревога: внизу холодная морская пучина. Видимость — ни к черту: дымка — точно рассеянный туман. Однако, несмотря ни на что, Иван продолжал вести самолет по заданному курсу, то напряженно всматриваясь в мутную голубизну неба, то переводя взгляд на экран радиолокационного прицела.
Неожиданно его удивила непривычная тишина в эфире. В наушниках только сухие шорохи. Словно и не было сердитых команд, которыми только что обменивались летчики, атакующие «противника». Замолчал и штурман наведения. Значит, воздушный бой окончен? Тогда дальше и лететь незачем.
Куницын поднялся выше. Здесь дымка, разорванная солнцем, поредела, отодвинулась, и вдалеке стали видны в бледно-голубом небе черточки. Это шли возвращающиеся на аэродром истребители. Бомбардировщиков, сколько ни всматривался, он не находил.
Ему стало обидно. Стоило ли спешить, нервничать, тратить силы и горючее лишь для того, чтобы прийти к шапочному разбору и, не встретив «противника», повернуть назад. Или его потому и подняли в воздух, что заведомо знали: вылет будет легким, страхующим? Понадобится — перехватит какую-либо второстепенную цель, а нет — так и не надо.
— «Заря», — вызвал он командный пункт, — «Заря», я — тридцать восьмой. Как меня слышите?
В зале командного пункта относительно тихо. Лишь размеренно гудит включенная аппаратура да в динамике изредка раздаются голоса руководителя полетов, диспетчера, дежурного метеоролога и находящихся в воздухе летчиков.
Бежит вкруговую по экрану выносного пульта зеленая стрелка развертки. Один неторопливый оборот, другой… В центре экрана — своеобразный маленький цветок с лепестками причудливой формы. Это — «местники»: отраженная радиолучом близлежащая местность с расположенными на ней возвышенностями, лесами и строениями, В верхнем левом углу на матовом иоле — россыпь белых бусинок. Все они движутся в одном направлении.
— Наши возвращаются, — докладывает оператор.
На планшете общей воздушной обстановки как бы сами собой появляются пунктирные линии, скопированные с экрана. Там солдаты-планшетисты ведут проводку самолетов — наносят стеклографами маршруты их движения.
Внизу во всю ширину его тянется извилистая линия берега, чуть выше середины — резко изломанные темно-коричневые полосы, обозначающие рубежи перехвата самолетов «противника» истребителями полка, ближе к берегу — красный штрих, поверх которого идет четкая надпись: «Первый рубеж перехвата».
— На севере — трассовый, — слышится голос диспетчера.
Трассовый самолет, или, как его называют военные летчики, «пассажир», ни штурмана наведения, ни оператора не интересует. Он летит далеко в стороне и пусть себе идет, куда ему надо. Не пропустить бы незамеченными бомбардировщики.
— Тихо почему-то, — негромко говорит штурман. — Не видно больше бомберов. — И, повернувшись к полковнику Горничеву, спрашивает: — Может, вернуть последнюю пару?
— Я тридцать восьмой, — оглушительно гремит в этот момент динамик командной радиостанции. — Как меня слышите? Почему молчите?
Летчику нужно давать ответ, и все, кто находится в зале командного пункта, выжидающе смотрят на руководителя учения. Какое он примет решение?
Озадаченно нахмурясь, тот долго молчит, что-то прикидывает, потом сердито произносит:
— Не нравится мне эта тишина…
И снова целую вечность размышляет о чем-то. Наконец, решив одному ему известную задачу, передает в эфир текст: «Ноль второй и тридцать восьмой, барражируйте, наблюдая за воздухом, в квадратах двести — сорок три. Возможно появление новой группы «противника».
Полковник Горничев — старый, стреляный воздушный волк. Он знал: не должно, чтобы бомбардировщики, рассчитывая прорваться сквозь заслон истребителей при безоблачной погоде, ринулись скопом. Так и получилось: они шли волна за волной, большими и маленькими группами с разных направлений. Но и это было еще не все. Какой же уважающий себя командир не прибережет напоследок решающий козырь?
Первый налет, который немного затянулся, был отражен. Но что последует дальше — этого полковник еще не знал. Предполагал: поскольку ставка на внезапность бита, «противник» может предпринять еще одну коварную попытку — нанести очередной удар в тот момент, когда истребители, выработав горючее в баках, посыплются на посадку.
Горничев был почти уверен, что произойдет именно так, но время шло, первая группа ракетоносцев уже приземлилась, техники и механики снаряжают их к повторному вылету, а небо остается пустым. И экран локатора чист, как в телевизоре, включенном в час, когда нет передач.
В голову лезли посторонние мысли. Вместо того чтобы сосредоточиться, отыскать в своих предположениях уязвимое место и найти верное решение, полковник ловил себя на том, что думает о Куницыне. Пора бы ему, казалось, более сдержанным стать, а он все такой же — азартный, нетерпеливый. Вернулся тогда, едва подлечившись, в часть и тут же примчался на аэродром, медицинскую книжку сует: «Видите — годен к полетам без ограничений… Разрешите приступить к работе?» И тут не успел после старта высоту набрать — подавай ему «противника».
— Товарищ полковник, мы потеряли тридцать восьмого, — испуганно доложил вдруг штурман наведения.
— Что? — порывисто обернулся к нему Горничев.
«Этого еще не хватало! И опять — над морем», — поморщился он, но вслух ничего не сказал, мысленно ругнув себя за минутную слабость, вызванную невольной ассоциацией с давним неприятным случаем. Ведь сейчас для тревоги пока что не было особых оснований. Ну, исчезла с экрана метка от самолета Куницына, так это ничего не значит. Возможно, автоматика локатора забарахлила или оператор что-то напутал. Через минуту-другую все выяснят. Успокаивая себя, полковник обыденным, ровным голосом вызвал летчика на связь:
— Тридцать восьмой, как меня слышите? Прием…
Ответа не было. На командном пункте все молчали. Молчал и динамик. В наступившей тишине громко стучали самолетные часы, вмонтированные рядом с другими приборами в пульт руководителя полетов. Большая секундная стрелка начинала второй круг…
Получив приказание барражировать, Куницын положил самолет в мелкий вираж, мягким движением рулей зафиксировал крен. В холодном, незыблемом воздухе машина шла легко, ровно, будто скользила по невидимым рельсам. Можно было расслабить мышцы, откинуться к бронеспинке и не спеша осмотреться, но летчик не сделал этого, продолжал сидеть, чуть наклонясь вперед. Он злился на себя: не выдержал, начал, словно какой-нибудь новичок, тормошить штурмана своими глупыми запросами. Ведь командир предупреждал, требовал не засорять эфир ненужными переговорами.
«Теперь слова не пророню, — казнил себя он. — Надо будет — сами скажут, что дальше».
В пустом небе плавный полет был почти неощутим, и пилоту казалось, что он не летит, а плывет в огромном аквариуме. Внизу под ним, резко отделяясь от просвеченной голубизны, висел, словно взболтанный осадок, сизый туман. Там, скрытое от взгляда, лежало море.
Сверху все сильнее припекало солнце, и, хотя термометр показывал, что за бортом минус пятьдесят шесть, в герметичной кабине становилось жарко. Дышать приходилось кислородом, но даже под маской острее ощущались специфические запахи кожи и авиационного лака, которым были покрыты приборная доска, панели и рычаги.
Замкнув круг, Куницын почувствовал, что истребитель легонько вздрогнул, войдя в реактивную струю, оставленную своими же двигателями. Это вызвало удовлетворение: вираж получился идеально правильным. И тогда Иван, поскольку барражирование предоставляло ему известную свободу действий, решил завернуть покруче.
Начать новую фигуру он не успел. Там, в сизом осадке, что-то тускло блеснуло. Самолет? И большой. Не истребитель. Значит, чужой?
Профессиональный опыт подсказал: не торопись. Однажды нечто подобное уже было. Тогда море вот так же сливалось с туманным небом, и он, ведя поиск цели, принял за самолет какое-то суденышко. Оно расплывчато маячило вдалеке, ни дать ни взять висело в воздухе. Гонясь за ним, можно было запросто врезаться в волны. Спас своевременный взгляд на приборы: высота катастрофически падала.
Остерегаясь повторения прошлой ошибки, летчик чуть накренил машину и неотступно смотрел в ту сторону, где только что заметил подозрительный блеск. И вдруг точно ток прошел по всему телу: крадучись над самым морем и маскируясь густой дымкой, там тяжело полз ширококрылый бомбардировщик. Куницын, не мешкая, бросил истребитель в пике.
«Ну и наглец! — восхищенно думал он о «противнике», устремляясь за ним. — Надо же, выбрал момент: перехватчики на дозаправку ушли, а от локаторов на малую высоту ускользнул. Наш командный пункт его, конечно, не видит».
Последняя мысль отрезвила: надо немедленно сообщить руководителю полетов. Но что это? Слева, чуть позади, целая группа…
— Тридцать восьмой, вы меня слышите? — сказал вдруг кто-то очень знакомым голосом. Еще не сообразив, чей это запрос, Куницын почувствовал: он не один. И сразу спокойнее стало на душе. Все будет в порядке.
— Подо мной — группа и отдельный самолет. Идут в вашу сторону.
Теперь — вперед, в бой. Бить сначала по ведущему группы. В сегодняшней игре он — ферзь. А тот отдельный самолет — отвлекающий. По нему ударит командир, вон его истребитель пикирует параллельно, значит, он тоже заметил этого хитреца…
Стремительно неслась навстречу полоса туманной завесы. Зло и весело звенели турбины. От большой скорости фюзеляж пронизывала мелкая дрожь, и по рукам тек горячий щекочущий трепет, заставляя напрячь все мышцы, как перед дракой. Но, едва нырнув в мутную дымку, Куницын вздрогнул и испуганно потянул руль глубины на себя: впереди жадным зеленым омутом зловеще полыхнуло море.
Нет, так нельзя. Тут шутки плохи. Не успеешь сказать «мама» — воткнешься в волны. Надо пикировать с меньшим углом. Но где бомберы? Только бы не изменили курс: попробуй потом поищи в этой серой мгле!
Тяжелыми толчками билось сердце. В груди медленно таял неприятный холодок, но мысли были ясными, трезвыми. Идти вдогон, атаковать с короткой дистанции — так будет вернее. Вот бы еще командный пункт подсобил…
— «Заря», я тридцать восьмой, наводите.
«Заря» долго молчала, потом штурман виновато пророкотал:
— Тридцать восьмой, смотри сам, понимаешь, сам смотри…
Что ж, придется надеяться лишь на себя, для локаторов тут мертвая зона. Шутка ли — бомберы над самыми волнами жмут. Он еще раз подивился мастерству и смелости тех незнакомых ему летчиков, чьи тяжелые машины шли бреющим полетом над водной ширью, и, настигая их, передал в эфир:
— Цель вижу!
А еще через секунду почти выкрикнул:
— Захват!
Летчик произнес это слово, имеющее для истребителей-перехватчиков особый смысл, таким тоном, будто издал боевой клич. Вы хитры? Ну, так и я тоже не лыком шит. Сейчас покажу, где раки зимуют!
Большое дело — уверенность в себе. Она пришла вместе с ощущением полной слитности с истребителем. Лететь с невероятной скоростью вдогон за «противником», не видя черты горизонта и не глядя на пилотажные приборы, — это надо уметь. Куницын почувствовал: «Умею!» Он схватывал взглядом, как птица, все сразу: и матово-белые силуэты бомбардировщиков, и расстояние до них, и едва различимые оттенки дымчато-голубого пространства над морем, и еле уловимые колебания своего самолета, ведомого им в атаку.
Наметанным взглядом определил: истребитель вышел на дистанцию действенного огня. Прищурясь, в последний раз уточнил прицел, как стрелок перед спуском курка, затаил дыхание и нажал гашетку.
Атака была ошеломляюще внезапной и отчаянно дерзкой. Летчик вложил в нее весь жар души, азарт молодого сердца, накопленное годами боевое мастерство и страстное желание победить. В его порыве слились воедино вдохновение, русская удаль и трезвый расчет. Теперь бомбардировщикам, если они и заметили его, не уйти, не увернуться, не отбиться. До этого момента малая высота была их союзником, а сейчас близость волн сковывала возможность маневра. Они стали просто мишенями.
«Та-та-та… Та-та-та-та…» — сухо застучал фотопулемет. Его стрекот напоминал звук включенной электробритвы, но для бомбардировщиков он был раскатом пушечных очередей.
Левый крайний отстал — тем хуже для него. Теперь — по правому ведомому. Вот так, вот так, хорошо!
Смотри, а они еще не видят. Нет, стрелок ведущего заметил. Проснулся. Ишь спешит, пушки развернуть. Поздно, голубчик…
Мелко вздрагивая, истребитель с шелестящим звоном шел по крутой глиссаде, точно борзая с горы в неистовом заячьем гоне. Куницын дал по впереди идущему бомбардировщику последнюю прицельную очередь и, пройдя над ним, боевым разворотом взмыл вверх, к солнцу. Легкая перегрузка легла на плечи, как руки доброго друга. Бой выигран. Взгляду приветливо открылась ласковая, почти акварельной нежности синева. Огромное дымчато-зеленое море, отступая, опрокинулось своей округлой стеной и исчезло из виду, растворяясь в мареве дымки. Перед летчиком снова распахнулась необъятная солнечная даль.
ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ РАССКАЗЫ
ПОЛЕТ НА ЗАРЕ
Раннее весеннее утро казалось Андрею Дубнову необыкновенным. Он мог поклясться, что никогда еще не видел такого рассвета. Однако его никто ни о чем не спрашивал, да и сам он на какой-то момент словно забыл обо всем на свете. Стоял, смотрел на восток и радостно улыбался.
Вообще с некоторых пор ученик летной школы, а сокращенно учлет Андрей Дубков был безмерно счастлив. Когда его приняли в летную школу, он испытывал такое чувство, будто незаслуженно попал с грешной земли в рай. А уж сегодня…
Сбывается, сбывается самая большая, самая невероятная, почти сказочная его мечта! Инструктор, красный военный летчик, а сокращенно красвоенлет Иван Федорович Лихарев сегодня начнет учить его летать.
— Не робей, Андрей-воробей, — пообещал он Дубкову вчера вечером. — Ложись и спи спокойно, чтобы голова была ясной. Перед полетом выспаться — первое дело. Понял?
Андрей и впрямь был чем-то похож на воробья. Посмотришь — вечно какой-то взъерошенный, шебутной, готовый смело дать отпор любому обидчику. И ходил быстрыми, короткими шагами, точно прыгал грудкой вперед — решительно и задиристо. Он не знал, да и не задумывался над тем, как выглядит со стороны. Ему было приятно, что инструктор разговаривает с ним по-свойски, словно с ровесником, и учлет бойко отвечал:
— Понял, товарищ красвоенлет. Чего ж тут не понять? Перед работой всегда сил надо набраться. Так что буду спать ровно убитый.
— Тогда полный порядок, — дружелюбно кивнул Лихарев. — Отоспись всласть, а завтра — прокачу. Покажу тебе, как над свободной Россией аэропланы летают…
Вспоминая вчерашний разговор с инструктором, Андрей смущенно повел плечами. Неспроста Иван Федорович успокаивал его. Видел, что ему боязно.
Конечно, если не кривить душой, то лететь страшновато, и спал он нынче не так беззаботно, как обещал. Но он полетит! Его же никто не заставляет, он сам решил выучиться на летчика. И станет!
Группами и поодиночке мимо Дубкова проходили механики и мотористы. Учлет принял строгий и серьезный вид. Ничего он не боится. Ни капли. Это от ночной сырости зябко, вот и пробегает временами по телу легкий озноб.
Заря еще не румянилась, но восточный край неба позеленел и становился с каждой минутой все светлее. Взгляду постепенно открывалось поросшее травой, просторное и ровное, как пойменный луг, летное поле. Невидимые в туманном свечении прохладного воздуха, пробовали свои голоса жаворонки.
Далекие, нездешние воспоминания стеснили Андрею сердце. Так, бывало, задолго до восхода солнца выходил он за околицу родной деревни на сенокос…
По дороге проползла пароконная подвода. На телеге лежали две большие железные бочки.
— Что привезли?
Керосин вперемешку с газолином, спирт, ацетон, бензол, толуол — чего только не заливали в баки аэропланов! «Авиаконьяк», «казанская смесь» и прочие вонючие суррогаты разъедали резиновые трубки бензинопроводов. От них покрывались язвами руки, засорялись жиклеры карбюраторов, быстро перегревались и глохли моторы. А иногда и вообще авиаторы целыми неделями сидели без горючего. Чем же порадует ездовой нынче?
— Но, милый, но! — будто не слыша, понукал лошадей незнакомый возница и лишь после повторного оклика вроде бы нехотя отозвался: — Бензин сёдни, бензин…
— Вот спасибо! — обрадованно сказал Андрей. И повторил: — Вот спасибо-то вам!
Он круто повернулся и зашагал к ангару. Его охватило деятельное, давно не испытываемое возбуждение. Будут, будут полеты! Вон какая на траве ядреная роса. Это к вёдру. И рассвет ласковый, тихий, без ветра. А самое главное — бензин. Чистый, что твоя слеза, авиационный бензин. Воистину все складывается как нельзя лучше!
Мотористы и учлеты выводили из ангара аэроплан. Они катили его задом наперед. Двое из них взвалили себе на плечи хвост и шли направляющими, остальные, упираясь руками в крылья, толкали машину за ними.
— Взяли! Иш-шо взяли! — резво командовал механик и тут же предостерегал: — Тиш-ша! Ровнее пихайте, черти, ровнее! От, битюги…
— Ишь облепили! — засмеялся Дубков. — Как мухи пряник.
Он тоже взялся за холодное ребро плоскости, помог товарищам вывести аэроплан наружу. Потом, не отдыхая, схватил два огромных бидона, чтобы идти за бензином.
— Ты куда? — остановил его моторист.
— Знамо куда. Али не видишь?
— Тебе не велено.
— Это почему? — насторожился Андрей, не выпуская из рук бидоны.
— Не трать силы. Тебе лететь сёдни, — пояснил моторист. — А пока гуляй…
Дубков взглянул на него с благодарностью. В груди шевельнулось теплое чувство к этому человеку. Лоб, щеки и даже кончик носа у моториста вечно измазаны копотью, порой без смеха глядеть нельзя. Но башковитый — куда! Все знает: и какая шестеренка за какую цепляется, и для чего самый малюсенький шурупчик служит. С ним всегда полезно рядом работать. Ежели чего не знаешь, подскажет, поможет.
«Хороший мужик, — думал Андрей, — душевный…» В голубоватой мгле рассвета перед ним вырисовывались очертания аэроплана. Издали четырехкрылая машина напоминала стрекозу. Два маленьких, велосипедного типа, колесика в сумерках были не видны, и невольно думалось, что там — лапки. Над ними — толстенькая черная головка мотора, а дальше — суживающееся к хвосту туловище. Ей-ей, стрекоза!
Когда Дубков попал на аэродром в первый раз, у него от радостного волнения пересохло во рту. Это ж скажи кому — не поверят: можно подойти к железной чудо-птице, рассматривать ее вблизи, даже потрогать.
И он не утерпел, потрогал: ласково, как, бывало, коня, погладил зеленое крыло. Но погладил — дернулся всем телом, будто сзади его дубиной огрели. Похолодел: блестящая, стальная с виду обшивка прогнулась, ладонь ощутила не металл, а обыкновенное крашеное полотно. У Андрея из такого штаны. Да мыслимое ли это дело — подниматься на этой хлипкости в небо?!
Теперь-то Дубков, конечно, знал, что к чему. Аэроплан, если не считать винтомоторной установки, совсем не железный. Лишь возле кабины плоскости жесткие, а вообще они обтянуты лакированным холстом. Действительно самодельная стрекоза. Но как бы там ни было, на ней летают. Высоко-высоко летают, аж под облаками.
А это здорово — махнуть к самым тучам! Жаль, не учили пока. Ничего, научат…
Размышления Дубкова прервала громкая команда.
— Строиться! — крикнул механик. — В две шеренги становись!
Андрей с заколотившимся сердцем побежал к стоянке. Учлеты строились там для встречи инструктора.
Обычно летчики являлись на аэродром последними, когда все уже было готово к началу полетов. Красвоенлет Лихарев считал столь поздний приход барством. Он спешил на летное поле затемно и не прощал опозданий никому из подчиненных.
Механик четко отдавал ему рапорт. Затем они вместе осматривали аппарат и опробовали мотор. Если случались неполадки, Иван Федорович закатывал рукава и первым лез под закопченный, забрызганный маслом капот.
На учебной машине мотор стоял ротативный. Раскручивая пропеллер, он всей своей громадой вращался на неподвижном валу, и тогда аэроплан трясся словно в лихорадке.
Лихарев называл пропеллер воздушным винтом. Такое название было более понятным. На пароходе — гребной винт, тут — воздушный.
А еще Дубков мысленно сравнивал пропеллер с веслом. Хочешь быстрее плыть — старайся быстрее грести. Андрей по опыту знал, как это тяжело, и его не удивляло, что поутру мотор долго не заводился. Спросонья ему не хотелось приниматься за свое нелегкое дело.
Когда Лихарев сел в кабину, моторист громко крикнул:
— Контакт!
— Есть контакт! — послышалось из аэроплана.
Это означало, что летчик включил зажигание. Механик и его помощник тут же рывком толкнули пропеллер по рабочему ходу и мигом отскочили вбок. Иначе нельзя. Замешкаешься — лопасть отрубит пальцы. А то, как сабля, раскроит череп.
Иногда проворачивать воздушный винт приходилось по многу раз подряд — мотор капризничал. Однако сейчас завелся с первой попытки. Выдохнув из патрубков огромный клуб сизого дыма, он затрещал, загрохотал, точно телега с коваными колесами по булыжной мостовой, затем, набирая обороты, загудел певуче и звонко.
От оглушительного гула у Андрея заломило в ушах… «Во гудёт! — морщась, думал он, а губы сами собой растягивались в довольную улыбку: — Горластый — страсть!»
Постепенно гул стал понижаться, потом перешел в спокойный размеренный рокот и как-то неожиданно оборвался. Наступила тишина. Лишь где-то вдалеке хрипло лаяли собаки.
Положив руки на борта кабины, Лихарев поднялся с пилотского кресла, легко перенес свое грудное тело на центроплан. Эта часть крыла, обшитая крашеной фанерой, была специально предназначена для прохода. Инструктор уверенно шагнул к ее заднему скосу, пружинисто соскочил наземь и весело произнес:
— Вот что значит чистый бензин. На нем и мотор любо-дорого послушать. Как механизм Павла Буре.
Механизмом Павла Буре красвоенлет называл свои часы. А они у него были особенными. На серебряной крышке — надпись: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИК».
Влюбленно смотрел Дубков на инструктора. Вот он какой! В комбинезоне вроде механик или моторист, а оденет гимнастерку — на левом рукаве нашивка: парчовые крылышки и пропеллер. Летчик. Настоящий. Жаль, не все еще про его часы знают. Он не фасонистый и хвастать не любит, а часы — это все равно что орден. Награда. За то, что в небе беляков бил. В гражданскую.
Андрей однажды эти часы в руках держал, к уху прикладывал. Тикая, они весело отзванивали. Не так, конечно, как мотор, но похоже…
Подойдя к учлетам, Лихарев негромко скомандовал:
— Становись!
После пробы мотора инструктор разрешал механикам перекурить, а сам беседовал с учениками. Они выстраивались перед ним в одну шеренгу. Неторопливо прохаживаясь вдоль строя, Лихарев объяснял, что и как нужно будет делать в полете.
— Ну вот, значит, это самое, — откашливаясь, начал он, — на разбеге повело влево. Так ты заметь впереди дерево или столб и правь на него. Трясет, подкидывает — ручку не выпускай. Прекратились толчки — летишь, стало быть, да. Теперь смотри, чтобы ровно над землей машина шла. Не надо ее это… волновать. Ежели дергаешь, она, ну, не любит. Понятно? Вот.
Говорил Лихарев нескладно, сбивчиво. Но вскоре увлекся, голос его зазвучал громче, увереннее, серые, с прищуром, глаза поблескивали холодным огнем. «Именно такими, — думал Дубков, — и должны быть глаза у летчика. Стальными. Отчаянными».
Коротко, как бы оценивающе, взглядывал Иван Федорович то на одного, то на другого ученика. Когда он смотрел на Андрея, выражение лица у него было таким, будто он вот-вот добродушно усмехнется. Однако улыбался красвоенлет редко, и, хотя относился к учлетам вроде бы простецки, был он очень требовательным, а порой и жестким. Велит что-то сделать — расшибись, но сделай. Повторять приказаний инструктор не любил.
Вот, словно рассердясь на кого-то, он насупился, погрозил пальцем:
— Взлетел — будь все время настороже. Все время. Опытному летчику проще, тот, это самое, телом, да, телом своим ощущает, что к чему. А новичок — он и есть новичок… Он со страху не видит, куда самолет клонится, вот.
Почти все авиаторы именовали крылатую машину аэропланом, аппаратом тяжелее воздуха, а еще бипланом. Лихарев называл ее самолетом.
«Здорово! — думал Дубков. — Все равно как самокат. По-нашенски. А то скажут тоже — биплан, моноплан. Пойми попробуй…»
— А править вообще-то не сложно, — продолжал инструктор. — Хочешь вправо повернуть — педаль и ручку вправо жми. Влево — тогда это, наоборот.
С теорией полета ученики были знакомы. Кое-кто и «воздушное крещение» уже получил — летал с инструктором. Но все — и те, кто поднимался в небо, и те, кто об этом только мечтал, — слушали Лихарева внимательно, боясь пропустить что-нибудь важное. А он, взглянув на Дубкова, прищурился, словно затаил под бровями усмешку, и подытожил:
— Одним словом, это… самолет — что твоя коняга. В какую сторону ехать, туда и возжу тяни.
Шеренга учлетов качнулась, беззвучно выражая одобрение рассказу своего наставника. Мудреная штука пилотаж, а вон как все просто.
— Только вот что, хлопцы. — Голос инструктора снова стал строгим. — Машина — она машина. Ежели и лошадь, то это… Ну, норовистая. Да. И поводья крепко держи. Иначе — хана. Вырвется, — Лихарев крутнул кулаком, — штопор. Понятно? Вот…
Слушая инструктора, Андрей вспомнил недавнюю аварию на аэродроме. Аэроплан шел по прямой, но вдруг, как большая рыба, вильнул хвостом и крутыми витками устремился вниз. При ударе о землю от него осталась лишь груда горящих обломков, и пожарники еле вытащили из пламени полуживых летчиков. Они пытались вывести машину из штопора, но не успели: не хватило высоты.
Тем двоим еще повезло: остались живыми. А вообще пилоты бились часто. Бывали недели — каждый день кто-нибудь гробился. Тогда похороны приурочивали к субботе, потому что на поминках многие напивались и наутро летать не могли.
Не летали и в понедельник — день тяжелый. Не летали тринадцатого — чертова дюжина. Дурным знаком считалось встретить бабу с пустыми ведрами и черную кошку. Нельзя было перед полетами бриться, чистить сапоги, фотографироваться. Больше того — любой пилот мог отказаться от вылета без всяких объяснений. Видел, мол, плохой сон, и все тут.
Некоторые летчики брали с собой в полет талисманы. Правда, пока лишь один из них, бывший поручик Константин Юрьевич Насонов, мог похвастаться, что его амулет — лошадиная подкова — приносит ему счастье.
— Чепуха! — сердился, слыша это, красвоенлет Лихарев. — Просто практики и знаний больше.
— Практика у вас тоже немалая. И над собой вы работаете упорно, я знаю, — возражал Насонов. — Впрочем, если хотите, не верьте. Но где-то в глубине души вы сами сознаете, что летчиком нужно родиться. Это уж бесспорно. Кому-кому, а вам лучше других известно, кто есть летчик.
— Как же, как же, наслышан. Сначала — бог, потом — летчик, все прочие — ниже. Так, да? Иначе говоря, вы — избранный? — прищурясь, спрашивал Лихарев, но тут же сердито взмахивал кулаком: — Ерунда! Я научу летать любого здорового человека с ясной головой и хорошим зрением…
Насонов снисходительно пожимал плечами. Дескать, поживем — увидим. Но учлеты верили Лихареву. Стал же летчиком он, в недавнем прошлом простой рабочий аэропланного петербургского завода Щетинина и всего-навсего нижний чин старой армии. Станут и они.
«Править вообще-то не сложно. В какую сторону ехать, туда и возжу тяни», — повторял про себя Дубков слова Лихарева, а пылкое воображение молодого учлета воскрешало картины пережитого.
Еще в те дни, когда ученики начали осваивать рулежку аэроплана по аэродрому, Лихарев установил для них правило: каждому забираться на ангар и, сидя там, глядеть с высоты нескольких метров вниз. Он считал, что таким образом новички быстрее научатся определять расстояние до земли. А это очень важно при снижении и выравнивании самолета перед посадкой.
— Так вы затащите туда аэроплан, — ехидно ухмыльнулся Насонов. — Куда реальнее выйдет!
— Надо будет — затянем, — спокойно ответил красвоенлет. Если он принимал какое-то решение, то ничто не могло заставить его отступить.
Рулили учлеты под наблюдением инструктора попеременно, и тот, кому выпадало садиться в кабину последним, на крышу отправлялся первым. Дубков в группу Лихарева пришел позже остальных. Поэтому, объявляя очередность рулежки, Иван Федорович чаще, чем другим, говорил ему:
— Ты у нас, Андрей, самый молодой. Тебе надо сперва глазомер как следует отработать. Так что давай на насест.
Насестом он называл толстую жердь, прибитую поверх дощатой стрехи ангара. Упрись в нее ногами — сиди хоть до скончания века. Удобно.
На земле, в полусотне шагов от стены, Лихарев колышком обозначил место, куда должен быть направлен взгляд учлета. Однако долго смотреть в одну точку Дубков не мог. Он крепился, ругал себя нехорошими словами, но глаза невольно косили в ту сторону, где с громким жужжанием бегали самолеты.
Когда Андрей наблюдал за крылатыми машинами издалека, да притом чуть сверху, они казались ему еще больше похожими на быстрых стрекоз. А иногда чудилось, что это огромные кузнечики. Они оглушительно стрекотали, резво подпрыгивали, поднимались выше домов, выше самых высоких деревьев, потом, шурша крылышками, легко опускались на зеленую лужайку и сливались с ней своей окраской.
До недавнего времени порядка в движении аэропланов было, пожалуй, ровно столько же, сколько и в порхании взаправдашних стрекоз. Каждый пилот стартовал откуда хотел и садился куда вздумается. Насонов — так тот однажды вознамерился взлететь прямо из ворот ангара.
Сделать это ему не дал Лихарев. Он встал перед бешено вращающимся пропеллером и скрестил над головой руки, требуя выключить мотор.
— Уйдите! — заорал Насонов, высовываясь из-за козырька кабины. — Вы что, с ума сошли? Прочь с дороги!
Красвоенлет даже не шелохнулся. Он дождался тишины и негромко, но внятно произнес:
— Стыдитесь, Константин Юрьевич. Так стартовать преступно.
Простые смертные — механики и мотористы — от изумления прямо-таки онемели. Они уже хотели вытаскивать из-под колес аэроплана тормозные колодки и теперь растерянно смотрели на человека, который безрассудно сунулся под воздушный винт. Да и вообще, слыханное ли это дело — поправить в чем-то Насонова?! Насонов — ас. Он не чета любому другому инструктору.
Действительно, бывший поручик, не занимая командной должности, был тем не менее на каком-то особом положении. К нему относились настороженно и восхищенно. Его ценили за безаварийную летную работу и отчаянно дерзкий пилотаж. Во многом, что касалось теории и практики полетов, с ним нередко советовался даже начальник школы.
Словом, Насонов был фигурой. Он имел странную, почти неограниченную власть буквально над всеми. Это была власть мастера над подмастерьями.
— Что с вами говорить! — с трудом сдерживая себя, сказал этот надменный ас Лихареву. — Вы же педант. Понимаете? Педант.
— Эх, Константин Юрьевич, — укоризненно отозвался красвоенлет, — не вызывайте меня на ответную резкость. И учтите еще вот что: анархия в авиации куда страшнее педантизма.
— Боже, вы еще и бестактны, — презрительно процедил Насонов, но лицо его побледнело. Незадолго перед тем он то ли в шутку, то ли всерьез обмолвился, что был анархистом-индивидуалистом. Теперь эти слова обернулись против него. Механики и мотористы не пытались скрывать насмешливых улыбок, а один из них, глядя вслед уходящему Лихареву, с одобрением заметил:
— Бедовый мужик! Такому палец в рот не клади… На должность инструктора Лихарев был прислан из боевого авиаотряда. Он горячо стоял за то, чтобы и здесь, в школе, были как можно быстрее введены четкие военные порядки. Однако старые инструкторы всячески препятствовали любым нововведениям и продолжали летать так, как привыкли.
В начале мая из-за этого стряслась беда. Тяжелый, неповоротливый «эльфауге» в момент приземления наскочил на взлетающий учебный самолет «авро» и разнес его в щепки. Погибли сразу четыре человека. Лишь после такой нелепой катастрофы на аэродроме начали кое-что менять.
По чертежу, сделанному Лихаревым, летное поле поделили на длинные прямоугольники и квадраты, обозначенные невысокими красными флажками. Широкие параллельные полосы служили для рулежки и старта.
В квадратах аэропланы останавливались для дозаправки бензином и маслом перед повторным вылетом. Вскоре на этих площадках оказалась начисто, до черноты, выбитой трава, и с чьей-то легкой руки их стали называть пятачками.
Ближе всех к ангару был пятачок, с которого стартовал аппарат Насонова. Длительного руления по земле этот ас не признавал, считая такое занятие пустой тратой времени. Да и в воздухе он возил учлетов не так, как другие инструкторы. Обычно с новичками все летали по большому кругу над аэродромом, на что уходило шесть — восемь минут. Насонов, поднимая ученика в небо, уводил аэроплан далеко в сторону и крутил там фигуры.
— Запугивает людей! — сердито ворчал Лихарев. Но что он мог сделать? О каком-то едином порядке в летной учебе никто и не помышлял. Школа была создана всего два года тому назад. Инструкторы пытались найти общий язык, нередко до хрипоты спорили о правилах обучения, но каждый придерживался того метода, который казался ему наиболее правильным.
Многое в авиации было еще необъяснимо. Летит иной раз машина вроде нормально, ровно, но вдруг клюет носом и с ревом несется к земле. Если пилот оставался в живых, он утверждал, что провалился в глубокую воздушную яму.
На аэродроме постоянно дежурили врач и фотограф. К их помощи прибегали главным образом для составления протокола о катастрофе. Впрочем, заключение было всегда одно: «Причину установить не удалось».
Летать приходилось на старых, потрепанных аппаратах, чудом уцелевших в гражданскую войну. Некоторые аэропланы были собраны из двух-трех покалеченных. О парашютах вообще знали понаслышке. Их шили из шелка, а этого дорогого материала в разоренной стране не было.
Что же могло спасти авиатора в случае аварии? Только одно — умение удержать самолет от падения в полете и не дать ему опрокинуться в момент приземления. Этому прежде всего и учили.
Подняться в небо самостоятельно ученику разрешали после пятидесяти — шестидесяти взлетов и посадок с инструктором. Более способным давали тридцать пять — сорок вывозных. Однако многим не хватало и сотни.
— Не дано, — говорил про таких Насонов. — Органически не дано. Нет птичьего инстинкта.
Для того якобы, чтобы разом положить конец бесцельному обучению, бывший поручик устраивал начинающим учлетам жестокое испытание. Он буквально изматывал в воздухе необлетанных, робевших перед ним птенцов головокружительными фигурами.
На днях после первого же полета один из учеников Насонова не смог подняться с пилотского кресла. Когда аэроплан подрулил к пятачку, этот молоденький паренек, содрогнувшись всем телом, свесил голову за борт. Его тошнило.
Дубков, сидя на крыше ангара, чуть не заплакал от жалости и бессильной злости. Он слышал приглушенный расстоянием выкрик:
— Выньте это дерьмо и посадите новое! Ну!..
О, Дубков хорошо знал манеру Насонова — унижать человека без свидетелей. Он навсегда запомнил свою встречу с ним, которая произошла едва ли не в первый день его прихода в авиашколу.
Андрей был одет тогда в крестьянскую свитку из домотканого сукна и обут в лапти с белыми полотняными онучами, аккуратно, крест-накрест перетянутыми до колен пеньковыми оборками. Из-под большого полинялого картуза с помятым козырьком торчали такие же полинялые, выгоревшие под солнцем, давно не стриженные волосы.
Желающих учиться на летчика было много. Собралось, наверно, человек около трехсот, и ходили они кто в чем. Но, должно быть, именно этот, чисто деревенский наряд и привлек внимание Насонова к Дубкову. Увидев его, он остановился и презрительно спросил:
— Тоже будущий покоритель воздушной стихии?
Курносое, сплошь залепленное крупными веснушками, простодушное лицо крестьянского хлопца выразило величайшее изумление. Он растерянно рассматривал заговорившего с ним незнакомца. Очень уж необычным был у него костюм: высокие, на шнурках, желтые ботинки, невероятно широкие, щегольские галифе, блестящая кожаная куртка. Вдобавок на голове — бархатная пилотка с орлом.
«Летчик! — думал Андрей. — Летчик!»
А тот стоял и ехидно улыбался. У него были маленькие, в ниточку, черные усики и тонкие злые губы. Такими же злыми, колючими казались и глаза.
— М-да, — протянул он. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Дубков молчал. Он впервые в жизни видел летчика.
А Насонов понимал, в чем дело. Это развеселило его, и он снисходительно склонился к невысокому худощавому пареньку:
— Послушайте, как вас… Летать — не навоз на телеге возить. По-человечески советую…
— Сам ты навоз! — глухо, но зло сказал вдруг Дубков.
Насонов отшатнулся. Его холеное лицо пошло пятнами.
— Ну ты, хам!
— Уйди, беляк недобитый. Лучше уйди! — вскипел Андрей. Он каким-то внутренним чутьем угадал, с кем столкнулся.
Стычка эта произошла между ними наедине. Ни тот, ни другой никому о ней не сказал. Однако судьба свела их снова. Когда Дубков закончил курс теоретической подготовки, его определили учлетом именно в ту группу, где инструктором был Насонов.
Фамилии названного учителя Андрей еще не знал. Ему сказали, в какой кабинет идти, он и явился. Зато Насонов был взбешен. Багровея, сорвался на крик:
— Пошел прочь, лапоть!
Андрей кинулся к Лихареву. Выслушав его, Иван Федорович озадаченно покачал головой:
— Да, Андрюха, закавыка. Безусловно, тип этот — чужак. Да, понимаешь, летчик он сильный. Знает себе цену, вот и выкобенивается. Ну да ладно. Это самое, идем к нему…
И опять Дубков подивился характеру бывшего поручика. Полчаса назад он грубо выгнал его из кабинета, а теперь, с Лихаревым, встретил так, будто ничего особенного между ними и не произошло. Церемонно поклонился, даже руку подал. Рука у него была нерабочая, мягкая, взгляд насмешливый, наглый.
— Прошу вас, прошу. Садитесь, пожалуйста…
На столе перед ним лежал раскрытый английский журнал «Аэроплэн». Некоторые строки в тексте были подчеркнуты синим карандашом.
— Вы видели, что здесь пишет мистер Грей? — спросил Насонов, как будто Лихарев и Дубков зашли к нему для приятной дружеской беседы. Ткнул пальцем в середину страницы: — Вот… «Хотя имеется, бесспорно, некоторое число русских, которые могут сделаться превосходными летчиками, но большинство из них совершенно неспособно…»
— Вы неточно переводите, Константин Юрьевич, — перебил Лихарев. — Там сказано, что большинство русских неспособно содержать в исправности такую это… сложную технику, какой является авиационная.
— О, мне нравится ваша осведомленность. Положительно нравится. — Насонов натянуто улыбнулся, но тут же торопливо опустил глаза. Только напрасно он делал вид, что повторно читает текст: его аккуратно зачесанный пробор порозовел, выдавая смущение. — Да, действительно. Выходит, начинаю хромать в английском. Хотя стойте, можно понять и так.
— Извиняюсь, Константин Юрьевич, но вы знаете, что не так, — жестко перебил Лихарев. — Не мне вам рассказывать, как работают наши инженеры и механики. И потом это — «Илья Муромец». Махина! Четыре мотора, да. Таких тяжелых бомбардировщиков пока еще за границей нет. Ни в одной стране. А у нас есть. Вот. Нашим конструктором создан, русским. Да!
— Согласен, — кивнул Насонов. — Безоговорочно согласен. Но зато летчики высокого класса у нас наперечет.
— Будут и летчики, — уже спокойнее возразил Иван Федорович. Помолчав, уверенно добавил: — Будут.
— Сомневаюсь. Вы, большевики, подчас наивны. До чего доходит — даже здесь, в авиашколе, основной дисциплиной вводите марксизм. У меня на сей счет мнение несколько иное. По «Капиталу» летать не научишься.
— Неостроумно, — рассердился красвоенлет. — Вы намекаете: «Я не марксист, а летчик первоклассный». Но это тот же Грей. А вот ответ вашему Грею по-русски. — Лихарев достал из кармана газету, развернул, громко прочитал: — «Пришла пора строить и учиться. Будет у нас такой воздушный флот, что изумленные Европа и Америка ахнут перед чудом лапотной России в небесах».
— От одних благих намерений крылья не вырастут, — холодно бросил Насонов.
— Ладно, к черту светские разговоры! — теряя терпение, нахмурился Лихарев. — Объясните, почему вы гоните Дубкова.
Андрей до сих пор сидел молча, смотрел, потупясь, в одну точку. От напряжения у него вспотели ладони. Он потянулся было вытереть их о штаны, но, заметив, как презрительно, брезгливо скривил губы Насонов, со злостью сжал кулаки.
Услышав свою фамилию, учлет с вызовом вскинул голову. Его взгляд вонзился в Насонова, как кинжал.
Однако тот и бровью не повел. Отвечал рассудительно, с подчеркнутой невозмутимостью. Чего уж тут дипломатию разводить — он понял, сразу понял причину данного визита. Для Ивана Федоровича, конечно же, не секрет, что его протеже вел себя по меньшей мере бестактно. Впрочем, бог ему судья, молодой еще. Да и не в этом суть. Всем давно известно, каких людей инструктор Насонов подбирает в свою группу. А разве приемная комиссия придерживается иных принципов? Нет, пока точно таких же. Сколько было желающих? Около четырехсот. А сколько принято? Двадцать пять. Ну, а сей юноша прошел явно по ошибке. Он до недавнего времени, надо полагать, не только летательного аппарата — даже автомобиля вблизи не видел. И насчет грамотешки у него…
— Константин Юрьевич, — прищурясь, будто собираясь улыбнуться, сказал Лихарев. — У меня это… тоже всего три класса. Вот и все образование.
— Вполне допускаю, что вы — талантливый самородок, — отозвался Насонов. — Но нельзя же считать самородком каждого встречного.
Сдерживая раздражение, которое в нем вызывал этот холеный щеголь, красвоенлет встал:
— Ну что же… Тогда Дубкова возьму я.
Ответа Насонова Андрей не слышал. Его душила обида. Он, не прощаясь, первым шагнул за порог.
Лихарев догнал ученика уже во дворе. Долго шел молча. Потом негромко спросил:
— Ты чего?
— Чего, чего! — со злостью обернулся Дубков. — Такие вот гады батьку моего расстреляли. А с ними цацкаются. До каких пор? По какому такому праву?
— Но, но! — Иван Федорович от неожиданности даже остановился. — Ты говори, да не того… Не того… Нельзя же всех под одну гребенку. Да ты погодь, погодь! — Он повысил голос: — Постой, если зову!
Андрей опустил голову, чтобы Лихарев не видел его слез. Тот все понял и, догнав, заговорил более сдержанно:
— Ежели хочешь знать, я тоже от ихнего брата натерпелся. И насчет этого типа к комиссару ходил. Вот. А он что? Революционную дисциплину соблюдать надо, вот что.
Дубков совсем по-мальчишески, кулаком вытер мокрые глаза. Со всхлипом вздохнул. А Лихарев, утешая его, бодро добавил:
— Не вешай носа, Андрюха-горюха. Ты будешь летать. Видишь лозунг? То-то…
Они подходили к ангару. Там, над воротами, висело большое кумачовое полотнище. На нем аршинными буквами было написано: «Трудовой народ, строй воздушный флот!»
С того дня минуло ровно три недели. За это время Андрей успел сделать десять рулежек, причем две последние — самостоятельно. Теперь ему можно было переходить ко второму этапу обучения — совершить три ознакомительных полета. Два из них выполнялись по кругу над аэродромом, третий — в зону, где инструктор демонстрировал мелкие, «тарелочкой», развороты вправо и влево. Лишь после этого ученика допускали к вывозной программе.
Летали в школе только ранним утром, когда воздух был спокоен. На аэродром авиаторы выходили затемно. Днем, когда пригревало солнце, начиналась рема, или, проще говоря, болтанка, напоминающая сильную морскую качку.
Не менее опасным был порывистый ветер. Он иногда опрокидывал летательные аппараты в момент приземления.
Сегодня день обещал быть тихим. Полосатый палец матерчатого ветроуказателя, укрепленный на высоком столбе, висел совершенно неподвижно. Ни единый листок не шевелился и на кустах, окаймляющих летное поле.
И все-таки Андрей, ожидая приобщения к таинству полета, не мог унять беспокойства. Наверно, очень это мудреное дело — летать. Вон в группе Насонова уже два учлета подали рапорты об уходе из авиации «за отсутствием летных данных». Всем, конечно, хорошо понятно, под чью диктовку написали они такие слова, но не исключалось, что парни действительно оказались неспособными.
«Может, и я не гожусь в летчики, кто знает», — с тревогой думал Дубков.
— Чего пригорюнился, Андрей-воробей? — прервал размышления учлета голос Лихарева. — Ждешь, что опять пошлю на ангар? Нет, нынче твоя очередь лететь первому. Давай в самолет!
Дубков растерянно замигал, хотел что-то спросить и не вымолвил ни слова: от волнения у него язык точно прилип к зубам. А в следующую секунду он почти бегом спешил к машине.
Аэроплан у них был старенький. Его крылья пестрели разноцветными заплатками, на гондоле краска выцвела, потрескалась и местами облупилась. Металлические расчалки между плоскостями, спицы колес казались рябыми от налета ржавчины. Но не зря механик и моторист со своими помощниками буквально сутками напролет возились возле летательного аппарата. Тендеры тросов были аккуратно законтрены проволокой, шарниры щедро смазаны маслом, а стеклянный козырек надраен до зеркального блеска.
На центроплане, как половик на крыльце, лежал разостланный механиком брезент. Дубков старательно вытер о него мокрые от росы сапоги и лишь после этого занял место ученика. Лихарев сел в переднюю кабину. Обернувшись, предупредил:
— Рули не трогать!
В пилотском шлеме лицо инструктора было незнакомо-чужим и сердитым, непривычно большим казался его нос. Ни дать ни взять клюв насторожившейся птицы. И вообще, что-то гордое, птичье сквозило сейчас в каждом движении, во всем облике этого немолодого грузного мужчины. Вот он быстрым, цепким взглядом окинул ровное как стол поле аэродрома, убедился, что оно свободно, и поднял руку.
Механик и моторист, толкнув пропеллер, тотчас отскочили в сторону, Лихарев дал газ. Самолет затрепетал, задребезжал, рванулся вперед и помчался, набирая скорость, как телега с крутой горы.
Сто лошадиных сил было в моторе. Сто лошадей рванули и понесли эту крылатую телегу. Целый табун. Земля и небо гудели от цокота его стальных копыт.
Неожиданно зеленое поле куда-то провалилось. Ангары, дома, высокие деревья начали на глазах уменьшаться в размерах, потом совсем исчезли из виду. Перед глазами дыбилось оглушающее синее небо, и Андрея поразило странное ощущение пустоты. Он похолодел и судорожно вцепился руками в кресло, совершенно позабыв о том, что его ноги и плечи туго охвачены привязными ремнями.
Вокруг бушевал настоящий ураган. С шелестом обдувая стеклянный козырек, между крыльями свистел ветер. От его злого напора хлипко вибрировали металлические растяжки. Они были пугающе тонкими — того и гляди порвутся. Но аэроплан летел, и учлет, постепенно осмелев, выглянул из кабины.
У него захватило дух. Вот это да! В мягком утреннем свете вокруг без конца и без края разметнулась туманно-зеленая гладь. Там, наверно, только что прошла беззаботная спросонок невеста. Она обронила на росистом лугу голубую ленту, и эта лента стала рекой. К берегу, по склону холма, лениво, словно на водопой, брели крытые соломой хаты. На усадьбах размыто белели цветущие сады.
Чуть поодаль виднелась вторая деревня, за ней — еще одна. Между ними, на взгорке, стояла четырехкрылая ветряная мельница. По черным, недавно распаханным полям были разбросаны купы деревьев. В стороне, точно выточенная из рафинада, одиноко и важно возвышалась колокольня церкви с позолоченным куполом. А впереди, куда, петляя, убегала узкая полоска серой дороги, над необозримым, сверкающим пространством широко раскидывала свои прозрачные крылья алая заря. Аэроплан невесомо плыл в заголубевшем небе, и все было похоже на сказку.
— Ну как? — оглянулся инструктор.
Учлет не знал, что и сказать. Он не находил слов, которыми можно было бы передать охватившие его чувства, и сидел как в счастливом полусне.
— Видал красотищу? — громче выкрикнул Лихарев. — Это она — Россия, земля наша. Гляди, Андрей, гляди…
Переговорное устройство на самолете представляло собой обыкновенный резиновый шланг с раструбом на одном конце и с жестяным «ухом» на другом. Поэтому Дубков не разобрал последних слов. «Лети, Андрей, лети», — послышалось ему, и он обрадованно спросил:
— Разрешите взять рули?
— О! — засмеялся красвоенлет. — Герой! Но погодь, браток, погодь. Всему свое время…
Пять минут промелькнули, как одна. Круг был сделан, и аппарат пошел на снижение. «Мало, — с сожалением подумал учлет. — Еще бы немножко». Но что это? У посадочного знака, выложенного на аэродроме в виде буквы «Т», правое полотнище загнуто, и финишер, высоко подняв руку, вместо белого флажка держит красный. Посадка запрещена: неисправно правое колесо шасси.
У Дубкова тревожно екнуло сердце. Что же теперь будет?
Неуютным, холодным показалось небо. Озираясь, учлет повернул голову и увидел, что концы плоскостей дрожат, будто машина испытывает приступ смертельного страха.
А Лихарев уже уводил аэроплан от земли. Он знал, что при посадке с поврежденным колесом, как ни осторожничай, не избежать аварии. Тогда его ученики останутся «безлошадными».
Почему-то вспомнилось — этого слова не любит Насонов. Ворчит: «Темная деревенщина тащит свои грубые понятия даже в авиацию. Вот до чего дошло — летательный аппарат сравнивают с захудалой клячей».
Нет, Константин Юрьевич, за таким выражением стоит нечто большее. Голодом, кабалой у богачей оборачивалась для бедного крестьянина потеря единственного коня. Учлетам так же тяжело остаться без самолета. Катастрофа разом отодвигает на неопределенное время их летную практику. В школе пока что каждый аэроплан на счету.
И парнишку жаль. Убиться они не должны, но страху натерпится при поломке — факт. Вряд ли он тогда станет летчиком.
Красвоенлет оглянулся. Лицо Дубкова было по-детски растерянным, бледным. Понятно: не ожидал, что придется так скоро, в первом же полете, столкнуться с опасностью.
Но что же все-таки произошло? При старте грубых толчков не было, отделилась машина от земли без удара. Загадка!
Высота — тысяча метров. Лихарев плавно перевел аппарат в режим горизонтального полета и приказал Дубкову:
— Возьми управление!
Учлет не понял. Он только что просил рули, но ему не дали, а теперь… Или, может, они пойдут на посадку, когда выработают горючее? Аэроплан станет легче и не загорится при аварии. Но неужели сейчас Лихарев будет учить его пилотировать?
— Веди самолет, — повторил инструктор. — Чего же ты?
Андрей поставил ногти на педали, взял ручку. В первый момент машина продолжала идти по прямой, и это несколько ободрило учлета. Но едва он шелохнулся в своем кресле, как аппарат начал валиться влево. Дубков тотчас подал ручку вправо, однако аэроплан не выровнялся, а рывком наклонился вправо. Потом испуганному ученику показалось, что его подхватили и понесли, швыряя из стороны в сторону, разбушевавшиеся волны. В отчаянии он бросил рули.
— Да не надо его это… дергать. Я же объяснял — плавнее, легче. Смотри! — Инструктор вывел аппарат из крена и снова заставил взять рули. — Не бойся, пробуй. Во…
Так повторялось несколько раз, и у Дубнова стало что-то получаться. Во всяком случае машина подчинилась ему. Вернее, она притворилась покорной, потому что временами пыталась незаметно задрать нос. Однако Андрей был настороже, на хитрость отвечал хитростью. Он легонько, будто украдкой, подавал ручку от себя, и самолет послушно опускал стрекочущий мотор к черте горизонта.
Сосредоточившись, учлет забыл обо всем, кроме необходимости осторожно, соразмерно поведению аэроплана, двигать рулями. Он забыл даже о Лихареве и очень удивился, услышав доносившиеся из передней кабины непонятные звуки. А когда напряг слух, удивился еще больше: Иван Федорович пел! Руки инструктора, одетые в черные кожаные перчатки-краги, лежали на бортах, а он весело распевал про удалого Хаз-Булата и его молодую жену.
«Да он же отпустил рули. Совсем отпустил!» — ликующе подумал Дубков. И как бы подтверждая его мысли, раздался голос Лихарева:
— Хорошо, Андрей, хорошо! Видишь впереди церковь? Держи направление на этот божий храм. Может, и не совсем тот ориентир, зато приметный.
Он помолчал, наблюдая за действиями учлета, и опять затянул свою песню, словно сидел не в раскачивающемся аэроплане, а за праздничным столом. И ничего не было ему жалко — ни золотой казны, ни коня, ни кинжала, ни винтовки, — только бы заполучить у Хаз-Булата жену.
Шутливый тон Лихарева, его бесшабашная песня совершенно успокоили Андрея. В нем пробуждалась какая-то незнакомая сила. Он видел, что ведет самолет уже довольно сносно, и верил, что сумеет вести еще лучше.
— А ты, я вижу, парень с головой. Цепкий, — похвалил инструктор.
Учлету так приятно было от этих слов, что до него не сразу дошел смысл следующих:
— Ну, так вот… это… Держи по горизонту. А я сейчас вылезу, гляну, что там.
И прежде чем Дубков успел открыть рот, Лихарев уже был на плоскости.
Аппарат качнулся. Андрей побледнел. Что, если… Ведь парашютов у них нет. И он крикнул:
— Я полезу! Лучше я!
Крепко держась за борт, инструктор шагнул к кабине учлета, ласково склонился к нему:
— Видишь — сам летишь. Сам! Вот и держи. Вот так, вот так.
Он дотянулся до ручки и показал как: безо всякого усилия, двумя пальцами. Проще простого. Проще пареной репы. А ногами шуровать не надо. Следи, чтобы педали стояли нейтрально, без перекоса, и все.
— Понял?
Дубков, покорясь, молча кивнул головой. Ладно, мол, попробую. Постараюсь. А Лихарев цепко ухватился правой рукой за расчалку между плоскостями биплана, присев, лег на крыло и подтянулся к его передней кромке. Потом заглянул вниз, выругался сквозь зубы и полез назад.
— Там патрубок в спицах, черт бы его побрал. Наверно, оторвался от мотора на взлете. Попробуем вытряхнуть, а?
Радуясь тому, что инструктор вернулся в кабину, Андрей был согласен на все что угодно. Но не успел он опомниться, как машина вдруг завертелась сначала в одну сторону, затем в другую, перевернулась через крыло и устремилась вниз. Учлета то вжимало в кресло, то выдирало из него, и он повисал на ремнях. Земля и небо то и дело менялись местами. Дубнову казалось, будто его мотает на гигантских качелях. Наконец бешеный рев мотора снова стал ровным, ритмичным, и Лихарев весело прокричал:
— Ну как?
Учлет еще не перевел дыхания, но постарался улыбнуться. Он догадался, что инструктор выполнял высший пилотаж. Крутил, наверно, и бочку и «мертвую петлю». Мертвую! Да, не зря ее так называют, не зря.
— А теперь подержи в горизонте еще чуток, — продолжал между тем Лихарев. — Надо посмотреть, чего мы добились.
— Нет! Нет! Теперь я! Я! — торопливо закричал учлет.
Неуправляемый аэроплан повело вбок. Инструктор прищурился, будто собирался улыбнуться, и показал Дубнову кулак. Андрей схватил ручку, потянул на себя. Получилось. Не могло не получиться. Он умеет править. А ежели умеет, значит, должен. Теперь уже недолго. Немножко. Самую малость. Чуток.
Надеясь, что все закончится быстро, он ошибался. Вернее, они ошибались вдвоем, вместе с Лихаревым. Когда Лихарев заглянул под плоскость вторично, то увидел, что злополучный патрубок по-прежнему торчит в спицах.
Вот тут и произошло самое страшное. Загораясь отчаянной отвагой, красвоенлет еще раз погрозил ученику кулаком: «Смотри держи, чертяка!»-и… полез под крыло, на шасси.
Андрей чуть было не заорал. Спохватился, сжал зубы. Сообразил: испортит все.
От испуга он опять плохо управлял самолетом. Машина шла как-то боком, левым крылом вперед, покачивалась и постепенно забирала вправо. В кабину вместе с холодным ветром летели брызги касторки, которую использовали для смазки мотора.
Сердце снова сжало леденящее ощущение пустоты. Андрей почувствовал себя беспомощным кукушонком, очутившимся в чужом гнезде на вершине высокого шатающегося дерева. Он не мог не смотреть туда, где копошился Лихарев, но ему был виден лишь пропеллер.
Все сильнее хлестала касторка. Ее капли стали горячими, несли с собой едкий запах гари. Выбираясь из кабины, инструктор двинул рычаг газа вперед до упора. Он сделал это для того, чтобы зазевавшийся ученик не потерял скорости. Но, работая на полных оборотах, старенький мотор начал перегреваться, тянул все слабее и слабее…
Машина повиновалась Дубкову, но туго. Она явно устала. Она хотела на землю. Глупая самодельная стрекоза не понимала, что без умелого хозяина от нее при посадке останутся одни щепки.
Пропеллер яростно рассекал воздух. В его прозрачном нимбе дробились лучи выкатившегося из-за горизонта ослепительно яркого солнца. Наверно, от этого на глаза учлета набежали слезы. Он не смахивал их, сосредоточив всю свою волю на управлении самолетом. В возбужденном мозгу застряла одна мысль: «Где же Лихарев?!»
Долго, ужасно долго инструктор не появлялся на плоскости. Неужели упал? Боже, только не это!
Нет, вот он — живой. Перевалился через кромку крыла туловищем и замер. Стремительный воздушный поток подгибал под плоскость его ноги, прожигал тело холодом. Казалось, он вот-вот не выдержит, сорвется. Вцепившись в расчалку, Лихарев все же подтянулся, выполз на центроплан и добрался до своей кабины.
Лишь теперь Андрей провел рукой по лицу, мокрому от слез и пота. Учлет хотел еще спросить у инструктора, сумел ли он вытащить из спиц патрубок, но почему-то не решился.
А Лихарев не оборачивался к нему. Взяв рули, он сбавил обороты, чтобы охладить перегретый мотор, сделал разворот и повел машину к аэродрому.
На аэродроме их ждали целой толпой. Оказывается, когда они ушли в зону, полеты были прекращены. Авиаторы молча следили за одиноко гудящей машиной. Воздух был чистым, и все хорошо видели, как Лихарев ползал по крылу и спускался на шасси.
Едва пропеллер возвратившегося аэроплана оборвал свое вращение, как сильные руки друзей вытащили Лихарева из кабины и подбросили вверх. Летчика качали. А он, смеясь, отбивался и просил:
— Пустите, черти, уроните.
Рядом над группой механиков и мотористов косо взлетал растерянный учлет. Один только Насонов стоял в стороне.
А над землей ярко голубело широко распахнутое небо. Лишь одно белое облачко плыло в вышине. Но оно еще больше оттеняло небесную голубизну.
МЛАДШИЙ БРАТ
Не все рождаются и вырастают богатырями. И все же обидно чувствовать себя слабым. Сознаешь: если природа поскупилась отпустить лишний вершок роста, то тут уж ничего не поделаешь, однако все равно досада берет. Смотришь на парней — один к одному, как на подбор крепыши, а ты рядом с ними — подросток. Впечатление такое, будто не в свой класс попал. Только армия не десятилетка, подразделение не класс: в какое отделение определили, в том и будешь служить…
Вначале рядовой Юрий Уткин даже оробел. Начали солдат по ранжиру строить, он в середину шеренги встал, и тут же голос сержанта: «Вот вы… как вас?.. На левый фланг». Пошли на склад обмундирование получать, старшина прищурился и вздохнул: «М-да… Рост у тебя, сынок, не гвардейский». В столовой и то без замечаний не обошлось. Дежурный по пищеблоку понаблюдал, как он ковыряет вилкой в тарелке, и неодобрительно заворчал: «Диетчик, что ли?..»
Но более всех досаждал Юрию его сослуживец рядовой Вениамин Матвеев. Едва оказавшись с ним в одном отделении, он взглянул на парня с высоты своего почти двухметрового роста и, вроде сочувствуя, спросил:
— Что ж ты, браток, невидный такой? Дернула Юрия за язык нелегкая:
— Велика фигура, да…
Осекся. Прикусил язык, но было поздно. Матвеев с укором сказал:
— Эх ты!.. Не браток ты, а младший братик.
С тех пор так и стали называть Уткина младшим братиком. А поводов для этого было сколько угодно. Юрий изо всех сил старался быть не хуже других солдат, но — увы! — не получалось. Он даже постель не умел быстро и красиво заправить, вызывая своей нерасторопностью недовольство сержанта.
Да что там постель! Получили новички обмундирование, надели его — любо посмотреть. Армейская форма делала их взрослее, придавала бравый вид. А Уткин подошел к зеркалу, глянул на себя — хоть плачь. Мундир ему старшина выбрал самого что ни на есть малого размера, а все равно обвисли плечи и из большого воротника беспомощно торчала тонкая, мальчишеская шея.
Возле зеркала в бытовой комнате толпились, пожалуй, все. Один старательно расправлял складки под ремнем, другой торопливо пришивал погоны, третий гладил электрическим утюгом гимнастерку, а кто-то уже менялся с товарищем брюками и, боясь прогадать, громко спорил. Словом, каждый был занят собой, но Уткину казалось, что кое-кто бросает на него насмешливые взгляды. Боком выскользнув в коридор, он примостился у самого дальнего окна, открыл раму и, хотя стекло не зеркало, еще раз осмотрел себя. Невесело усмехнулся: «Тоже — солдат…»
Из угла, в котором он уединился, была видна добрая половина военного городка. Слева стояло несколько одноэтажных кирпичных зданий: казармы, штаб, солдатский клуб, библиотека, столовая. Справа, в отдалении, дымила труба — там находились баня, прачечная и кочегарка центрального отопления. Чуть ближе — больница, на вывеске которой значилось: «Санитарная часть», а рядом — пекарня, откуда с утра доносился запах теплого хлеба, и еще один, почти не видный из-за дощатого забора, дом — гауптвахта.
Вдоль посыпанных желтым песком дорожек были установлены щиты. На них даже издали можно было прочесть написанные большими красными буквами лозунги и выдержки из воинских уставов: «Приказ начальника — закон для подчиненного», «Воин, заслужи знак отличника!»»
«Враг силен, в нем звериная злоба. Солдат! Ты — на посту. Смотри в оба!..»
Почти в самом центре этого необычного населенного пункта, не обозначенного ни на одной географической карте, высились постройки и сооружения спортивного городка, к которому примыкала так называемая полоса препятствий. Здесь же расстилался широкий плац. Там ежедневно по нескольку часов солдаты овладевали приемами той не очень-то приятной науки, которая называется строевой подготовкой.
Уткину стало грустно. Вдруг сзади на плечо ему легла чья-то тяжелая ладонь. Вздрогнув, Юрий оглянулся. Рядом стоял Матвеев.
— Ты чего здесь, младший братишка? — не без иронии спросил он и, бесцеремонно повернув Юрия к себе лицом, посоветовал: — Пуговицы чуть правее перешей, подворотничок нитками потуже стяни — в самый раз будет…
С пуговицами Уткин кое-как совладал, а вот с подворотничком зря провозился целый час, до крови исколов иголкой пальцы. А Матвеев ехидно улыбался, недобрым словом поминая маменькиных сынков и белоручек.
Вздохнув, Уткин вспомнил мать. Да, она, бывало, все норовила сделать для него сама — и пуговицу к его пальто пришьет, и рубашку и брюки отутюжит. «Ты только учись, сынок». А оказывается — этому тоже нужно было учиться.
Неприятности подстерегали Юрия всюду. За что бы он ни брался — ничегошеньки не умел сделать как следует. Подошла его очередь быть уборщиком в казарме — пол подмел неумело, и старшина заставил выполнить эту в общем-то нехитрую работу еще раз. Назначили в наряд на кухню, а там, как назло, картофелечистка испортилась. Пришлось брать нож — палец порезал. Вернулся в казарму усталый, прилег на кровать, а старшина снова тут как тут:
— Рядовой Уткин! Я разве не объяснял вам, что в верхней одежде в постель ложиться нельзя? На первый раз объявляю замечание. Повторите — взыскание получите. Ясно?..
«Куда яснее», — подумал Юрий, вспоминая дом, окруженный дощатым забором. Но так хочется прикорнуть после тяжелого дня!
Он невеселым взглядом окинул казарму. Как по линейке выстроенные, стоят аккуратно заправленные кровати, ровными рядками лежат взбитые подушки, на синих спинках висят полотенца. У изголовья — тумбочки. Одна тумбочка на двоих: верхняя половина — твоя, нижняя — соседа. Только до отбоя к постели лучше не подходи. Устал — в твоем распоряжении табуретка, присядь. Можно пойти в курилку, но он не выносит табачного дыма. Юрий потоптался в тесном проходе между койками и от нечего делать пошел к доске объявлений.
На красочно оформленном щите, установленном при входе в казарму, дежурный только что приколол листок — план ближайших культурно-массовых мероприятий. Намечались: диспут по книге Алексеева «Солдаты», поход по местам боев, которые проходили поблизости в годы Великой Отечественной войны, занятия в спортивных кружках по боксу, классической борьбе и самбо, сбор желающих участвовать в художественной самодеятельности или в клубе веселых и находчивых, лекция о закаливании организма и, наконец, кинофильм.
— Ого! — послышался сзади знакомый ломкий басок Вениамина Матвеева. — Тут определенно не заскучаешь!
Юрий повернулся и торопливо ушел. Ничто в плане его не заинтересовало, ни в какие кружки записываться он не собирался. Лучше в солдатской чайной посидеть…
Солдатская чайная была своего рода нововведением в военном городке, и многих, особенно новичков, которые еще не привыкли к армейскому пайку, тянуло туда как магнитом. Привлекали их не только «мраморный» линолеум на полах и по-домашнему ярко-веселые занавески на окнах. Там на полированных столах блестели никелем самовары. Ефрейтор в белоснежной накрахмаленной курточке отпускал посетителям печенье, конфеты, лимонад, пряники. Уткин купил батон и бутылку кефира.
На столике в углу, под искусственной пальмой, стоял радиоприемник. Транслировали вальс Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Слыша и не слыша мелодию, Уткин размышлял о пережитых им за последние дни огорчениях. Замечаний, не прослужив и месяца, он успел уже нахватать, как говорил Матвеев, не менее дюжины. За опоздание в строй. За помятые брюки. За слишком густую смазку на автомате…
«А что поделаешь, если не получается! — расстроенно думал он. — Такая нагрузка не для меня…»
Назавтра, готовясь к утреннему осмотру, Юрий разнервничался чуть ли не до слез. Уже прозвучала команда: «Приготовиться к построению!» — а он еще не почистил пуговицы и никак не мог найти асидол. Торопливо обшарил тумбочку — баночки там не было. Попросить у кого-нибудь из сослуживцев? Опять смеяться будут: «Растеряха!» Но как быть? Встанешь в строй с тусклыми пуговицами — наверняка еще одно замечание схлопочешь.
— Что случилось? — подошел к Уткину ефрейтор Николай Горгота. А когда Юрий несмело объяснил ему, отчего разволновался, тот быстро нагнулся, сунул руку под тумбочку и с укором сказал:
— Ох и нерасторопен ты, братец! Баночка-то видишь где?..
Когда пошли на занятия, Юрий смешно семенил позади, то и дело сбивался с ноги, отставал, догонял колонну и снова отставал. Нелегко было, потому что шагали с полной выкладкой: каска, автомат, противогаз, на поясе подсумок с запасным магазином, полным патронов, и набитый до отказа вещевой ранец.
— Все не в ногу, а Уткин — в ногу, — не оборачиваясь, съязвил Матвеев. Кто-то хихикнул, в строю заулыбались, и только громкий голос старшего лейтенанта Никитина: «Разговорчики!» — спас Юрия от насмешек.
На Никитина рядовой Уткин смотрел с обожанием и робостью. В те дни, когда он только что пришел в подразделение, старшему лейтенанту вручили награду — медаль «За боевые заслуги». Юрий, узнав об этом, с восхищением подумал: вот какой у него командир! Поскольку в мирные дни наградили, — значит, отличился. Может быть, даже подвиг совершил. А где и как? Любопытно.
Молодой солдат с нетерпением ждал, что же Никитин расскажет о себе. А он ничего особенного и не сказал. Видно, не из тех, кто любит хвастаться. Представляясь подчиненным, застенчиво объявил:
— Зовут меня Владимир Иванович…
Замялся, говоря, что ему двадцать третий год, похоже — рассердился на себя за это, и вдруг озорно пошутил:
— Девушки Володей величают…
Все сразу заулыбались и словно облегчение почувствовали: такому подчиняться даже приятно.
На петлицах у Никитина — эмблема связиста: «птички» с красными стрелами молний. Профессия почти штатская — связист. И все же, думалось, не за красивые глаза ему медаль дали.
Старший лейтенант привел новичков в зал, где работали специалисты дежурной смены. Дескать, взгляните, что они делают, и все станет ясно.
А Юрию показалось, что он попал чуть ли не в тот центр, из которого осуществлялась связь с нашими космонавтами во время их полетов в неведомые дали. Что-то подобное он в кино видел.
В просторном, светлом и чистом помещении (вокруг — ни пылинки) все стены от пола до потолка занимали блоки аппаратуры. Людей было очень мало, а в отдельных комнатах — совсем никого. И что еще поразило Уткина — это тишина.
— Вот так вы и работаете? — спросил он.
— Как? — не понял Никитин.
— Ну, в тишине…
— А-а, — с улыбкой протянул старший лейтенант и начал объяснять.
По его словам выходило, что задачи солдат-связистов несложны. Они сводятся к тому, чтобы обеспечить безотказность аппаратуры. Все будет в норме, если ни в одном звене вот этих блоков не возникнет никаких отклонений. Конечно, без дефектов не обойдешься, поэтому механики должны тотчас замечать любую неисправность. Сейчас аппаратура под током, напряжение высокое.
— Так что вы здесь поосторожнее, — предупредил Никитин и стал рассказывать о механиках. Ефрейтор Юрий Стукалов и Николай Горгота освоили две специальности. Рядовой Сергей Кулешов настраивает радиостанцию в два раза быстрее, чем это предусмотрено техническими нормативами. Старший сержант Вячеслав Рысин и сержант Игорь Щенков могут в случае надобности заменить офицера.
Слушая командира, Уткин наблюдал за действиями старослужащих солдат и сержантов. Один из них менял в блоке лампу, напоминавшую размерами причудливой формы графин. Вот механик поставил на ее место новую. Она сразу заалела, накаляясь от тока высокого напряжения, и Юрию почудилось, что в стеклянную колбу упрятали оробевшую перед человеком грозовую молнию.
А в помещении по-прежнему царила тишина, и это как-то не вязалось с тем, что Уткин думал. Тишина и — подвиг…
В этот момент Юрий был очень похож на мальчишку-школьника, который не хочет показать, что ему страшно. Он вдруг отчетливо осознал, что обязан стать одним из повелителей такой сложной и умной техники. Справится ли?..
С того дня Уткин с жаром взялся за учебу. Он с юношеским усердием изучал радиотехнику, и старший лейтенант Никитин был доволен, хвалил его. Но если молодой солдат успевал в теории, то на занятиях по физической подготовке отставал. Товарищи уже начали смело и ловко выполнять упражнения на спортивных снарядах, а он еще даже на перекладине подтянуться не мог.
Про таких (Юрий знал) говорят насмешливо: «Висит как сосиска».
Однако на очередной тренировке вместо ожидаемого: «Эх ты, младший братишка!» — Уткин услышал:
— А давай помогу! Хочешь? — Это к нему подошел Николай Горгота.
Юрий просиял.
Поддержка товарища ободрила его. А характер у него, надо сказать, был. Он быстро уставал, то и дело срывался, падал с перекладины, но тут же вскакивал: «Подстрахуй еще, пожалуйста!» — и снова, подпрыгивая, цеплялся за перекладину. Горгота чувствовал, как напрягается худенькое тело Уткина, и помогал ему подтягиваться, поднимая под мышки, но Юрий обижался:
— Я сам… Сам… Ты только не дай упасть. Сослуживцам понравилась его настойчивость, и на следующее утро, когда он неумело ковырял иглой, подшивая подворотничок, к нему подсел старший сержант Рысин:
— Смотри, как это делается…
Иголка поблескивала в ловких руках Вячеслава, словно серебряная искорка. «Вжик, вжик…» Проколол ткань, надавил ногтем на ушко, подтянул… Юрий понаблюдал за его работой, попробовал подражать сержанту, и у него шов стал ложиться ровнее. Подшил — белая полосочка аккуратно выступала над воротником. Красиво!
Товарищи наперебой заботились о нем. Ефрейтор Стукалов рассказал о конструкции радиостанции, научил читать схему блоков. Комсгруппорг рядовой Кулешов помог подобрать материалы для подготовки к политическим занятиям, старший сержант Рысин объяснил непонятные вопросы по заданной командиром теме из ядерной физики.
А Горгота снова пошел с Юрием в спортивный зал.
— Это вам Никитин поручил? — спросил Уткин Горготу.
— Что? — удивленно глянул на него Николай.
— Ну, это… Шефство надо мной.
— Чудак! — засмеялся сержант. — Или не нравится?
— Да нет, — замялся Юрий, — но…
Он опасался, что ребятам надоест возиться с ним. Однако все дружно помогали ему. Разве что Вениамин Матвеев иногда пытался сказать какую-нибудь колкость, но однажды Рысин предупредил его, чтобы это было в последний раз. Спустя неделю Матвеев сам подошел к Уткину:
— Ты, Юра, не обижайся.
— Чего там! — обрадовался Уткин. Он был покладистым, добрым парнем, да и свою неосторожную фразу помнил. Смущенно попросил: — Ты меня тоже извини, Веня…
Примирение растрогало его, и он был преисполнен чувства благодарности ко всему отделению. А тут еще посылка от матери пришла. Юрий немедленно распаковал ящик, взмахнул рукой:
— Налетай, ребята!..
Товарищам пришлись по вкусу домашние пироги и яблоки. Только от печенья и конфет все наотрез отказались.
— Это ты себе оставь, — потребовал сержант Щепков. — Ты чай любишь, вот и…
Игорь Щенков — командир отделения. Юрий вначале побаивался его: очень уж строгий. Не вскочишь с постели по сигналу «Подъем!» — ас Юрием это случалось нередко, — он уже одеяло стягивает. Сам за десять минут до побудки встает. И занимается сержант дополнительно с ним больше всех. Серьезный парень, требовательный.
— Понимаешь, — говорил он Уткину, — вот уже три года наше подразделение отличное. Мы должны удержать это звание. Так ты, будь добр, тоже поднажми. Понимаешь?
Юрий понимал. На собрании комсомольской группы он, как и все, голосовал за то, чтобы каждый солдат заслужил звание отличника боевой и политической подготовки. Да ему и самому хотелось стать таким. Правда, первое время не ладилось с учебой, но теперь, с помощью товарищей, он почувствовал себя увереннее. Только вот физо…
Долгое время Уткин считал, что ему не дано быть спортсменом. Однако служба в армии поколебала его убеждение в том, что физкультурники — люди с какими-то особыми способностями. И первым, кто опроверг такое мнение, был старший лейтенант Никитин. Ростом он чуть выше Юрия, стройный, худощавый, а на груди — значок мастера спорта. И как начнет на перекладине «солнце» крутить — дух захватывает…
«Нет, я так не смогу», — говорил себе Юрий.
А Никитин догадывался о сомнениях юноши и весело рассказывал:
— Я таким замухрышкой раньше был, что стыдно вспомнить.
Уткин верил и не верил. Выходило, что он тоже сможет стать сильным и ловким, если будет настойчиво тренироваться. Да, собственно, он уже почувствовал себя крепче. Бывало, вернется с тактических учений в казарму — рук не поднять. Засыпал сразу, едва голова касалась подушки, и спал до утра как убитый. Теперь по вечерам его все чаще видели в спортивном зале.
Нельзя было не заметить, что в этом хрупком на вид пареньке проснулась разбуженная армейской службой мужская воля. Настойчивость его граничила с самозабвенным упрямством. Зато никто уже не смеялся над его нерасторопностью. Заметно прибавилось у солдата и сноровки, и выносливости. В колонне он по-прежнему ходил замыкающим, но шаг печатал твердо, не сбиваясь с ноги и не отставая от товарищей. И особенно гордился тем, что за меткую стрельбу из автомата командир взвода объявил ему благодарность.
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил он. Потом, когда Никитин скомандовал: «Разойдись!» — он подошел к офицеру и, глядя на него влюбленными глазами, доверительно сказал:
— Я, товарищ старший лейтенант, и перекладину одолею!..
Первая благодарность, объявленная перед строем, окрылила молодого солдата. Он знал, что родителям отличившихся воинов из части посылают благодарственные письма, и ему очень хотелось, чтобы такое письмо получила когда-нибудь и его мать.
Жизнь, однако, была нелегкой и более будничной, чем рисовалась в мечтах. Она не часто баловала Уткина удачами. Прошла дождливая осень, наступила зима, а случая особо проявить себя так и не выпало. Один день сменялся другим, и трудностей между тем становилось все больше и больше. От подъема до отбоя солдаты упорно учились военному делу, учились строго по распорядку. С утра — физзарядка, потом — построение на утренний осмотр, а затем — до позднего вечера — в строю.
Когда выпал снег, начали ходить на лыжах. Добрую половину дня — на лыжах, поскольку каждый солдат должен был пройти за зиму значительную в общей сложности дистанцию — пятьсот километров.
Оттепель, мороз до сорока градусов, метель — не хнычь. И Юрий крепился. Потемнело обветренное лицо, на руках появились мозоли, но глаза юноши выражали спокойствие уверенного в себе человека.
Он стеснялся теперь своих недавних, по-мальчишески наивных мыслей о громком подвиге. Понял: есть другой, более реальный подвиг — суровая повседневная служба. Подвиг этот ежедневно совершают все отделения, точнее — многие его сверстники, и надо просто быть таким, как и они. По крайней мере — не хуже их.
И письма, которые он посылал домой, стали более сдержанными. Юрий не жаловался на трудности, не просил, как раньше, чтобы ему прислали посылку или денег. «Дорогая мама, — писал он. — Обо мне не беспокойся, береги себя». Как бы вскользь сообщил матери и о том, что серьезно занялся физкультурой. Он сожалел, что не стал спортсменом до прихода в армию, и спешил наверстать упущенное. На очереди стояла задача научиться лазить по канату.
Однажды Юрий перестарался. Ему надоело продвигаться вверх «черепашьим шагом», и он, придя в спортзал без Щепкова, решил подтягиваться до тех пор, пока хватит сил. Канат, поскрипывая кольцом, которым крепился к ввинченному в потолок крюку, сильно раскачивался, но Уткин не остановился. Вдруг руки онемели, стали непослушными, и Юрий заскользил вниз. От трения ему обожгло ладони, сами собой разжались пальцы, и он упал на пол. Хорошо еще, что внизу был расстелен мат. На ладонях, словно их ошпарили кипятком, вздулись волдыри. Забыв ремень и шапку, Юрий выскочил на улицу, схватил полные горсти снега, пытаясь унять боль, выпрямился — и замер: к нему подходил Никитин.
— В чем дело? — с удивлением спросил командир подразделения. — Что с вами?
— Понимаете, товарищ старший лейтенант… Вот… — Уткин виновато протянул руки, показывая ладони. Лицо его кривилось. Он ожидал сочувствия, а Никитин вдруг принялся отчитывать его.
— Это безобразие! Вы на несколько дней вывели себя из строя. Почему работали без страховки?
— Товарищ старший лейтенант, но я… Но мне… До каких же пор нянчить меня будут? — оправдывался Юрий.
— А если ногу сломаете? — сердито перебил его командир. — Нет, дорогой, надо соображать, где и как о самостоятельности думать.
Голос офицера был строгим, но глаза смеялись. Было видно, что он притворяется, а в душе доволен и настойчивостью солдата, и его выдержкой: больно, но терпит.
— Ну ладно, — уже мягче сказал он. — Бегите к доктору. Только сначала себя в порядок приведите. Где ремень? Шапка где?..
Несколько дней после этого случая рядовой Уткин ходил с забинтованными руками, и Матвеев, помогая ему застегивать шинель, с укором говорил:
— Эх, младший брат, не везет тебе… Кругом не везет.
Юрий хмурился и молчал, а как только на ладонях окрепла молодая розовая кожа, он снова отправился в спортзал, уговорив Матвеева пойти вместе с ним.
И тут случилось неожиданное. То ли вынужденный двухнедельный отдых прибавил сил, то ли сказалась упорные тренировки, но Уткин, уверенно перебирая руками, в один прием добрался по канату до потолка, потрогал там для пущей важности металлическое кольцо и спокойно спустился вниз.
— От циркач! — изумленно воскликнул Вениамин. — Здорово! А ну-ка дай я…
— Смотри, и ты руки обожжешь, — предупредил его Уткин.
У Матвеева действительно ничего не вышло. Он не добрался и до середины каната, хотя делал самые отчаянные рывки. Пришлось признать свое поражение.
— Да-а, — сокрушенно сказал Вениамин. — Тяжеловат я, а? Тебе-то что… Ты вон какой…
— Мне тоже нелегко было, — чистосердечно признался Юрий. — А потом раз — и… Я даже сам не ожидал.
— Подумаешь, достижение! — буркнул Матвеев. Помолчав, он с пафосом продекламировал: — «Он в мечтах надменных слышит хор похвал и славы гул…»
— Какой славы? — не понял Уткин. Он с недоумением посмотрел на товарища и, по-своему расценив его раздражение, поспешил утешить: — А ты не расстраивайся. У тебя еще лучше получится. Только потренироваться нужно.
— Да ну, — махнул рукой Матвеев. — Зачем мне? Зачета тут сдавать не требуется, так стоит ли мучить себя?
Спорить Юрий не умел. Пожав плечами, он смущенно пробормотал:
— Как хочешь…
Между тем Юрию вскоре пригодилось умение лазить по канату и приобретенная им физическая закалка. Случилось так, что жизнь сама продолжила их разговор с Вениамином.
Уткин проснулся от непонятного шума за окнами. Прислушавшись, понял: на улице ураган. Представив себе, какая сейчас погодка за стенами казармы, Юрий плотнее укутался одеялом и перевернулся на другой бок. Вдруг по казарме разнесся злой голос ревуна. Тревога! Солдаты, вскакивая с постелей, торопливо хватали одежду и выбегали строиться. Через пять минут все подразделение во главе со старшим лейтенантом Никитиным отправилось к месту размещения своей радиостанции.
Выскочив за дверь, Юрий в первый момент попятился назад: такой бури он еще не видал. Темнота бурлила и клокотала, снег шрапнелью стегал по лицу; казалось, ураган сейчас опрокинет, перевернет и потащит неизвестно куда. А Никитин, прикрывая рот рукавицей, уже командовал:
— В колонну по четыре… За мно-ой… Бегом… арш!..
Дальнейшие события Уткин воспринимал как бы в полусне. Оступаясь, он несколько раз падал, его кто-то поднимал и подталкивал в спину. Раздавались чьи-то сердитые выкрики: «Не отставай!.. Смотреть друг за другом… Щеки, щеки потри… Бегом, бегом… Эх!» По лицу что-то текло — то ли тающий снег, то ли пот, а может быть, слезы из глаз. Наконец, шумно дыша, остановились. Никитин охрипшим голосом приказал:
— Прожектор… Дать луч!
Взгляду открылась невеселая картина. В вихре снежинок, которые мельтешили в холодном электрическом свете, словно рой ночных бабочек у фонаря, стали видны колеблющиеся под ветром порванные растяжки мачтовой антенны.
— Упадет! — раздался чей-то испуганный возглас, и Юрий узнал: Матвеев.
— Да, опоздали маленько, — разочарованно протянул Никитин, но тут же, спохватясь, сухо распорядился: — Будем крепить!..
Решение командира показалось Уткину необдуманным. Многометровая мачта могла вот-вот рухнуть под ударами урагана. Чтобы этого не случилось, следовало немедленно прикрепить оборванные металлические стрелы-растяжки к вибраторам. Но для этого надо было подняться почти к самой вершине мачты, что сейчас представлялось почти невозможным.
— Кто полезет со мной? — громко спросил Никитин. Все молчали, будто онемели, застыв в строю. Понимали: Никитин один не справится, ему нужен помощник, но лезть на мачту…
— Я! — раздалось вдруг на правом фланге, и вперед шагнул комсгрупорг рядовой Кулешов.
— Я! — почти одновременно произнес командир отделения сержант Щепков.
В ту же минуту, ничего не говоря, из строя вышли Горгота и… рядовой Уткин.
— Так, — удовлетворенно прохрипел Никитин, — хорошо. Только. Наверно, от морозного ветра голос его прервался, он замолчал, посмотрел наверх, туда, где на тонком шесте мачты беспомощно болтались обрывки стрел, перевел взгляд на тех, кто добровольно изъявил согласие пойти с ним на рискованное дело, и повернулся к Уткину:
— Вы не боитесь, Юра?
Если говорить честно — было страшно. Однако он быстро овладел собой:
— Ну что вы, товарищ старший лейтенант!.. Солдат понимал: их радиостанция должна работать бесперебойно, обеспечивая устойчивую связь с другими аэродромами и самолетами, которые находились в небе при любой погоде. Более того, в ненастье летчикам особенно важно каждое указание командного пункта. Вот почему надо во что бы то ни стало устранить повреждение антенны.
— Уткин со мной, остальным обеспечить страховку. Щенков, запасные тросы, быстро! — скомандовал Никитин.
Юрий торопливо снял с себя бушлат, и они пошли к мачте.
Мачта гнулась, раскачивалась из стороны в сторону, как тростинка. Рукавицы быстро промокли насквозь и, покрываясь коркой льда, скользили по гладкому стволу. А тут еще снег сечет по глазам, дышать тяжело, и по телу током проходит озноб. Одно неверное движение — и вмиг рухнешь вниз. Но ни офицер, ни солдат не останавливались. Медленно, осторожно, сантиметр за сантиметром поднимались они вверх.
Никитин не случайно взял с собой Уткина. Он невысок, худощав. Знал командир и о том, как ловко стал работать этот хрупкий с виду паренек на спортивных снарядах.
Что касается Уткина, то он меньше всего думал сейчас о себе. Сначала, когда командир выбрал его, мелькнула мысль: «Почему именно меня?» Но потом все тревоги и опасения вытеснило единственное желание — не оплошать, и он, стараясь реже смотреть вниз, расчетливо выполнял указания Никитина.
Когда был затянут последний болт, Юрий, обрадовавшись, скинул рукавицы. Он полагал, что так будет сподручнее спускаться, но это оказалось еще тяжелее, чем подниматься. Приходилось то и дело останавливаться, отдыхать, а пальцы на морозе прилипали к металлу. Уткин на последних метрах не вытерпел, заскользил по мачте, обхватив ее ногами, и упал на руки страхующих…
Он пришел в себя от боли: врач растирал ему руки. Остро пахло лекарством, и кто-то сказал: «А еще говорят — младший брат…»
Спустя неделю или две, когда рядовой Уткин уже вышел из санчасти и приступил к исполнению своих солдатских обязанностей, его неожиданно вызвали по телефону на контрольно-пропускной пункт. Недоумевая, зачем его требуют так срочно, он прибежал туда, распахнул дверь и замер на пороге: в приемной комнате, рядом со старшим лейтенантом Никитиным, сидела мать. Оказывается, командир послал ей благодарственное письмо, в котором называл Юрия волевым, настойчивым и мужественным солдатом, а мама то ли не поняла, то ли уж очень удивилась, но в тот же день собралась и помчалась к сыну. Даже телеграмму дать забыла.
Встретили ее приветливо. Провели сначала в спальное помещение, и она, отвернув одеяло, посмотрела простыни, даже рукой потрогала, не влажные ли: все-таки Север! Вообще она держалась так, будто приехала проверить, хорошо ли устроили в армии сына, и старший лейтенант Никитин, сопровождая ее, все время предупредительно говорил:
— Прошу вас, Лидия Николаевна… Пожалуйста, Лидия Николаевна…
Она побывала в комнате боевой славы и в ленинской комнате, в библиотеке и в клубе, в солдатской столовой и в чайной. А когда зашла в бытовую комнату, улыбнулась:
— У вас здесь все на месте.
— Все есть, Лидия Николаевна, все, что нужно, — подтвердил Никитин и, открывая один за другим ящики шкафа, показывал: — Здесь нитки и подворотнички, здесь пуговицы, крючки, а здесь — бритвы… Гладильную доску сами смастерили, зеркала, видите, какие…
Потом ее пригласили пообедать в солдатской столовой и хотели посадить за стол, где сидели сверхсрочнослужащие. Однако Лидия Николаевна попросила, чтобы ей разрешили сесть вместе, с Юрием. И, отведав солдатских щей, похвалила повара:
— Вкусно приготовил. Спасибо…
Она гостила два дня — субботу и воскресенье. Собираясь уезжать, сама попросила дежурного по контрольно-пропускному пункту позвать старшего лейтенанта Никитина и, как бы оправдываясь в чем-то, смущенно сказала:
— Так вы, Владимир Иванович, пишите, если что. А когда будете в Ленинграде, обязательно заходите ко мне. Приму, как самого дорогого гостя.
— Благодарю вас… Непременно, непременно, — говорил старший лейтенант.
Вдруг Лидия Николаевна словно только заметила, как обут ее сын, и, вспомнив, очевидно, что он любил носить легкие полуботинки, шутливо спросила:
— Юрик, а ноги ты как поднимаешь? Сапоги солдатские не тяжелы?
Краснея, рядовой Уткин опасливо покосился в сторону товарищей: не засмеются ли? Нет, даже никто не улыбнулся. Наоборот, все наперебой вступились за него:
— Ну что вы, Лидия Николаевна!..
— Да Юрий у нас знаете какой?.. Помолчав, мать ласково улыбнулась:
— Вы дружите?
Юрий до сих пор как-то и не задумывался над этим, Все солдаты и сержанты относились друг к другу уважительно. И Вячеслав Рысий, и Сергей Кулешов, к Николай Горгота, и Веня Матвеев, и многие другие постоянно заботились о нем, бескорыстно помогали в учебе и в работе. Это было настолько обычным и привычным, что никто не допускал и мысли о каких-то иных взаимоотношениях.
Но Уткин не знал, как рассказать о своих чувствах матери, и только кивнул:
— Да, мы дружим…
Провожал мать Юрий вместе со старшим сержантом Рысиным. До отхода поезда было еще около получаса, но Лидия Николаевна, едва войдя в купе, начала торопить их:
— Идите, ребята, домой.
— Успеем, — успокоил ее Вячеслав.
— Идите, я говорю! — потребовала она. — Вам завтра рано подниматься…
Они не видели, что она украдкой наблюдает за ними из окна. А Лидия Николаевна боялась, что расплачется, и не хотела показывать своих невольных слез. Нет, не от грусти. Разлука печалила, но не тревожила. Ее сын, солдат, живет в хорошем, дружном коллективе. Вот он, не отставая ни на шаг от высокого, плечистого сержанта, идет с ним рядом.
Кто-кто, а уж она-то знала, каким рос ее сын. Болел, бывало, часто и до самого призыва в армию казался хилым, слабым. А сейчас, в солдатской шинели, он выглядел выше, стройнее и увереннее. В жестах его еще видна мальчишеская угловатость, но вместе с тем чувствуется уже мужская солидность. Лидия Николаевна отметила это про себя, и в сердце ее шевельнулось горячее чувство любви к сыну, гордость за него и благодарность к тем, среди которых Юрий чувствует себя как в родной семье.
ПЕСНЯ НАД ОБЛАКАМИ
Полет начинался буднично, просто, как это было уже не раз. Да и что, собственно, может быть необычного в работе, экипажа самолета, который в военной авиации именуется весьма прозаически — вспомогательным? У других сногсшибательные скорости и головокружительные высоты, реактивные двигатели… А тут еще обыкновенное магнето и полузабытая, как предание, команда: «От винтов!» Потом неторопливый, почти автомобильный разбег — и плыви себе без малейшей перегрузки, будто на прогулочной яхте.
А что, не так? Даже фюзеляж в этом самолете отделан внутри под уютный салон: на полу — ковер, на иллюминаторах — шелковые занавески; и бортмеханика — младшего сержанта Володю Аболина — товарищи дружелюбно называют стюардом.
Сама работа у экипажа тоже вроде не очень хлопотная. Если и приходится иногда волноваться, так это когда генерал куда-нибудь летит. Тут невольно все подтягиваются. А сегодня задание самое заурядное: доставить в район тактических учений двоих офицеров. И лету туда — немногим более часа.
Вылетели вечером. Погода была, как говорят авиаторы, благоприятной. Правда, небо вскоре начало хмуриться, и бортрадист Сергей Дорошенко, который перед полетом побывал на метеостанции, сказал, что на маршруте возможна встреча с циклоном. Но над его словами лишь благодушно посмеялись. Все в экипаже давно знали слабость Сергея к синоптикам — он любил постоять около их хитроумных аппаратов и разноцветных карт, испещренных цифрами и непонятными условными знаками. Однажды, наслушавшись на метеостанции разговоров, он объявил:
— Сегодня день будет жаркий…
— Это почему? — спросил Аболин, заинтригованный таким щедрым для ранней весны прогнозом.
— А потому, — веско отвечал Дорошенко, — что произошло вторжение огромных масс африканского воздуха в атмосферу…
— Боюсь, Сергей Захарович, слышал ты звон, да не знаешь, про что он, — усмехнулся Аболин.
— Посмотрим, — снисходительно отвечал Дорошенко. — Уже и сейчас видно: турбулентность даже здесь, на земле, ощущается, а облачность разорванная, как при прохождении вторичного фронта.
Бортмеханик прямо-таки онемел от удивления: надо же, какие тонкости в метеорологии постиг его товарищ!
Однако, вопреки предсказаниям Дорошенко, день выдался дождливый, холодный, и тут же Аболин не преминул подкусить новоявленного синоптика:
— Беда, коль пироги начнет печи сапожник! Дорошенко рассердился:
— При чем тут я? Просто откуда-то циклон вывернулся…
— И не простой циклон, а дорошенковский, — под смех окружающих заявил Аболин.
С тех пор так и пошло. Как только не оправдается прогноз, так кто-нибудь и напомнит:
— Опять дорошенковский циклон…
Потому и сейчас предположение Сергея о плохой погоде на маршруте встретили с улыбкой. Получил командир экипажа метеобюллетень, разрешающий вылет? Получил. Так чего еще какие-то страхи выдумывать?..
Никто не вспомнил о словах бортрадиста и тогда, когда самолет, набирая высоту, вошел в облака. В экипаже летчики молодые, смелые. Они не впервые поднимаются в небо, и уж им ли не знать все его капризы! Ну, и командир корабля капитан Борис Николаевич Букетин — летчик, каких поискать. И в тучах, и ночью он пилотирует машину с такой же уверенностью, как и в безоблачном небе.
А по виду, да еще если Борис Николаевич надевает штатский костюм, не скажешь, что это боевой летчик. Посмотришь — этакий добродушнейший человек. Говорит Борис Николаевич мало, больше молчит, а когда приходится надолго застревать на каком-нибудь аэродроме, сразу же погружается в чтение.
Дома у него хорошая библиотека, и он все время ее пополняет. Если экипаж прилетит в большой город, Букетин непременно поспешит в книжный магазин. И как бывает доволен, если ему удастся купить какое-нибудь редкое издание!
Домашняя библиотека Бориса Николаевича — предмет зависти второго пилота старшего лейтенанта Данилова. У него тоже много книг, но у командира экипажа — больше, и Букетин подзадоривает помощника:
— Догоняй, Дмитрий Павлович.
Сейчас эти завзятые книголюбы сидели рядом в пилотской кабине и делали одно дело: вели машину сквозь облака. Пилотировал Данилов. Капитан Букетин передал ему штурвал почти сразу после отрыва от земли, но, когда вошли в облачность, стал внимательно следить за приборами, хотя в управление не вмешивался.
Облака оказались злыми. Они вскоре задали самолету внушительную трепку, и тогда обоим летчикам пришлось приналечь на рули. Насторожился и штурман капитан Жуков: резкие броски сбивали машину с курса; озабоченно сдвинул брови борттехник: не подвели бы двигатели; что-то сердито бормотал себе под нос Дорошенко: атмосферные разряды затрудняли радиосвязь. Но все так же ровно звенели винты, разрывая широкими лопастями серую пелену туч, и от плотной, крепко сбитой фигуры капитана Букетина, который, по обыкновению чуть сутулясь, сидел за штурвалом, так и веяло спокойствием.
Самым беззаботным в экипаже был, пожалуй, «стюард» Аболин. Он изредка поглядывал в иллюминатор, напевая песенку. Это у него привычка была такая — негромко петь, и почти всегда одно и то же. Работает плоскогубцами или ключом — и вдруг затянет вполголоса:
Было у тещеньки Семеро зятьев…Заправит баки горючим, воткнет зарядный пистолет в горловину, махнет рукой водителю бензовоза: «Давай!» — и опять:
Стала их тещенька, Стала в гости звать…В полете никому и дела не было до того, что он сейчас напевает, но, наверно, снова вспомнил всех семерых зятьев. А что еще делать? По сторонам смотреть — неинтересно: за выпуклым стеклом сплошной туман, земли не видно. О пассажирах беспокоиться не нужно: они мирно беседовали, будто находились не в ночном небе, а в штабном кабинете. «Ко всему привычны, — уважительно подумал о них Аболин. — Даже перед самым стартом не о полете речь вели, а о том, что в районе учений много озер, богатых рыбой. Тоже, видимо, рыбаки-теоретики».
Рыбаками-теоретиками в экипаже называют бортмеханика старшего техника-лейтенанта Городецкого и штурмана капитана Жукова. Куда бы ни летели — у обоих один разговор: а нельзя ли в том краю, если будет задержка, порыбачить? Но на полевых аэродромах экипаж обычно находился после приземления недолго. Выполнено задание, дозаправлен самолет горючим — снова вылет. Вот и получается, что штурман с бортмехаником рыбачат лишь в мечтах — теоретически…
Неожиданно облака на какой-то миг осветились яркой вспышкой. Было похоже, что там, за бортом, полыхнул огонь от беззвучного взрыва.
— Где мы? — обеспокоенно наклонились к иллюминаторам пассажиры. — Не над полигоном ли?
Нет, это сверкнула молния в тучах, и капитан Букетин, пытаясь обойти очаг грозы, уже перевел самолет в режим набора высоты. А гроза где-то рядом… Ух ты, вон как опять полыхнуло!..
Разряд молнии чаще всего не страшен для самолета. Металлическая обшивка играет роль экрана, защищающего экипаж и оборудование. И все же, если не в порядке металлизация и если включены электрические приборы, гроза может вызвать на самолете — пожар. Ведь то, что мы с земли видим как тонкий ломаный луч, представляет собой настоящую огненную реку. «Течет» она максимум полторы секунды, и длина ее не столь уж велика — всего около тридцати километров, но сила!.. Сила такого потока достигает двухсот тысяч ампер, а то и больше.
Сознавая это, капитан Букетин старался быстрее вывести самолет из облачности. И вот над головой снова чистое небо, ярко мерцают звезды. Гроза осталась внизу…
Но что это? Выше самолет не идет: потолок транспортника ограничен; а звезды вверху сверкнули и исчезли, словно их кто-то смахнул с неба. Значит, и там тучи; значит, обойти грозу верхом не удастся. А она как будто только того и ждала: ее драконовое дыхание тотчас охватило машину со всех сторон, почти непрерывно заливая лица пилотов холодными иссиня-зелеными отсветами. Огненные всполохи напоминали пульсирующее пламя какой-то гигантской электросварки.
Грома не было слышно, его раскаты заглушало гудение двигателей. Самолет весь дрожал, словно его бил озноб страха. А тут еще одна неприятность: аэродром, куда держали путь, отказался принять «чужой» самолет. Там, удирая от грозы, торопились приземлиться свои.
— Передай кодом, зачем мы к ним идем, — приказал Букетин, и вдруг голос его прервался. Невероятной силы удар обрушился на машину, и в следующую секунду она, треща всеми суставами, рухнула вниз, будто сорвалась с обрыва в самое пекло рассвирепевшей стихии. Один из пассажиров вылетел из кресла и покатился по салону.
До тошноты противно ощущение беспорядочного падения в темноте. Перед глазами, словно искры от ударов, замельтешили фосфоресцирующие стрелки приборов. И все же Букетин сориентировался, выровнял чуть было не опрокинувшийся самолет. Он сидел в пилотском кресле как влитый. Только по тому, как напряглась на спине, готовая лопнуть, кожа летной куртки, можно было догадаться, чего стоила ему схватка с неимоверной болтанкой.
Воля командира — уверенность экипажа, никто ни на минуту не поддался панике. Все продолжали заниматься своим делом. Аболин уже помогал подняться упавшему пассажиру; Городецкий щелкал тумблерами, выключая все, что можно было обесточить; Дорошенко, морщась от треска в наушниках, вызывал командный пункт аэродрома назначения; Жуков торопливо настраивал на нужную частоту радиокомпас.
Первый натиск стихии был отбит. Но вокруг по-прежнему хлестал ливень, почти непрерывно полыхали молнии. Самолет мчался, лавируя между очагами огненных разрядов, его бросало то вверх, то вниз такими рывками, что скрежетала обшивка. Казалось, снаружи по фюзеляжу колотят огромные кувалды. Каждый бросок вниз напоминал падение в пропасть: стрелка вариометра в секторе «Спуск» вздрагивала далеко за последним делением.
Пассажир, которому Аболин только что помог подняться, не утерпев, шагнул к пилотской кабине, тронул за плечо склонившегося над штурманским планшетом капитана Жукова:
— Владимир Федорович, может, помочь? В таком аду и с курса сбиться не мудрено…
Офицер этот по званию был старше всех на борту. На никому не разрешается вмешиваться в действия экипажа во время полета. Капитан Букетин, обернувшись, сказал:
— Не надо. Не беспокойтесь…
Вспышки молний озаряли кабину, как лучи прожекторов. А когда они гасли, тьма вокруг казалась еще более черной. Эти мгновенные переходы от слепящего света к мраку мешали наблюдать за приборами, и непонятно, как Букетин ухитрялся читать их показания. Он вел самолет по чутью, выработанному многолетней практикой.
Как бы там ни было, а экипаж работал, машина упрямо пробивалась вперед. Любой самолет Гражданского воздушного флота давно бы повернул обратно, но Букетин этого не сделал. Он знал: пассажиры должны быть в указанное время там, куда их приказано доставить. Их ждут, без них не начнут тактические учения… Вот так, наверно, в годы войны пробивались к цели экипажи наших боевых самолетов, чтобы нанести бомбовый удар по вражеским объектам или доставить боеприпасы партизанам. И ничто не могло заставить их повернуть вспять — ни плохая погода, ни зенитный огонь, ни атаки истребителей…
Томительно тянулись минуты. Казалось, грозовому фронту не будет конца. Но вот глазам неожиданно открылась россыпь на чистом небе: гроза осталась позади и внизу, а над головой сверкали звезды. Самолет шел теперь необычайно плавно, не летел, а плыл, и ровное гудение двигателей казалось музыкой.
И Аболин снова как ни в чем не бывало затянул:
Стала их тещенька, Стала провожать…КОЛОКОЛЬЧИКИ НА АЭРОДРОМЕ
Шла вторая половина мая. Над степью с утра приветливо и мягко голубело небо. На раздольном, как сама степь, полевом аэродроме холодно и сочно зеленела трава. В безветренные ночи на нее густо ложилась роса. Тогда в воздухе перед восходом солнца разливалась такая бодрящая свежесть, что сами собой расправлялись плечи и дышалось легко-легко.
Лейтенант Николай Глазунов любил эти ранние часы, когда в воздухе, еще не потревоженном сердитым рокотом двигателей, рождался новый весенний день. Однако в последнее время, выходя поутру на аэродром, он не испытывал той окрыляющей радости, которая обычно охватывала его перед началом полетов. Почему? О, причин было много. А более всего тяготила молодого летчика нехитрая и, казалось бы, давно привычная процедура медицинского осмотра.
С ним творилось что-то непонятное. Ладно бы болячка какая вскочила или прихворнул чуток, так нет, он даже малейшего недомогания не испытывал. А меж тем вспомнит, что перед вылетом надо явиться к врачу, и зябко поежится. Смех, да и только. Как ребятенок, которого напугали уколами.
В самом деле, ему ли опасаться медиков! Он здоров, совершенно здоров. Всякий раз, прослушав его сердце, терапевт восклицал:
— Вот это мотор!
Председатель врачебно-летной комиссии — полковник. Профессор не профессор, а около того. Перед дверью его кабинета замедляли шаг самые отчаянные пилотяги. А Глазунов и к нему шел с беззаботной улыбкой.
При первой же встрече с лейтенантом этот суровый эскулап радостно пробасил:
— Не перевелись богатыри на земле русской!
Он уважительно окинул взглядом крепко сбитую фигуру Николая, ласково, но ощутимо постукал кулаком по его крутым голым плечам, охватил всей пятерней и бесцеремонно помял бицепсы, грубовато толкнул в грудь:
— Без ограничений на любых типах самолетов. Потом, уже поставив под заключением свою размашистую подпись, полюбопытствовал:
— Боксер?
И, не ожидая ответа, понимающе пророкотал:
— Видно, до армии поработал всласть.
— Было дело, — польщенно отозвался Глазунов, вспоминая свое не столь далекое прошлое. Рос он в деревне и рано приобщился к нелегкому сельскому труду. Зато и закалку получил как бы специально для авиации.
— Прирожденный бомбардир, — говорили о нем сослуживцы.
А еще его называли сибиряком.
Вообще-то Николай родился на Орловщине. Но случилось так, что эскадрилья минувшим летом побывала на одном из аэродромов ГДР. Тамошние жители поинтересовались, есть ли среди русских пилотов сибиряки. Тут кто-то и ткнул пальцем в сторону Глазунова.
— О-о! — восхищенно закивали немцы. — О-о!..
Ну и с тех пор так и пошло: сибиряк да сибиряк. Лейтенант поначалу пытался объясниться, а потом смирился, привык. Характер у него был покладистый, спорить он не любил.
Летал Николай с таким же усердием, с каким когда-то пахал. Возьмет штурвал — бомбардировщик словно присмиреет, почуяв властную руку. Поставь на плоскость стакан с водой — не колыхнется.
— Есть у парня летная хватка. Не гляди, что молодой, пилотирует классно, — хвалил Глазунова командир эскадрильи майор Филатов, и губы его трогала ласковая усмешка: — Как старик.
Такие слова в устах Филатова были наивысшей оценкой. Что ж, лейтенант ее вполне заслуживал.
Одного не учел почему-то командир. Если молодому парню сопутствует удача, ему начинает казаться, что он может все. А в небе нет торных дорог. Там при самоуверенной безоглядности враз споткнешься.
И Глазунов споткнулся. Причем почти в буквальном смысле этого слова.
В марте летный состав эскадрильи тренировался в прыжках с парашютом. Участвовали все без исключения — и пилоты, и штурманы, и воздушные стрелки-радисты. Прыгнул и Глазунов. А что, мол, велика ли хитрость — шагнуть за борт и дернуть вытяжное кольцо.
Он не посмотрел, куда опускается, и угодил на мерзлую кочку. Левой ногой — на кочку, правая скользнула мимо, и — на тебе! — растяжение.
С того дня и пошло у него все через пень-колоду. Шутка ли — около трех недель хромал. Летать, конечно, не мог. Допустили после этого к полетам — новая неприятность: не удержал бомбардировщик от разворота в момент старта. Хорошо еще, что на грунте не было колдобин, иначе лежать бы экипажу вместе с машиной вверх тормашками.
Поднялся шум: куда смотрел врач? Почему летчик сел за штурвал с больной ногой? Наказать обоих!
— За что? — вскинулся Николай. — Там — лед. А вы… Проверили — точно: на взлетной полосе под слоем нанесенного ветром песка была довольно-таки большая корка нерастаявшего льда. Попробуй различи его из кабины стартующего самолета.
Только лучше бы лейтенант не оправдывался.
— Смотреть надо! — сердито загремел майор Филатов. — Привыкли, понимаешь, к сухой бетонке. Тот раз кочку не заметил, теперь — лед. На то мы и военные летчики, чтобы с полевого аэродрома летать…
Так и записали Глазунову предпосылку к аварии. Он сник, замкнулся, поклялся себе быть более осмотрительным, осторожным, да все же не уберегся. Опять стряслась с ним беда. Да еще какая! При посадке на его самолете подломилась стойка шасси.
Страшно было наблюдать эту картину со стороны. Тяжелая машина резко клюнула носом в землю, передняя, остекленная часть фюзеляжа хрупнула, точно яичная скорлупа. Над подсохшим аэродромом, будто от взрыва, поднялась туча пыли. Густая, черная, она была похожа на дым. Туда, к этому облаку, бежали люди. Обгоняя их, мчались автомобили — пожарный, санитарный и командирский газик.
Нет, пожара Глазунов не допустил. Он, как на грех, не был привязан плечевыми ремнями и от рывка гвозданулся головой о приборную доску. Однако подачу горючего перекрыл, двигатели выключил вовремя.
Когда автомашины, визжа тормозами, остановились возле покалеченного бомбардировщика, летчик, штурман и стрелок-радист, выбравшись из кабины, уже снимали с себя парашюты. Командир экипажа был невредим, только очень бледен, да по щеке у него из рассеченной брови стекала тонкая струйка крови.
Эта струйка насмерть перепугала дежурного врача — лейтенанта медицинской службы Лубенцову. Минуя штурмана и стрелка-радиста, она опрометью бросилась к пилоту. Подбежав, привстала на цыпочки, ощупывая дрожащими руками его голову, а потом вдруг приникла к груди.
Свидетельницей аварии на аэродроме Лубенцова оказалась впервые. Она, наверно, хотела прослушать сердце пострадавшего, да потеряла самообладание и, забыв стетоскоп, прибегла к такому способу. Или кто ее знает, что она там хотела, но летчик был обескуражен. Он покраснел и отстранился:
— Ну что вы, Ирина Федоровна, в самом-то деле! Вы же видите — ничего особенного не случилось.
Тогда Лубенцова, ссутулясь, обиженно отвернулась и побрела к своей машине. А комэск, который до сего момента молчал, укоризненно произнес:
— Что же ты, Глазунов, женщин пугаешь?!
Сердито нахмурясь, майор вытащил из кармана и протянул лейтенанту носовой платок:
— Приведи себя в порядок.
— Спасибо, — буркнул летчик. — У меня свой.
Он забыл даже о том, что должен был доложить о причине аварии. Впрочем, причина была неизвестна и ему самому. Сажал самолет правильно, а вышло черт знает что. Пойдут разговоры, расспросы, дознания. Начнут опять допытываться, не болит ли все-таки нога, не сказался ли вынужденный перерыв в полетах после злополучного прыжка с парашютом. Могут еще и к окулисту послать для проверки зрения: то кочки не видел, то припорошенного пылью льда, а сейчас и вообще плюхнулся будто сослепу. Тут кто угодно заподозрит, что это уже не случайность.
Вопреки ожиданиям летчика, никто его ни в чем не упрекал. Комэск, не требуя объяснений, приказал поднять самолет для осмотра, и все стало понятно при первом же взгляде на изувеченную стойку. Скрытая потеками загустевшей гидросмеси, на ней была давняя трещина.
Края ее успели потемнеть от коррозии, а дальше, словно перебитая кость, зернисто белел излом.
Техническая комиссия тут же составила акт. Поврежденную машину решено было отправить в ремонт, а экипажу временно дали новый бомбардировщик.
— Полетишь? — спросил Глазунова командир. — Не сдрейфишь?
— Полечу, — бодро ответил повеселевший лётчик.
— Правильно; — одобрил Филатов. Будучи человеком дела, он любил энергичных, волевых людей. — А на страхи наплевать и забыть. Для нашего брата всякие там эмоции — непозволительная роскошь. Впрочем, — рассудил майор в заключение, — горячиться и спешить тоже особо не надо. Разок мы все же слетаем вместе. Порядок есть порядок, и незачем лезть на рожон.
Если комэск поначалу и не очень-то верил в спокойствие Глазунова, то летчику удалось быстро рассеять его сомнения. Уже на следующий день он с безукоризненной чистотой в пилотировании сделал контрольный полет. Чтобы окончательно убедиться в своих выводах, майор запланировал ему еще три вылета по «коробочке», то есть по большому кругу над аэродромом. На каждый такой круг с четырьмя углами-разворотами уходит восемь — десять минут, зато пилот получает хорошую тренировку в выполнении посадки. Лейтенант приземлял машину деликатно, мягко, почти без толчка при касании колес о землю.
— Классно садится, — отметил Филатов и, помолчав, добавил свое излюбленное: — Как старик.
Есть люди, у которых сама наружность говорит о их хладнокровии и смелости. Таким был и Николай Глазунов. Никто не мог заметить ни в его облике, ни в поведении что-то похожее на робость. Но себя-то не обманешь. Продолжая летать, лейтенант чувствовал, что становится не тем, каким был прежде.
Проявилось это и в полетах. Впрочем, не сразу.
В середине мая погоду неожиданно испортил мощный циклон. Над степью долго висели холодные, мрачные тучи, шел нудный, затяжной дождь. Затем, пока подсыхал размякший грунт, экипажи бомбардировщиков вынуждены были работать со стационарного аэродрома.
Командир эскадрильи недовольно хмурился, раздраженно ворчал из-за любого пустяка: ненастье срывало план полетов с грунта. Чтобы лишний раз не расстраивать майора, авиаторы помалкивали, хотя каждый был доволен возвращением на зимние квартиры, пусть даже кратковременным. Там, в поле, очень уж досаждали нынешней весной комары и злая, кусачая мошкара.
А Глазунов — тот и не скрывал своего оживления. Он с видом знатока рассуждал о видах на урожай, о том, как кстати выпал добрый майский дождь.
И летал Николай в эти дни с особым удовольствием. А уж садился на бетонированную полосу — впритирочку. Словно и не было у него недавней аварии.
Передышка оказалась недолгой. Жаркое в тех краях солнце быстро сделало свое дело: степь подсохла меньше чем за неделю. Во вторник все три звена сходили на бомбометание по мишеням на отдаленном полигоне, а в воздухе комэск дал вводную:
— Идем на запасной!
Шли налегке, почти с пустыми баками. Самолет послушнее отзывался на каждое движение рулей. И все-таки, завершая полет, Глазунов пилотировал машину с какой-то странной нервозностью. Под конец он замешкался с визуальным определением высоты, слишком поздно сбавил обороты двигателям и рывком взял штурвал на себя. Бомбардировщик не к месту резво взмыл, затем, потеряв скорость, тяжело просел и от грубого толчка о землю застонал всем своим металлическим нутром.
— В чем дело? — обеспокоенно спросил комэск.
— Рука устала, — буркнул Глазунов. — Слишком долго летали.
Он хитрил, надеясь, что плохая посадка получилась у него случайно. Увы, все повторилось во втором полете, а потом и в третьем.
— Ну, ты даешь! — рассердился штурман. — Так можно без зубов остаться. Что с тобой?
Со штурманом своего экипажа лейтенантом Мишей Зыкиным и стрелком-радистом сержантом Васей Ковалем летчик, как правило, анализировал каждый выполненный полет, а тут лишь виновато взглянул на них и уединился. Да и что он мог сказать, если сам еще не разобрался в собственных ошибках! Стартует — нормально, положит корабль на боевой курс — ни одна стрелка на приборах не шелохнется, а вот при спуске глянет этак метров с тридцати вниз — и внутри у него словно обмякнет все.
Так и кажется, что едва бомбардировщик коснется грунта, как опять раздастся треск, грохот и скрежет. Мышцы от напряжения деревенеют, левая рука готова сама собой послать вперед секторы газа, а правая машинально ослабляет нажим на штурвал, и самолет выходит из угла планирования.
— Глиссаду держи, глиссаду! — гремит в наушниках предостерегающий голос руководителя полетов. Глазунов, спохватившись, давит руль глубины книзу, но глиссада — воображаемая линия спуска — уже сломана, выпрямлять ее поздно, потому что земля — вот она, рядом. И посадка — комом: то по-вороньи, со взмыванием, то с козлиным прыжком.
А в один из веселых, солнечных дней Николай, находясь в небе, поймал себя на совершенно несуразном желании: ему не хотелось возвращаться на аэродром. В герметичной кабине было тепло и тихо. Освежая лицо, на пульте по-домашнему ласково шелестел эластичными крылышками вентилятор, приглушенно, как бы откуда-то издалека, тек убаюкивающий гул двигателей. Вот так лететь и лететь бы куда угодно и сколько угодно, лишь бы не вести самолет на посадку.
Лейтенант понимал, что его новый бомбардировщик абсолютно исправен, однако в сердце жило тревожное ожидание, будто и на нем в момент приземления подломятся шасси. Усилием воли Глазунов подавлял в себе это ощущение, но как только крылатая громадина — такая могучая и такая хрупкая — содрогалась от толчка о грунт, летчик сжимал зубы, чтобы не застонать.
Теперь он сознавал, что с ним. Его снедала та болезнь, которую у авиаторов называют боязнью земли. Точнее говоря, это была нервная депрессия после целого ряда передряг, пережитых в последние месяцы.
Признайся Николай в своем недуге командиру эскадрильи или кому-нибудь из старших товарищей, они наверняка помогли бы ему в самый короткий срок обрести былое равновесие и уверенность. Однако молодой офицер был самолюбив. К тому же он опасался, как бы его вообще не списали с летной работы, сочтя слабовольным, а то, чего доброго, и трусом. «Страх есть страх, в каком бы виде ни проявлялся, — рассуждал лейтенант, — и если пилот не в силах побороть боязни земли, то рано или поздно он может разбиться».
Чтобы начальство или сослуживцы не сделали таких выводов о нем, летчик воевал сам с собой в одиночку. Дорого стоила ему эта душевная борьба. Все сильнее и сильнее становилось предчувствие неотвратимо надвигающейся беды. Уже не только в воздухе, не только в минуту снижения к аэродрому, а еще задолго до вылета он испытывал противную расслабленность. Бывало, утренняя свежесть лишь бодрила его, а теперь вызывала озноб, в то время как лицо пылало.
Первой начала догадываться о переживаниях Николая эскадрильский врач Лубенцова. Эта девушка была любопытна. Вместо того чтобы спокойно принимать летчиков в медпункте, она частенько бродила по аэродрому, заговаривая то с одним, то с другим из своих подопечных. И вот однажды, поздоровавшись с Глазуновым, она вдруг спросила:
— Уж не больны ли вы, лейтенант? У вас такая горячая рука! И на лице румянец подозрительный. Пройдемте-ка со мной.
— Вечно у вас какие-то подозрения, Ирина Федоровна, — притворно улыбнулся летчик. — Просто я очень быстро шел. К самолету спешу. Так что позвольте зайти к вам через полчасика…
Обычно офицеры, особенно те, кто постарше, относились к Лубенцовой с чувством некоторого превосходства. Они добродушно подтрунивали над молоденькой женщиной в погонах, которая с чрезмерной серьезностью заставляла их, пышущих здоровьем мужиков, ежедневно перед началом полетов мерить температуру и кровяное давление, подставлять для прослушивания голую спину, показывать язык и дышать в какую-то хитрую трубку.
— Помилуйте, Ирина Федоровна, — не раз с досадой ворчал Глазунов. — Вы и вчера меня мучали, и позавчера. Зачем же опять?
— Матерый воздушный волк прикидывается бедным ягненком, — смеялась Лубенцова. — Не выйдет!
К летчикам Ирина Федоровна, по ее словам, была неравнодушна, преклоняясь перед их мужественной и гордой профессией. Тем не менее держалась она с завидным тактом и чувством собственного достоинства, решительно отклоняя попытки ухаживания многочисленных гарнизонных кавалеров. А уж в том, что касалось ее служебных обязанностей, Лубенцова была пунктуальной прямо-таки до педантизма. Пилоты, случалось, в сердцах называли ее бюрократом от медицины. Вот и сейчас, как Глазунов ни отбивался, она все же заставила его идти в медпункт и всучила ему градусник.
Нехотя опустившись на покрытый клеенкой топчан, Николай насупленно уставился в окно. Он не мог, не хотел встречаться с Лубенцовой взглядом. У «бюрократки от медицины» была неприятная манера смотреть прямо в глаза, а тут еще она чему-то загадочно улыбалась. Радовалась, видимо, своей профессиональной проницательности. Как же, по внешнему виду, по рукопожатию определила, что у него повышенная температура.
К ее немалому удивлению, градусник показал тридцать шесть и шесть.
— Странно, — вырвалось у нее.
А Глазунова разочарованный голос Лубенцовой развеселил. Он язвительно усмехнулся:
— Ох, Ирина Федоровна, опасный вы человек. Верно все же подмечено: если хочешь летать, не верь врачам своим.
По лицу Лубенцовой скользнула тень смущения, она вроде бы рассердилась и назидательно сказала:
— А мне, Николай Сергеевич, известна другая пословица. Тоже, кстати, авиационная: верить — верь, но проверить — проверь. И напрасно вы ершитесь, вид у вас неважный. Такой, знаете, удрученный, что ли.
— У кого? У меня?! — воскликнул летчик. — Шутить изволите, милый доктор! — Он рывком застегнул на куртке «молнию», приосанился: — Да у меня плечо шире дедова… — Помолчал, вспоминая, и уже с полной непринужденностью продекламировал: — Грудь высокая моей матушки в молоке зажгла зорю красную на лице моем…
— Кольцова в союзники берете? — насмешливо взглянула на него Ирина Федоровна. — Маскируетесь? Ах вы, Коля-Николаша!
— Допустим, — кивнул лейтенант. — И все-таки ваша проницательность, по-моему, основана на ложной примете. Говорят, руки холодные — сердце горячее. Нет, скорее, наоборот. У меня, осмелюсь доложить, просто-напросто пылкая кровь, вот и все. А вы…
— Вижу, вижу, — снисходительно сказала Лубенцова, и в густых ресницах лукаво блеснули ее глаза: — От чего другого, а от скромности вы не умрете.
Она вроде бы поверила показной бодрости летчика и допустила его к полетам. Николай, выйдя из медпункта, облегченно вздохнул, однако позже не мог не заметить, что дотошная врачиха продолжала наблюдать за ним до конца рабочего дня. Он сталкивался с ней то в аэродромном домике, где отдыхал между вылетами, то в столовой во время второго завтрака и на обеде, то возле стартового командного пункта, куда был приглашен для разговора о еще одной неудачной своей посадке. И всякий раз, даже не оборачиваясь, пилот ощущал на себе ее внимательный, как бы изучающий взгляд.
«Чего ей надо, этой бюрократке?» — злился Глазунов, чувствуя, что она догадывается о его состоянии. А еще больше досадовал на самого себя. Распустил нюни — уже со стороны видно. Нет, так не годится, надо завязать нервы тугим узлом!
В очередной летный день Николай явился на медосмотр первым. Лубенцова встретила его на крыльце. Приветствуя ее, лейтенант коснулся пальцами козырька фуражки и сделал вид, что не замечает протянутой ему руки. Тем не менее Ирина Федоровна не обиделась. Она, улыбаясь, зябко повела плечами, пожаловалась, что утро по-весеннему холодное, и, немного кокетничая, нетерпеливо попросила:
— Да погрейте же мне руки, пылкая кровь!
«Вот притвора!» — отметил про себя летчик, а вслух наигранно простодушным тоном воскликнул:
— О, с удовольствием!
Ее покрасневшие от холода пальцы доверчиво легли в широкие горячие ладони Глазунова, и она долго не отнимала их. Но, болтая о пустяках, Лубенцова пристально всматривалась в лицо пилота и вдруг огорошила его:
— У вас сегодня учащенный пульс!
— Вполне возможно, — нашелся Николай. — Вы, хотя и офицер, товарищ военврач, но — женщина. Притом — хорошенькая.
Ирина Федоровна, очевидно, не ожидала такого с его стороны и взглянула на него с подчеркнутой напускной строгостью. А он и без того испугался своей развязности, щеки его вспыхнули вишневым румянцем. Увидев это, Лубенцова рассмеялась:
— Не умеете вы говорить комплименты, Коля-Николаша.
А сама засуетилась, заспешила. Широко распахнув дверь, пригласила летчика в медпункт, усадив на ненавистный ему топчан, сунула под мышку холодный термометр и все говорила, говорила, точно боялась остановиться. По лицу ее блуждало застенчивое и рассеянное выражение, будто, спрашивая об одном, она что-то припоминала и прислушивалась к каким-то совсем другим своим мыслям.
Голос Лубенцовой, как это нередко бывало у него при сильном волнении, доходил до Николая волнами, то словно отдаляясь, то слишком громко. Летчик изо всех сил старался казаться невозмутимым, хотя это давалось ему с трудом, и досадовал на себя за свою мальчишескую стеснительность. В то же время он ни на минуту не забывал, ради чего ведет игру. Главное — получить от этой хитрющей врачихи разрешение летать, потому что ему и в самом деле отчего-то не по себе, а она, конечно, замечает его возбуждение. У нее, видишь ли, руки озябли. Как бы не так! Проверяет, ловит, ищет, к чему бы придраться. Еще бы, она не просто врач. Она — авиационный врач, врач-психолог. И лейтенант, мысленно усмехнувшись, сказал с видом мужчины, у которого задето самолюбие:
— Надеюсь, у вас больше нет ко мне претензий?
— Пока нет, — вяло, вроде сникая, отозвалась Лубенцова и пожелала ему счастливого полета.
Полет между тем оказался не очень счастливым. Собственно, не сам полет, а посадка.
Получилась какая-то несусветная ерунда. Теряя последние метры высоты, Николай впился взглядом в стремительно набегающую землю и вдруг вздрогнул: зелень летного поля была усеяна рыжими кочками. Точь-в-точь такими, какие бывают на заброшенной, давно не паханной местности. Сядешь на этот бугристый участок — хана!..
Сознание тотчас пересилило минутную растерянность. Отгоняя несообразное видение, летчик тряхнул головой, и все стало понятным. Рыжими холмиками ему показались махонькие, почти прозрачные пятнышки, оставленные на смотровом стекле кабины вездесущей мошкарой. Стекло не протерли как следует перед стартом, и теперь перед чрезмерно напряженным взглядом пилота безобидные темные точки разрослись до невероятных размеров.
Мимолетное замешательство не обошлось без последствий: в момент приземления все решают доли секунды. Сам того не замечая, летчик допустил небольшой крен. Бомбардировщик опустился на одно колесо и, уклоняясь влево, метнулся в сторону командного пункта. Тормоза были выжаты полностью, намертво, но колеса, вздымая пыль, скользили по грунту, не вращаясь. Лишь газанув левым двигателем, лейтенант удержал самолет от дальнейшего разворота.
Командир эскадрильи на этот раз вообще отказался что-либо понимать. Он смотрел на летчика с таким видом, будто тот нес самую бессовестную околесицу. Мыслимое ли дело — на абсолютно ровной посадочной полосе ему примерещились кочки!
— Пойди отдохни и хорошенько подумай, — сердито сказал майор. Это само по себе было неприятным для Николая, а тут еще Лубенцова взглянула на него как-то очень уж странно: то ли с сочувствием, то ли с жалостью, то ли с пренебрежением. Тоже небось думает, что он слабый летчик. Ну и пусть думает! Только зачем преследует его? Факты для своей диссертации подбирает, что ли? О том, что готовит диссертацию, все в эскадрилье знают, а ему она, наверно, совсем не случайно ничего не говорит. Почему? Да потому что избрала основным объектом наблюдений. Только он не подопытный кролик!
Все больше раздражаясь, Глазунов вспомнил, что Ирина Федоровна в самом деле всегда оказывалась едва ли не первой рядом с ним после каждой неприятности: и после неудачного прыжка с парашютом, и после поломки самолета, и вот сегодня. А взять испытания, которые летный состав проходил в барокамере перед полетами в стратосфере! В тот день Лубенцова тоже почему-то расспрашивала его о самочувствии куда подробнее, чем всех остальных.
И еще одна деталь бросилась в глаза лейтенанту: после его разговора с командиром об этих дурацких кочках врач долго беседовала с Мишей Зыкиным.
Когда они наконец распрощались, летчик не утерпел, подошел к штурману:
— О чем это вы там секретничали?
Зыкин замялся было, потом вдруг сердито сказал:
— О том, что любопытство кое-где неуместно.
Глазунов опешил. Теперь он готов был поклясться, что речь шла только о нем, о его срывах в летной работе.
Смуглое, загорелое лицо летчика стало угрюмым и ожесточенным. Лейтенант решил избегать встреч с Лубенцовой и не знал, как это сделать. Ведь не мог же он не ходить на предполетный медицинский осмотр. А въедливая «бюрократка» вскоре преподнесла ему новый сюрприз. Замеряя у него кровяное давление, она вдруг выпалила:
— Ого! Смотрите, как подскочило!
— Ну и что же? — стараясь говорить спокойно, нахмурился Николай.
— Вообще-то, конечно, ничего страшного, — продолжала Ирина Федоровна. — Просто вы, очевидно, плохо отдыхали. Или, может, выпили вчера, а?
— Да я в рот не беру!
— В таком случае — извините. Только взгляд у вас усталый, и давление… Советую вам нынче отдохнуть. А еще лучше — денька два-три.
— Да вы что! — почти закричал Глазунов. Потом, спохватившись, умоляюще попросил: — Ну, Ирина Федоровна, ну, товарищ военврач, не отстраняйте! Я же не один лечу, я с командиром. И вообще я здоров!
— Нет, нет, — упорно стояла на своем Лубенцова. — Не положено. Не имею права.
Словом, как ни просил, как ни уверял, как ни доказывал летчик, что чувствует себя превосходно, она осталась непреклонной. И комэск ее поддержал. Переглянувшись с ней, он снисходительно усмехнулся:
— Эх, молодо-зелено! Да налетаешься еще, Глазунов. У тебя — все впереди. А пока погуляй три дня, чего там! — Помолчав, майор махнул рукой: — На всякий случай.
Последняя фраза, оброненная командиром как бы вскользь, насторожила Николая. Он растерянно перевел взгляд с Филатова на Лубенцову, и его словно обожгло: да они же сговорились!
От обиды перехватило дыхание. Пряча глаза, лейтенант круто повернулся и почти побежал в сторону лагеря.
Несмотря на то что в последнее время Глазунова преследовали неудачи в полетах, пилот не мог и представить себе, как это так — не летать! Всем своим существом он любил небо, думал только о небе, грезил небом. И то чувство неуверенности, которое охватило его после аварийной посадки, он намеревался преодолеть в себе лишь полетами. А тут — три дня вынужденного перерыва…
Вконец расстроенный, летчик юркнул в палатку и повалился в постель. Не раздеваясь. Лицом в подушку.
У него кружилась голова. Колотилось сердце, и каждый его удар отзывался болью в висках. Словно у больного, горели уши и щеки, все тело получало жар, как при повышенной температуре, пересохли губы.
— Неврастеник! — со злостью обругал он сам себя, разделся и мгновенно заснул. Только на миг показалось, что койка опрокинулась, и наступило долгое забытье.
Ночью ему приснился странный сон. Лейтенант видел себя курсантом. На плечи ему взвалили огромный стальной баллон со сжатым воздухом. Он нес его, спотыкаясь на каждом шагу, жадно дышал разинутым ртом и обливался потом. От невероятной тяжести немела спина и поясница, а сбоку насмешливыми глазами следила за ним Лубенцова.
Проснулся Николай совершено разбитым. Еще день бесцельно валялся в палатке. Попробовал читать, но, водя глазами по строчкам, ловил себя на том, что думает о постигших его неприятностях, а слух напряженно ловит переливы то затихающего, то поднимающегося с новой силой гудения самолетов. Тогда, с досадой отбросив книгу, Глазунов вышел из палатки и побрел в широко раскинувшуюся за аэродромом весеннюю степь.
Углубленный в невеселое раздумье, летчик шел и шел, ничего не замечая вокруг, пока не наткнулся на какие-то невысокие кусты. Здесь он осмотрелся, пытаясь сообразить, где находится, потом безразлично усмехнулся: не все ли равно. И, почувствовав полнейшую отрешенность от всех забот, бессильно рухнул в мягкую, пряно пахнущую траву.
Лежал там Николай долго, может, час, а может, и больше. В кустах тенькали птицы, перелетая с цветка на цветок, озабоченно жужжали пчелы, неумолчно стрекотали и кувыркались в воздухе кузнечики, а он ничего не видел и не слышал. У него устали закинутые за голову руки, но ему лень было даже пошевелиться.
Внезапно совсем рядом зашуршали ветви. Глазунов обернулся и замер: в нескольких шагах от него стояла Лубенцова.
— О, Николай Сергеевич… Здравствуйте! — Видимо, от неожиданности она запнулась, но тотчас осмелела и, прежде чем он успел подняться, мягким жестом остановила его: — Сидите, сидите. Я тоже отдохну немного. Если вы не против, конечно. — Под небрежно повязанной косынкой брови у нее были так темны, будто их прочертили углем, а в прищуренных глазах, полных постоянной готовности о чем-то спрашивать, изумляться и негодовать, играла знакомая Николаю лукавая улыбка. — Не помешаю?
— Нет, нет, пожалуйста, — со странно стеснившимся дыханием пробормотал Глазунов. Он привык видеть Лубенцову в офицерской форме или в белом накрахмаленном халате. Сегодня она была в легких туфельках, в голубом платье, плотно обтянувшем стройную и гибкую, как у спортсменки, фигуру. Этот простенький штатский наряд сделал ее невероятно привлекательной, и летчик смотрел на Лубенцову так, будто в первый раз видел.
«Да она же совсем еще девчушка!» — подумал он, и ему захотелось засмеяться от какой-то неосознанной радости.
Заметив, что Глазунов воззрился на нее с откровенным восхищением, Лубенцова беспомощно огляделась, как бы прикидывая, где присесть. Николай, спохватившись, подал ей свою кожаную куртку и неожиданно для самого себя спросил:
— А почему вы не на полетах?
Не ответив, Лубенцова как-то бочком, осторожно присела на расстеленную куртку и совсем как маленькая девочка певуче протянула:
— Ой, как здесь красиво! И колокольчики… Помните: «Колокольчики мои, цветики степные…» Ну что вы так смотрите на меня, пылкая кровь? Взгляните лучше, сколько цветов помяли, бессердечный!
Она, очевидно, тоже испытывала неловкость, нечаянно встретив его здесь, и прикрывала свое смущение притворной непринужденностью. А лейтенант, сбитый с толку и ее появлением и этим восклицанием, недоуменно озирался то на нее, то на примятую им траву, в зелени которой печально голубели венчики колокольчиков.
— Вот что значит — мужчина, — продолжала между тем Лубенцова. — Ну что для него какие-то там цветочки! Не могли выбрать место, где их поменьше? Ах, Коля-Николаша…
— Да хватит вам, Ирина Федоровна, — перебил ее, овладев собой, летчик. — Вы не ответили на мой вопрос.
— О, как строго! — улыбнулась она. — Ну, допустим, я решила разделить ваше одиночество. Что вы на это скажете?
— Благодарю, — иронически усмехнулся Глазунов. — Я из-за вас не летаю, а вы вроде бы и злорадствуете.
Она взглянула на него так, словно ждала этих слов, но промолчала, только качнулась вперед и охватила руками колени. А Николаем снова овладело чувство недоверия и неприязни. Уже не сдерживая себя, он с укором заговорил о том, о чем думал в последние дни:
— Да, из-за вас. Я знаю, вы готовите диссертацию. Ну, а я… я, видимо, наиболее подходящая кандидатура для исследований. Как же — неудачник в полетах. Вас интересуют мои эмоции, реакция и прочие психологические нюансы. Ради этого вы и сюда пришли. Разве не так? Сейчас будете вызывать меня на полную откровенность? Напрасный труд. Если хотите знать… Если что-то меня и волнует, то лишь одно — полеты. Поймите, опыта у меня мало. Чтобы его приобрести, нужно больше летать. А вы…
Лубенцова подняла голову, и он осекся: лицо ее было расстроенным, взгляд печальным.
— Ничего вы не поняли, — тихо сказала она. — Просто я видела, что вы очень устали, и мне хотелось вам помочь.
— Помочь! — воскликнул летчик. — Хороша помощь — отстранить от полетов как раз в тот момент, когда мне вот так нужно летать! — Он провел ребром ладони поперек шеи и тут же сделал резкий отстраняющий жест. — Не оправдывайтесь! Это же смешно — лишить меня нескольких посадок для передышки. Да я сделаю их тысячу подряд, если хотите. А, да что там…
— Ничего вы не поняли, — все так же тихо повторила Лубенцова. — Мне, наоборот, очень нравится, что вы такой настойчивый. Но нельзя же быть упрямым. Ваша одержимость граничит уже с безрассудством.
— Ну, знаете ли… — возмутился лейтенант.
— Помолчите, Глазунов! — строго повысила голос Ирина Федоровна. — После аварии у вас было сильное нервное возбуждение. На нервах вы и летали. А еще, по-моему, на честолюбии. И не мне вам рассказывать, к чему это могло привести. Так при чем тут я? Я как врач не имела права не доложить о своих наблюдениях командиру.
— Вы не имели права говорить командиру неправду! — глухим от волнения голосом отозвался лейтенант. — Я был в санчасти. Давление у меня нормальное.
— Я знаю, — невозмутимо кивнула Лубенцова. — Мне доложили. И я очень рада за вас. Нервный подъем мог смениться апатией. Этого, к счастью, не произошло.
— Вот как! — вырвалось у Николая. Ему стало стыдно. Он смотрел на нее не отрываясь и подозревал, что ей тоже слышно, как стучит его сердце.
Наступила неловкая пауза. Ирина Федоровна устало выпрямилась, мимолетно проведя рукой по своим густым ресницам, словно сняла невидимую паутину, которая мешала ей смотреть, и по-детски вздохнула:
— Какой вы, право, ершистый! Гляжу иногда и думаю — вот бесшабашная голова!
Николай вдруг почувствовал себя рядом с ней неуклюжим увальнем. Пригладив мягкие волосы, которые от малейшего дуновения поднимались у него петушиным хохолком, он встал:
— Прошу прощения, нам, кажется, говорить больше не о чем. — И резко повернулся, чтобы уйти.
— Коля! — крикнула Лубенцова. — Коля!
— Чего еще? — остановился Глазунов.
Она хотела вроде бы что-то сказать, но, взглянув ему в глаза, лишь грустно улыбнулась:
— Вы забыли вашу куртку…
— Спасибо. Вы очень внимательны, — сухо ответил он и, поклонившись, зашагал в сторону.
Недовольный и этой встречей, и разговором с врачом — он ведь все-таки был с ней невежлив, — летчик шел, не глядя себе под ноги. Но, склонив голову, он, будто проснувшись, с удивлением заметил, как густо цветут в траве колокольчики. Их было так много, что, казалось, само небо тонким слоем своей нежной голубизны прилегло на землю. Глазунов любил голубой цвет и невольно залюбовался его широким разливом, прямо-таки скрывшим зелень травы.
«Колокольчики мои!..» — зазвенело в душе, и лейтенант пошел увереннее, бодрее. Над ним пели невидимые жаворонки, из-под ног, словно брызги, разлетались стрекочущие кузнечики, а вокруг тишиной и миром дышала неоглядная степь. «Ладно! — как бы споря с кем-то, говорил сам себе летчик. — Ладно. Вы еще посмотрите…»
С такими же мыслями он шел поутру на аэродром. К нему вернулось то приподнято-радостное настроение, которое прежде всякий раз охватывало, его перед подъемом в воздух. И летал он хорошо, и посадки делал, как отметил комэск, одна в одну. Сам Николай не задумывался, что помогло ему: то ли упорство, с которым он ломал себя, то ли трехдневный отдых, принесший ему успокоение и новые силы, но теперь летчик недоумевал, вспоминая о том, что его долго мучило странное и непонятное чувство боязни земли.
Майор Филатов, правда, устроил ему дополнительную проверку. Он полагал, что причиной неуверенности в себе у молодого летчика была непривычная для него обстановка полевого аэродрома. Поэтому майор заставил Глазунова выполнить ни много ни мало тринадцать взлетов и посадок с грунта. В другой раз Николай наверняка счел бы обидным «пилить» по кругу над аэродромом в то время, когда товарищи ходят по дальним маршрутам. А сейчас он только улыбался. Ему доставляло неизъяснимое удовлетворение плавно, с артистической легкостью подводить к посадочной полосе и мягко, невесомо приземлять многотонную крылатую махину.
Отрулив бомбардировщик в конце рабочего дня на стоянку, Глазунов не спеша, с видом слегка утомленного, но готового к новым делам человека подошел к командиру эскадрильи:
— Товарищ майор! Ваше задание выполнено.
Отдав рапорт, он изящно-непринужденно опустил вскинутую к козырьку фуражки руку и встретился взглядом с восхищенными глазами Лубенцовой, которая стояла рядом с майором.
— Хорошо, Глазунов, хорошо, — ворчливо-ласковым тоном произнес комэск. — А теперь вот что. Сегодня сообщили, что отремонтирован ваш самолет. Его надо перегнать сюда. Сделаете это своим экипажем. Командировочное предписание и проездные на всех — у начальника штаба.
То, что майор напомнил в присутствии Лубенцовой о самолете, на котором случилась поломка, было для летчика не очень-то приятно. Но это с лихвой окупалось оказанным ему доверием. Перелет — задание ответственное, комэск мог поручить его любому другому, более опытному пилоту, а он посылает его. И лейтенант радостно отчеканил:
— Есть! Разрешите идти?..
После ужина командирский газик доставил экипаж Глазунова на станцию. А еще через час Николай со своими подчиненными сидел в купе пассажирского скорого.
Много времени отняла приемка и облет отремонтированного бомбардировщика. А задерживаться не хотелось. И как только со всеми формальностями было покончено, Глазунов запросил разрешение стартовать.
Ночью над степью отгремела гроза, отшумел июньский ливень, и, когда летчик, набрав высоту, положил корабль на курс следования к полевому аэродрому, небо было на редкость ясным и чистым. Мерно, успокаивающе ровно гудели двигатели. Перед взором широко расстилались солнечные поля, проплывали красные черепичные крыши деревень, густые купы перелесков, дымящие трубы заводов с тесно обступавшими их городскими кварталами. Казалось, вглядись пристальнее — различишь в домах даже распахнутые окна.
Постепенно снижаясь, Глазунов долго еще вел бомбардировщик над разметнувшейся от горизонта до горизонта степью, пока различил впереди знакомую, чуть порыжевшую площадку. Вскоре он наметанным взглядом отыскал на ней красную аэродромную «пожарку». Рядом, как всегда, стояла санитарная машина, а чуть в сторонке белели полотнища посадочных знаков.
Эскадрилья, очевидно, не летала, так как самолетов на старте не было. Значит, ждали только его, Глазунова. Он отметил еще, что старт разбит несколько по-иному, чуть под углом к тому, который был накануне.
«Стало быть, там, над землей, ветер. Надо учесть», — догадался летчик и, назвав свой позывной, запросил условия посадки.
Ему почему-то никто не ответил. Нажав раз и другой кнопку передатчика, лейтенант понял, что, по всей вероятности, в рации сбита настройка. Он приказал радисту:
— Свяжитесь со стартовым командным пунктом.
— Посадка разрешена, — доложил вскоре сержант Коваль. — Предупреждают, чтобы на всякий случай были внимательны.
Глазунов улыбнулся, вспомнив майора Филатова с его обычным «на всякий случай», проверил, выпущены ли шасси, и перевел бомбардировщик в режим планирования.
Все ближе, ближе земля. Еще минуту назад она выглядела однотонно-зеленой, а теперь в этой сплошной зелени начали проступать оттенки. Вот темно-зеленое пятно — там, в низинке, гуще и сочнее трава. Рядом — светлый круг, это, очевидно, выгоревший сухой бугорок; слева будто охрой все обрызгано, там — песок, а впереди… Что такое? Вода? Вода в полосе выравнивания, а может быть, и на посадочной? Неужели от ночного дождя? Если так, тяжелый бомбардировщик увязнет в размокшем грунте…
Мысль еще продолжала аналитическую работу, а руки уже делали свое: левая автоматически послала вперед рычаги газа, правая ослабила нажим на штурвал. Взревели на полных оборотах двигатели, и самолет, набирая скорость, пошел на высоте одного метра над летным полем. Летчик, подавшись к смотровому стеклу, так и напрягся. Потом, вглядевшись пристальнее, весело чертыхнулся: под ним, колеблемые ветром, густо синели цветы. Скорость делала их нежно-голубую пестроту размытой, похожей на светлую поверхность воды.
— Командир! Нас запрашивают, почему не садимся, — доложил сержант Коваль.
— Передай — все в порядке. Сейчас сядем, — спокойно сказал ему летчик. Он понимал, что там, на аэродроме, все встревожены. Может, с машиной что стряслось, а может, с ним, с летчиком? А комэск наверняка подумал о том, что у него, Глазунова, опять боязнь земли.
Нет, такого чувства лейтенант сейчас не испытывал, и это радовало его: он до конца победил свой недуг. И в том он прав, что не стал приземляться. «Не уверен в чем-то перед посадкой — не садись», — всегда учил майор Филатов. Комэск, узнав, в чем дело, одобрит принятое летчиком решение сделать новый заход. Только бы не ошибиться теперь: для третьего круга не хватит горючего.
Выравнивая машину после второго захода, Глазунов работал рулями так, как научился делать это при последних тренировках. Он плавно, мягко, невесомо приземлил послушный его чутким рукам бомбардировщик. Потом, отрулив самолет туда, где его ждал тягач, весело вышел из кабины, небрежно закинул за спину планшет и направился к стартовому командному пункту, чтобы доложить о прибытии. И тут до его слуха донесся прерываемый ветром голос:
— Коля! Коля!
Оглянувшись, Глазунов недоуменно остановился: от санитарной машины к нему бежала лейтенант медицинской службы Лубенцова. Догнав, растерянно взглянула на него и, задыхаясь, спросила:
— Что с тобой? Почему сразу не сел?
— Ну что вы, право, Ирина Федоровна! — смущенно пробормотал Глазунов. Но тут же, лукаво усмехнувшись, сказал: — Просто я выбирал, где меньше колокольчиков. А их, как назло, вон сколько. Целое море.
— Вы все такой же, — обиженно вздохнула Лубенцова, и странно заблестели ее глаза, и совсем по-детски дрогнули губы.
— Какой есть, — пожал плечами летчик, но его резковатый басок сорвался. Помолчав, он вдруг удивленно сказал: — Ирина Федоровна… А у вас… У вас глаза голубые. Как колокольчики…
Николай порывисто нагнулся, выбрал в траве стебелек цветка, полюбовался его двумя голубыми венчиками и бережно протянул Лубенцовой…
ПРАВО НА РИСК
Летчики обычно не любят похвал. Так и Битюцкий, заслышав разговор о себе, сразу уходит. Между тем друзья искренне восхищаются его выдержкой и удивительной дерзостью в летном деле и парашютном спорте.
Прыгать с парашютом Битюцкий начал еще в училище. Правда, вначале не повезло ему. Случилось так, что во время своего первого прыжка он, заметив снос, неумело потянул стропы, раскачался и так «приложился» к земле, что после чуть ли не целую неделю хромал. Тут кто-то из курсантов не удержался, сострил:
— Лихой прыгун! Акробат.
Этой необдуманной шутке дали ход, с иронией уверяя, что у Битюцкого любовь к парашюту теперь навсегда пропадет.
Летчиков, как правило, не прельщает парашютный спорт. Многие из них даже несколько свысока смотрят на «парашютчиков». А что, мол, в их профессии сложного?
Любой из нас, если понадобится, сумеет покинуть самолет, а затем дернуть кольцо. И если бы Битюцкий после неудачного дебюта махнул рукой на прыжки, этому бы никто не удивился. Но он не отступил. То ли самолюбие его было задето, то ли неудачное приземление заставило его острее осознать, как важно летчику быть хорошим парашютистом, но он поборол все свои страхи и вскоре добился разрешения прыгнуть еще раз.
Не так-то легко человеку повторить шаг, который едва не столкнул его с опасностью. Битюцкий повторил — и этим сразу завоевал расположение товарищей. А вскоре у него было уже втрое больше прыжков, чем у других курсантов.
Не переставал Битюцкий заниматься воздушным спортом и после выпуска из училища, которое он закончил, между прочим, вместе с космонавтом (в те дни — будущим, разумеется) Валерием Быковским. Летать теперь приходилось все больше и больше, но Битюцкий не пропускал ни одной тренировки по парашютному делу, ни одного десантирования, оттачивая мастерство в своей второй профессии, не менее любимой, чем летная. И когда летчики приступили к отработке катапультирования с истребителя, начальник парашютно-десантной службы майор Борис Кириллович Сафонов сразу же сказал, что первым пойдет Битюцкий.
На аэродроме в тот день были все летчики. Тишина и хорошая погода настраивали на мирный, благодушный лад. Офицеры курили, шутили. Но вот послышался гул приближающегося самолета — и все, разом замолчав, будто по команде, подняли головы.
Отливая в солнечных лучах серебром, истребитель шел на высоте полутора тысяч метров и был отчетливо виден на фоне ярко-голубого неба. Едва он пересек границу аэродрома, как хлопнул выстрел катапульты и над килем самолета метнулся кверху темный клубок. Раздались возгласы:
— Пошел!
— Порядок!
Самое сложное — «выстреливание» человека из кабины мчащегося на большой скорости самолета — осталось позади. Сейчас Битюцкий оттолкнет от себя катапультное кресло, и над ним полыхнет шелковый купол. Сейчас, сейчас… Но почему так долго не открывается парашют?
Секунда… Пятая… Десятая… На глазах увеличиваясь в размерах, темный клубок стремительно летел к земле. Уже было видно, как парашютист торопливым движением старается оторвать от себя кресло. Но тщетны были его попытки. Почему? Что стряслось?
Падать парашютисту осталось всего пять секунд. Пять секунд и… Все, кто наблюдал эту жуткую картину, замерли в оцепенении.
Между тем в воздухе продолжалась отчаянная борьба. Битюцкий оказался в опаснейшем положении. Один из ремней, которым летчик пристегивается к катапультному сиденью, зацепился при раскрытии за замок подвесной системы парашюта. Зацепился намертво — металлической петлей. А тут еще сильнейший поток встречного воздуха при свободном, ускоряющемся падении.
Случилось такое нежданно-негаданно из-за непродуманной, халатной укладки ремней перед вылетом. А теперь попробуй выпутаться, когда в твоем распоряжении всего несколько считанных секунд!
Поняв, в чем дело, Битюцкий схватил нож. Однако плетеная ткань ремня поддавалась с трудом. Чтобы перепилить его, не хватило бы времени. Как быть?
На коленях у летчика лежал запасной парашют. Спасет ли он в столь опасной ситуации? Ведь рассчитан он на вес до ста килограммов, а теперь, вместе с креслом, Битюцкий весит гораздо больше. Выдержит ли купол такую тяжесть?
Как бы там ни было, медлить нельзя. Битюцкий рванул кольцо, схватил выползающий из ранца купол и с силой отбросил его в сторону, чтобы он как можно быстрее наполнился воздухом. Возможно, приземление вместе с креслом не обошлось бы все-таки без неприятностей, но динамический удар вырвал летчика из сиденья. В следующий момент он ощутил сильный толчок о землю.
Когда к Битюцкому подскочила машина, он уже стоял на ногах.
— Жив? — кинулся к нему Сафронов. Богатырь, настоящий Илья Муромец, он сгреб летчика в объятия, как мальчишку. Но тот отстранился, стесняясь излишнего проявления чувств, и ровным голосом сказал:
— Подожди. Закурить надо.
Он казался спокойным, вернее, хотел казаться таким, но очень уж неловко и долго совал в карман то одну, то другую руку и все не мог достать папиросы.
— Да ты взгляни на свои «грабли»! — нервно засмеялся Сафронов.
Битюцкий поднял руки. Кисти и в самом деле напоминали грабли: уставшие от огромного напряжения пальцы словно одеревенели, не сгибались.
— Сейчас, сейчас я спиртом, — засуетился врач.
— Зачем добро портить? — усмехнулся Битюцкий. — Лучше того… вовнутрь.
— Он еще шутит! — возмутился врач. — Шутит, перешагнув грань невозможного. В машину давайте!..
А через несколько дней Битюцкий катапультировался опять. И снова первым в группе.
За тот, ставший памятным на всю жизнь, прыжок Битюцкого наградили наручными часами. На них были выгравированы слова: «За хладнокровие и мужество при катапультировании».
Так же хладнокровен и смел был Битюцкий и в полетах. Уж на что обычно сдержан в похвалах командир части, но и тот, проверив его технику пилотирования при самом жестком минимуме погоды, сразу проникся к нему симпатией и сказал, что из него, если не зазнается, будет отличнейший перехватчик со своим почерком.
Битюцкий из тех людей, кто зазнаваться просто не умеет. К тому же его не очень-то и хвалили. Инструкторы за все элементы полетов, как правило, ставили ему «пятерки», но почему-то каждый раз, разрешая самостоятельный вылет, предупреждали:
— Только без отсебятины.
— Понял, — говорил Битюцкий и… «порол отсебятину». Чуть что — в эфире раздавался голос руководителя полетов, который, назвав его индекс, приказывал:
— Меньше скорость!.. Плавнее!..
— Понял, — отвечал Битюцкий.
Но если он заходил на посадку, то непременно с «истребительским» профилем выравнивания, а если атаковал воздушную цель, то обязательно применял самый дерзкий маневр. Дистанции сближения с «противником» летчик не нарушал, но подчас казалось, что он вот-вот столкнется с ним. Доставалось ему после на разборах полетов, но выяснят все детали, дешифровав пленку фотопулемета, — никаких отклонений от нормативов, просто расстояние до цели было таким малым, о котором говорят «предельно допустимое».
— А мы уже думали — ты на таран пошел, — говорил Ивану Валентин Орел.
Сам прирожденный летчик, командир звена капитан Орел любил Битюцкого за истребительную хватку, но это, впрочем, не мешало ему подтрунивать над сослуживцем. Таков уж он по характеру, стихотворец и баснописец Орел: остер на язык, скор на шутку.
— Тебе какие часы вручили? — улыбался он. — Со звонком? Вот и заводи, как будильник, чтобы знать, когда выходить из атаки.
Битюцкий не носил часы-награду, — очевидно, дорожил ими. Орел и это заметил.
— Бережешь или скромничаешь? — допытывался он.
— Угу, — усмехался Иван. — Берегу. Рифмуется? То-то. Не один ты у нас в стихах кумекаешь.
Вообще-то Битюцкий не прочь был, наверно, и похвалиться наградой. Лестно все-таки, если тебя отмечают. Летая мастерски, Иван быстро стал летчиком первого класса, держался в кругу сослуживцев уверенно, независимо и при случае говорил, что у него, мол, кое-чему могут и орлы поучиться, хотя они и в командирах ходят. Однако с течением времени он становился все более сдержанным, даже замкнутым. Как-то после одного рискованного полета он около месяца был вообще не в себе. Будто его из колеи выбили. Впрочем, как ему было оставаться спокойным, если выходило так, что он в одно и то же время вроде бы и герой, и разгильдяй.
— Ну и заварил же ты кашу! — воскликнул Орел.
— Так уж получилось, — отмахнулся Иван.
А получилось вот что. В один из пасмурных дней Битюцкий обозначал своим самолетом цель. Когда задание было выполнено, он, идя за облаками, взял курс на ближайший аэродром, где должен был произвести посадку. На некотором удалении за ним шли еще два истребителя. И вдруг летчики увидели, как машина Битюцкого взмыла кверху, одним махом набрав до полукилометра высоты, затем так же круто метнулась вниз и опять вверх.
Ведомые шарахнулись в стороны. Небезопасно находиться вблизи от беспорядочно мечущегося на звуковой скорости истребителя. А каково же тому, кто находится в кабине?
— Что случилось? — запросил по радио идущий рядом Валентин Панасенко.
Битюцкий не отвечал. Ему было не до того. Обеими руками вцепившись в ручку управления, он пытался удержать взбесившуюся машину, заставить ее повиноваться. Огромные перегрузки то впрессовывали его в сиденье, то отрывали так, что казалось, вот-вот лопнут привязные ремни.
Летчик ни на мгновение не потерял самообладание, хотя голубое небо то и дело меркло перед его глазами, становилось темно-серым: так сильна была перегрузка. У него хватило выдержки, и внимания, и находчивости, чтобы удерживать истребитель от диких прыжков, прибавлять обороты двигателям, когда падала скорость, убирать их при внезапных переходах в почти отвесное пике, чтобы не создать разрушающих перегрузок, выпускать в нужный момент тормозные щитки и следить во время этой невообразимой свистопляски за приборами. Подчинив наконец непослушный самолет своей воле, он определил причину, которая привела машину в такую судорожную агонию, и сообщил о ней на землю.
— Как сейчас с управлением? — запросили с аэродрома.
Рули крена работали нормально. Стабилизатор встал в положение «Малое плечо». Доложив об этом, Битюцкий как можно бодрее добавил:
— Держусь!
Минуты две в связь с ним никто не вступал. Там, на стартовом командном пункте аэродрома, к которому он продолжал вести свой захандривший самолет, очевидно, совещались. Ведь при заходе на посадку стабилизатор должен находиться в положении «Большое плечо», а он недвижим на «малом». Какая же последует команда?
Вместо команды Битюцкий снова услышал тот же запрос:
— Как с управлением?
«Тянут время, — с досадой подумал летчик. — Эх, не свой все-таки аэродром, вот и колеблются больше, чем я здесь, в воздухе, на неисправной машине».
— Держусь, — подчеркнуто спокойно ответил он. Истребитель пожирал пространство. Облачность уже осталась позади, небо вокруг было таким чистым, что Битюцкий увидел с высоты аэродром, к которому шел, и опознал его. Но никаких указаний оттуда все еще не поступало. Тогда он опробовал, как машина слушается руля глубины, и перевел ее на снижение.
Планируя, он заколебался. В нем боролись противоречивые чувства. Поскольку вести скоростной истребитель на посадку с неисправным стабилизатором опасно, то ему, конечно же, можно катапультироваться. Так не сделать ли это, пока позволяет высота? Но, с другой стороны, было чертовски жаль замечательную машину. Какой же летчик, если он действительно летчик, а не паникер, оставит свой самолет, не исчерпав до предела всех возможностей спасти его. И еще очень хотелось Битюцкому привести самолет на аэродром для того, чтобы инженеры смогли определить, почему в полете на нем возникла неисправность в системе управления. А выбросишься с парашютом — истребитель от удара о землю взорвется. И тогда никто уже не узнает, что же стряслось со стабилизатором.
Никаких указаний Битюцкому так и не поступило. Это могло означать лишь одно: принимай решение на свой страх и риск. Хочешь — бросай, хочешь — сажай. Не отважился все-таки тот, незнакомый Битюцкому руководитель полетов, с которым он сейчас держал связь, взять на себя ответственность за «чужого» летчика. Или просто растерялся. А высота, нужная для катапультирования, была между тем потеряна. Тогда Битюцкий вдруг успокоился: прыгать поздно, значит…
— Обеспечьте посадку с ходу! — радировал он, и запрос его прозвучал как приказание.
С этого момента летчик пилотировал машину с особым хладнокровием и расчетливостью. Он знал, как будет вести себя истребитель с «забастовавшим» стабилизатором, когда начнет гаснуть скорость, знал, что при выпуске шасси самолет «потянет на нос», а это опасно на малой высоте: можно врезаться в землю. Поэтому он установил пологий угол планирования, а шасси и закрылки выпускал одновременно, чтобы не раскачать и без того неустойчивую в воздухе машину.
И все же в последние секунды чуть не случилось непоправимое. Истребитель опять перестал слушаться руля глубины.
— Сажай! — приказал руководитель полетов. Битюцкий и рад был бы создать самолету посадочное положение, но машина не повиновалась. Она ткнулась передним колесом в землю, не дотянув до бетонированной полосы несколько сот метров.
Такое приземление грозило аварией. Однако все обошлось благополучно. Случайно?
— Считай, повезло, — говорил впоследствии Битюцкому капитан Орел. — Крупно повезло. Не иначе, в рубашке родился.
Сам Иван думал по-иному. Во-первых, он повел машину к земле с небольшой скоростью и с пологим углом снижения. Во-вторых, сразу же после приземления начал тормозить, поэтому машина не отскочила от земли. Если бы взмыла — сваливание на крыло и…
К чему ведет падение, удар о землю, пояснять не надо. Битюцкий, избежав катастрофы, заставил себя не вспоминать о грозившей беде. Он спокойно отрулил самолет с посадочной полосы на стоянку, но вдруг стало трудно дышать, будто на плечи легла неимоверная тяжесть. Иван резким движением открыл кабину, жадно глотнул холодный, пахнущий землей воздух и обессиленно откинулся на спинку катапультного сиденья.
Когда инженеры и техники осмотрели самолет и выяснили причину неисправности стабилизатора, они наперебой стали благодарить Битюцкого. Еще бы! Он помог устранить подобный дефект и на других машинах. Инженер-полковник Борис Михайлович Яшин пообещал ходатайствовать о том, чтобы летчика поощрили.
Так закончился этот рискованный полет. Длился он одиннадцать минут. Немало пришлось пережить Битюцкому за эти минуты. Но, попав в аварийную ситуацию, он не побоялся риска, проявил мужество и вышел победителем.
Победителей, говорят, не судят. Однако совсем по-иному, чем инженеры и техники, отнеслись к случившемуся многие летчики, особенно командиры.
— Битюцкий неправ, — по обыкновению спокойно сказал подполковник Юрий Николаевич Косминков. — Надо было катапультироваться. А так — запишут грубейшую предпосылку к летному происшествию. Да и вообще ситуация была аховая.
Косминкова поддержал капитан Прилуков. Но за Битюцкого вступился подполковник Чуйков. «Человек неукротимого темперамента», как однажды сказал о нем Валентин Орел, Владимир Иванович заявил:
— А я считаю — Битюцкий прав.
Возник спор. «Что же, летчик не может рисковать?» — спрашивали одни. «Вопрос, нужен ли в авиации риск — не новый, — отвечали другие. — В бою, например, без него не обойтись, а вот в других случаях — тут еще надо посмотреть. Конечно, в воздухе не отъедешь на обочину дороги, не сядешь на облако, чтобы там исправить машину. Но всегда надо уметь провести грань между разумным, обоснованным решением и бессмысленным, опасным».
Ведя разговор о риске, о грани между возможным и невозможным, между разумным и бессмысленным, летчики во мнениях не разошлись. Решили, что такая грань существует — это целесообразность риска, польза, которую он принесет. Но едва завели речь о конкретном случае с Битюцким, суждения разделились, и спорящие опять загорячились.
Вспомнили, как один из летчиков, находясь в воздухе, радировал, что в кабине, появился дым. Пожар — случай особый, и пилот хотел было катапультироваться. Руководитель полетов спокойно выяснил у летчика, в чем дело, и приказал выключить прицел. Он не ошибся: в электропроводке прицела произошло замыкание. Стоило выключить прицел, как дым исчез. Летчик благополучно завершил полет. Но после о нем говорили, что он спаниковал.
— Выходит, я испугался другого — катапультирования? — усмехнувшись, спросил Битюцкий.
На счету у него к этому времени было уже более ста пятидесяти прыжков. И поэтому предполагать, что он побоялся катапультироваться, по меньшей мере смешно. Сделать это ему было гораздо проще, чем садиться с забарахлившим стабилизатором. Но благоразумно ли он поступил, приняв в сложившейся обстановке решение производить посадку?
Свою машину, ее аэродинамические качества и особенности пилотирования при неисправном стабилизаторе Битюцкий знал хорошо. Ситуацию, в которой очутился, оценивал трезво, действовал грамотно. Все это помогло ему дотянуть до аэродрома и посадить самолет. Но когда спасенный им истребитель был осмотрен прибывшей из Москвы комиссией, стало ясно, что летчик подвергался большой опасности. И ему сказали:
— Вы не испытатель. Могли бы катапультироваться. То же сказал Битюцкому и командир, подчеркнув, что, согласно известным указаниям, летчик, в случае возникновения неисправности в управлении, обязан покинуть самолет. Мы же знаем, что в нашей стране жизнь человека дороже любой машины.
— Вот тебе, дедушка, и Юрьев день, — подошел к Битюцкому капитан Орел. — Ждал благодарность, а получишь выговор. Полагаю, уж теперь-то ты не будешь утверждать, что риск — фельдмаршал жизни.
— Ты прав, — невозмутимо отозвался Битюцкий. — Теперь я возведу риск в ранг генералиссимуса.
— Это по меньшей мере превышение полномочий, и тебя взгреют как самозванца.
— В таком случае ты разделишь мою горькую участь. Или забыл, как сам недавно ночью зашел на посадку с невключенной фарой?
— Мой грех по сравнению с твоим — мальчишеская шалость. Впрочем, утешайся хотя бы тем, что накажут не одного тебя.
— Знаешь, что, Валентин, — нахмурясь, взглянул Битюцкий на Орла, — я скажу тебе проще: поди ты ко всем чертям. И без тебя несладко. Понял?
— Как не понять! — дружелюбно согласился Орел. — Я ведь тебе сочувствую, только ничем помочь не могу.
— Какое уж тут сочувствие — одни шпильки.
— А может, это прием из арсенала индивидуальной воспитательной работы, — засмеялся Орел. — Или лучше выговор, а?..
Никакого взыскания Битюцкий, конечно, не получил, но переживаний ему и без того хватило. Он много и долго размышлял над тем, как все странно обернулось. Не ждал, не гадал — и вдруг прослыл нарушителем летных правил.
Слов нет, наставления, инструкции для летчиков — святая святых. Каждый их пункт и параграф, как говорится, написан кровью. В большинстве случаев дают пилоту проверенный опытом готовый ответ на вопрос: что делать в тот или иной трудный момент? Допустим, отказал при отрыве самолета от земли двигатель. Может ли тут летчик задумываться над тем, как ему поступить? Нет, размышлять здесь некогда: машина, теряя скорость, мгновенно начинает падать. А наставление заранее предписало единственное в таком положении решение: посадка прямо перед собой, избегая лобового удара о препятствия.
Вот так по различным вариантам «особых» случаев правила, изложенные в инструкции, указывают верный образ действий, помогают избежать беды. Это Битюцкому было хорошо известно. Но, летая уже более пятнадцати лет, он знал и то, что самое добросовестное наставление не может до малейших деталей предусмотреть все перипетии полета, а стало быть, и предполагает инициативу летчика, его готовность идти на риск как в военное время, так и в дни учебных будней. Тогда за что же его укоряют?
Жизнь не давала времени для долгих переживаний. Приходилось летать, готовиться к полетам, нести боевое дежурство, по нескольку дней задерживаться на незнакомых аэродромах. Весной начались летно-тактические учения, летом Битюцкий вообще целый месяц не заглядывал домой: «сидели» на полевой грунтовой площадке, отрабатывая задачу по перехвату целей на удаленных рубежах. В напряженном ритме учебы забывалось то, что недавно бередило душу и казалось обидным, приходили новые заботы, отодвигая все личное на задний план. Но порой очень тесно переплетается в летной работе твой личный опыт с опытом товарищей, прошлое — с настоящим.
Оттуда, с грунтовой площадки, летали однажды и на полигон. Задание было интересным: штурмовка точечных наземных целей. Били по макетам автомашин, танков, самолетов и ракетных установок. Здорово получалось — от макетов, что называется, только щепки летели. Ну, тут, конечно, как никогда в азарт вошли. Майор Валентин Панасенко, пикируя, почувствовал: двигатель затрясло, — но из атаки не вышел, пока пушечной очередью не разнес мишень в клочья.
Битюцкому понравилась напористость Панасенко. Он одобрил его решение довести атаку до победы:
— Я бы тоже…
Командир, однако, рассудил иначе: лихачество! И сделал лихачу строгое внушение.
— А если бы такое в бою стряслось? — запальчиво спросил Битюцкий. — Тогда, значит, торопись назад драпать? А цель пусть живой-здоровой остается?
— То в бою, — поучительным тоном заговорил Орел. — Бой — другое дело, тут одно с другим сопоставлять не к чему. В учебе поосторожнее надо.
— Ага, потихонечку-полегонечку, тише едешь — дальше будешь, — сыронизировал Иван. — А смелость — она сама по себе придет.
— Эк тебя заносит! — невозмутимо отозвался Орел. — Совсем наивным младенцем прикинулся. А ведь все понимаешь не хуже меня. Сам небось не станешь теперь тянуть к аэродрому, если что…
«Шут его знает, — злился Битюцкий, живо вспомнив свой недавний случай. — Может, и не буду. Припрет — легче катапультироваться, чем потом нотации выслушивать». Но, размышляя так, Иван тут же подумал о другом. Он не просто специалист, не просто летчик, которому важны лишь собственное спокойствие и благополучие. Он — коммунист, военный летчик, воздушный боец. Значит, если сражаться с врагом, то до победы над ним, а если завтра-послезавтра аварийная обстановка в воздухе сложится, опять сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти машину. Современный истребитель не велосипед, на него немалые средства потрачены.
Вместе с тем Битюцкий, как всякий человек, в глубине души надеялся на лучшее. Авось ничего страшного больше и не случится. Никто, конечно, от неприятных случаев не гарантирован, они в авиации бывают, но не столь и часто. Техника нынче надежная, ну а поскольку он уже однажды побывал в переплете, то не должно же такое повториться с ним, именно с ним. Это, в конце концов, было бы несправедливостью. Почему у того же Орла, хотя летает он не меньше, никогда ничего? Да и у многих других…
Так, успокаивая себя, прикидывал Битюцкий. Но, как говорится, человек предполагает, а жизнь располагает. И в одну из ненастных ночей, когда на небе, затянутом тучами, не видно было ни звездочки, на стартовый командный пункт поступило тревожное сообщение. Оператор, дежуривший у экрана кругового обзора, взволнованно доложил:
— С Битюцким оборвалась связь…
— Видите его? — спросил руководитель полетов.
— Вижу. Снижается, — торопливо ответил оператор, а минуты через две глухо, с отчаянием в голосе добавил: — Все… Не вижу…
Снижался Битюцкий или падал? Хотелось надеяться, что снижался. Но куда? Почему ничего не передал? Обязан был доложить, а пошел куда-то молча. Видимо, трудно, невозможно было даже сказать что-нибудь. Какое же еще испытание приготовило ненастное небо? Один за другим летели в эфир запросы, но ответа не поступало. Не слышал он, что ли?
Да, Иван ничего не слышал. Выполнив задание по перехвату скоростной высотной цели, он, довольный успехом, выходил из атаки. Неожиданно в кабине разом погасли все сигнальные лампочки, померкло ультрафиолетовое облучение приборов, упали на шкалах стрелки, замолчала рация. Бездействовал и радиокомпас.
Летчик оторопел: что за наваждение? Внезапная, зловещая тишина и чернильная тьма застигли его врасплох. В наушниках — ни шороха. Только свистит рассекаемый плоскостями воздух да глухо проникает в герметическую кабину гул двигателей. Он оказался не только «слепым», но и «глухонемым». Худшего и не придумаешь.
«Питание, — мелькнуло в мозгу. — Что же теперь? Куда лететь в кромешном мраке? Внизу облака, их нижняя кромка местами достигает земли, и пробивать их вниз, пилотируя машину с отказавшими приборами, равносильно самоубийству».
Не веря себе, Битюцкий пощелкал кнопкой передатчика, пошарил рукой по панели, проверяя положение тумблеров электроцепи. Все — на месте, а толку — ничуть, Что же предпринять? Прыгать?
— Спокойно, спокойно, — громко сказал Иван сам себе. — Нельзя идти вниз — можно пока лететь вперед…
Взяв наугад примерный курс к своему аэродрому, он летел, лихорадочно обдумывая создавшееся положение, и не находил выхода. Мысли возвращались к одному: вернее всего — прыгать. Но и спешить не хотелось. Пока есть горючее, есть надежда найти какой-нибудь другой выход. Или хотя бы уйти отсюда: под ним — густонаселенная местность.
Глаза постепенно привыкли к темноте, и вдруг… Кто сказал, что все потеряно? Не надо только теряться самому. Внизу сквозь разрыв в пелене туч сверкнула цепочка огней. Сверкнула и тут же исчезла, словно погасшие на ветру искры. Но этого было достаточно, чтобы летчик понял: там — аэродром. Какой? Неважно. Битюцкий, не раздумывая, перевел самолет в режим крутого снижения. Он еле сдерживал себя, чтобы не пикировать. Понимал: это было бы излишним риском.
Стрелка высотомера торопливо бежала влево. 1000… 500… Какие низкие облака! Так прямо из них в земной шар воткнешься. Битюцкий уменьшил угол планирования. Тучи наконец оборвались, и он увидел впереди окаймленную двумя пунктирами огней ночного старта посадочную полосу. Догадался: аэродром истребителей-бомбардировщиков. Снижаясь, Иван дал ракету, чтобы его заметили, потом еще две и включил посадочную фару.
Когда летчик выравнивал истребитель перед приземлением, зажегся прожектор. Всего один. Другие не успели дать луч: слишком неожиданно появился незнакомый самолет. Но Битюцкому было достаточно и одного. Тем более что он шел со светом фары. Еще мгновение — и машина мягко коснулась колесами шасси бетонированной полосы аэродрома.
После посадки Битюцкий представился командиру полка истребителей-бомбардировщиков, доложил, в чем дело.
— Главное, успел к нам сесть, — радуясь, как за самого себя, сказал подполковник. — Ведь мы уже закончили полеты и собирались гасить ночной старт. А что же с машиной?
— Обиднее всего то, что сущий пустяк, — нахмурился Битюцкий. — Перед вылетом второпях техник не законтрил контактный разьем, а он в полете от вибрации открылся. Вот приборы и остались без питания…
Утром Битюцкого вызвал для объяснения Герой Советского Союза генерал-майор Иван Васильевич Федоров. Выслушав капитана, он пожал ему руку:
— Хвалю за расторопность. Московская комиссия ходатайствует о том, чтобы вас поощрить. Мы досрочно представляем вас к присвоению очередного звания…
Вскоре Иван Александрович Битюцкий был опять среди товарищей, собравшихся для предварительной подготовки к полетам. На второй этаж штаба, где находится методический класс, он не вошел, а почти взбежал, быстро шагая через две ступеньки. Минувшую ночь он провел дома, хорошо отдохнул и теперь выглядел свежо, будто и не было позади никаких тревог. От его подтянутой, по-юношески стройной фигуры, сразу выдающей спортсмена, веяло силой и здоровьем, на лице играл румянец, и только возле губ не разгладились две упрямые морщинки.
— Иван Александрович! — шумно приветствовали его летчики. — Рассказывай, что у тебя с машиной стряслось?
— Очередная сенсация, — выступил вперед Орел. — Улетел капитаном, прилетел майором. Поздравляю!.. А в общем, я же говорил, что ты аки птица — в небе чувствуешь себя свободнее, чем на многогрешной земле.
— Пиши оду! — улыбнулся Битюцкий.
— Всех прошу в класс, — подошел к летчикам начальник штаба. — Командир будет ставить задачу на завтрашние полеты…
«СВОЙ?» — «ЧУЖОЙ?»
Внешне Василий Смоляков, летчик сверхзвукового истребителя, ничуть не изменился. Был он все тем лее приветливым и улыбчивым парнем, нежным в дружбе и задиристым, порывистым в спорах. Разве что похудел, осунулся немного, да порой более колючим становился взгляд его темных глаз, искрящихся юмором и одновременно той бесшабашной удалью, которая сразу отличает отчаянно смелого, уверенного в себе человека.
И с чего только все началось? Пожалуй, с перелета на этот незнакомый аэродром. Просторный, хорошо оборудованный, с двумя широкими — бетонированной и грунтовой — взлетно-посадочными полосами, он был не хуже того, на котором постоянно базировалась их эскадрилья. Но прежний аэродром был привычнее. К тому же никто из летчиков, даже командир полка, не знал еще, сколько им придется на этот раз «сидеть» здесь. Спросили у генерала, но тот заглянул на аэродром пролетом и на такой наивный вопрос лишь усмехнулся:
— Там видно будет.
А Василия тяготила долгая разлука с женой, которую он, сам немного стыдясь того, любил так же пылко, как и в годы юности, хотя прожил с ней целых десять лет. И по Светке, своей дочери-первоклашке, скучал капитан, как никогда.
А потом эта встреча в воздухе! Барражируя однажды над позицией зенитных ракет, Смоляков совсем случайно увидел скользнувший в облака самолет. Это, вероятнее всего, был наш новый сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, но капитан, сам не зная почему, заподозрил в нем чужака. Он было даже погнался за ним, о чем и доложил, как следовало, на командный пункт. Однако в эфире тотчас послышался иронически-властный голос командира:
— Отставить! Ты что, ноль тридцать седьмой, бредишь? Выполняй свое задание.
«Задание! — сердито подумал Смоляков. — Кружи над позициями ракетчиков. А они еще, чего доброго, нажмут не на ту кнопку и пульнут в тебя по ошибке…»
После полета капитан кинулся на командный пункт.
— У вас тут, наверно, все локаторы ослепли! — загремел он с порога. — Я видел, понимаете, сам видел, а вы…
— Убери громкость, Василий Алексеевич, — прервал Смолякова командир эскадрильи майор Шмелев. — Нам сейчас и без твоих эмоций жарко. Смотри…
Смоляков хорошо знал манеру Шмелева разговаривать вот так, авиационными терминами. Забудешься, повысишь голос — «убери громкость», не убедишь в споре — «закрой сегменты», проявишь горячность-«сбавь обороты». И если уж он произнес нечто в этом роде, то лучше повременить с полемикой.
— Чего смотреть? — все еще недовольным тоном, но уже не так громко спросил Смоляков, подходя к пульту управления, и тут же умолк. Локаторы в самом деле если и не «ослепли», то и «видели» немногое: тускло-матовая поверхность экрана кругового обзора была сплошь подернута бело-зеленой рябью. Штурман наведения капитан Чумак и два солдата — операторы — усердно пытались уйти от помех. У них пока что ничего не получалось.
Василий был заядлым радиолюбителем и хорошо знал аппаратуру радиолокационной станции. Он немедленно включился в работу. Затем подошел вызванный командиром инженер.
— Ничего не понимаю…
— А я все-таки докопаюсь до сути, — не сдавался Смоляков.
— Вряд ли, Василий Алексеевич, — возразил капитан Чумак. — По-моему, засветка экрана возникает от сильной облачности. Я здесь не первый год служу, часто такое наблюдал.
— Это еще надо уточнить, — сказал Смоляков задумчиво. — Облачность сегодня не такая уж сильная.
— Как бы там ни было, — вступил в разговор майор Шмелев, — а нашим летчикам такое явление надо учесть. Особенно тебе, Василий Алексеевич. А то ты в полетах очень уж самонадеян.
— А ты, Андрей Иванович, готов каждый самолет на привязи держать, — парировал Смоляков, намекая на то, что командир строжайше запрещал истребителям выходить из зоны радиолокационного контроля. Затем, видя, что его реплика задела Шмелева, запальчиво добавил: — Говори после этого о самостоятельности перехватчика.
— Не ожидал я таких слов от своего заместителя, — недовольно нахмурясь, проворчал майор и тут же отплатил Смолякову за его колкость: — Ну, а если на то пошло, то я не забыл, как ты однажды с привязи сорвался.
При всей своей находчивости Смоляков растерялся. Комэск напомнил ему случай почти десятилетней давности, и Василий не знал, как на это реагировать.
Капитан замолчал. Он вспомнил один неприятный эпизод из своей летной жизни.
Был тогда Василий совсем молодым пилотом. Как-то в тихий солнечный день он вылетел на перехват воздушной цели, чтобы отработать типовые атаки. Целью оказался бомбардировщик Ил-28. Этот внушительных размеров двухтурбинный корабль, проходя по маршруту мимо их аэродрома, казалось, всем своим видом выражал полнейшее равнодушие к неловким наскокам хлипкого в сравнении с ним истребителя МиГ-15, на котором летал Смоляков. Возможно, пилот бомбардировщика в тот момент был занят другой, более важной для него работой, или, может, он догадывался, что имеет дело с зеленым новичком, и не маневрировал, чтобы не мешать ему тренироваться, но Василия такая невнимательность только раздражала.
Ему живо представилась вся картина со стороны: вьется, мечется возле большой, снисходительно-невозмутимой птицы назойливый воробушек. И тогда в отчаянной душе Василия вспыхнула веселая злость. «Ну, я тебе сейчас покажу, бомбер, на что мой воробушек способен!»
Легко обогнав Ил-28, Смоляков почти перед самым его носом крутнул одну за другой две двойные бочки. Смотри, дескать, завидуй!
— Куда лезешь! — тут же громыхнул в наушниках шлемофона сердитый бас. — Собью!
«Ага, заело!» — усмехнулся Василий и задиристо бросил в эфир:
— Попробуй!
А в следующую секунду он ошеломленно шарахнулся вниз. Казавшийся флегматично-неповоротливым, бомбардировщик так дерзко рванул в его сторону боевой разворот, что Смоляков, как ему представилось, еле избежал самого настоящего тарана.
— Вот шальной! — оторопело промолвил он, дивясь неслыханной бесшабашности и мастерству незнакомого ему летчика, который с таким блеском провел атаку. Потом, почуяв в нем азартного бойца, предложил: — Потягаемся, что ли?
— Куда тебе, малыш! — насмешливо прозвучало в эфире.
Эти слова еще больше раззадорили Смолякова. Словно подстегнутый, рванулся он в атаку. К его удивлению, бомбардировщик, развив, очевидно, максимальную скорость, начал уходить. Насмешка, да и только: истребитель, предназначенный для стремительного поиска и скоротечного маневренного боя, того и гляди, останется с носом. Стерпеть такое? Ну нет!
Василий выжал из машины все, что мог, и настиг Ил-28, срезав круг, когда тот выполнял разворот на новый курс. Однако удовлетворение молодого летчика быстро сменилось досадой: в горячке преследования он совсем забыл об ориентировке.
Спохватясь, Смоляков торопливо осмотрелся и ничего не понял. Он растерянно сник: местность по всей округе была незнакомой и пустынной. Правда, виднелось внизу одно небольшое село, но какое — определить Василий не смог.
— Бомбер, — вырвалось у него, — какой под нами пункт?
— Населенный, — с язвительным предостережением пророкотал уже знакомый бас, давая понять, что о маршруте полета открытым текстом не говорят. Потом, словно снизойдя, пилот бомбардировщика более миролюбиво, но все тем же иронически-снисходительным тоном посоветовал: — Не знаешь — топай за мной.
Смоляков мысленно послал его ко всем чертям. Он еще надеялся, что восстановить ориентировку ему поможет командный пункт. Увы, никто так и не отозвался на его запросы. «Далеко же я махнул за этим ехидным бомбером!» — зло подумал Василий и, как бы признавая себя побежденным, пристроился почти вплотную к крылу Ил-28. Ладно, дескать, веди…
А что ему оставалось делать? Баки пустели с каждой минутой, и рано или поздно пришлось бы либо катапультироваться, либо приземляться в чистом поле, рискуя разбить самолет.
Вообще-то покорно плестись за надменным бомбером было неприятно. Если судить учебный вылет по законам боевой обстановки, то получилось, что летчик Смоляков никудышный. Поднялся в небо, чтобы сразить воздушного «противника», а сам заблудился среди бела дня.
Скрепя сердце Василий смирился: не гробить же машину из-за собственной глупости. Но, очутившись на аэродроме бомбардировщиков, он почувствовал себя таким жалким, что готов был провалиться в тартарары.
Нет, никто ничего обидного ему не сказал. Совсем наоборот. Летчик, который был таким язвительным в роли противника, показал себя подчеркнуто тактичным в роли пришедшего на выручку товарища по оружию. И в то же время он без единого слова весьма умело выставил своего нечаянного пленника в самом комическом виде. Вначале этот хитрый бомбер с чисто авиационной галантностью провел Василия по традиционному кругу над стартом, потом, согласно воздушному этикету, пропустил его на посадку впереди себя, а после приземления догнал и, пристроясь в хвост, подсказывал, куда рулить.
Словом, все выглядело как бы самым невинным образом. Одного только не понимал Смоляков: хозяева аэродрома — летчики, техники и даже механики, которые не без любопытства обращали взгляды навстречу его самолету, почему-то все, как один, улыбались.
Дошло до него, что к чему, лишь на изгибе рулежной дорожки. Оглянувшись, он увидел, что рулящий вослед Ил-28 почти наезжает на маленький, невзрачный в сравнении с бомбардировщиком МиГ-15, словно грозя раздавить его своей крутобокой тушей. И тут все предстало перед Василием совершенно в ином свете. Выходило, что истребитель, этот властелин неба, и там, в воздухе, безропотно подчинялся самодовольно-высокомерному «мастодонту», и здесь, на аэродроме, как жалкий воробушек, бежал и не мог убежать, припадая от страха к земле.
И уже совсем обескуражен был Василий, когда лицом к лицу встретился с хозяином крылатого «мастодонта». Судя по раскатисто-ироническому басу, он ожидал увидеть этакого мужественного, богатырской внешности пилотягу, а тот оказался невысоким, щупленьким румянощеким пареньком. И фамилия у него была, словно он ее тут же, на ходу, придумал.
— Хитров, — с самой невинной улыбкой протянул он Василию руку, — Виктор Хитров…
Много времени прошло после их мимолетной встречи, а Смоляков до сих пор отчетливо видел перед собой лицо Хитрова, его притворно-простодушную улыбку. Летчик испытывал жгучее чувство стыда оттого, что так бездарно потерял тогда ориентировку. Потому он и молчал, когда командир эскадрильи напомнил ему о давнишней ошибке. Намек был понятен: местность — район полетов вокруг этого незнакомого аэродрома — еще не изучена, значит, смотри в оба, не забывай прошлый грех.
Василий не рассердился на майора Шмелева. На ошибках учатся, и теперь он не допустит повторения старой оплошности. И все-таки разговор был ему неприятен. Не хотелось, чтобы подробности того досадного эпизода стали известны штурману — капитану Чумаку.
— Скажите, Станислав Александрович, — обратился Смоляков к Чумаку, чтобы прервать затянувшуюся паузу, которая возникла во время их разговора на командном пункте, — а вы, вы-то видели, что в воздухе появился незнакомый самолет?
— При таких-то помехах? — штурман кивнул головой в сторону экрана. — Нет, не видел.
— Странно, — задумчиво произнес Василий. — Странно. Ведь заявки на перелет мы ни от кого не получали. И сигнал… Был сигнал «Свой» — «Чужой»?
Ничего не сказав, Чумак лишь пожал плечами, но во взгляде его, как подводное течение, прошла еле уловимая усмешка, и Смоляков, настороженно наблюдавший за ним, вспылил:
— Не хотите ли вы сказать, что самолет мне померещился?
— Сбавь обороты, Василий Алексеевич! — вмешался майор Шмелев. — Хватит спорить. Тебе на дежурство в ночь заступать. Так что шагай-ка лучше на боковую…
В семнадцать ноль-ноль Василий стоял по команде «Смирно» в строю, слушая привычные для него и все-таки волнующие слова:
— Для выполнения боевой задачи по охране и обороне Государственной воздушной границы Союза Советских Социалистических Республик приказываю назначить на боевое дежурство капитана Смолякова…
Зачитывая приказ, командир одну за другой называл фамилии летчиков, техников, механиков. Все не в первый раз заступали на дежурство, но каждый невольно подтягивался: с этой торжественно-строгой минуты все личное отодвигалось на второй план. На какое-то время забыл о своих заботах и Смоляков. Однако человек есть человек, и спустя час-другой мысли Василия вновь обратились к тем событиям, которые так растревожили его душу в последние дни.
Скучая по дому и стараясь успокоить себя («Четвертый десяток разменял, а все мечусь, как мальчишка»), он долго думал о жене. Расставаясь с ним перед его отлетом, она сказала, что поедет с дочкой на юг. Наверно, уехала, если до сих пор нет от нее писем.
«Дался ей этот юг! — злился Василий. — Могла бы к матери моей поехать, так нет, ей там, в небольшом рабочем поселке, видишь ли, скучно…»
А тут еще этот Чумак. Экран кругового обзора, как хлопья снега, забит помехами, а он, штурман наведения, и пальцем не пошевельнет. А вдруг помехи в радиолокационной системе обнаружения не случайность? Вдруг их вводит чужой самолет!
Внезапно перед глазами Смолякова вспыхнуло сигнальное табло. На его матовом фоне отчетливо вырисовывались красные буквы: «Тревога! В воздухе — нарушитель!» А из динамика селекторной связи уже гремел неприятно-жесткий голос капитана Чумака:
— Ноль тридцать седьмой, готовность! Привычным движением водрузив на голову гермошлем и проверив шнуровку высотного костюма, Смоляков шагнул за дверь, направляясь к стоянке, где техник уже снимал с полированной спины перехватчика легкий байковый чехол. Василий выслушал рапорт о готовности машины к полету, поднялся по прислоненной к борту лесенке в кабину, накинул на плечи лямки парашюта, застегнул привязные ремни. Затем, включив рацию, нажал кнопку передатчика:
— «Тура-два», я ноль тридцать седьмой, на связь!
— Понял вас, ноль тридцать семь, — отозвалась «Тура». — Ждите!
— Есть ждать! — четко, даже с излишним напряжением, ответил летчик.
Пылкий, склонный к мечтаниям, Смоляков, находясь на дежурстве, всякий раз принимал сигнал учебной тревоги как приказ на перехват реального, вроде Пауэрса, нарушителя наших воздушных рубежей. Но в небе, залитом холодным лунным светом, все было спокойно, и «Тура», проведя обычную тренировку, бесстрастно заключила обычными словами:
— Связи конец. Отбой.
Василий нехотя покинул кабину ракетоносца, вернулся в дежурный домик и, уступив место возле сигнального табло своему напарнику, прилег в соседней комнате на диван. Странное он испытывал состояние. Мышцы ног и рук, все тело, готовое к стремительному рывку за звуковой барьер, к возможной схватке в ночном небе, не хотело расслабляться, долго оставалось собранным в тугой комок, и в возбужденном мозгу роились мысли.
«Мало ли что!.. И вчера, и сегодня, и завтра — одни тренировки. Надоедает. Но для того и тренировки, чтобы в любой момент… А если всерьез? Враг тоже не дурак! Вдруг не помогут ракеты? Тогда что? Таран? — Летчик так резко повернулся с боку на бок, что в диване сердито заскрежетали пружины. — Да! Надо будет — и на таран пойду!»
Летчикам дежурного звена разрешается попеременно спать, но Василий так и не уснул в ту лунную ночь, словно боясь, что произойдет что-то неприятное. Но ничего не случилось, дежурство прошло так же мирно и обыденно, как всегда.
Последующие дни принесли еще большее успокоение. Смоляков наконец получил письмо от жены. Она сообщала, что отдыхает с дочерью у бабушки. В конце письма была приписка, сделанная рукой дочери: «Дорогой папочка! Мне здесь хорошо, только немножко скучно без тебя. Твой Светлячок».
Наладились дела и на командном пункте, где специалисты во главе с инженером привели все в порядок.
— Что дают синоптики? Летать сегодня будем? — спросил Смоляков командира.
— Обязательно! — кивнул Шмелев. — Только смотри — без выкрутас там. Сорвешься с привязи — спрошу по всей строгости!
— Да уж я знаю! — улыбнулся Смоляков и зашагал к домику, где летчики уже проходили медицинский осмотр и облачались в высотные костюмы, готовясь к предстоящим полетам.
День над аэродромом стоял безветренный, не по-осеннему солнечный. В вышине медленно, словно айсберги, плыли белые кучевые облака, но были редкими и ничуть не омрачали яркой голубизны небосвода. Словом, сама погода настраивала на полеты, и Смоляков, войдя в кабинет врача, бодро сказал:
— Подлетнем, доктор?
— Судя по внешнему виду, настроение у вас летное, — доброжелательно отозвался врач и, проверив у Смолякова пульс, давление крови и температуру, весело заключил: — Претензий не имею. Летайте на здоровье!
Василий немедля начал снаряжаться к полету. Для этого ему предстояло пройти настоящий обряд одевания, как королю перед выходом на прием заморских послов, но приступил к нему летчик с удовольствием. Видно было, что этот ритуал ему по душе.
Сняв китель, Смоляков натянул зеленый, весь испещренный застежками «молниями» и продольными шнуровками высотно-компенсирующий костюм. По внешнему контуру фигуры и на месте брюшного пресса в ткань были вшиты гофрированные шланги, с пояса свисали отростки воздушной и кислородной трубок. На ноги — ботинки с высокими голенищами и тоже с двусторонней шнуровкой.
Затем — целый комплект весьма оригинальных «головных уборов».
Тут на помощь летчику пришел врач. Он помог надеть поверх легкого, мягкого шлемофона тугую резиновую маску. На эту маску легла еще одна — матерчатая, пелерина которой подтыкается под воротник костюма. Наконец, гермошлем со щитком-забралом из органического стекла.
— Товарищ капитан! — донеслось из коридора. — Автобус ждет. Едем!
— Я готов, — отозвался Василий. — Иду!
А через несколько минут он сидел уже в кабине ракетоносца, и бетонные шестиугольники взлетной полосы, похожие на ячейки пчелиных сот, мчались под колеса шасси, на глазах сливаясь в сплошную серую ленту. Лента эта как-то разом оборвалась и провалилась вниз, летчик тут же затормозил колеса, сделал несколько привычных движений, убрал шасси… Мельком бросил взгляд на приборы и осмотрелся. Широко разметнулась под ним земля, лениво расстилая от горизонта до горизонта нити дорог и рек, желтые квадраты осенних полей, бледно-зеленые размывы лесов, — и все это, теряя яркие краски и четкие очертания, становилось каким-то нереальным.
Еще секунду назад такая далекая, на кабину самолета стремглав упала гряда кучевых облаков, но только на один миг облегла она фонарь своей темной массой. Перехватчик прошил ее звенящей стрелой, не успев даже вздрогнуть от турбулентных струй, а в следующее мгновение белые глыбы «кучевки» плыли уже так далеко внизу, что напоминали крошево льда на большой весенней реке.
Задание в сегодняшнем вылете было у Смолякова простое: шлифовка фигур пилотажа. Правда, оно несколько усложнялось тем, что к самолету были подвешены баки и ракеты. С такой загрузкой и без того тяжелая машина даже при элементарном перевороте должна терять несколько тысяч метров высоты. Однако это не смущало опытного первоклассного летчика, каким был Василий. «Поднимусь выше, только и всего», — решил он и, откинувшись к бронеспинке, продолжал вести перехватчик в режиме максимальной скороподъемности. А вокруг него, открываясь все шире, всеми красками переливалось в солнечном свете необъятное небо.
Небо выглядело на редкость красивым. Оно состояло в тот час из трех цветов. Внизу, от земли и до нижней кромки облаков, где висела густая приподнятая дымка, довольно широкая полоса казалась затушеванной темно-сиреневой краской, над необычно ровной поверхностью дымки простирался широкий бледно-зеленый, почти салатный, но более нежный прозрачный слой, а выше, без конца и без края, слепя глаза, ярко сияла голубизна.
Там, где начиналась эта бездонная голубизна, Василий перевел машину в горизонтальный полет, проверил показания приборов, удобно уселся в кресло катапульты и потуже затянул привязные ремни. Затем, готовясь бросить самолет в каскад головокружительных фигур, он осмотрелся — и гордое удовлетворение овладело всем его существом. Теперь он принадлежал только небу, как небо принадлежало ему, а все земные заботы и тревоги остались далеко внизу, под слоем сиреневой дымки, будто их никогда и не существовало. И вдруг…
— Ноль тридцать семь, я — «Тура». Прекратить задание. Курс двести тринадцать!
— Как? — вырвалось у Смолякова. — Почему?
— Слушать мою команду! Курс — двести тринадцать, — настойчиво повторила «Тура», и Василий ввел перехватчик в крутой разворот, хотя не понимал, из-за чего ему изменили задание.
Ответ на его вопрос ждать себя не заставил. Кодированным текстом «Тура» сообщила:
— Впереди — неизвестная цель. На запрос «Свой?» — «Чужой?» не отвечает.
Увеличивая скорость, Василий немедленно послал от себя рычаг управления двигателем, а сам уже шарил глазами по указанному ему сектору неба.
Глухо, еле слышная в загерметизированной кабине, рокотала реактивная турбина, и в ее гуле обостренный слух летчика улавливал чистую отзванивающую ноту. Так отзванивают, если приложиться к ним ухом, хорошие часы. Значит, на приборы можно не смотреть: двигатель и, соответственно, аппаратура работают нормально. Теперь все внимание — поиску!
— Тридцать седьмой, снижение! — распорядился кто-то негромким и очень знакомым голосом. Но не успел Василий выполнить эту команду, как мембраны в наушниках шлемофона снова задребезжали — там, на земле, кто-то не говорил, а кричал в микрофон: — Цель не вижу! Не вижу цель! Смотри сам!
«Чумак!» — догадался Смоляков, и ему все стало ясно: у штурмана на экране кругового обзора — помехи! И вновь, как тогда, на дежурстве, мозг обожгло подозрение: а не связаны ли помехи с появлением этой неопознанной цели? Ведь она идет оттуда, со стороны границы. Или — к границе?
— Куда шла цель? — обеспокоенно запросил Смоляков. — Сообщите курс цели!
— Ноль тридцать семь, я — «Тура-один». Смотри впереди и ниже. Понял?
Это был голос майора Шмелева, который руководил сегодня полетами. Ободренный его поддержкой, летчик сразу почувствовал себя увереннее. Выполняя пологое снижение, он начал делать змейки, что позволяло ему обозревать пространство в более широком секторе. И все же рассмотреть, увидеть что-либо в бескрайней глубине неба было трудно. Яркая вблизи, синева сгущалась в отдалении до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу.
Невольно вспомнились слова Чумака: «Успех современного воздушного боя делят по крайней мере два человека — летчик и штурман наведения». «Ах, Чумак! Все-то ты боишься, что кто-то уменьшит твои заслуги, да норовишь пооригинальнее высказать самую очевидную истину. Но разве в таком важном деле, как поиск неизвестной цели, можно что-то делить? Ну что ж ты молчишь, Чумак?»
— «Тура!» — почти закричал, не утерпев, Василий. — Дайте цель!
И «Тура» отозвалась. Чумак, хотя Смоляков и не ожидал от него такой прыти, сумел все-таки устранить помехи. В эфире опять зазвучал его голос:
— Тридцать седьмой, доворот влево пятнадцать!
Как кстати оказалась его поддержка! Довернув перехватчик на указанный штурманом угол, Смоляков едва не вскрикнул: впереди, срезая ему курс, почти отвесно пикировал точно такой же самолет, который уже встречался однажды в облачном небе. Еще минута-другая — он скрылся бы из виду и сейчас. Глубокой спиралью Василий устремился за ним, разгоняя скорость.
«А Чумак-то, Чумак! — с восхищением подумал летчик о штурмане наведения. — Он дело свое знает. Только вот немножко ершист, задирист. Так ведь и у меня характер не золото…»
Преисполненный чувством благодарности за своевременную помощь, Смоляков радостно радировал Чумаку:
— Цель вижу!
В другой обстановке Василий сказал бы: «Спасибо. Станислав Александрович!» Сейчас, однако, речь его была строго регламентирована правилами радиообмена, и он лишь отрывисто бросил в эфир:
— Атакую!
— Атаку запрещаю! — стеганул по ушным перепонкам резкий возглас майора Шмелева. — Посмотри, кого там носит, и пригласи в гости.
— Понял, — сухо буркнул Смоляков и, словно речь шла о самом обычном деле, спокойно согласился: — Сейчас.
До тех пор пока любой замеченный в небе самолет не опознан, он — противник. Следуя этому авиационному правилу, Смоляков шел на сближение чуть выше и правее, чтобы рассмотреть опознавательные знаки на борту подозрительного незнакомца и не дать ему возможности ускользнуть. Наконец он увидел на высоком киле красную звезду и успокоился: наш! Только заблудился, наверно, да к тому же забыл включить сигнал «Свой» — «Чужой».
Василию даже жалко стало неизвестного летчика. Нагорит теперь парню. Молод, поди, несобран, а все равно стружку снимут. Ведь одно дело — с курса сбиться, и совсем другое — не включить столь необходимую для полета аппаратуру.
Судя по типу машины, Смоляков предположил, что перед ним истребитель-бомбардировщик. Тогда, переключив радиостанцию на канал частоты, с которой держат обычно связь проходящие самолеты, он вполне дружелюбно сказал:
— Слушай, бомбер! Видишь слева аэродром? Заворачивай на посадку.
Слова его, однако, остались без ответа. Бомбер либо не слышал Василия, ведя радиосвязь на другой волне, либо притворился, что не слышит, надеясь уйти. Да, так и есть: вот он еще круче взял вниз и скорость увеличил, чтобы оторваться.
Смоляков не дремал. Он тоже прибавил обороты двигателя и быстро догнал нахального незнакомца.
Теперь, когда машины шли рядом, Василий видел одетую в гермошлем, чуть повернутую к нему голову летчика и качнул плоскостью: «Следуй за мной!» Тот не реагировал. Тогда Смоляков подошел еще ближе и махнул рукой, указывая направление к аэродрому.
— Куда лезешь! — громыхнул вдруг в наушниках шлемофона раскатистый бас. — Я — «Дракон»!
Чем-то сказочно-жутким повеяло от этого слова. В то же время Василия почему-то особенно насторожил сердитый бас, и память услужливо подсказала: Хитров!
Сложное чувство овладело Смоляковым. Тут была и радость от встречи со старым знакомым, и удивление перед тем, что он летает теперь на истребителе-бомбардировщике, и полузабытое ощущение неловкости перед ним, и веселое уважение за то, что Хитров, спустя столько лет, остался все тем же задиристым остряком. Вишь — разыгрывает: «Дракон»! «Дракон» — это марка одного из типов зарубежных истребителей. Так ведь аэродинамические формы у той машины другие.
Был в этом сложном чувстве Василия еще один оттенок. Ему не хотелось признаваться в том даже себе, и все же он испытывал удовлетворение: в сегодняшней встрече, по сравнению с первой, они с Хитровым поменялись ролями. Теперь они квиты! И Смоляков, невольно поддаваясь такой мысли, иронически улыбнулся:
— Узнаю по басу. А все равно топай-ка, «Дракон», на посадку, пока я тебя не раздраконил.
Реакция на каламбур была самой неожиданной. «Дракон» так круто упал на правое крыло, что Смоляков едва не потерял его. А в следующее мгновение оба самолета резко взмыли вверх. Все увеличивая угол набора, их сигарообразные фюзеляжи встали вертикально и опрокинулись на спину.
— Ах ты!.. — выдохнул Смоляков, злясь и дивясь тому, что бомбер решился на столь отчаянный трюк. И уступать ему он не хотел: его подстегнул азарт соревнования.
Василий неотступно следовал за противником, который, было видно, чувствовал себя в воздухе как рыба о воде. Самолет Смолякова трепетал и звенел от головокружительных бросков. Капитан владел истребителем, точно талантливый скрипач смычком. Пилотируя, он вкладывал в каждый маневр свою безудержную лихость, точный расчет, незаурядную ловкость и даже веселье.
Не менее искусен был и его противник. Гоняясь за ним, Смоляков чуть было не отстал на косой петле. И вдруг, видя, с какой яростной решимостью «Дракон» пытается оторваться от него, Василий ощутил что-то вроде нервного озноба: «Да полно, почему я решил, что это Хитров? Да и вообще — свой ли это? На борту звезды, но неизвестно, кто в кабине!»
Теперь не было силы, которая могла бы заставить Смолякова прекратить преследование. Его самолет, ощетинясь ракетами, тяжелее шел на сложный маневр, давал большую просадку при выходе из пике. Только не зря Василия считали в эскадрилье мастером группового пилотажа. Никакие пируэты не помогли противнику. Истребитель в конце концов повис над ним так, что тому оставалось лишь одно: идти вниз.
И снова Василий ощутил необычную приподнятость, почти ликование. Чувство это шло не от тщеславия. Теперь ему было совсем безразлично, кого он одолел в жарком сегодняшнем поединке — Хитрова или какого-то другого пилота. Важно то, что он, военный летчик Смоляков, зрелый воздушный боец. Ему доверено охранять воздушные рубежи, и он оберегает их надежно и самоотверженно. Будь сейчас перед ним реальный противник — не ушел бы безнаказанно.
Пикируя, Василий продолжал наседать на «Дракона». И тот наконец сдался:
— Осторожнее, тридцать седьмой! Пропусти на посадку.
Смоляков не знал, что и думать. Откуда незнакомому летчику известен его индекс? Значит, он слышал все радиопереговоры! И молчал? Выходит, он здесь с какими-то намерениями? Нет, тут что-то не так!
— Смотри, «Дракон», — настораживаясь, предупредил Василий. — Брось шутки шутить, иначе…
— Ну-ну, остынь! — пробасил странный незнакомец, разворачивая свою машину в сторону аэродрома. Однако Смоляков не отозвался и пошел следом за ним, не спуская с него взгляда.
Больше они не обмолвились ни единым словом до самого приземления. Да у Василия и настроение было такое, что ему даже разговаривать не хотелось. Он устал от невероятных перегрузок и, выйдя из кабины, пошатнулся, словно грузчик, взваливший на плечи непосильную ношу. Его ладонь еще ясно и щекотно ощущала упругую ребристую ручку руля высоты, а в сердце кипело непонятное самому раздражение, будто им только что была допущена какая-то очень досадная ошибка. Что его угнетало, осознать он не мог, но душу томило тягучее предчувствие какой-то неприятности.
Подошел Шмелев. Его лицо было бледным. Он тихо спросил:
— Ты знаешь, кого прижал? Это же «Дракон»!
— Ну и что? — вскинул голову Смоляков, но вдруг брови его удивленно поползли вверх. В горячке схватки он совсем забыл, а теперь вспомнил, что этот позывной во время войны принадлежал известному советскому летчику и гремел по всему фронту.
— Подожди, подожди, — сказал Василий. — Ведь он же давно в отставке.
— Ты что, с луны свалился? — перебил Шмелев. — У всех его ведомых такой позывной был. И у Гриценко тоже. Вот он и сейчас иногда фронтовым индексом пользуется. Дошло?
Ах вон в чем дело! Это Александр Тимофеевич Гриценко — генерал.
Занимая весьма высокую должность, он по-прежнему летает на всех типах машин.
Василием овладело злое спокойствие. «Ну и пусть! — говорил он себе. — Пусть! А поступил я правильно».
Между тем к стоянке, где находился ракетоносец Смолякова, уже приближался его «противник». Василий видел генерала впервые, но узнал сразу: лицо Героя Советского Союза Гриценко было хорошо знакомо ему по портретам.
Шел генерал пружинящим, спортивным шагом. На нем поверх противоперегрузочного костюма были синие брюки и коричневая кожаная куртка, какую обычно носят на аэродроме все летчики. Держался он прямо, чуть вскинув голову, и Смоляков отметил в его фигуре ту особую статность, которая всегда так приятна у кадровых военных. Мягкие, темные, с проседью, волосы Александра Тимофеевича окаймляли высокий лоб, глубоко просеченный резкими морщинами.
Только что снятый гермошлем генерал нес в руке, держа за ремешок, как ведерко за дужку. Василий снова подумал о том, что после посадки так носят гермошлемы все летчики.
— Вы видали, каков герой, а? — с улыбкой заговорил Гриценко, здороваясь со Шмелевым и с Василием за руку. — Вы видали, что он вытворяет? Меня, фронтового аса, «Дракона», переиграл!
— Разрешите доложить? — вытянулся перед генералом майор Шмелев, не зная, как реагировать на его слова. — Я еще не выяснил, почему не сработал запросчик… Разберусь… Спрошу с виновных по всей строгости…
— Да не спрашивать, а награждать надо! — еще веселее улыбнулся Гриценко. — Я ведь бдительность вашу проверял.
Он шагнул к Василию, положил ему руки на плечи, крепко встряхнул, притянул к себе:
— Хвалю! Люблю таких орлов!
Потом, отстранясь, снял свои золотые часы:
— Носи! Как память о нашем поединке.
И, словно устыдясь своего порыва, зашагал в сторону.
Смоляков даже сказать ничего не успел. Да, наверно, он и не знал, что говорить, хотя чувство у него было такое, будто ему удалось одним махом разрубить какой-то запутанный и туго затянутый узел.
Чтобы Шмелев не увидел его возбужденно горящих глаз, летчик отвернулся и стал глядеть в нежно-голубое небо. Облака там уже растеклись, и синева была пустой. А Василий улыбался. Никогда еще пустое небо не казалось ему таким красивым.
ВСТРЕЧА
Подъезжая к штабу части, в которой когда-то довелось служить, я волновался, словно перед порогом родного дома после долгой разлуки. Не терпелось поскорее увидеть знакомых и друзей. Но, как это обычно бывает, если торопить минуты встречи, они, как назло, все отодвигаются. В штабе было пусто. Мне сказали, что сегодня летный день и с утра все на полетах. Я направился на аэродром.
Аэродром встретил меня раскатистым гулом реактивных двигателей. С бетонки один за другим взмывали в небо самолеты. В глубокой высоте, казалось у самого солнца, тянулись белые барашки дымков — следы инверсии.
Полеты в разгаре. Родная, близкая сердцу картина. Неожиданно сладко защемило в груди.
Вхожу в знакомое до мельчайших подробностей двухэтажное помещение стартового командного пункта. Честное слово, такого больше нет нигде! Строили его по указанию нашего бывшего командира Героя Советского Союза Михаила Андреевича Живолупа, и он сам вносил поправки в проект. Основное достоинство стартового командного пункта в том, что весь он — из стекла, то есть стены второго этажа — это сплошь широченные окна, сквозь них видишь все летное поле. На потолке масляными красками нарисована карта района полетов, возле двери — карта синоптической обстановки. Над вышкой — высокая мачта с флагом Военно-Воздушных Сил.
Присев у окна, беседую с дежурным штурманом, наблюдаю за полетом и посадкой самолетов. Сколько раз приходилось сидеть здесь вот так же, будучи помощником руководителя полетов! Я знал тогда личный индекс каждого летчика. Да что индекс! По скорости выруливания на взлетную полосу, по профилю посадки, по еле уловимым деталям, что определяют летный почерк каждого, мог узнать, кто пилотирует самолет, как летчик выполнил задание, в каком он настроении.
А узнаю ли сейчас?
На посадочную полосу точно у посадочных знаков мягко приземлился истребитель-бомбардировщик. Когда колеса коснулись серой поверхности бетона, из-под них пыхнул сизый дымок — скоростенка все-таки! — но самолет, легко катясь на двух точках, не подпрыгнул, а медленно, будто нехотя, опускал свой остекленный нос и постепенно отдавался во власть земного тяготения.
— Расчет и посадка — отлично! — обернулся к дежурному штурману руководитель полетов подполковник Иван Петрович Флегонтов.
«Кто же летчик?» — напряженно думал я.
— Не узнаешь? — улыбнулся Иван Петрович. — Это наш Чкалов!
— Капитан Молотков?
— Он.
Василия Михайловича Молоткова я знаю давно, еще с тех пор, когда он был сержантом, укладчиком парашютов в нашем летном училище. Среднего роста, со смуглым красивым лицом, шапкой темных вьющихся волос и черными цыганскими глазами, он обращал на себя внимание подвижностью и весельем. И еще он любил петь. И мы любили его мягкий, задушевный голос. Бывало, соберемся после рабочего дня в кружок, баянист не успеет еще тронуть лады, как Вася расстегнет воротничок своей габардиновой гимнастерки, заложит руку за ремень, прищурится, будто прицеливаясь, тряхнет чубом и зальется песней.
— Что курский соловей, — улыбнется кто-нибудь, хотя знает, что Вася из Саранска. Но на шутника шикнут, и все молча слушают песню, мечтают каждый о своем. Хорошо пел Василий русские песни…
Глядя на него в такие минуты, я думал о том, какая нежная душа должна быть у этого сержанта. Да так оно и было: никто никогда не слышал от Молоткова резкого слова. А уж укладчиком он был таким добросовестным, таким заботливым, что, кажется, другого такого и не встретишь. Так и говорили: если твой парашют укладывал в ранец Василий, можешь положиться на него смелее, чем на самого себя. И как-то не верилось, что наш тихий, наш добрый, мягкий Вася в шестнадцать лет сбежал из дому, чтобы попасть «в летчики».
«В летчики» его, разумеется, не взяли: по годам не подходил. Вот и стал он укладчиком парашютов, да и то лишь с доброго согласия начальника училища, который когда-то сам таким образом начинал свой путь к авиации.
Ну, работал он хорошо. Товарищи шутили, будто он тем самым оправдывал оказанное ему начальником доверие. А скорее всего, Василий по натуре был трудолюбивым, таких обычно называют безотказными, о них говорят: «Что ни поручи — все сделает».
Да, таким я знал Василия Молоткова в первые дни знакомства. А скоро узнал его и с другой стороны.
Помнится, предстояли парашютные прыжки. Перед тем как прыгать нам, первокурсникам, опытный парашютист должен был выполнить пристрелочный прыжок. Я думал, что первым прыгнет офицер, инструктор. Но каково же было мое изумление, когда к распахнутой двери воздушного корабля первым шагнул сержант Молотков! На какую-то долю секунды я увидел его сосредоточенный, решительный взгляд. И мне долго потом не верилось, что это был он, тот самый Вася, под чьи песни так хорошо мечталось.
И еще почему-то вспоминается мне комсомольское собрание, на котором выступал Василий Молотков. Забыл, какая была повестка дня и о чем он говорил, возбужденно блестя глазами и встряхивая своим чубом-шапкой, но, как сейчас, слышу слова сидящего рядом со мной Михаила Андреевича, сказанные им о Молоткове:
— Красивый парень…
Я как-то по-другому посмотрел тогда на Василия.
Все мы — и механики, и курсанты — любили Молоткова. Любили за общительный и отзывчивый характер, за веселый нрав. Какие бы ни встречались трудности, он никогда не унывал, преодолевал их с шуткой и песней.
Подошел срок увольнения в запас. Уйти из армии? Нет, сержант Молотков об этом и не думал. Не расстался со своей юношеской мечтой. Он мечтал о небе, о полетах — и подал на имя начальника училища рапорт с просьбой зачислить его курсантом.
Прошло несколько лет. Я проходил службу в отдаленном авиационном гарнизоне. И вот однажды, возвращаясь в гостиницу с аэродрома, услышал, что в моей комнате кто-то негромко поет. Нельзя было не узнать этот голос.
Жил один скрипач, Молод и горяч…Рывком распахиваю дверь — передо мной в форме летчика стоит Василий.
Так снова свела нас военная судьба. Мы жили вместе и летали вместе, в одном звене.
Как проходила наша жизнь? Она мало чем отличалась от той, курсантской. С понедельника до субботы — полеты. В субботу мы снимали кожаные куртки, стягивали запыленные сапоги и наряжались в парадно-выходные мундиры. Кое-кто даже кортики пристегивал. Но куда пойти в отдаленном лесном городке? Мы прогуливались по единственной на весь гарнизон асфальтированной дороге, которую в шутку именовали Невским проспектом, а потом отправлялись в клуб офицеров.
Там по вечерам нам показывали какой-нибудь старый фильм, чаще всего — про войну. В фойе играли в бильярд. Иногда его отодвигали в сторону, включали радиолу, и начинались танцы. Впрочем, и танцевали мы друг с другом, потому что девушек в тех краях видели лишь во сне. А чаще всего собирались в кружок и пели. И песни у нас были авиационные да солдатские. Даже в репертуаре художественной самодеятельности, как правило, повторялись одни и те же номера, из-за чего она у нас вскоре и заглохла. Поэтому и здесь в центре внимания оказался опять-таки Василий Молотков. Он пел нам о любви, начиная и заканчивая свои «концерты» одной и той же песней:
Ну что сказать, мой старый друг, Мы сами в этом виноваты, Что много девушек вокруг, А мы с тобою не женаты…Наутро — опять полеты. И мысли были заняты лить одним — полетами. Тем более что в небе у нас, молодых летчиков, клеилось еще далеко не все.
Нелегко было, например, научиться выдерживать заданные интервалы и дистанции в боевых порядках звена и эскадрильи. Реактивный бомбардировщик — машина тяжелая, инертная. Взлетишь, развернешься в сторону ведущего, дашь газ до упора, а толку вроде никакого: долго-долго болтаешься из стороны в сторону, плетешься далеко позади. Потом раскочегаришь скорость — начинаешь догонять самолет командира, сближаешься. Вот тут уж смотри да смотри, чтобы не прозевать, уменьшить обороты, уравнять скорости точно к той секунде, когда машины пойдут рядом.
Только где там! Глазомер у нас был еще никудышный. Рванешь дроссельные краны назад — бортовая сирена надрывается: «Что ты делаешь?» Увы! Надо было не моргать: скорость уже сумасшедшая. И несется твой бомбардировщик как угорелый. Так и уперся бы руками и ногами в приборную доску, чтобы как-то притормозить, когда проскакиваешь мимо ведущего и командир грозит тебе кулаком. В шутку, конечно, грозит, но настроение у тебя, что называется, хуже вчерашнего.
В другой раз, ясное дело, осторожничаешь, еще дольше идешь позади, подкрадываешься. И нередко слышали мы в эфире сердитый голос командира звена:
— Правый, не отставай!
— Левый, подтянись!..
В строю «клин» я ходил правым, а Молотков — левым ведомым, и эти слова стали для нас своеобразным девизом в службе и работе. Мы вместе повышали свои знания, шлифовали летное мастерство, выполняли одно за другим учебно-боевые задания, соревновались друг с другом. И если у меня появлялись сомнения, Василий, поблескивая цыганскими глазами, ободряюще улыбался:
— Правый, не отставай!
А если у Молоткова что-то не ладилось, я в свою очередь напоминал ему:
— Левый, подтянись!
Так мы и держали равнение друг на друга. Отставать в чем-то самолюбие не позволяло. Зато как были горды, когда наши летные дела пошли на лад! Не раз, бывало, Михаил Андреевич Живолуп, наблюдая за нашим совместным полетом с вышки командного пункта, включал микрофон и во всеуслышание хвалил:
— Хорошо идете… Как на параде…
А это значило для нас многое. Умение выдерживать боевой порядок при полете в группе говорит о мастерстве летчиков. Плотный строй бомбардировщиков дает им тесное огневое взаимодействие и обеспечивает неприступность при атаках истребителей врага. Плотный строй самолетов на боевом курсе — это меткий массированный удар по наземной цели.
Добившись безукоризненного выполнения одной задачи, мы приступали к отработке следующей. Вот тут кто-то из летчиков и сказал, что Молотков летает по-чкаловски.
Это было летом. Июль стоял жаркий, знойный, и духота никак не способствовала полетам. А отрабатывали мы тогда стрельбы из пушек по воздушной мишени, точнее сказать — по брезентовому конусу, который на длинном тросе буксировал один из наших самолетов.
Работа была интересной. Бомбардировщик все-таки не истребитель, на нем нелегко гоняться за воздушной мишенью. Иной раз так упаришься, что летная куртка насквозь пропотеет, а на руках от штурвала вздуются мозоли. Зато какое это удовольствие — считать в конусе пробоины от своих снарядов!
Один за другим возвращались из полета наши друзья. Лица их светились радостью: задание выполнено успешно. Я тоже получил хорошую оценку. Но у Молоткова, как на грех, ни одного попадания.
— Левый, подтянись! — пошутил я по обыкновению, но Василий сердито махнул рукой: отстань, мол, и без тебя тошно.
На разборе полетов командир эскадрильи, проанализировав действия Молоткова в воздухе, недовольным тоном заключил:
— Рано открываешь огонь.
И — все. Неразговорчив был командир. А Молотков болезненно переживал свои неудачи. Оплошает в чем-нибудь, так после целую неделю молчит. Не знаю, почему он стал таким. Наверно, будучи менее опытным в летной работе, чем мы, очень уж хотел догнать нас, сравняться с нами, а пока отставал — вот и нервничал.
Вечером мы притащили баян, попробовали расшевелить его, отвлечь от невеселых мыслей. Но Василий не стал петь. Я затянул было: «Капитан, капитан, улыбнитесь…» — однако Молотков поднялся и ушел. Весь вечер он где-то бродил, а когда вернулся в комнату, я уже спал.
Утром, пока механики снимали с его бомбардировщика чехлы, он курил папиросу за папиросой.
— Ты что, Вася? — спросил я его перед вылетом. Молотков блеснул из-под нахмуренных бровей своими черными, как маслины, глазами, отбросил в сторону окурок:
— В этом полете все снаряды в мишени будут!
Я не придал особого значения его словам. Все снаряды в мишень положить — это, конечно, заманчиво, но невозможно. Ну, а то, что парень постараться решил, — это неплохо.
Молотков был уже в воздухе. Придя в зону воздушных стрельб и получив разрешение выполнять задание, он произвел перезарядку пушек и повел самолет в атаку. Все ближе, ближе мишень. Вот она подходит к малому кольцу сетки прицела. «Сейчас, сейчас, — медлит Василий. — Буду бить только наверняка!»
— Стреляй! — не выдержав, возбужденно крикнул штурман. Находясь в передней кабине, он видел, что их бомбардировщик вот-вот врежется в мишень.
Молотков и сам уже нажал гашетку. Загрохотали пушки. И вдруг Василий увидел белый брезент конуса прямо перед собой. Он резко отдал штурвал от себя. Однако было поздно: в то же мгновение раздался удар. Бомбардировщик тряхнуло с такой силой, что Молотков едва удержал рули.
— Командир! Конус оторвали! — взволнованно доложил стрелок-радист.
Василий молчал. До крови закусив губу, он выровнял самолет и взял курс на аэродром.
Я еще не знал ничего о случившемся в воздухе и, наблюдая за снижающимся на посадку бомбардировщиком, с удивлением смотрел на то, как за ним металась из стороны в сторону какая-то длинная темная полоса. Что бы это могло быть? Не иначе, антенна оборвана. Но почему? А по аэродрому уже мчалась легковушка Михаила Андреевича.
Узнав, в чем дело, мы притихли: получит сейчас Молотков солидный разнос. Но генерал не стал «строгать» летчика. Расспросив, как было дело, он просто отстранил его на неделю от полетов, приказав вместе с техниками и механиками ликвидировать повреждение. И когда я подъехал на велосипеде к самолету, Василий уже со злостью работал отверткой, отворачивал шурупы, чтобы снять помятую обшивку киля и стабилизатора. Потом подошли другие летчики, зашумели, успокаивая Молоткова:
— Да ладно, не переживай, бывает!..
И вдруг кто-то вполголоса процедил:
— Тоже мне — Чкалов!..
Да, был такой случай у нашего знаменитого летчика. При выполнении учебных стрельб по воздушному шару он израсходовал весь боекомплект. Но цель продолжала полет. Тогда Чкалов догнал шар и разрубил его винтом своего самолета. А после Валерий Павлович сказал, что так он будет действовать и при встрече с врагом. Но то — Чкалов-Молотков, конечно, все понимал и был мрачнее грозовой тучи. Чтобы как-то разрядить обстановку, я пошутил:
— Просто Вася хотел свой самолет в воздухе зачехлить.
Шутка получилась неудачной. Если бы огромный брезент конуса запеленал кабину, трудно сказать, что стал бы делать Молотков: ничего не видя, на посадку не пойдешь. И командир эскадрильи, потоптавшись возле нас, заметил:
— Самолюбив ты, Василий Михайлович. А самолюбие — оно, знаешь, в нашем деле… Так ты вот что, держи себя в руках крепче, чем штурвал.
— Спасибо, — сухо ответил Молотков, — постараюсь… В тот год Василий снова удивил нас. Мало-мальски освоив бомбардировщик он вдруг подал рапорт с просьбой перевести его в истребительную авиацию.
Не помню, ответили ему что-нибудь на рапорт или нет, но, когда он снова вышел на полеты, командир звена сердито сказал:
— Хватит пылить! И себя и меня в неловкое положение ставишь. Понял?
Молотков ничего не ответил ему, но, приступив к полетам, работал серьезно.
Спустя некоторое время все забылось, разве что при случае мы подтрунивали над ним, вспоминая злополучный «таран», да иногда называли его Чкаловым или Васей-истребителем. Но это тогда, когда командир хвалил его за удачный полет. И Василий весело улыбался. А что, дескать, разве я плохой летчик?
Он постепенно успокоился, и мы вновь видели его таким, каким знали в курсантскую пору. Но в то же время он был другим. Многие из нас, молодых пилотов, получив звание военного летчика третьего класса, начали с пренебрежением относиться к тренажу в кабинах самолетов. Молотков, наоборот, по-прежнему продолжал тренировки, да еще, пожалуй, с большим упорством. И глазомер отрабатывал — прямо-таки как курсант. Отмерив расстояние от бомбардировщика до того места, куда должен быть направлен взгляд перед приземлением машины, он садился в кабину и подолгу смотрел в намеченную точку. Зато как научился подводить самолет к посадочной полосе — впритирку. Вот и сегодня я невольно залюбовался тем, как красиво Василий выровнял и мягко приземлил машину на бетонку…
Мы встретились с ним на стоянке возле его самолета. Он искренне обрадовался:
— О-о! Кого вижу! Сколько лет, сколько зим…
Мы отошли в сторонку, сели, закурили, с любопытством рассматривая друг друга.
— Хвались, Василий Михайлович, что у тебя нового. Молотков задумался. Прищурился, глядя в солнечную даль голубого неба, где медленно-медленно плыли белые кучевые облака. Помолчал, слушая заливистые трели жаворонков, звеневших над аэродромом. Улыбнулся своим мыслям, повернулся ко мне. Все те же глаза — цыганские, озорные, с неиссякаемой молодой энергией. Из-под шлемофона выбилась прядь вьющихся волос.
— Не знаю, с чего и начать, — негромко сказал он. — Первый класс получил… Командиром звена стал… Дочь растет…
— Как зовут?
— Оксаной, — тепло улыбнулся Василий.
— С парашютом прыгаешь?
— А как же! Думаю «мастера» получить… Разговор идет сбивчиво — то об одном, то о другом.
— Василий Михайлович, а в истребительную авиацию попасть так и не удалось? — задал я наконец более всего занимавший меня вопрос. Ведь, насколько я знал, Молотков — из тех людей, которые, если уж надумают что-то, от своего не отступят.
Он хитро сощурился и улыбнулся:
— Считай, повезло мне. Командир тогда на моем рапорте такую резолюцию начертил: «Пусть сначала в совершенстве бомбардировщиком овладеет». А потом узнаю: ведь у нас есть истребители-бомбардировщики. Ну, думаю, вот это — по мне…
Истребитель-бомбардировщик, на котором летал Молотков, стоял неподалеку от нас, и мы оба посмотрели на эту машину. Самолет как самолет: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение — все, как и должно быть, а Василий, казалось, видел в машине что-то скрытое от меня и будто ласкал ее взглядом. Пользуясь правом давней дружбы, я решил подзавести капитана:
— Стоило менять шило на мыло! Все равно бомбер. И вес, наверно, как у мастодонта.
— Много ты понимаешь! — вскинулся Василий. — Тебе такой мастодонт и во сне не снился. Это… Это… — Мой приятель даже запнулся, подыскивая слова, но нашел: — Это — ласточка!
Мне, конечно, было хорошо известно, что по своим летно-тактическим данным машина эта является многоцелевой. Конструктору удалось прекрасно совместить в ней качества истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Словом, нужно бомбить — бомби, нужно ударить по наземному противнику с бреющего полета — бей, а если тебя атаковали — смело вступай в воздушный бой. И все же, зная об этом, я полагал, что до «чистого» истребителя такому самолету, как говорится, далеко.
— Нет, Василий Михайлович, по-моему, ты подзагнул. Для сложного пилотажа твой красавец тяжеловат.
Молотков вскочил. Его профессиональное самолюбие было задето, и он предложил:
— А хочешь — слетаем?
— Кто бы стал отказываться! — шутливо сказал я. — Тем более что у меня и задание такое — дать репортаж с борта самолета.
— Тогда — к командиру!
Мне повезло: дежурный врач, подсчитав пульс, измерив температуру и артериальное давление, признал, что все в норме. Командир части вписал мою фамилию в полетный лист, и я, натянув противоперегрузочный костюм, поспешил в кабину. Полет обещал быть интересным.
— Привязывайся, — буркнул Молотков. — Покажу, как мы в зоне крюки гнем.
Кстати, писатель А. И. Куприн где-то говорил, что у летчиков — свой жаргон. Но тут дело, пожалуй, даже не в жаргоне. Летчики, зная, что их профессию считают героической, несколько стесняются этого и поэтому всячески избегают красивых и громких слов. Потому у них фигуры сложного пилотажа — «крюки», прыжки с самолета — «козлы» и прочее в этом роде.
Ну, крюки так крюки, пусть так. Я застегнул ремни, закрыл кабину, Василий включил двигатель, и мы порулили на взлетную полосу.
— Девятому взлет? — запросил Молотков по радио руководителя полетов.
— Взлет!
Я был счастлив: лечу! Да как! Сплошной сумасшедшей полосой неслась под вздрагивающие плоскости и проваливалась, уходила назад и вниз земля. Казалось, какой-то сказочный великан-невидимка могучим и плавным махом метнул меня в солнечную высь.
Трудно бывает объяснить и тем более описать чувство полета. Почему? Да, вероятно, потому, что все другие чувства испытывает каждый человек, и тот, кто пишет о них, пользуется пониманием читателя. И если он чего-то не договорит, что-то не сумеет выразить, то его дополнит читатель. А летают, к сожалению, далеко не все. Даже пассажирами.
Ну и еще. Одно дело — подняться на самолете пассажиром, заботясь о благополучии которого летчик не сделает лишнего движения рулями, и совсем другое — пойти на сложный пилотаж.
Сложный… Само слово уже говорит обо всем. Сложный пилотаж — это высшее искусство полета. Это — воля, мастерство и оружие воздушного бойца.
Первый «крюк» — обыкновенный вираж. Плавный, еле уловимый нажим на рули — и наш крылатый корабль безропотно лег набок, переходя из неукротимого прямолинейного движения в стремительный разворот.
Мне приходилось летать на разных машинах, и вираж для меня не в диковину. Но этот самолет был в вираже неподражаем. В шутку говорят, будто лихачи шоферы могут делать такой крутой поворот, что им становится виден номер на кузове автомобиля. Шутка шуткой, а мы крутнулись так, что, право, почти увидели реактивное сопло. Во всяком случае, самолет, замкнув круг, попал в струю, которую только что выдохнула его же турбина. И затрепетал в возмущенном потоке, словно сам радовался собственной скорости и сноровке.
Попасть в свою струю — значит выписать филигранной точности окружность, где, хоть циркулем выверяй, радиус неизменен, а траектория полета — в одной плоскости. Сделать такой вираж — истинное наслаждение. При этом даже перегрузка кажется объятием любимой. И если говорить о почерке летчика, то Молотков — каллиграф. Но вираж выполняется не ради него самого. Это боевая фигура горизонтального маневра, и побеждает в воздушном бою тот, кто искуснее в нем. Да, недаром Василий еще тогда, когда был рядовым пилотом, всей душой отдавался летной учебе. А теперь — командир звена, сам обучает молодых.
Мысли мои оборвал головокружительный бросок вверх. Кто-то бесцеремонно, по-медвежьи сгреб меня в охапку и, забавляясь, швырнул через плечо за облака. Не успел я сообразить, что это был боевой разворот, как следом тот же топтыгин до хруста в костях вдавил мое тело в кресло, прижал всей своей многопудовой тушей и, не отпуская, повлек в бездну.
Хотелось сказать: «Да погоди, не балуй, дай перевести дух!» Но самолет, который только что был в отвесном пике, уже пружинисто сломал линию полета и, вздыбясь, пошел ввысь. Руки налились свинцом, сами собой закрылись веки, будто тугой резиной стянуло кожу щек, и голубое небо померкло в глазах. Потом ноги, мои ноги, оказались вверху, а земля над головой. Истребитель опрокинулся на спину, помедлил, как бы наслаждаясь и отдыхая, потом спокойно, даже нехотя опустил нос и опять метнулся к земле.
Краем глаза я заметил, что рычаг управления двигателем дернулся вперед: Молотков увеличил обороты. Зачем? Скорость и без того бешеная. Вон на плоскостях белым дымом заклубился спрессованный и разорванный в клочья воздух. Это, по законам аэродинамики, скачки уплотнения в потоке сверхзвука.
Нет, не мы к земле — земля падала на нас, быстро увеличиваясь в размерах, закрывая всю переднюю полусферу. Честное слово, весь земной шар уперся своим широким лбом мне в грудь и не дает дышать.
Осатанело выла турбина. Чья-то безжалостная рука сжала в тугой комок все мои внутренности и потянула их к горлу. Звук двигателя накалился до предела, стал яростным, протестующим, и, когда достиг самой высокой ноты, земля испуганно отпрянула назад. Опять вертикаль. Только на этот раз с креном. Вслед за «мертвой» — косая петля. Солнце, будто сорвавшись со своей извечной орбиты, описало в небе большую огневую дугу и упало невесть где. Я повернул голову и тотчас пожалел об этом: кислородная маска поползла в сторону с моего лица, какой-то сладкой болью заныли шейные позвонки.
— Девятый, какая у вас перегрузка? — донесся откуда-то издалека, точно с другой планеты, голос руководителя полетов.
— Нормальная, — спокойно ответил Молотков, и я понял, что он, мягко говоря, лукавит…
Самолет тем временем опять пронзил небо, опять опрокинулся вниз кабиной, но тут же мгновенно резким рывком сделал переворот и опять помчался по прямой. Ослепительный диск солнца, словно удивляясь этой безудержной удали, на мгновение задержался на крыле, и его серебристая обшивка полыхнула ярким светом. Что же мы сделали? Это была полупетля Нестерова с переворотом. Иммельман. Комбинированная фигура, когда самолет после вертикали переходит в горизонтальный полет для внезапного удара по противнику.
— Как самочувствие? — послышался в наушниках шлемофона голос Василия. Он повернул ко мне свое смуглое лицо, закрытое до самых глаз кислородной маской, и я увидел на лбу у него крупные капли пота. Ага, хотел меня удивить, а сам…
— Бочку, — попросил я, давая понять, что есть еще порох в пороховницах.
Бочка — одна из фигур сложного пилотажа, при которой самолет вращается вокруг продольной оси на все триста шестьдесят градусов. Наш истребитель, то бишь истребитель-бомбардировщик, завертелся, как вьюн на горячей сковородке. Одна бочка. Вторая. Вправо. Влево. Еще. И еще. Земля, облака, солнце — все шально кружилось вокруг нас, будто мы стали центром Вселенной.
В заключение согласно заданию мы пошли на обгон звука. Давно ли, кажется, авиаторы продвигались к невидимому звуковому барьеру робко, как разведчики на минном поле. И было отчего робеть. Воздух при этом встает перед самолетом настоящей стеной, о которую вдребезги разбивались самые крепкие машины, хороня под своими обломками летчиков. Но мы мчались на максимальной скорости по тому пути, который проторили для нас другие. Только вздрогнули, словно подмигнув, стрелки приборов…
На земле нас обступили солдаты и офицеры. У всех один и тот же вопрос: как? Но разве ответишь на него одним словом? Трудно выразить чувство полета, ибо оно сложное. Скорость будоражит. Высота пьянит. Где-то в глубине души присмирело ощущение опасности, и, чтобы не дать ему ожить, нужны выдержка, крепкая воля. А внизу — родная земля. В сердце — гордость за могучие крылья, которые подарил тебе народ. И сознание великой ответственности: ты — страж наших воздушных рубежей.
— Ты сделал меня сегодня богаче. Спасибо, — сказал я Василию и, все еще находясь под гипнозом полета, посмотрел на истребитель-бомбардировщик. Как он красив и изящен! Даже здесь, на земле, каждый нерв этого сигарообразного снаряда, казалось, трепетал от безудержного стремления рвануться ввысь, пронзить небо, сшибить в яростном поединке любого недруга.



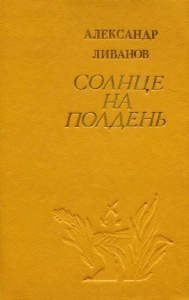

Комментарии к книге «Полет на заре», Сергей Иванович Каширин
Всего 0 комментариев