Лев Правдин ОБЛАСТЬ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ
Писатель Лев Николаевич Правдин родился в 1905 году в селе Заполье Псковской области. Мать и отец его — сельские учителя. Окончил среднюю школу в Бузулуке. Писать стал очень рано. Начало литературной деятельности прочно связано с работой в газетах. В 1924 году в издании куйбышевской (тогда самарской) газеты вышла его пьеса «Обновил», затем в Куйбышеве вышли его повести «Трактористы» (1928), «Золотой угол» (1930), роман «Счастливые дороги» (1931), две детские книжки, повесть «Апрель» (1937). В 1938 году был незаконно арестован. Много лет прожил на севере, в результате чего была написана книга «На севере диком» (первая часть романа «Область личного счастья»), вышедшая в свет в 1955 году в издании Пермского книжного издательства. В этом же издательстве вышли в свет отдельными книгами роман «Новый венец» (1957), рассказ «На восходе солнца» (1958), рассказ «Мы строим дом» (1959). В 1959 году в журнале «Урал» напечатана вторая книга романа «Область личного счастья», который в дополненном и переработанном виде печатается в настоящем издании.
Книга первая НА СЕВЕРЕ ДИКОМ
Часть первая
В НОВОЙ СЕМЬЕ
Он звал ее — дроля. Она его — залётко, залётушко. Родом он был из северных буреломных лесов, она — из Рязани. Когда были молоды, так и называли ласково друг друга, каждый по-своему. Он по-северному — «дроля», она — «залётко», по-рязански.
Прожили двенадцать лет, любовь поостыла, появились дети — двое сыновей; но слова молодой, горячей любви остались, вошли в быт, стали привычкой. Она дородная, красивая — дроля, он громоздкий, хмуроватый, скупой на ласковые слова, но все же — залётко.
Таковы они были — директор леспромхоза Иван Петрович Дудник и жена его Валентина Анисимовна.
Он родился и вырос в тайге, в верховьях Весняны. Там и сейчас еще стоит отчий дом — избушка из неохватных бревен, крытая тесанной топором щепой. В избушке живет отец, маленький, скуластый. Вечный охотник и следопыт, он знал тайгу на сотни верст кругом. Его маленькие, словно выцветшие глазки замечали все: и лесной массив, годный для повала, и бусинку беличьего глаза, в которую надо попасть единой дробинкой.
И уж он не промахнется.
С отцом Иван Петрович видался редко. Как только пошел работать, так почти дома и не бывал. А потом началась учеба. Учился он в лесотехническом техникуме. Там он познакомился с Валентиной Анисимовной.
Была она девушка веселая и очень бойкая. Работала в библиотеке. Вначале она и не заметила, что какой-то там лохматый студент ходит каждый день, но книг не меняет. Около нее такие читатели похаживали, что по два раза в месяц приходилось менять их формуляры, за одну ночь «Анну Каренину» прочитывали, а когда получали стипендию, приглашали в кино и угощали сливочным ирисом.
А этот читал нормально — две-три книги в месяц, лишних слов не говорил, но когда сдал последний зачет, вдруг предложил:
— Поедем со мной в тайгу.
— Как это с тобой?
— Ну, поженимся, конечно. Там, знаешь, какая жизнь!
— Ох, залётко, — засмеялась она, — вот уж озадачил. Так ведь я рязанская, в тайге-то твоей не уживусь.
Он только плечами повел и успокоил:
— Со мной-то? Уживешься. Я тебя дролей звать стану.
И так он это сказал убедительно, что Валя задумалась.
И верно ведь — ужилась. Как только приехали молодые в леспромхоз, дали знать отцу Ивана Петровича. Он пришел на лыжах за два десятка километров. Выпил на пару с сыном литр водки, встал на широкие лесные лыжи, подбитые оленьим мехом, и ушел. Через несколько дней принес связку беличьих шкурок на шубу снохе.
— Понравилась ты старику моему, — сообщил Иван Петрович жене.
И она вошла в тайгу, в таежный быт и даже полюбила север. Нашла дело по плечу и по нраву. Это дело — не только дом и семья. Ей хотелось, чтобы дом был, как говорится, полная чаша, а жена и в любви, и в работе — мужу по плечо.
Любовь к мужу и сыновьям, забота об удобстве — все это рязанское, щедрое, яркое сплеталось с северной суровостью отношений и красок. В доме были цветы, вывезенные с рязанской земли, и широкие, сохатиные рога, пестрые вышивки, медвежьи шкуры и черные с белым узором крылья косачей, развернутые веером.
В короткое, без ночей, лето она разводила возле дома огород и обучала этому необычному на севере делу своих соседок. Зимой в свободное время читала, слушала радио, рукодельничала, заботилась о том, чтобы мужу и детям было не скучно, тепло и хорошо. Тогда она чувствовала полное удовлетворение.
Заботы мужа — ее заботы. Он говорил: «Столовую, лешаки, запустили». Она шла в столовую и наводила порядок. Не хватало рабочих рук — она надевала телогрейку и выходила на субботник, ведя за собой женщин — таких же, как она, домохозяек. И за ней шли, не потому, что она жена директора. Умела каждому по-хорошему сказать суровое слово «надо».
Тоска и скука — эти болезни не привязались к ней. Рязанскую деревню свою вспоминала без грусти. И то больше в песнях. Петь любила, но песни ее поколения грустными не были. Слезные жалобы на судьбу — старинные прабабкины песни — не задевали за сердце. В песнях этих была жизнь, но не ее, а чья-то чужая, и не всегда понятная.
Ее жизнь, ее любовь, немного суровые, но от этого ничуть не терявшие своей горячей и яркой прелести, были здесь. Оглядываться на прошлое она не хотела. Будущее? Его все равно не увидишь, пока оно не придет. Она не боялась будущего, зная, что оно — лучше, чем настоящее, а если встретятся невзгоды, так ведь она не одна.
Они поселились в леспромхозе одними из первых. Сначала жили в общем бараке, где была отгорожена небольшая комнатка, потом построили дом, и она постаралась заполнить его теплом и уютом, чтобы залётко ее всегда стремился домой, к ней, чтобы всегда любил ее, здоровую, сильную, неувядаемо красивую дролю свою, чтобы ценил ее помощь и знал, что во всем: и в работе, и в беде — она с ним.
В доме тихо. Мальчики еще не пришли из школы. Обед стоит в печи. Иван Петрович должен сегодня вернуться из города. От него получена пространная телеграмма, что едет не один, с ним старый друг, фронтовик — инженер Корнев, Виталий Осипович, что его надо встретить как родного и приготовить угловую комнату.
Поезд приходил в два часа дня. Валентина Анисимовна постаралась приготовить обед лучше, чем всегда, потому что залётко сказал: «Надо встретить». Угловую комнату — кабинет Ивана Петровича — она прибрала, на диване устроила постель, телефон велела перенести в столовую.
Было сделано все, как сказал муж, хозяин дома, и как могла сделать любящая жена. Она не старалась угодить, это получалось само собой, и, делая что-нибудь для мужа, она всегда улыбалась спокойной умной улыбкой.
Она сняла свой полотняный, обшитый каймой фартук и в голубом халате присела к столу. Аккуратно зачесанные назад гладкие волосы немного растрепались. Вот такую, простую, домашнюю, ее особенно любил Иван Петрович.
Она сидела и ждала.
За окном послышался долгожданный скрип полозьев. Оставляя на дороге мокрый синий след, прошумели широкие сани, увлекаемые черным рослым конем.
Она бросилась навстречу, вспыхнув радостью, как девушка. Иван Петрович, твердо ступая, прошел по коридору и, широко распахнув дверь, пропустил вперед Корнева. Вместе с ними ворвался свежий запах снега. Муж сбросил тулуп и шапку, провел по усам ладонью и крякнул, как после хорошей рюмки.
— Здравствуй, дроля, заждалась?
Она порывисто и вместе с тем томно вскинула полные руки на его плечи. Знакомый запах табака и такое родное прикосновение жестких усов. Поцеловав его долгим, крепким поцелуем, она певуче и быстро прошептала:
— Заждалась, залётушко мой.
Обнимая ее плечи, он прошел на середину кухни. От него слегка пахло вином. Ну и что ж из того, почему и не выпить, если все хорошо.
Виталий Осипович заметил все: и нежный румянец девичьего смущения на полном лице Валентины Анисимовны, и ее на мгновение затуманившиеся желанием глаза, услыхал ее быстрый шепоток и понял — здесь живут согласие и любовь.
Согласие и любовь. Дом его друга отныне становится и его домом. Это сразу понял Виталий Осипович. Понял с первых шагов, с первых слов, и первые слова были о нем:
— Вот, дроля, это и есть друг моей юности.
Виталий Осипович склонил голову, пожимая теплую руку, протянутую ему от чистого сердца.
Все о нем рассказал муж Валентине Анисимовне, а чего недосказал, поняла сама. Разве много надо говорить о том, чем потрясено сердце.
Она увидела его лицо, без румянца, желтоватое от долгого пребывания в госпитале, его глаза, в минуты возбуждения вспыхивающие нездоровым блеском, и широкие брови, разделенные на переносице глубокой складкой. Увидела и поняла: много досталось горького на его долю, не поскупилась судьба.
Прибежали из школы сыновья. Еще на улице они узнали, что приехал отец, и поэтому очень торопились. Было слышно, что приближаются мальчишки горластые, стремительные, жизнерадостные. Но все это осталось за порогом. В дом вошли два самых примерных мальчика, если только примерные мальчики походя валяются в снегу и сбивают на затылок меховые ушанки. Им дали веник и прогнали стряхивать снег.
Потом они вошли строгие, подтянутые, как и полагается мальчикам при виде живого героя своих необузданных мечтаний.
— Знакомься, Виталий, мое потомство, — Иван Петрович присел и, обнимая сразу обоих сыновей, подтолкнул их к Корневу: — Вот они у меня какие!
Корнев протянул им руку как большим.
— Михаил, — четко произнес старший, вытягиваясь по-военному.
Ему было девять лет, и он понимал значительность момента. Ведь он первый в поселке пожал руку героя. Этим не сумеет похвалиться ни один из его товарищей.
Младший, Ваня, ничего такого не понимал. Он только осенью пошел в первый класс и еще продолжал принимать слова и события в их прямом значении. Но так как взрослые часто не учитывали этого и их слова расходились с его понятиями, то он иногда не доверял им.
Мама вчера сказала, что скоро приедет папин друг, который был на фронте, фашисты его ранили, и поэтому, когда он будет у них жить, надо вести себя хорошо, не шалить и не плакать.
Ваня ожидал увидеть богатыря, окровавленного, в повязках, но все еще полного сил, а тут стоял человек ростом меньше отца, бледный, исхудавший и никаких ран у него что-то не заметно.
В сердце мальчика вкралось сомнение. Он нехотя вложил свою руку в протянутую ладонь и вздохнул, заподозрив обман.
Отец выпрямился и, положив большие руки на стриженые головы мальчиков, ласково оттолкнул их:
— Ну, бегите.
Они отошли к столу и оттуда наблюдали, каждый по-своему воспринимая события. Оба с сердечным замиранием ждали от необычного гостя каких-то необыкновенных поступков. Но ничего особенного не произошло. Все оказалось до обидного просто. Виталий Осипович снял в кабинете отца китель и в обыкновенной белой рубашке пошел умываться.
Сомнения точили бесхитростное сердце Вани.
— Миша, — спросил он шепотом, — а где у него раны? Ведь должны же быть.
Старший отрывисто ответил:
— Не видно. Под рубашкой, наверное. А может быть, на ногах.
— Тогда бы он хромал… Кровь была бы.
Старший молчал.
— Это и не герой вовсе… А? Миша? — разжигал свои сомнения маленький Ваня.
Но Миша одним ударом сразил все сомнения:
— А ордена? — спросил он. — Видел, сколько?
Мальчики не заметили ни угластых лопаток, что ходят под рубахой героя, ни теней вокруг его глаз, ни строго сведенных бровей. Это заметила их мать. Она, не сдержав жалости, провела мягкой своей рукой по его спине:
— Эх, человек, человек…
Иван Петрович засмеялся:
— Ну, теперь считай, пропал ты, Виталий. Она тебя под страшную казнь подведет. Кормить ежеминутно будет…
— Не пугай. Как-нибудь переживу.
— Да уж придется. А ты не робей. Я тебя не дам в обиду: так прижму на работе, спать забудешь. Ты, дроля, не делай страшные глаза.
Валентина Анисимовна, подавая гостю полотенце, посмотрела на мужа с укоризной.
— Очень тебя глазами застращаешь. А со своей работой не торопись. Вот человек поживет, осмотрится да отдохнет. Он, гляди-ка, наработался — настрадался.
— Командир, — засмеялся Иван Петрович. — Вот она как тут командует…
Виталий Осипович вернул полотенце хозяйке и сказал ей:
— А Иван все-таки прав. Работать надо. Без дела я пропаду. Вы это понимаете.
— Я понимаю. Только если человека не кормить, мало от него толку. Ну, идите за стол.
А за столом, как и полагается при встрече, выпили и начали вспоминать годы, прожитые вместе, и рассказывать, что произошло с каждым в отдельности.
Дружбе их насчитать можно было лет пятнадцать. В то время они называли друг друга Иван и Витька, Иван был постарше. Вместе валили лес в камской парме-тайге. Вместе пошли на курсы десятников. Сидели за партами, один — кряжистый, здоровенный, другой — поменьше, но тоже — не попадайся под горячую руку. Лохматые, упорные, нелюдимые, ошалевшие от городского шума.
Нехитрую науку постигли без труда. Виталий сказал:
— То, чему здесь учат, мы давно уже забыли. Пойдем, Иван, дальше.
Пошли дальше, на курсы механизации лесоразработок. Потом потянуло в лесной техникум. И здесь пришлось им расстаться. Виталий уехал в строительный институт, а Иван остался в техникуме доучиваться.
На этом, казалось бы, и конец дружбе. Разъехались — и забыли один другого.
Нет, незабываема та дружба — без частых писем, условных встреч и душевных разговоров под звон стаканов. Незабываема дружба, если она таится где-то глубоко в сердцах и довольно намека одного, чтобы она, дружба эта, сказала свое мужественное короткое слово.
Началась война. Виталий Осипович командовал саперным подразделением. Был расчетлив и смел. Не совался в воду, не найдя броду, знал, где придется упасть, и успевал подостлать соломки, а в то же время был уверен, что смелость города берет.
Воевал самоотверженно, получал ордена и уже помышлял о форсировании германских рек и штурмах вражеских городов. Он рвался в Германию со всей ненавистью, со всей злобой глубоко оскорбленного человека.
В Германии томилась его невеста. Ее увезли туда насильно, как увозили многих русских девушек.
Он лишился покоя. Сидеть на месте не мог. Надо было идти, бить их, бить и снова идти. Ведь она там, в зачумленном, зловонном логове, его чистая, кроткая Катя.
Только движение приносило ему покой. При форсировании одной реки он проработал ночь в ледяной воде и первым вывел свое подразделение на противоположный берег. Здесь он был ранен. На ампутацию не согласился, хотя левая рука, страшно распухшая, казалась совершенно безнадежной. Он должен вернуться на фронт. А как он вернется туда безрукий?
Но и с двумя руками на фронт его уже не пустили. Он брал приступом не менее яростным, чем на фронте, различные воинские инстанции, но ничего не помогало: не годен. Тогда он смирился. Но спасение — только в движении. Надо работать. Он приехал в Москву и там встретил Дудника, старого своего друга.
Они обнялись. Поехали в гостиницу к Ивану Петровичу. Рассказали друг другу все, что надо рассказать, а что осталось не сказано, то было и так понятно.
— Ишь ты какой, — сказал Иван Петрович, разглядывая друга своего, словно впервые его увидел.
Виталий Осипович обреченно улыбнулся:
— Да, брат, вот я какой…
— Знаешь что? Поедем ко мне. Чего тебе здесь околачиваться. Там у нас в тайге воздух! Помнишь?
Виталий Осипович расправил плечи, вскинул голову, на которой буйные начали отрастать волосы, и крикнул хрипловато, как давно когда-то кричал в лесу:
— Бойся!
Так — помнил он — лет пятнадцать назад предостерегающе кричали лесорубы, сваливая неохватную сосну. Со свистом она рассекала воздух и падала, ломая сучья.
— Помнит! — захохотал Иван Петрович. — Не забыл!..
— А что я буду у тебя делать? — спросил, все еще улыбаясь, Виталий Осипович.
— Технорука у меня на фронт забрали. Один кручусь.
— Так ведь я — строитель.
— Чепуха! Ты лесовик. Техника у нас, сам знаешь, какая. Освоишь!
Он ходил по холодноватому гостиничному номеру, широкий, кряжистый, исподлобья поглядывая на друга. На его лице, обожженном северными морозами и северным солнцем, под которым и зимой загорают не хуже, чем в Ялте, шевелились жесткие усы. Все было надежно и крепко в этом человеке. Надежный друг и бывалый таежник.
Глядя на него, Корнев постепенно успокаивался. Неторопливые, уверенные движения друга, его походка, басовитый голос, запах свежей смолы, исходивший от его полушубка, — все напоминало о тайге.
И показалось Корневу, что вновь он в лесу, в дремучей парме. Это было не мгновенное ощущение, которое вдруг набежит, как случайное облачко в знойный день. Каждый раз, когда он вспоминал свои годы, проведенные в тайге, ему казалось, будто он идет тайгой по скользкой рыжеватой хвое, что наслаивается годами, а кругом отлично пахнет нагретой зноем смолой, свежей сыростью мха и скудными таежными травами. И вдруг с вырубки потянуло кисловатым запахом сваленных деревьев и гарью недавних костров. А кто хоть раз узнал, как пахнет горящая хвоя, кто слыхал летучий треск лесорубного костра, и тонкий свист ветвей стремительно падающей сосны, и гулкий удар ее о землю, и предостерегающий возглас лесоруба: «Бойся!» — забудет ли он тайгу?! Может ли забыть человек, хоть однажды сваливший вековую сосну, гордое, торжествующее чувство власти человека над природой?
Это постоянное чувство, которое накрепко привязывает человека к родным местам, и овладело Корневым. Оно подсказало ему то решение, на котором настаивал Иван Петрович.
Вот так и попал Корнев в тайгу, как в отчий дом, где начал он жить и работать.
После обеда Виталия Осиповича уложили спать. На ледяных узорах окна дрожал бледный отблеск зари.
— Утро или вечер? — спросил он.
— Пять часов. День, — ответил Иван Петрович. — Ты об этом сегодня не думай. И вообще я здесь начальник. Моя власть. Жить будешь у меня. Ты лежи, лежи, Я так приказываю. Дроля моя тебя подкормит немного. Ну, спи. Я в контору, через час совещаться будем, тогда и придешь.
Он ушел.
РОСОМАХИ
Это выдумал кто-то из шоферов, будто по тайге около пятой диспетчерской бродит росомаха. Женя Ерошенко первая поверила в росомаху и боялась выходить ночью из своей будки. Ей чудился большой серый зверь, который бродит в мелком еловом посаде, сверкая зелеными глазами. Начали побаиваться и остальные девушки-диспетчеры. Шоферы потешались над ними, признавались, что все это выдумали, что никакой росомахи нет. Но девушки все равно уже боялись. Тогда все стали называть девушек-диспетчеров росомахами. Они сначала обижались, а потом привыкли.
Женя дежурила ночью. В шесть часов она выходила из барака, останавливала какую-нибудь попутную лесовозную машину, идущую в лес порожняком. Чаще всего ей попадалась тридцатка. Машина номер тридцать.
Почему всегда тридцатка? Разве она знает! Говорить можно все, но Женя совершенно не интересуется, какой там шофер в ночной смене на тридцатке. Мишка Баринов? Очень может быть. Но это ее мало касается.
Конечно, она не истукан, не чурбан с глазами и не может молчать всю дорогу. Она разговаривает с Мишкой не потому, что он Мишка, а потому, что он ее везет, а ехать почти шесть километров, и все тайгой, по этой бесконечной автолежневой дороге.
Вот сегодня он спросил, кому она пишет письмо в адрес полевой почты. Она ответила, что это военная тайна.
— Какая же военная тайна, если на конверте имя и фамилия? Иван Яхонтов.
Мишка ревниво блеснул горячими цыганскими глазами.
— Ты, Женька, сама не знаешь, что плетешь.
— А ты знаешь?
— Я-то все знаю. Только это у тебя не получится. Не видать тебе твоего героя.
Женя была полная розовая девушка. Когда она сердилась ее щеки становились совсем как два августовских яблока. Она опускала веки на томные, ленивые глаза и возмущенно отдувалась:
— Ф-фу!
— Ты сейчас, Женька, на росомаху похожа. У тебя волосы рыжие. Герои любят, когда черные волосы. Вот выкину тебя из кабинки.
Мишка говорил спокойно, посмеиваясь, но сердце у Жени немножко замирало. Ей нравилось, когда за ней ухаживали, а еще лучше — ревновали. А Мишка очень красиво ревновал. Даже жутко. Он похож на цыгана. Он сам говорил: «Ты учти, у меня цыганская кровь». Но все равно он не нравился ей. Она могла полюбить только героя. И, конечно, не здесь, в тайге, где десять месяцев зима, полгода не видно солнца, и вместо него северное сияние.
Это тоже красиво, слов нет, но она мечтала о юге.
Машина бежит по туннелю из снежных сугробов и сосен. Недавно здесь прошел снегоочиститель, наворотив по краям дороги синие глыбы снега. Сосны ночью стоят сплошными черными стенами, и только над ними видна узкая полоска темно-серого неба, на котором вспыхивают и гаснут тусклые отблески далекого сияния.
Впереди машины бегут дрожащие огни фар, зажигая на снегу хрустальные искры. Освещенные фарами, выступают уходящие ввысь золотые стволы сосен, торчат согнувшиеся под грузными шапками снега молодые елочки.
Машина бежит по лесной дороге, останавливаясь на разъездах у диспетчерских будок, пропуская встречные машины. Тяжело груженные огромные лесовозы, запорошенные снегом, проплывают в свете фар, исчезая в темноте. У четвертой диспетчерской пришлось подождать. Женя, отряхивая валенки, побежала в диспетчерскую погреться. У раскаленной печурки сидела Шура, самая маленькая из росомах. Она была ростом с двенадцатилетнюю девочку и отличалась очень независимым нравом. Все звали ее Крошкой.
Крошка сказала:
— Если ты будешь на дежурстве спать, Женька, я за себя не ручаюсь.
— Когда же я спала?
— Прошлую ночь я всю руку отмотала, пока до тебя дозвонилась.
— Хорошо. Я постараюсь, — согласилась Женя и вздохнула.
Она знала, что сколько она ни старайся, все равно задремлет.
Покорность подруги тронула Крошку. Она посоветовала:
— А ты думай о чем-нибудь. Я вот как размечтаюсь, так и терплю. Я о кавалерах мечтаю. Какие они бывают, как глазами поводят, какие мне слова говорят… Ах, Женька!
И, прижимая крошечные ручки к своим пылающим пухлым щекам, восторженно распахнула глаза.
Женя вздохнула:
— Тебе хорошо, Крошка. Ты маленькая. За тобой мало ухаживают. А мне они и так надоели. Стану я еще о них мечтать.
— Ты на тридцатке?
— Ну и что же? Нужен он мне очень. Ф-фу!
Крошка завистливо вздохнула, взглянув с неприязнью на красивую подругу. Ну что хорошего находят в этой тумбе? И совсем она даже не красивая. Лицо, как подушка. Волосы рыжие. Наверное, она их завивает на шесть месяцев. Так красиво сами не вьются. И брови, конечно, подбривает. Курносая. Глаза выпуклые, как у лягушки, только что голубые. Рот маленький, так и у нее, у Крошки, тоже небольшой, и губы такие красные и пухлые, как будто она всю ночь целовалась.
— У тебя пуговица сейчас оторвется, — недоброжелательно сказала Крошка.
Женя провела рукой по груди.
— Не держатся у меня пуговицы. Особенно, если вздохну.
Коротко звякнул телефон. Из пятой диспетчерской спрашивали о двенадцатой машине.
— Нет, еще не пришла, — ответила Крошка. — У меня тут тридцатка дожидается, а двенадцатая, наверное, застряла на перегоне. Ох, уж этот Гришка Орлов! Посадили мальчишку на лесовоз. Ну; конечно, на тридцатой. Скажи ей сама.
Крошка протянула трубку Жене:
— Тебя Марина спрашивает.
Женя подсунула телефонную трубку под белый пуховый платок. Сейчас же послышался четкий, возмущенный голос ее сменщицы:
— Ты что там думаешь — я всю ночь буду дежурить?
— А я что, по воздуху полечу? Ты, Марина, с ума сходишь.
— Это ты с ума сходишь. Иди пешком! Что там с двенадцатой стряслось? Стоит на перегоне? У меня две машины в лесу под погрузкой. Куда я их пущу? Иди. Я из-за тебя пробку не намерена устраивать. Договор ты тоже подписывала — пятьдесят рейсов за смену…
— Ладно, не агитируй, — заносчиво ответила Женя, — я сама знаю, что надо делать. Я говорю: не меньше тебя знаю. Иду, сказала, иду.
Грохнув трубкой, она возмущенно фыркнула. Затянув потуже платок и застегнув черный аккуратный кожушок, Женя вышла из будки.
Редкие мелкие снежинки так медленно падают, что кажутся вмерзшими в морозный воздух. Тридцатка стояла на лежневке. Кабинка, прицеп и даже капот густо обросли сверкающими кристалликами инея.
Из открытого бункера валили желто-зеленый дым и копоть прямо в Мишкино лицо. Он стоял на площадке и, отворачиваясь от ядовитого дыма, опускал в бункер длинный металлический прут — шуровку.
Женя подумала, что сейчас Мишка, черный, со сверкающим оскалом похож на какого-то злого духа тайги, возникающего из желто-зеленого дыма.
Да, нелегкая работа у этих шоферов, недаром они все такие отчаянные.
Заметив Женю, Мишка со звоном выхватил шуровку и захлопнул бункер. Он что-то крикнул, но что, она не разобрала. Помахав ему рукой, она пошла прямо в жуткую темноту просеки. Дорога смутно белела во мраке, по временам озаряемом зеленоватыми вспышками отдаленного северного сияния.
И Жене казалось, что, наверное, вот так же зеленовато Должны светиться глаза росомах.
Она шла, стараясь не скрипеть валенками по снегу и осторожно поглядывая по сторонам. Она боялась росомахи. Ведь знала, что все это выдумка шоферов, нет тут росомах, но сейчас ей казалось, что, может быть, какая-нибудь бродит рядом.
Ну, конечно, двенадцатая стояла на перегоне. С заглохшим мотором. Очередная авария. Орлов на это мастер.
Сразу он накинулся на нее. Надо на ком-то сорвать досаду. Не себя же ругать. Он сбросил полушубок, закрыл им радиатор, чтоб не заморозить, сдвинул шапку на затылок. Мокрые волосы прилипли к грязному потному лбу. Было очевидно, что машину ему не завести. И как бы в оправдание Гриша ворчал, что эти газогенераторы — настоящие самовары, им в субботу сто лет будет, не выдерживают мороза.
— У других выдерживают, — язвительно заметила Женя.
Круглое, совсем детское лицо шофера загорелось гневом.
— Если хочешь знать, это не твое дело.
Потом он закурил, достав из бункера огонька, и сразу успокоился.
— Иди в свою пятую. От тебя помощи, как от козла молока. Позвони — пускай тридцатка без прицепа едет на выручку.
— Ф-фу, — возмутилась Женя, — он еще и командует, аварийщик несчастный!
— Иди, иди, говорю, — повторил Гриша, стараясь говорить басом, что в его неполных пятнадцать лет не совсем удавалось. — Катись, а то!..
— Ну что — «а то»?
— Птичкой взовьешься.
Женя презрительно и, насколько умела, свысока посмотрела на шофера.
— Показала бы я тебе, какая птичка, да боюсь — заплачешь.
Вот этого намека на свое малолетство Гриша перенести никак не мог, он двинулся на девушку с явным намерением сковырнуть в сугроб заносчивую росомаху, но в эту минуту кто-то громко, но спокойно спросил:
— В чем дело, ребятки?
Петров. Секретарь парторганизации.
Шумно дыша, Женя возбужденно воскликнула:
— Ну ясно — авария, товарищ Петров, разве он может без аварий!
Петров молча подошел к машине. Приложил большую почерневшую от металлической пыли ладонь к радиатору. Нет, еще не остыл. Через плечо глянул на шофера. Тот стоял, маленький, щуплый, в замасленной гимнастерке, виновато поглядывая исподлобья. Ну, что с такого спросишь? В доброе время ему бы в школу бегать, самое большое в седьмой класс. А его в тайгу забросило, на ветхий лесовоз. И он не теряется, не плачет, не просится домой. И знал Петров — нет дома у этого паренька, вывезенного из Ленинграда. Знал, что батька его — ленинградский шофер, если жив, бьется где-нибудь в составе танковой части, а мать умерла от голода. Один он, Гришка Орлов, на белом свете. И, значит, должен он, Петров, поступить с ним со всей отцовской нежной строгостью.
Вот он себя не пожалел, стоит в одном легоньком пиджаке, поблескивающем алмазами инея. А ветхим своим кожушком прикрыл радиатор, заслонив от злого мороза, как от врага.
— Ты не форси тут на морозе, — сурово сказал Петров и тяжело двинул желваками на скулах. — Сволочи!
Сорвал кожушок с радиатора и, накрывая плечи мальчика, привлек его к себе, повторяя:
— Сволочи!
— Ничего. Побьем, — тихо ответил Гриша.
— Ясно. Побьем. Подкинь-ка чурок в бункер, ручку дай, попробуем завести. А ты, девонька, беги в свою пятую, позвони в четвертую будку. Там стоит тридцатка. Давай ее сюда на выручку.
Женя — с готовностью, послушным голосом:
— Есть, товарищ Петров.
И затопала аккуратными валеночками. Она очень спешила, но все же не могла не думать о Ване Яхонтове. Какой он? Наверно, уж не такой, как наши шоферы. У него не будет аварий. Не может быть. Она прочла в газете о награждении танкиста Ивана Яхонтова третьим орденом боевого Красного Знамени и, вырезав из газеты его портрет, повесила над своей кроватью.
Она написала ему и получила ответ. Три дня она не чувствовала земли под ногами и даже не дремала на дежурстве. Он с радостью шел на знакомство, твердо обещал победить фашистов и требовал от нее самоотверженного труда, частых писем и верности.
Все это Женя восторженно обещала ему в письме. Но после первого же ответа он замолчал. Тогда она решила, что обманута. Герой-танкист пробивался на своем танке к Вене, кто знает, сохранила ли стальная броня его сердце от жгучих взглядов заграничных красавиц? Сегодняшний намек Мишки Баринова утвердил ревнивые ее подозрения…
Женя очень торопилась. Когда выходила из дому, голубой столбик термометра показывал сорок два градуса. Но ей было жарко. Она вся пылала. Дыхание распирало тесный кожушок. Пуговица на груди уже давно оторвалась. Интересно, на кого шьют эти полушубки? Наверное, они там, в своем швейкомбинате, думают, что все девушки плоские, как доски.
Ну, наконец-то, последний поворот. Сквозь частый ельник, где ей привиделась росомаха, мелькнул огонек.
Вот и диспетчерская. В стороне от дороги, под громадными соснами, она казалась совсем крошечной, эта избушка, наскоро срубленная из бракованного леса. Вокруг чудовищные сугробы снега. На крыше — пушистая гора, из которой торчит железная труба. Голубая струйка дыма, чуть колеблясь, прямо уходит в серое небо.
Женя распахнула кожушок, развязала шаль и, вся пышущая жаром, усталая, ввалилась в диспетчерскую.
Марина, уже одетая, ожидала ее. Она подняла тонкие прямые брови, отчего по лбу пробежала маленькая морщинка, придав ее лицу страдальческое выражение.
— Пришла?
Женя изнеможенно помотала головой.
— Ну, прямо сил нет. Сгорела вся.
— Ты, Женька, сейчас похожа на махровую розу. Такая же красивая и растрепанная. Ну, ладно, принимай дежурство. Вторая и четвертая под погрузкой. Да не спи. Какие новости?
— Директор приехал.
— Знаю. Сегодня собирает совещание. Что по радио? Какие города взяли?
Женя, наконец, пришла в себя. Она разделась и села к телефону. Марина поправляла белую шапочку, потуже затягивала пушистый шарф: она считалась щеголихой. Подруги завидовали ее платьям, обуви и даже казенному белому полушубку, который у нее всегда на редкость чист. И когда только она успевала чистить эту шкурку?
— Нового ничего, — ответила Женя. — По радио что-то передавали, да я не запомнила. Еще инженер какой-то приехал. Фронтовик. Не знаю, какой он. Девочки говорят, ничего. Интересный. Весь в орденах.
Марина улыбнулась, показав мелкие сверкающие зубы:
— Дура ты, Женька. Ну, не обижайся. Ты красивая дура. Ладно, спокойной ночи.
Ее быстрые шаги морозно скрипнули и затихли. Щеголиха. Москвичка. Думает, раз понавезла тряпок, так и умнее всех. В общем, конечно, она умная. Женя, да и все остальные, уважали Марину, но болтать с ней о сердечных радостях и невзгодах не отваживались. Все знали, что у нее горе. Немцы угнали сестру в Германию, и сейчас о ней нет никаких слухов. Может быть, она поэтому такая строгая, замкнутая и так жадно ловит каждое известие о наступлении Красной Армии.
Нет, на Марину обижаться нельзя. Она строгая к другим, но и заботливая. Вон сколько дров наготовила, пожалуй, на всю смену хватит.
В общем, ничего плохого про Марину сказать нельзя.
ЛИЧНЫЕ ДЕЛА
Двенадцатую пригнали в гараж и поставили на ремонт. Петров сам осмотрел машину. Машина была стара и тянула из последних сил, ее давно на переплавку пора. Но все эти слова хороши для мирного времени.
— Так что проверь фильтры да бункерную крышку подкрути. Там на болтах резьба сорвана. А мотором утром займемся. Сам не лезь…
— А почему мотор до утра? — заносчиво спросил Гриша. — Не доверяете, значит? Да?
Петров усмехнулся, но тут же спрятал улыбку и со всей строгостью приказал:
— Я сказал, мотор — до утра. А тебе с фильтрами дела хватит.
И вышел из гаража, плотно прикрыв обледеневшую дверь.
Дорога мутно белела в темноте. Трепетные вспышки северного сияния почти не проникали в это ущелье, высеченное в черном массиве тайги.
Он шел по лежневке и ни о чем не думал. Его просто тянуло к тому месту, к тому повороту, где стояли по сторонам дороги две гигантские ели. С их могучих лап свешивались седые косматые пряди. Петрова всегда, как только оставался он наедине со своими мыслями, тянуло к этому месту. Сюда ходил он с Дашей, когда она еще не была его женой.
Она говорила: «Вот наши елочки». Она вообще умела говорить ласковые, веселые слова и даже в письмах спрашивала: «Наши елочки живут еще? Ну и мы будем жить. Мы их моложе лет на двести. Верно?»
Это верно, Даша, но вот я живу. А ты? Нет, об этом лучше не думать. Лучше вспомнить, как незабываемо хорошо было здесь гулять с ней в далекие мирные времена белыми летними ночами или зимой, когда стояла такая тишина, что слышен был даже стук сердца, когда зеленые отблески северного сияния освещали ее щеки и зажигали серые глаза снежными мерцающими искрами.
Петров помнит и никогда не забудет этих ночей, этих столетних елей. «Наши елочки».
Родные, самые родные места, на всей земле. Здесь он родился, вырос, полюбил таежную девушку, женился, отсюда она проводила его на фронт. А пока он воевал, она успела окончить курсы медсестер и уехать на фронт в санитарном поезде. В письмах ее он читал: «Пойми, я иначе не могла».
Она иначе не могла. Он это понял.
Она писала ему — работает в полевом госпитале. Он знал, что это значит. Его самого вытащила из-под вражеского огня какая-то девушка, даже имя которой он не узнал. Вот так и Даша. Она была сильная, отважная женщина, настоящая дочь тайги. Была. Да…
Была. И вот невозможно на этом месте, у «наших елочек», в морозный вечер не вспомнить о ней.
Из внутреннего кармана ватника он достал потертый бумажник — там хранилась фотография жены. Он смотрел на ее широкое лицо, на девичью косу, перекинутую через плечо, на глубокие, под крутыми дугами бровей, глаза. Мерцающие отблески сияния пробежали по глянцу фотографии, казалось, глаза жены вспыхнули зелеными искрами.
Он вздохнул. Спрятал бумажник далеко в карман, там ему и место, подле сердца, подальше от глаз людских. Его тоска никого не касается. Это его тоска, его горе, и он сам должен нести их.
Бумажник в кармане, плотно застегнут ватник. Все как и должно быть. Пойдем обратно в поселок, в кабинет директора — там ждет дело.
Бледный свет брызнул на дорогу. Комья растоптанного тяжелыми машинами снега засверкали голубыми огнями, отбрасывая длинные кинжальные тени. Послышался рокот мотора. Приближалась лесовозная машина. Заговорило эхо в звонких соснах. Ожила тайга.
В невеселые мысли Петрова торжествующе вторглась жизнь. Горячая и строгая, она даже не боролась с тоской, — она просто отбрасывала ее в сторону.
Афанасий Ильич хорошо знал это. Он, не останавливая машины, вскочил на подножку и открыл звонкую дверцу.
Через полчаса он сидел в небольшом кабинете директора леспромхоза. Дудник ходил по комнате и рассказывал о городе, о том, что говорят в тресте, о планах на будущее. Планы были огромны.
— Понял, что делается на севере диком? — спросил Иван Петрович, прочно кладя большие руки на спинку стула.
Петров посмотрел на них, потом перевел взгляд на свои руки. Почти такие же — большие, с сильными пальцами, потемневшими от машинного масла, копоти, металлических опилок и мороза. Этого не отмыть, это навек.
— Правильно. Поработать придется.
— Ох, придется, Афанасий Ильич!
— А работаем плохо! — жестко прервал Петров.
Директор, словно остановили его на бегу, недоумевая, спросил:
— Плохо? План перевыполняем, знамя держим.
— Отобрали знамя. Нашлись добрые люди, стукнули по затылку, чтоб не зазнавались. А то привыкли в передовых ходить. А как задание настоящее дали, так и притихли.
Дудник хмуровато, боком, поглядел на секретаря парторганизации.
— Да. План дали, не пожалели.
— Большой план, — посочувствовал Петров.
— Трудновато придется, а вытянуть надо.
— А у нас легких работ нет и не будет. Это ты запомни и не говори так, не срамись. Чем труднее, тем, значит, доверия больше, чести больше.
— Сам знаю. Не агитируй.
— Да я и не агитирую. А ты не плачь.
Лицо Дудника вдруг густо налилось бурной кровью.
Стало жарко. Он посмотрел на стену, на то место, где недавно висело знамя передового леспромхоза, решительно подошел к столу.
— А ты не плачь, — повторил Афанасий Ильич. — Ты лучше скажи, почему передовой леспромхоз стал так себе, середнячком? Почему обязательство не выполняем? Думал ты об этом?
Дудник в свою очередь глянул на Петрова:
— Давай без загадок, Афанасий Ильич.
— Хорошо, — согласился Петров. — Давай начистоту. Работали мы не хуже, чем при тебе. Даже чуть получше, но нашлись леспромхозы, которые стали работать лучше, чем раньше, и обогнали нас.
— Похоже, так, — значительно согласился Дудник. — Плохо разворачиваемся мы с тобой.
— Плохо, — согласился Петров. — Вины с себя не снимаю. Плохо я тебе помогал, Иван Петрович. Ты командовал, нажимал, требовал, а я ходил, смотрел и считал, что так и должно быть. Ты уехал, я и спохватился, что с людьми-то совсем не работал. Считал, что все у нас благополучно. А благополучие-то оказалось дутое.
— Постой, — перебил Иван Петрович, — постой. Выходит, я неправильно руководил?
— Выходит так.
— И дисциплина у меня приказная?
— Боятся тебя люди. А уж тут хорошего мало.
Иван Петрович остановился, снова тяжело положил на спинку стула тяжелые свои руки.
— Так. Значит, Дудник виноват?
— И Петров тоже, — сказал Афанасий Ильич, повертываясь к столу, желая показать, что все необходимое сказано и пора приниматься за дело. Но знал Афанасий Ильич, что до дела еще далеко. Сначала начальник выскажется. Вон как он вцепился в стул, даже суставы побелели. Ну что ж, у всякого свой характер, и это надо учитывать.
Учитывая характер Дудника, Петров разложил на краешке стола кисет с табаком, бумагу, зажигалку и начал не спеша свертывать папиросу.
— Та-ак, — зловеще сказал Иван Петрович, отрывая руки от стула. — Все сказал?
— Пока все.
— А ты валяй до конца. Добивай Дудника! Он стерпит. Меня в тресте не так строгали и то жив остался. Меня в три топора тесали, так ты еще стружку снимаешь? Ну, давай.
Он ходил по тесному кабинету из угла в угол и бушевал. Вспомнил все: и первую сосну, сваленную его руками, и первую просеку в дикой тайге, и землянку, где жил первый год, и первый победный гудок паровоза на новой железной дороге. Все это было при участии его, Ивана Петровича, во всем этом его сила, его мозг, его кровь.
Знал Афанасий Ильич — ничего не прибавляет директор. Все так и было. Уважал за то Дудника, любил крепкую его хватку и готов был всего себя отдать, чтобы только хоть сотую долю сделать того, что сделал Иван Петрович.
Отдать всего себя, но и с других потребовать того же. И не когда-нибудь, а сегодня, сейчас.
Отбушевав, Иван Петрович тяжело сел, втиснув в кресло большое свое тело, потянулся к кисету Петрова и, рассыпая табак по столу, начал крутить папиросу.
Воспользовавшись затишьем, Афанасий Петрович спокойно заметил, словно ничего и не было сказано в ответ на его обвинение:
— Так вот. Виноват я и ты. Оба виноваты. И давай ошибки исправлять.
Дудник, прикуривая, глянул на Петрова.
Он сидел около стола, невысокий, ладный, подвижной, в старенькой телогрейке, обтягивающей крутые плечи и грудь. Лицо его, дубленное морозом, с хорошим румянцем, с глазами цвета жидкого чая, в которых вечно искрятся неугасимые огоньки: глаза человека пытливого, беспокойного, смышленого. Такие глаза, на первый взгляд, не вязались с его таежной медлительностью. Но всякий, кто пробыл с Петровым хоть полчаса, убеждался, что медлительность этого ловкого тела есть только отсутствие суетливости, что человек этот быстр, как белка.
Он никогда ничего не скажет раньше времени и попусту, он лучше подождет, подумает, взвесит, а потом решит. И тогда хоть разорвись, не отступит. Дудник это знал и ценил. Даже сейчас, в минуту крайнего раздражения, он сознавал, что не сдвинуть ему этого человека с его позиций.
Сцепил пальцы, утвердив их на столе, хмуровато сказал:
— Ну вот и высказался. И к черту. В сторону.
И в самом деле, Дудник широко отмахнул рукой, словно отмел шелуху бестолкового разговора, освободив место для деловой беседы.
— Хорошо, — согласился Петров, — начнем о деле. Нам с тобой еще долго работать. И вот надо тебе и мне запомнить. Характеры у нас тяжелые. Прощать не умеем. И не надо. А работать надо. Понял? На то и поставлены здесь, в глубоком тылу. Мы кровь не проливаем…
Как бы запнувшись, он остановился на минуту, и даже показалось Дуднику, что дрогнуло обветренное лицо Афанасия Ильича, и какая-то судорога на секунду свела его губы. Голосом, внезапно приглушенным, он закончил:
— За нас другие проливают.
— Жена? — понял Иван Петрович.
Наступило молчание.
Дудник сказал:
— А я тут ору. Ты не обижайся.
И, махнув рукой, замолчал. Что тут скажешь? Да, наверное, и не надо говорить.
— Не надо, — подтвердил Петров. — Переживу. Не вздумай жалеть! — Вздохнул и закончил: — Никак мы с тобой до дела не доберемся. Обсудим. Как дальше жить будем…
НА СЕВЕРЕ ДИКОМ
Виталию Осиповичу казалось, что он спал недолго. В доме было темно и тихо. Он осветил зажигалкой циферблат часов. Без двадцати восемь. Утро или вечер?
Он начал одеваться в темноте. Дверь приоткрылась, неяркий свет проник в комнату.
В столовой за большим столом расположились мальчики. Михаил учил уроки, Ваня лежал на столе животом, болтая ногами. Увидев Виталия Осиповича, он испуганно заморгал глазами, поспешно сполз на стул и на всякий случай спрятался за край стола.
Наступила тишина. Виталий Осипович спросил, где папа и мама. Михаил обстоятельно ответил, что папа ушел в контору, а мама сейчас придет.
Тема для разговора была исчерпана. Виталий Осипович не умел говорить с детьми. Дети. В его памяти жили скорбные образы детей, застигнутых войной. Этого не забыть. Там он знал, что делать. Детей надо было спасать. Не щадя ничего, даже жизни своей, — спасать.
Но тут он видел детей в совершенной безопасности. Они не нуждались в его защите. Он невесело усмехнулся и сел к столу.
— Уроки учишь? — спросил он.
— Учу, — односложно ответил Миша.
— Это хорошо.
Снова наступила тишина. Виталий Осипович постукивал по столу пальцами и думал, о чем бы еще спросить. Но, ничего не придумав, сказал:
— Ты, брат, не обращай на меня внимания. Мне все еще война… в глазах у меня все, знаешь, военные всякие дела…
— Расскажите про войну, — очень серьезно попросил Миша.
— Про войну? Знаешь, не будем про войну. Там хорошего мало. Ты вот уроки спокойно учишь, а наверное, тройки есть? Ну вот вижу, что есть.
— Одна только, — шепотом сказал Миша. — По письму.
— По письму? Это нехорошо. А я, знаешь, в одной избе ночевал. Простая изба. Мы тогда еще отступали. И вот — ночь. Темно в избе. Солдаты спят на полу, на лавках, везде. А на печке лампочка горит, мигалочка такая, из баночки сделана, с фитилем. Свету — как от спички. Да, брат. Это к урокам не располагает. А дочка хозяйская при этом огоньке уроки учила. Проснулся я и слышу — шепчет что-то про Ганнибала. А уже слыхать — пушки бьют. Завтра мы отступим, а она про Ганнибала учит. Понимаешь? Она уроки учит, а кругом пушки бьют…
Миша, не мигая, смотрел в одну какую-то точку на столе.
— Я теперь буду здорово учиться, — сказал он.
— Ну, вот. Так и надо.
— А девочку эту не встречали больше?
— Где же там встретишь.
— И адрес не записали?
Виталий Осипович вздохнул:
— Адреса, брат, не записал. Да и записывать нечего. Наверное, от деревни этой ничего не осталось.
Ваня давно уже вылез из своего укрытия.
— А я вчера стакан разбил, — сообщил он.
Не понимая связи этого сообщения с рассказом, Виталий Осипович спросил:
— Ну и что?
— А пушки стеклянные разве? — вопросом на вопрос недоверчиво ответил Ваня.
— Пушки? Нет, брат. Они стальные.
— А вы говорите — их бьют.
Миша вспыхнул. Неосведомленность брата в военных делах показалась ему прямо-таки преступной.
— Молчи, если не понимаешь… А еще в первом классе учишься.
Виталий Осипович снова улыбнулся, но на этот раз его улыбка не оказалась столь пугающе невеселой. Он хотел объяснить, как бьют пушки, но стукнула входная дверь. Пришла Валентина Анисимовна.
Корнев вышел на кухню и сказал, что пойдет в контору.
Валентина Анисимовна пыталась отговорить его, но напрасно. Он согласился только выпить чаю. Он не может сидеть. Он может только идти, делать, ехать, но не сидеть.
Он боялся остаться один со своими мыслями, боялся безделья, ему казалось, что если остановиться на минуту и передохнуть, то можно сойти с ума.
На улице было темно. Невидимый мутный свет исходил от массы белого снега, от белесоватых пятен на небе. Казалось, светится сама тьма.
Поселок расположился на пригорке. Окна сверкали множеством маленьких оранжевых и желтых огоньков. Стружки дыма тянулись к темно-серому небу, словно ниточки, на которых висел невидимый поселок.
Острый, как игла, луч неожиданно возник на небе. Дрогнув, он начал таять. Но не успел он исчезнуть, как такой же второй луч возник рядом, и вдруг сотни лучей гигантским веером развернулись в густо-фиолетовом, почти черном небе.
Дорога морозно повизгивала под ногами. Он шел и смотрел на огненную феерию. Он не знал, куда идти. Спросить было не у кого. Мороз давал понять, что с ним шутки плохи.
Виталий Осипович увидел в стороне от дороги огромный и как бы освещенный изнутри сугроб. Он подумал, что это шутки северного сияния, но, присмотревшись, убедился, что сугроб светится сам по себе каким-то ровным голубым светом.
Он отыскал узкую дорожку, прорытую в глубоком снегу. Глыбы снега загорелись при вспышках сияния зелеными искорками. Корнев спешил, подгоняемый морозом, ударяясь плечами о выступы снегового коридора. Узкая дверь чернела перед ним. Он толкнул ее, скатился вниз по невидимым ступенькам и оказался в темноте.
Вдруг яркий свет ударил в лицо: открылась противоположная дверь.
— Кто? — спросили оттуда.
Виталий Осипович подошел к освещенной двери. Его впустили. Здесь было много света, влажного тепла и еще чего-то, что очень поразило его. Неужели это возможно?
Сказка. Сон. На севере, под студеным сиянием, при морозе в пятьдесят градусов?
Нет, не сон. Масса густой, сочной зелени тянулась рядами от стены до стены. Красные и розовые плоды сверкали под яркими лампами.
Помидоры! В феврале, на севере диком, эти питомцы юга? И тут же он понял: все в порядке — оранжерея на севере диком, и никакого тут чуда нет.
Но он сказал все же:
— Да у вас тут чудеса!
И посмотрел на стоявшего перед ним. Это был небольшого роста человек, франтовато одетый, круглолицый, с тщательно зачесанным пробором. Он протянул руку.
— Агроном Шалеев. А вы — товарищ Корнев? Пожалуйста, проходите.
Нет, все-таки это было чудо. Помидоры, зеленые огурцы, цветы росли и зрели здесь, в огромном снеговом сугробе, отгороженные от страшного мороза только непрочной стеклянной крышей. Виталий Осипович расстегнул полушубок, но все равно было жарко.
Агроном пригласил его в свой кабинет. На стенах полочки с семенами в банках, в пакетах, засушенные растения, пробирки с образцами почвы.
Они сидели, и агроном, блестя черными глазами, говорил:
— Если мне дадут людей на раскорчевку, я весь поселок обеспечу капустой. За картошку пока не ручаюсь, а капустой обеспечу. Вот увидите, что тут летом будет.
Он принес помидор и огурец.
— Вот попробуйте. Это и в Москве не всегда достанете. Если учесть, что сейчас февраль.
Виталий Осипович с удовольствием, которого не испытывал давно, ел овощи, взращенные без солнца. Агроном понравился ему. Он очень хорошо и толково говорил о северном огородничестве. Такие люди творят чудеса, если они не отрываются от земли, а этот агроном крепко держался за свою суровую, скупую, промерзшую землю. Он любил ее. Но не бескорыстной любовью. Он хочет взять от нее все, что только можно взять от скупой северной земли.
Агроном глядел на орденские колодки и, в свою очередь, испытывал сильнейшее волнение. Перед ним сидел один из героев войны. Здесь, в глубоком тылу, о них, о их богатырских подвигах можно было прочесть только в газетах…
Виталий Осипович спросил, как дойти до конторы.
— Вместе пойдем, — ответил агроном. — Да вы не торопитесь, мне тоже на совещание. Я вам сейчас одну вещь покажу.
Он повел Корнева куда-то в глубь оранжереи и заставил подняться по лесенке, чтобы заглянуть на стеллаж второго яруса. Сам он ловко вскочил на край нижнего стеллажа и склонился над ящиком с землей. Виталий Осипович увидел несколько десятков очень знакомых кустиков с темно-зелеными глянцевитыми, словно восковыми, листочками.
— Брусника? — недоумевая, спросил он.
— Да, — понижая голос, ответил Шалеев. — И морошка, вот видите?
Действительно, из второго ящика выглядывали узорчатые листья морошки. Ничего удивительного в этом не было. Обыкновенная северная ягода, которой заросли все болота. Но таким торжеством сияли глаза агронома, что Виталий Осипович насторожился.
— Морошка, — повторил агроном, — мичуринская. На этой морошке я клубнику вывожу, викторию.
— Ну?
— Пока только опыты.
Он стоял на стеллаже и, любовно поглядывая на листочки, уверенно говорил:
— Сделаю! Не сразу, но сделаю. Мичурин тоже не сразу добивался, а мы только ученики его.
Спрыгнув на пол и подождав, пока спустится с лестницы его гость, Шалеев сухо и твердо сказал:
— Я это показал только вам. Надеюсь на вашу помощь.
Потом агроном рассказывал о своих опытах. Он рассказывал сказки одну за другой, сказки о чудесных превращениях, и Виталий Осипович, забыв о времени, слушал.
— Почему картофель созревает здесь на открытом грунте за полтора месяца? Вы знаете здешнее лето. Солнце светит почти круглые сутки. Круглые сутки! Это надо использовать нам, мичуринцам.
Наконец они вспомнили о совещании. Пора идти.
Снова мороз. Мутные нагромождения снега под зеленым сиянием.
«На севере диком! — усмехнулся Виталий Осипович, — Нет, не такой-то уж дикий этот север, если на нем обосновался и твердо решил жить советский человек».
У директора леспромхоза собрались бригадиры и десятники. Маленький кабинет набит сдержанно разговаривающими людьми. Много женщин. Лица обветренны и загорелы.
Иван Петрович поманил Корнева. Ему дали дорогу, откуда-то появился свободный стул. Он снял белый армейский полушубок. Люди тихонько шептались.
Они уже, конечно, знали о нем. Все новое быстро узнается в маленьком таежном поселке. Ивану Петровичу осталось только официально представить своего заместителя.
Для Виталия Осиповича все было ново. Насколько он помнил. Дудник никогда не отличался красноречием. В бытность свою Иваном, лесорубом, он только и умел орать на весь лес: «Бойся!»
Сейчас он тоже сказал немного. Но каждое слово аккуратно ложилось на место, как у хорошего лесоруба сваленный хлыст падает, куда ему предназначено.
Он начал так:
— В январе на этой стенке висело переходящее Красное знамя. А теперь только гвоздики остались, на которых висело знамя.
Все посмотрели на стенку, но там не было даже гвоздиков.
— Ну вот видите. Даже гвоздиков не осталось. Одни дырочки от гвоздиков.
Он вздохнул.
— Это работа? Я вас спрашиваю, кому нужна такая работа?
Иван Петрович обвел всех тяжелым, негодующим взглядом и вдруг резко поднялся. Стоя, он начал говорить. Он не говорил, он отдавал приказания.
— Мы выполнили февральский план, но мы все обязались дать в освобожденные районы сверх плана тысячу кубометров. Так почему же мы их не даем? Надо дать. И мы дадим.
Он требовательно посмотрел на людей, сидящих перед ним. Все сосредоточенно ожидали. Они знали своего начальника. И знали, что когда существует надо, то не существует невозможно.
— Тарас, дадим? — спросил он.
Никто не шелохнулся, не оглянулся на Тараса. Разве он его одного спрашивает? И если начальник спросил, то это неспроста.
Только сейчас заметил Виталий Осипович коренастого парня. Он напоминал их юность. Такой же, как они, хмуроватый, упрямый, с непонятным блеском в глазах, то ли от молодости, то ли от сжигающей его тоски. Так, по крайней мере, показалось Корневу.
Тарас оглянулся на товарищей. На его, словно из меди отлитой, шее обозначались крутые мускулы.
— Надо, значит, дадим, — проговорил он, по-волжски упирая на «о», и переложил с колена на колено белую с лазоревым верхом кубанку, придавив ее большой ладонью.
И тут же Виталий Осипович увидел другую руку: маленькая, нежная и смуглая, она поднялась над головами. Казалась она лишней — тростинка под ударами ветра.
— Говори, Ефремова, — недовольным тоном приказал Дудник.
Девушка в клетчатом шерстяном платье, слишком нарядном среди потертых, опаленных у лесных костров ватников, неторопливо поднялась.
Убирая мизинцем прядь светлых волос, сказала озабоченно, как о домашних делах:
— Шофер Орлов развалил воз, и еще случаи были. Вдоль дороги лежит много аварийного леса. Надо убирать этот лес. Все равно на лесной бирже простаивают машины под погрузкой. Лесорубы отстают от вывозки.
Сказав это четким, ясным голосом, словно прочитала тщательно заученное, она села.
— Рассыплешь ворохами, не соберешь крохами, — проворчал Дудник тем же недовольным тоном.
Кто-то коротко засмеялся, и снова наступила тишина. Недовольный тон директора и какое-то безучастие всех собравшихся удивили Виталия Осиповича. Он ждал горячих споров, предложений, но все молчали, и это, по-видимому, удовлетворяло Ивана Петровича, потому что он сказал другим, одобряющим тоном:
— Ну, глядите. Сегодня не требую от вас ответа. В лесу, на делянке, потребую. Все?
И он уже по заведенному порядку готовился перейти к дальнейшим делам, но в это время раздался низкий женский голос:
— Дайте-ка немому поговорить.
Не дожидаясь разрешения, поднялась невысокая коренастая женщина. Глядя на Дудника своими серыми беспокойными глазами, она заговорила с какой-то отчаянной удалью:
— Правильно сказал директор: рассыпали мы ворохами, а подбираем крохи. И на эти крохи столько сил кладем, столько лошадей загоняем. Вот тут все удивляются, как это знамя у нас отобрали. Глядите, с такой работой и нос между глаз утащат, а мы и не приметим.
Она говорила неторопливо, тем властным тоном, какой бывает у человека, глубоко убежденного в своей правоте.
— Как это? — шепотом спросил Виталий Осипович у Дудника.
Тот, недовольно посапывая, ответил, что колхоз «Рассвет» по договору прислал бригаду с лошадьми на вывозку леса. А эта женщина, колхозный бригадир, возглавляет коновозчиков.
Корнев еще не вполне понимал все, что эта женщина говорит, и только к концу ее речи стала очевидной ее правота.
Осенью рубили лес, а вывезти не успели. Лес, как говорится, остался у пня. Его завалило снегом. И когда, управившись со своими делами, прибыли колхозники, их заставили выкапывать из-под снега и выволакивать по снежной целине к дорогам каждое бревнышко. А в это время вновь срубленный лес, который легко можно вывозить прямо из-под пилы, заносит снегом.
— А тот лес, по-твоему, бросить, пусть гниет? — задал вопрос Дудник.
Она рассудительно ответила:
— Зачем бросать! Через месяц-полтора снег осядет, мы тебе его на санях в два счета вывезем.
— Ну ладно, — проворчал Дудник, когда она, кончив говорить, все еще не садилась, ожидая ответа. — Мы обсудим твое предложение.
Видя, что она все еще не садится, он тоже поднялся во весь свой немалый рост и убежденно проговорил:
— В лесу, дорогие товарищи, легких работ не бывает. Хребтом, товарищи дорогие, лесок добывается… пока что!.. Тайга говорунов не уважает. Из говорунов у нас одна белка живет, так она по веткам прыгает…
Снова раздался одинокий смешок, и снова наступила тишина.
Женщина все еще требовательно глядела прямо на Дудника. Она сказала:
— Посказульками, товарищ начальник, не отделаешься. Если завтра ответа не будет на наш запрос, то мы в трест дорогу найдем.
— Я сказал: обсудим, — проворчал Дудник.
Женщина разрешила:
— Ну ладно. Обсуждайте. — И опустилась на скамейку с таким видом, словно приготовилась сидеть на этом месте до тех пор, пока не получит ясного ответа.
Дудник тоже сел и начал по очереди вызывать руководителей участков, требуя от каждого делового отчета. Начались разговоры о глубоком снеге, о тупых пилах. Не хватает лопат. Вагоны простаивают под погрузкой. Плохо сушат газовую чурку для автомашин…
Виталий Осипович слушал, входя в тонкости сложного лесного хозяйства. Редела, исчезая, как туман, всегдашняя тоска. Появились сила и желание броситься в дела и заботы, как в бой. И только эта девушка напоминала все, что казалось забытым за последние часы. Ее фамилия Ефремова. И та, которую он любил и любит всем истерзанным сердцем своим, — Катя Гриднева — и эта, Ефремова, очень похожи друг на друга. Хотя он видел, что совершенно не похожи. Каждая красивая девушка напоминала ему Катю, и в каждой он находил сходство с ней.
Заметив на себе его пристальный взгляд, девушка в нарядном клетчатом платье недоумевающе посмотрела прямо в его глаза, словно сердито спросила: «Что вам надо от меня?»
Виталий Осипович отвернулся.
В это время Иван Петрович сказал:
— Поговоришь с ребятами?
— Подожду, — ответил Корнев, — надо самому послушать, посмотреть. Здесь митинговщиной ничего не возьмешь. Я, знаешь, похожу…
Он поднялся.
— Ты куда?
— Пойду погуляю.
— Подожди, я провожатого дам.
— Не надо. Сам найду. Я помню, где центральная диспетчерская. Ты ведь показывал, когда ехали.
В соседней комнате секретарша разбирала почту. Виталий Осипович посмотрел газеты. Сводки сообщали о наступлении. Бои шли на вражеской территории. Страна поднималась из пепла, из крови. Живет великая Русь! Неистребимой жаждой жизни дышит каждое слово.
Виталий Осипович подумал: сколько людей сейчас вот так, как они здесь, утверждают жизнь, безразлично, под синим ли небом юга, под блеском ли северного сияния, — все равно где, но думы и заботы у всех одни.
СТИХИ О СОСНЕ
Начиналась ночь. Женя считала, что она очень одинока в своей будке, в пятой диспетчерской, но были такие ночки, когда при всем желании не удавалось почувствовать одиночества. Кажется, сегодня предстоит именно такая ночь.
Зазвонил телефон. Крошка спрашивала, можно ли пустить тридцатку, которая уже отбуксировала двенадцатую в гараж.
— Пускай. Скажи ему, пусть становится на запасной. Прямо я направляю две груженые.
Она подбросила дров в железную печурку. Топить надо беспрестанно, мороз не шутит.
Скрипя прицепами, подошла четвертая, за ней вторая. Огромные, в блеске инея, ворча моторами, лесовозы постояли несколько минут. Звеня цепями, подходила тридцатка. Женя махнула рукавичкой — пошел дальше. Мишка Баринов, открыв дверцу, крикнул что-то на ходу.
Женя дала отправление первому лесовозу. С трудом сорвав с места прицеп, он пошел, грузно покачиваясь, за ним тронулся второй.
Наступила тишина. Над тайгой появлялись и пропадали пятна. Они то еле светились, то вспыхивали ярко, словно невидимый кузнец раздувал огромными мехами свой горн. И вдруг зеленые стрелы взметнулись высоко в небо, еще и еще. Они стремительно вырывались откуда-то из-за леса, покачивались, пропадали, вспыхивали снова, рассыпая по сугробам у обочины дороги бесчисленные зеленые искры. Тайга ожила. Самый воздух, насыщенный мириадами кристалликов инея, светился, словно Млечный путь.
И такая стояла завороженная тишина, такое непоколебимое спокойствие разливалось вокруг, что Жене захотелось заплакать от сознания своего одиночества. Ей хотелось заплакать, но она сказала: «Ну и пусть». И улыбнулась. Пусть она и ее избушка кажутся маленькими, незначительными в этой огромной морозной тайге, пусть над ними в пустом холодном небе гигантские сверкающие огни, пусть. Она все равно не уйдет отсюда. Она здесь нужна. Она на посту.
Она эвакуировалась из-под Ленинграда. В Кирове предложили ехать на лесоразработки. Она ужаснулась. Что она будет делать в лесу? Но ее успокоили, сказав, что работа найдется, — не все же там валят лес, что сейчас война и выбирать не приходится. И вообще до конца войны все будут делать то, чего требуют интересы государства.
Это было понятно. Она, советская девушка, с детства привыкла подчинять свои поступки государственным интересам. Но до войны это не было обременительно. Она окончила семилетку и захотела учиться на бухгалтерских курсах; ей помогали в этом, говорили, что стране нужны бухгалтеры. Она начала работать там, где пожелала. Государственные интересы никогда не мешали, а наоборот, помогали жить.
Сейчас война. Не все делают то, что хотят. Это жестоко, но необходимо. И не надо ей говорить об этом, она понимает все. В лес так в лес. Если придется, она возьмет и топор. Она все это отлично сознает. Но все-таки сейчас ей нестерпимо грустно и жаль себя, своей красоты, в которой она была уверена, и своей молодости, в которой она начала сомневаться. Она казалась себе очень старой. Так бывает, когда кончается семнадцатый год, а восемнадцатый стоит на пороге.
Она не мечтала о подвигах. Ей нравилось, когда ее хвалили, что случалось нечасто, но не особенно стремилась к славе и почету. У нее было совсем другое на уме. Кто-то должен явиться и осчастливить ее. Она не представляла себе, как это получится. Во всяком случае все произойдет необыкновенно красиво и не так, как у других.
Раньше, когда училась на бухгалтерских курсах, бегала по клубным танцулькам, она мечтала о киноактерах и увешивала их фотографиями зеленый коврик над кроватью. Она так и привезла их на север, завернув вместе с ковриком, но развешивать на новом месте не стала.
— И в самом деле я дура, — вздохнула она. — Марина права, я — дура. Кто явится сюда? Белый медведь? Когда кончится война, я буду совсем старухой.
Телефонный звонок отвлек ее от дальнейших грустных размышлений. Она вбежала в будку. Звонил старший диспетчер — Клава. Женя сразу узнала ее отчетливый голос, голос профессиональной телефонистки.
— Где у тебя тридцатка? Женька, ты эти штучки оставь.
Женя вспыхнула.
— Ф-фу! Ты что, сдурела, Клавка? Да он давно на бирже!
— Два часа под погрузкой?
— Я не знаю, сколько часов. Он мне нужен, как мертвому припарки. Возьми себе это сокровище. Я даже не ожидала от тебя, Клавка!
— Ну, ладно! — успокаивала Клава расходившуюся Росомаху. — На меня тоже нажимают. Ты узнай у него, когда приедет, в чем дело, и тут же позвони мне. Ей-богу, мы сегодня сорвем график! А тут еще двенадцатая стала на ремонт.
Женя возмущенно бросила трубку. Привязались они с этим Мишкой Бариновым! Ну было бы за что. Больше она не сядет в его тридцатку. Можете быть спокойны. Хватит ей этого удовольствия. Разве она виновата, если у нее такая наружность, что все обращают внимание?
Кто-то подошел к двери, отряхнул валенки. Вошел. В ватном бушлате, стянутом ремнем, в заиндевевшей ушанке. Обледенелые сосульки вместо усов. Женя узнала дорожного рабочего Гольденко.
Стащив с себя рукавицы и шапку, он разложил их на дровах у раскаленной печурки для просушки.
— Скажи, какой мороз! Градусов, я думаю, пятьдесят накачало. Будь она неладна, эта работа.
— Откуда идешь? — осведомилась Женя.
— Из леса. На одиннадцатом километре выбоину подсыпал. Машины буксуют. Ну и мороз!
Женя спросила, что там с тридцаткой.
— Под погрузкой задержали. Там ребята собрались — не бей лежачего, от костра не тревожь, — докладывал Гольденко.
Отрывая от усов ледяшки, он бросал их на пол. Его маленькое, малиновое от постоянного пребывания на морозе лицо начало согреваться. Бороду он брил, но у него был длинный подбородок клином, очень похожий на небольшую аккуратную бородку; массивный нос нависал под длинными монгольскими усами. Вокруг глаз, к вискам и по малиновым щечкам разбежались многочисленные морщинки. Глаза его смеялись, даже когда он сердился.
Гольденко повидал жизнь, а чего не видал, то соврет — недорого возьмет. Врал он с такой легкой непринужденностью, что все давно уже перестали разбирать, где правда, а где ложь в его рассказах. Но врал занимательно, и его любили слушать.
Сюда пригнала его вечная погоня за длинным рублем. До этого побывал он на Дальнем Востоке, проникал даже на КВЖД, где работал на станции Шито-Хеза не то сторожем, не то начальником станции. По рассказам Гольденко точно это установить не представлялось возможным. Но сам он так любил рассказывать именно об этом периоде своей пестрой жизни, что его даже прозвали: Шито-Хеза.
А длинный рубль не шел ему в руки. Лентяй и бродяга, он во всем винил своих многочисленных врагов. Врагов он тоже выдумывал. Длинный рубль оказался, как и всегда, очень коротким. Но, приехав сюда, на север, он застрял прочно, до конца войны.
Должность он выбрал себе по специальности, а специальностью его было — отлынивать от работы. Шатаясь ночью по своему дорожному участку с лопатой и топором, он заходил в диспетчерскую. Пересыпал там до утра. Снеговая дорога не доставляла ему особых хлопот. Ткнут его носом в какую-нибудь выбоину, в яму, где буксовал тяжелый лесовоз, — тогда он примет меры. Присыплет снежком, притопчет. Чего же еще? А потом ругается:
— Скажи, из сил выбился! Будь им неладно, начальникам этим.
Женя покрутила ручку телефона, вызывая старшего диспетчера.
— Клава, — сказала она деловым тоном, — могу тебя успокоить: тридцатка стоит под погрузкой. Ну да, все время. Я же говорю, грузчики задерживают. Надо к ним послать кого-нибудь, подогнать. Никого нет? На совещании? Позвони начальнику. Во-первых, я не учу, а советую. Договор я тоже подписала. Ну вот. А то всем вам тридцатка поперек горла встала. Вот.
Сказав «вот», Женя резко положила трубку.
— Старший диспетчер. Подумаешь. Ф-фу!
Успокоившись, спросила:
— Новый инженер приехал? Ты видел его, Шито-Хеза?
Гольденко сел на скамейку, грея красные, в грязных морщинках, руки над раскаленной печуркой.
— Видел? — он на минуту задумался. Сказать, что не видел нового инженера, он не мог — характер не позволял. Признаться, что только перед выходом на работу слыхал о его приезде, он также не мог. На всякий случай сообщил:
— Фронтовик. Орденов полна грудь. Шинель распахнул — так и вдарило геройским огнем.
Женя задумчиво чертила карандашом по столу. Глаза ее подернулись томной поволокой. Герой.
— Скажи, Гольденко, молодой он, этот инженер?
Он ладонью провел по мокрым усам, прищурил глаза.
— Как тебе сказать. В документы не глядел. А так на вид средних лет. Орел-командир. Это не то, что наши начальники. С первого взгляда определил я его. Он на меня посмотрел, я на него. Все понятно. Пороху мы оба понюхали. Уж он найдет место, куда Гольденко поставить.
Слушая его болтовню. Женя переводила ее на свой язык, нежный и возвышенный язык девических грез. Она уже видела его, уже говорила с ним, пусть только в мечтах, но бывают такие мечты, к которым привыкаешь до того, что они становятся как бы второй жизнью.
Пришла тридцатка. Она вторглась в ее мечтания всеми своими широкими баллонами, отчаянно гудя сигналом.
Женя, накинув платок, выскочила из диспетчерской. Мишка выглянул из кабинки:
— Свободно? На погрузке, черти, задержали. Подкатывают лес из дальних штабелей. Пропускай без задержки.
— Я лично тебя не задерживаю, — высокомерно прервала Женя. — Сейчас запрошу.
Она позвонила Крошке. Путь свободен.
— Не скучай, Женька! — крикнул Мишка, блеснув полоской зубов на испачканном бункерной сажей лице.
Она даже не обратила внимания на его слова, снова вернулась в свою избушку, к своим мечтаниям. Гольденко уже спал на скамейке, тихонько похрапывая. Рот его был приоткрыт, золотой зуб одиноко блестел при неярком свете маленькой лампочки.
К ней отправили две машины, шедшие на погрузку. Женя пропустила их. Потом они прошли обратно. И снова Крошкин голос:
— Женька, не спи. Новый начальник в главной диспетчерской.
Мечта приближалась к ней.
Часов в двенадцать Крошка сообщила, что направляет еще одну порожнюю машину. Женя ответила, что можно идти прямо на лесобиржу под погрузку, дорога свободна. Она слышала, как в тишине, ворча мотором и поскрипывая, приближалась машина. Но вместо того, чтобы прямо пройти в лес, она остановилась. Женя уже совсем собралась выйти посмотреть, что случилось, как машина снова тронулась и пошла.
Тишина. Гудит в печурке пламя. Легонько похрапывает Гольдеико.
И вдруг у входа — шаги. Кто-то долго отыскивает скобу. Женя насторожилась. Чужой. Свои знают, как открывается дверь.
В диспетчерскую седым клубом ворвался морозный воздух. Вошел человек в белой армейской шубе и шапке-ушанке.
— Здравствуйте, девушка, — вежливо и быстро проговорил он, сразу охватывая взглядом и ее, и диспетчерскую, и Гольденко.
Женя растерялась, но все же заметила, что вошедший на все смотрел требовательно, словно определяя, на что это годится. На нее тоже взглянул быстро и требовательно.
— Здравствуйте, — ответила она, гордо вскидывая голову. Ей хотелось как-нибудь выразить свое возмущение, поднять плечи, фыркнуть, сказав свое «ф-фу!». Но не успела. Он спросил:
— А это что за фигура?
— Фигура эта — дорожник. На ремонте, — заносчиво ответила Женя.
— Ага. Значит, дорожник?
Вошедший был небольшого роста, с бледным, утомленным лицом. Разве можно было предположить, что он сможет поднять человека за шиворот? А он именно поднял спящего Гольденко, словно это был один только бушлат.
Встряхнув Гольденко, он поставил его на ноги.
Гольденко ошалело поднимал и опускал щетинистые брови. Спросонок он еще плохо разбирался в обстановке. Наконец сообразив, что перед ним скорей всего новый начальник, он ответил:
— Я вот сейчас только зашел…
Женя растерялась не меньше Гольденко. Ей уже и в голову не приходило возмущенно поднимать плечи. Ей казалось, что ее тоже могут вот так же встряхнуть и поставить на место.
Вообще этот человек, по-видимому, умел поставить на место. Бледное лицо его вспыхнуло. Прикрыв глаза вздрагивающими от возмущения веками, он тихо сказал:
— Встать прямо! Кто вам разрешил покинуть пост? На фронте за такие дела полагается расстрел. Понятно? Идите.
Он проговорил все это не сердито, но так, что лучше бы уж крикнул.
Гольденко выскочил из диспетчерской, на ходу закручивая шарф. Похоже было, что он сам себя стремительно вытягивает за шарф подальше из этого опасного места.
— Ваша фамилия?.. Ерошенко? Так вот, товарищ Ерошенко. Больше десяти минут дорожник не должен находиться здесь. Понятно? Война не только на фронте. Сколько на вашем участке машин?
Женя отвечала, а в глазах ее стоял туман. Она даже не слыхала, как он сказал:
— Сядьте, — и сам первый опустился на скамейку около печурки. Закурил. Распахнул шубу. На кителе — разноцветные орденские колодки, в два ряда.
— Ну, как дела? — отрывисто спросил он.
— Вот так, — несколько растерянно ответила Женя. — Работаем.
Он посмотрел на нее, и Жене показалось, что взгляд его серых глаз сделался мягче. Потеплевшим голосом он спросил:
— У вас кто на фронте?
— Никого, — ответила Женя, — у меня вообще никого нет. Одна. На севере и… одна.
— Вот как, — инженер улыбнулся, прищурив и без того небольшие глаза. — Совсем, значит, одинока. Как сосна.
— Какая сосна? — растерялась Женя, не зная, обидеться ей или тоже улыбнуться, приняв за шутку его сравнение с сосной.
Но он глядел на огонь, плясавший в печурке бешеный свой танец, и вдруг сказал совсем уже мягким, несколько хрипловатым голосом:
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет качаясь, и снегом сыпучим Одета как ризой она.Женя замерла от восторга. Вот оно, красивое. Ничего, что он так этого Шито-Хезу. Даже хорошо. Он властный и сильный. И такие стихи! Вот какие бывают герои!
Он бросил окурок в печку, встал.
— Вот так, девушка. Дремлет, качаясь. Вот так! А дремать сейчас даже сосне не рекомендую. Бывайте здоровы.
И ушел.
Женя положила руки на грудь, где сердце билось жарко, как огонь в печурке. Ушел. Да разве он может уйти? Нет. Он теперь всегда с ней. Как он сказал про сосну?
Она схватила карандаш, чтобы записать стихи. Но у нее получилось немного не так. Она прочла написанное:
«На севере диком совершенно одинокая сосна. Но дремать даже сосне не рекомендую».Не то. Но все равно, это его слова. Стихи эти — Женя вспомнила, — учили в школе, но читал-то он.
Телефонный звонок привел ее в чувство. Пять звонков. Она сняла трубку.
— Женя, ты одна? — почему-то шепотом спрашивала Крошка. — Сейчас звонила вторая, говорит, идет пешком, в белой шубе…
Женя рассмеялась. Опоздали росомахи. Мимо всех будок прошел, а к ней, именно к ней, зашел!
— Знаю, — томно растягивая слова, огорошила Женя маленькую росомаху. — Да не хрипи ты, как ангина. Был, сидел целый час, читал мне стихи про север и про сосны. Ах, Крошка, какие стихи! Я забыла. Что-то: на севере сосна, кругом гремит война, а ты, хоть одинокая, но спать нельзя. Чудно. Ушел на биржу, он там грузчиков поставит на место. Жду. Сказал, зайдет на обратном пути. Да. У нас вот так…
Подошла машина с биржи. Женя узнала у Крошки, что путь свободен. Положила трубку и собралась, как всегда, выбежать на минутку из избушки и махнуть шоферу рукой — дать отправление. А то он два часа просидит в своей кабинке. Но шофер торопливо, словно удирая от погони, сам влетел в избушку.
— Женька, запрашивай путь! Да чего ты колдуешь над графиком, вызывай четвертую. Там этот фронтовик нагнал жару. Грузчики про костер забыли. Сами не хуже костров горят. За двадцать минут погрузили. Герой сам на погрузке стоял за комлевого. Ворочает, будь здоров: меня отправил — на часы посмотрел. Давай путь, Женька.
— Путь свободен, — так нежно сказала Женя, что шофер с удивлением поглядел на нее.
— Ты что?
Женя вздохнула и, продолжая улыбаться, повторила:
— Путь свободен…
— А ну тебя, — махнул рукой шофер и выбежал из диспетчерской.
КОСТРЫ НА СНЕГУ
Диспетчерская стояла на опушке леса.
Мимо нее проходил тракт, построенный в те далекие времена, когда еще не было железной дороги. Над маленьким домиком вековые ели простирали свои чудовищные лапы, отягощенные клочьями снега.
Перед домиком — широкая площадка для заправки машин. От тракта через эту площадку пролегла автолежневая дорога в тайгу.
Виталий Осипович стоял на высоком крыльце диспетчерской. Он еще не привык к тому, что в восемь утра все окружающее тонет в темноте и все в тайге полно безмолвного и неподвижного ожидания, каким всегда бывает Предрассветный час.
От тракта через площадку к диспетчерской двигалось что-то большое, угловатое. Казалось, идет сам собой огромный квадратный щит, покачивая углами, идет на собственных ногах. Приблизившись к диспетчерской, щит мягко сел на снег. Шумно вздохнув, из-за него вышел человек в большой лохматой ушанке, в коротенькой, не по росту телогрейке, из рукавов которой торчали руки в огромных рукавицах. Шаркая разбитыми валенками по снегу, человек подошел к Виталию Осиповичу.
— Привет, товарищ Корнев. Завклубом Крутилин.
Здороваясь, Виталий Осипович рассмотрел широкое скуластое лицо с озорными мальчишескими глазами и большим ртом, из которого необычайно гулко, словно из репродуктора, раздавались слова:
— Пилюля нашим лесорубам.
— Это что у вас? — спросил Корнев, указывая на странную его ношу.
— Лесорубам вызов. Ночью парторг принес, велел в лесосеке повесить. Теперь загудят, лесу не хватит.
Ничего не понимая, Корнев подошел к угловатой «пилюле». Это был большой, метра на полтора, щит, сколоченный из тонких досок. На нем что-то написано, в темноте не разобрать.
Подошла машина. Леша Крутилин взгромоздил свой щит на ящик для чурок, сам встал на подножку. Корнев сел рядом с шофером, и они поехали по сказочному, таинственному лесу, мгновенно оживающему в бегущем свете фар. Возникали и пропадали в темноте золотые и красные стволы сосен. Маленькие елочки в снеговых шапках стремились навстречу.
У пятой диспетчерской Леша сгрузил свой щит.
— Отсюда ближе. Я знаю тропу, по ней лесорубы ходят.
Машина ушла. У дверей диспетчерской стояла Женя. Несмотря на мороз, она была в одной вязаной кофточке. Белый пуховый платок лежал на плечах, открывая золото волос. Увидев Виталия Осиповича, она вспыхнула, и лицо ее налилось жарким румянцем. Она стояла неправдоподобно яркая, как роза в снегу.
— Привет, диспетчер! — гаркнул Леша. — Пусти погреться.
— Простудитесь, — улыбнулся Корнев, проходя в жарко натопленную избушку.
Женя вздохнула.
В диспетчерской рдела железная печка, гудело пламя в трубе. В избушке чисто, домовито. Видно было, что здесь хозяйничают девушки, знающие толк в уюте. Даже вышивание лежало на столике, на самом уголке, за телефонным аппаратом. Женя быстро убрала сто.
Корнев сел на табуретку, на ее место, склонился над графиком.
— Долго машины простаивают, — сказал он не глядя на Женю.
— Это погрузка задерживает, — прошептала Женя, сжимая руками платок у подбородка.
Ее голубые ясные глаза смотрели на Виталия Осиповича с восторгом и испугом. Он разговаривал с ней! Что говорил, как говорил — все равно. Пусть он хмурится, пусть даже ругается, но все это относится к ней, может быть, он посмотрит на нее, может быть, подаст руку на прощанье. Но это уже было бы такое счастье, о котором она думала почти с благоговением.
Он так и не поднял на нее свои темные глаза. На неподвижном исхудалом лице не дрогнули прямые брови.
— Хорошо, — неопределенно бросил он, выходя из диспетчерской.
Они шли по тайге. В глубоком снегу стояли высокие сосны. Мелкие елочки утопали в сугробах. Где-то, невидимое, всходило солнце.
По узкой тропе, пробитой лесорубами, они уходили все дальше и дальше в лес. Щит на Лешиной спине колыхался в такт его шагам. Теперь уже, не напрягая зрения, можно было прочесть то, что написано на нем:
Лесорубы!!!
Лесоповальщик Мартыненко
поставил рекорд.
Лучковой пилой он свалил 20 кубометров.
Тов. тов. Ковылкин и Бригвадзе, а где ваши рекорды?
Задыхаясь под тяжестью щита, Леша сказал:
— Такие плакаты — самоубийство для меня.
— Тяжело? — посочувствовал Корнев.
— Нет, какая там тяжесть. Наши лесорубы, они сейчас меня убивать начнут. Они гордые очень, не выносят, когда кто-нибудь лучше их работает. Вот посмотрите, какой сейчас шум будет.
Запахло сладковатым дымом горящей хвои. Сквозь поредевший лес уже был виден весь участок тайги, предназначенный к вырубке.
Сегодня начинали новый участок. Десятник уже расставил лесорубов по делянкам. Пылали костры, зажженные лесорубами на своих делянках. Оглушительно трещала горящая хвоя, выбрасывая в светлеющее небо золотые искры.
Но работать еще не начинали.
Тарас Ковылкин, таежный чемпион лучковой пилы, еще ничего не знал о рекорде Мартыненко. Он горячими своими глазами смотрел на костер. Кубанка с голубым верхом надвинута на самые брови. Он курил, сплевывая в огонь, стараясь не замечать своего соперника, Гоги Бригвадзе.
Тот сидел так же молча и равнодушно плевал в костер, показывая, что ему вообще наплевать на все: и на Тараса с его рекордами, и на тайгу, и на славу чемпиона. Его черная кубанка с широким красным верхом также надвинута на брови, густые, черные, сросшиеся на переносице, так что казалось: у него одна бровь, развернутая как орлиные крылья.
Тарас бросил в костер окурок и, сдвинув кубанку на затылок, не спеша поднялся, скинул ватник на ствол сваленной сосны и взял лучковую пилу. Лучки у него особенные. Инструментальщик специально для него спаял полотна, удлинив их в полтора раза, на полный размах руки. Обычный лучок не соответствовал его широкой натуре.
Его подсобник Юрок Павлушин, остроглазый парнишка, утопая в снегу, перекатывался от сосны к сосне. Орудуя лопатой, он разбрасывал снег, обнажая стволы до самого корня.
— Самое время, — вздохнул Леша, пробираясь со своим щитом на видное место — к старой сосне, белая засечка на которой означала границу участка.
Крутилин вынул из кармана гвозди и молоток. По тихой тайге простучали дробные удары. Лесорубы, сохраняя равнодушный вид, не спеша собирались к старой сосне как бы для того, чтобы посмотреть, кто это стучит в тайге в предрассветный час. Вообще все обошлось как будто спокойно. Несколько скептических замечаний вроде того, что «знаем мы эти рекорды, лесок подобрали тот», в счет не идут. Но Леша видел: идет Гоги Бригвадзе, играя орлиными крыльями бровей, с презрением попирая землю. Перед ним расступились.
Он надвинулся на Лешу. Губы его побелели, словно тронул их мороз, он жарко выдохнул:
— Сними!
— Снимай сам.
— Говорю, сними! Не играй на нервах.
Тарас Ковылкин тоже подошел не спеша. Легонько двинул плечом, оттирая Бригвадзе, словно для того, чтоб лучше увидать плакат.
— Пускай висит, Гоги, — угрожающе произнес он и, обернувшись к лесорубам, негромко приказал: — Все видели? Давай по местам! Гоги, пусть это висит. С Мартыненкой у нас личный разговор будет. По местам, ребята.
— Да, — сказал Юрок Павлушин, угрожающе суживая детские свои глаза, — мы еще поговорим.
Никто не тронулся с места, здесь был начальник, и все думали, что он приехал агитировать по поводу победы соседнего лесоучастка.
— Товарищ начальник, — сказал Гоги, — не надо слов. Мы все это понимаем без агитации. Тарас держал первенство по лесхозу, я был вторым. Теперь нас… — он сделал выразительный жест рукой, показывая, как их с Тарасом сбросили с первых мест.
— А вообще интересуемся насчет войны.
Виталий Осипович сказал, что о положении на фронтах он может доложить только вечером, после работы, а все, что нужно было сказать, сказано вчера на совещании. Сейчас надо работать.
— Дай-ка мне, товарищ Ковылкин, лучок, посмотрю, не забыл ли я, как это получается.
Тарас отвел Корнева на соседнюю делянку, дал инструмент. Подбежал Леша, размахивая лопатой.
— Товарищ начальник, давайте на пару.
— Давай, Леша.
Тарас со своей делянки наблюдал за работой Корнева. Наметанным солдатским глазом он определил хорошего командира, но лес валить — это не командовать. Он с недоверием поглядел на соседнюю делянку, но сразу же понял, что начальник шутить не любит.
Начиная валку на новой делянке, надо прежде всего вырубить подсад — мелкие сосенки и елочки, положив их поперек делянки. Если этого не сделать, то сваленные хлысты в стремительном падении своем уйдут под снег, поди потом добывай их из метровых сугробов.
Нет, технорук валит правильно. Вот он подошел к столетней сосне, которую уже подготовил для него Леша, и начал пилить. Пилит хорошо. «Ничего, упарится», — подумал Тарас и полез по снегу к ближайшему дереву. Занятый работой, он не видел, как упала сосна, сваленная Корневым, но, когда кончил пилить, поднялся и глянул на соседнюю делянку — там было так, как и должно быть. Красный ствол сосны лежал на снегу, примятом ее падением, а Корнев подрубал другую.
— Бойся! — крикнул Тарас и толкнул плечом сосну. Она пошла сначала медленно, словно раздумывая, упасть ей или постоять еще. Но вот все стремительнее ее падение. Со свистом рассекая воздух, заламывая искривленные ветви, огромная сосна с шумом свалилась в снег, подняв тучи снеговой пыли.
Разгорался таежный день. Косые лучи невысокого солнца, прорываясь сквозь редкие вершины сосен, зажигали оранжевые теплые пятна на стволах, рассыпаясь по снежным сугробам мерцающими искрами. Костры цвели на снегу, как огромные оранжевые маки. Дым костров неторопливо проплывал меж сосен. Казалось, бродят по тайге седые чудовища, цепляясь косматыми гривами за причудливо искривленные сучья, встают на задние лапы и тянутся, тянутся к поголубевшему небу.
С шумом падали сосны. Слышался свист ветвей в морозном воздухе, глухое падение сосны, треск ломающихся веток и разноголосые крики лесорубов, предупреждающих об опасности.
— Поберегись!
— Бойся!
Лесорубы врезались в тайгу неровным, искривленным фронтом. К обеду участок, если на него посмотреть сверху, стал похож на гигантскую диаграмму, какие вычерчивал Леша на доске показателей. Каждый шел по своей делянке, некоторые углубились в тайгу, обогнав соседей.
Тарасова делянка на этой таежной диаграмме вклинивалась в тайгу дальше всех. Его голубая кубанка мелькала между сосен.
Вначале Корневу казалось, что они с Тарасом идут ровно, но это только казалось.
Тарас знал дело. Он валил с той методичностью и видимой неторопливостью, какие присущи опытным лесорубам. Чуть прихрамывая на левую ногу, он шел к сосне и через несколько минут аккуратно клал ее немного наискось, на прежде сваленный ствол, на него он валил другое дерево, третье…
Потом начинал раскряжевывать, распиливать хлыст на бревна требуемой длины. Юрок оттаскивал сучья, укладывал их в костер. Его лукавые мальчишеские глаза потемнели под старенькой ушанкой, запорошенной снегом. Лицо пылало от напряжения, когда он тащил за собой тяжелые лапы сучьев. Он не успевал. Ясно, что Тарасу надо не одного такого помощника, чтобы работа шла полным ходом.
Это сразу определил Корнев. Удивительно, почему не видели другие, как расходуется не по назначению великолепная сноровка Тараса, его неутомимая сила?
Сам Корнев давно уже устал. Болели спина и плечи. Конечно, сказывается отсутствие привычки. В работу надо втянуться. Надо вернуть выработанные годами навыки.
— Бойся! — хрипло крикнул он, толкая плечом шероховатый ствол. Сосна упала, примяв вершиной своей огонь Костра. Взметнулись искры в клубах снеговой пыли, огонь стремительно и жарко охватил смолистую зелень хвои, выбросив оранжевые вихри к темнеющему небу.
Спрятав лицо от жары, Леша топором отхватил вершину. Она, пружиня сучьями, медленно повернулась, словно хотела поудобнее улечься на костре.
— Бойся! — Корнев чувствовал, как просыпается противная тупая боль в руке. Фронт напоминал о себе. Ну нет, врешь! Нельзя поддаваться собственной боли, нельзя подчиняться никакой боли, все равно, — в руке ли она, в сердце ли.
— Бойся!
— Даешь! — орал Леша, набрасываясь на сосну, размахивая сучкорубным топором. — На нас вся Европа смотрит!
Его слова разнеслись по тайге звонким эхом, и сейчас же кто-то так же громко крикнул:
— Европа не смотрит, Европа подсматривает!
И еще кто-то с соседней делянки:
— На нас народ смотрит!
Тайга отозвалась многоголосым эхом. С протяжным свистом падали деревья, стучали сучкорубы, трещали костры.
— Бойся! — угрожающе кричали лесорубы.
— Бо-ойся!
Никто не заметил, как пролетело время до обеда. Виталий Осипович вскинул лучок на плечо.
— Пошли, товарищ Крутилин.
Около щита с вызовом Мартыненко снова сошлись лесорубы. Среди них стоял Иван Петрович и что-то сердито говорил. Увидав Корнева, он замолчал. Подождал, пока тот подойдет. И все обернулись, глядя на технорука. Когда он подошел, начальник сказал:
— А на совещании говорили: «Ответ будет в лесу». Все слыхали. А где же ваш ответ?
Лесорубы молчали.
— Нечего вам отвечать. Герои. Молчите? Ну, тогда я скажу. Чтобы лес мне был. Время сейчас военное. Надо, так и в лесу ночевать будем, а без нормы домой не пойдем. Правильно я говорю?
Но никто из лесорубов ничего не ответил. Это молчание, так поразившее Корнева еще на совещании в кабинете директора, Дудник принял по-своему.
Он был убежден, что лесорубы всегда молчат. Нечего тут говорить, отвечать надо не словами, а делом.
— Ну, вот и договорились, — удовлетворенно закончил он.
Прислонив лучок к поваленной сосне, Корнев сбивал еловой веткой снег с валенок, думая, что он может сказать этим людям? Молчат. Вряд ли это значит, что они согласны с начальником. Он еще не мог понять причин, но было ясно, что молчат потому, что сам директор леспромхоза никаких разговоров не поощряет. Когда лесорубы ушли на свои делянки, Корнев спросил:
— Они всегда так молчат?
— А о чем им говорить? Все, что они скажут, я и так знаю. На недостатки будут жаловаться: инструмент старый, валенки сушить негде, снегу много… Такие разговоры не ко времени. Война.
Корнев с удивлением посмотрел на друга. Они шли по неровной дороге, промятой лесовозными санями. Заметив взгляд инженера, Иван Петрович усмехнулся.
— Не согласен? А я тебе скажу: поживешь, сам так же думать начнешь. Много с нас требуют, правильно требуют, и мы должны требовать со всей строгостью.
— Требовать. Да… Обстановка сейчас строгая, — ответил Корнев, глядя в широкую спину шагающего впереди Дудника. — А поговорить все же не мешает. Наверное, найдутся разговоры посерьезнее валенок. Кстати, в сырых валенках и солдат не воин. А здесь, в тылу, это вообще не проблема.
Они вошли в лес. Тропа виляла между стволами, обходя сугробы, где погребены мелкие елочки. Ступишь на такой сугроб — и провалишься, как в берлогу.
Шли молча. Трудно говорить, пробираясь друг за другом по узкой тропе. Еще труднее начать разговор, после которого дружба может свернуть с верной дороги. Есть в тайге такие тропинки, которые заводят в болото, в чащобу — так и заблудиться недолго.
Но разговора не миновать.
Когда вышли на лежневку, заиграла холодная вечерняя заря. Они остановились на минуту, закурили. Снова пошли. Корнев бросил недокуренную папиросу:
— Вот что, Иван. Я тебе скажу прямо. Мое мнение, что работают люди у нас плохо только оттого, что мы работаем плохо. В первую очередь к тебе это относится. Ты тут начальник.
Иван Петрович хмыкнул в усы, помедлил секунду и сказал:
— Парторг меня в бюрократизме обвиняет. А ты вон куда мечешь!
Нет, это уж не дружеский разговор, когда он начинается с обиды.
— Я тебя в бюрократизме не обвиняю. Приказывать ты любишь…
— А ты что же, против приказа? — спросил Дудник, крупно шагая по накатанной машинами дороге.
Виталий Осипович, глядя на его покрасневшую шею, подумал: «Знаю, что не любишь ты поперечного слова. Ничего, терпи». И нарочно, чтобы заставить Дудника умерить его гневный шаг, негромко заговорил:
— Знаю, что без приказа нельзя. Сам привык подчиняться приказу и отдавать приказы. Приказ — это закон. А каждый закон должен стоять на крепком экономическом основании, иначе грош ему цена.
Замедлив шаг. Дудник слушал не перебивая и только посапывал толстым носом. Даже когда Виталий Осипович перестал говорить, он еще долго шел молча и уже у самого поворота на тропинку, ведущую к дому, остановился и спросил:
— А как же мы всю войну план выполняли?
— Так я и говорю, приказ должен отдаваться с учетом обстановки. Ты, Иван, пойми. Война идет к концу, наступают новые времена, складываются новые условия.
— Война еще идет, — проворчал Дудник.
Виталий Осипович перебил:
— А ты вперед смотри. А то окажешься в отстающих. Ты руководить поставлен, обязан все предвидеть, все новые условия предусмотреть. Уже сейчас надо готовиться к послевоенной работе. Видишь, вот Мартыненко, простой лесоруб, это понял и начал работать по-новому, а ты все на одном месте топчешься.
— Ну, знаешь! — проворчал Дудник. — Ты хотя инженер, но строитель, а я всю жизнь в лесу. Мы всю войну план тянули, не думая о методах, а ты меня учить взялся. Не рано ли?
И размахивая планшетом, он крупно зашагал к дому. Около самого крыльца заносчиво спросил:
— Ну что молчишь? Скажи-ка, что надо делать?
— А ты как думаешь? — спросил Корнев.
— Как я думаю, я уже сказал. Ты теперь скажи, что, по-твоему, надо делать.
— Скажу. Надо с лесорубами по-деловому говорить, а не приказом. Вот скажи, как работает Мартыненко? Не знаешь, и я не знаю. А надо знать.
— Ты не знаешь — я знаю. А такие, как Тарас! Ого. Поди уговори его. Но вот посмотришь, он у меня такой рекорд поставит!
— Не в Тарасе дело. Все плохо работают. И никакого рекорда Тарас не поставит.
— Не поставит?! — Дудник даже остановился, занеся ногу на крыльцо.
Обеспокоенная Валентина Анисимовна открыла дверь.
— Вы что расшумелись?
Оба вдруг притихли. Вошли. Молча разделись.
— Ну вот. То на весь поселок разговор, а то притихли. Да в чем дело?
— Ничего, дроля. Обыкновенный разговор.
ТЕНЬ НА СТЕНЕ
Это было месяца три тому назад. Гришу Орлова по его усиленной просьбе приняли в гараж, и Петров, заведующий гаражом, с недоумением глядел на замурзанного парнишку. Куда приспособишь такого? Как ему доверить один из потрепанных, но драгоценных лесовозов?
Разве совладает с огромным газогенератором такой воробей, даже если у него имеются права шофера второго класса?
Но долго раздумывать не разрешала обстановка. Шоферов все равно не хватало, а тут не какой-нибудь самоучка, а второй класс. Потомственный шофер. Отец завгар. До войны заведовал гаражом в Ленинграде. Дед водил первые автомобили по улицам Питера.
И Афанасий Ильич решился:
— Ладно. Вот тебе машина. Ремонтируй и садись.
Машина! Дырявый самовар, старая калоша. Завей горе веревочкой. Она стояла, уткнувшись радиатором в канаву, подняв к небу помятый бункер, и считала, что ее песенка спета.
Но песенка началась снова. Старая песня: в ремонт, в рейс, снова в ремонт. Гриша проклял ее, двенадцатую, всеми автопроклятиями, какие успел освоить, и, проклиная, ухаживал бережно, с любовью.
В ту ночь, когда Петров пожалел человека и не пожалел машину — сдернул с радиатора кожушок, пригрев Гришины плечи, ее вновь привели в гараж. В ремонт.
Гриша с ремонтной бригадой в сотый раз старался вернуть к жизни изношенный механизм. А в перерыв они толкли овес, приобретенный в порядке обмена у конюхов, и выпекали из полученной муки лепешки. Лепешки получались как из опилок. За этим делом их и застал Афанасий Ильич.
Орлов толок в железной ступке, сделанной из обрезка газовой трубы, жареный овес. Петров знал, что овес этот воруют на конюшне из скудного лошадиного пайка.
Увидев завгара, ребята смутились и, неловко топчась, начали прятать зерно. Афанасий Ильич молча взял мешочек с овсом и приказал:
— Орлов, давай сюда ступку.
И пошел в свою конторку. Гриша Орлов осторожно поставил ступку на стол.
— Где взяли овес — все равно не сознаешься, сам знаю, — сказал Петров сухо, — иди, Орлов. Если еще поймаю, отдам под суд.
В груди участились тупые удары.
— Шкурники, — не повышая голоса, заговорил он, — лошади ног не поднимают. Лес на себе таскать будем. Всем не хватает. Ты еще не знаешь, что такое голод. Семьсот грамм получаешь.
— Знаю, — тихо ответил Орлов, и лицо его посерело.
— Что знаешь?
— Голод знаю. Я как раз недавно из Ленинграда. У меня мать и братишка от голода умерли. Я тифом болел, товарищ завгар, я все знаю.
Афанасий Ильич, чувствуя неловкость за свою вспышку, спросил:
— Лет тебе сколько?
— А мне еще шестнадцати нет, — ответил Орлов, поднимая свое широкое с резкими скулами лицо. Лицо рабочего чумазого парнишки с недетски скорбными глазами.
— Ну, вот что, Орлов. Тебя Григорием зовут? Вот что, Гриша. Овес воровать нельзя. Что там с твоей машиной?
— Ремонтируют. Газопровод забился. Да все равно моя смена уж пропала.
— Ну, иди спи. Отдыхай.
Гриша вздохнул, и Петрову показалось, что на глазах его блеснули слезы.
— Не пойду, — сказал парнишка, — в общежитии спят все, как суслики, а тут с ребятами…
Ив самом деле шофер плакал, всячески стараясь скрыть этот позорящий его факт.
— Ты чего, Гриша?
Вытирая закопченными ладонями нос и глаза, Орлов глотал слезы, но их было столько, что они все равно наполняли глаза и, скатываясь, оставляли на щеках дорожки.
— Отца у меня убили. Сегодня письмо получил.
— Так, — яростно выдохнул Петров.
— Фашисты проклятые! — с беспредельной злобой сказал Гриша, и слезы мгновенно исчезли, словно высушенные его горячей ненавистью.
Лицо Афанасия Ильича с глубокими линиями вокруг губ окаменело. Он шагнул к Орлову, положив руки на крепкие плечи юноши, жестко проговорил:
— Ну, не будем плакать, товарищ Орлов. Много нас таких в Советском Союзе, много. Нам с тобой нельзя горевать, нам надо работать.
И, глядя в Гришины глаза, докончил тихо:
— У меня вот тоже. Недавно жену убили. Тоже, брат ты мой, слеза капнула. — Он скривил губы, пытаясь улыбнуться. — Такие-то дела.
Они сели рядом на единственную табуретку, какая была в конторке, крепко прижавшись друг к другу, как бы соединив каждый свое горе в одно общее.
— Пойдем ко мне жить, — предложил Петров. — Будешь мне сыном. У тебя батька тоже гаражом командовал? И будем жить с тобой, Гришуха, очень хорошо.
— Будем, — тихо ответил Гриша.
— Работать станем так, что всем фашистским чертям на всем свете тошно станет. Все эти привычки, аварии эти бросить надо. За это бы тебя батька не похвалил. И вообще подтянуться нам придется. Ты меня подтягивай, не стесняйся. Ну, и я тебе спуску не дам, все равно, как отец родной. А война кончится — учиться пойдем. Я вот большой, а знаю мало, очень мало я знаю, Гришуха, для нашей жизни. А ты и того меньше. Ну, пойдем в нашу хату. Печку затопим, погреемся — и спать. Я что-то давно не спал на полную мощность.
Они поднялись. Петров собрал на столике какие-то бумаги, запер ящик. Гриша стоял у двери и ждал. Афанасий Ильич выкрутил лампочку. Гриша сказал:
— Не пойду я сегодня, Афанасий Ильич.
Снова вспыхнула лампочка. Гриша стоял у двери.
— Во-первых, я тебе не Афанасий Ильич.
— Я еще не привык, — оправдался Гриша.
— А во-вторых, что это за фокусы на пороге совместной жизни?
Гриша сошел с порога, посмотрел на Петрова и, весело поблескивая глазами, сказал:
— Никакой не фокус. Сами сказали, чтоб работать без простоев. Фильтр я промыл, мотор и без ремонта еще потянет. А этот газопровод сейчас вытрясу. Он как новый заработает. Я еще нагоню. Я еще два рейса сегодня сделаю на своей двенадцатой.
— Ну, ладно. Пойдем посмотрим.
Провозились с машиной часа два в полутемном гараже, потом согрели мотор и завели. Нелегкая работа — заводить остывший мотор в холодном гараже.
Гриша вывел машину на двор, подвел к прицепу и вышел из кабины.
— Не раздевайся на морозе, — приказал Петров, — слышишь?
— А если мотор заглохнет?
— Все равно не раздевайся. Ну, газуй, да гляди, без аварий. Мне за тебя краснеть-то. Помни.
Машина ушла, скрипя прицепом. Красный огонек мигнул на повороте и исчез в тайге.
Уехал Гриша. Повел в черную тайгу свою двенадцатую. Петров посмотрел вслед, стоя под тусклой лампочкой у ворот гаража.
На голубом снегу путаница узорных отпечатков — следы автомобильных покрышек, и через них прошел свежий след двенадцатой, Гришиной.
Вот так и в сердце: какие ни есть следы старых мук, а свежая черта — только она и болит.
О Дашиной гибели написали ее подруги из госпиталя. Утешали. Разве это требует утешения? Такую рану переболеть надо, пересилить. Даша стоит того, чтобы о ней тосковать до смертельной боли.
Но разве есть такая боль, такая тоска, которые не по силам? Петров считал — нет такой боли. Нет такой черной тоски, которую нельзя отогнать от себя.
Так и должно быть. Не надо разжигать в себе эту боль. Не позволять ей расти, как вот эта тень на белой стене.
Из леса шла машина, голубоватый свет фар приближался, покачивался снизу вверх, повинуясь неровностям дороги. Ярко осветилась длинная стена гаража, и на ней Петров увидел свою тень. Она приближалась, танцуя, то припадая к земле, то подпрыгивая до крыши. Но вот тень сгорбилась, побежала по стене, чудовищно распухла в ширину и пропала. И снова все стало на свои места, приобрело реальность и красоту жизни. Но это зрелище уродливого, кривляющегося черного утвердило его мысль: «Так и должно быть. Нельзя поддаваться тоске, будет боль, но она пройдет, исчезнет, как страшная в своем уродстве тень».
Вошел в гараж. Тихо. Все давно ушли. И он сейчас уйдет. И нечего тут нервы обнаруживать. Тридцать пять лет мужику. Парторг. Руководитель.
Он вынул из грудного кармана клеенчатый потертый бумажник и развернул его. Достал фотографию. Вот она, Даша. Эту фотографию она подарила ему в первые дни их знакомства. Афанасий Ильич тогда еще работал шофером. И когда он, чумазый, веселый, проезжал на машине через поселок, она выбегала на больничное крыльцо и тоже весело поглядывала на него. Она работала санитаркой. По вечерам они ходили к повороту на Ельскую дорогу или к станции — смотреть, как приходят и уходят поезда; она рассказывала всякие случаи из своей жизни. Ничего смешного не содержалось в этих рассказах, но оба они счастливо смеялись.
Они поженились перед самой войной. Его мобилизовали. Когда он уезжал, ни одной слезинки не проронила Даша. Все провожающие заметили это, и кто-то сказал Афанасию Ильичу: «Каменная у тебя баба». Он только улыбнулся грустно и стиснул зубы. Никогда не забыть ему последней ночи, что они провели вместе. Она наговорила ему столько ласковых слов, сколько смогла за короткую северную летнюю ночь. Его рубашка на груди не просыхала от ее слез до утра. Каменная баба. Что они все понимают? Твердая женщина, настоящий человек. Таежница.
А ее письма с фронта, полные ласки и заботы, планов и надежд! И, наконец, это последнее извещение о ее смерти, как точка, поставленная в конце счастья, после которой уж ничего не напишешь. Все.
В гараже тихо. Петрову никуда не хотелось идти. Он выключил свет, оставив одну лампочку, крикнул:
— Дежурный!
Не отзывается, спит, наверное, в вулканизаторской. Но и там, в этой маленькой комнатке, заваленной старой резиной, никого не оказалось. Он сел на кучу покрышек. Закурил.
Так и застал его Корнев, вернувшись из леса.
— Не спится? — глуховатым голосом спросил Афанасий Ильич и деланно зевнул, желая показать, что ему вот как хочется спать, да нельзя.
Корнев сел рядом.
— Это зря. Спать надо, когда можно. Знаешь, как на фронте?
— Знаю. Сам недавно оттуда.
И, обрадовавшись, что найдена тема для разговора, они начали расспрашивать друг друга, где кто воевал. А вспомнив о войне, проговорились каждый о своем самом больном и тайном, о чем не всегда и не каждому скажешь. В дни бедствий широко открываются сердца людей. В дни совместной борьбы нет ничего дороже дружеской руки — она и поддержит, и путь покажет, и выручит в беде.
И рассказывать много не надо — какие тут рассказы? Все ясно. Жена погибла на войне. Ясно. Стисни зубы и навек запомни все: и ясные глаза любимой, каких больше нет на свете, и страшный оскал убийцы. Запомни и борись, чтобы его скорее, как можно скорее сжить со света, чтобы он больше никого не мог убивать.
Невеста в плену. Это почти гибель. Красивая девушка в руках врага. Корнев часто думал об этом с бессилием и бешенством. Смерть или позор — сумеет ли она выбрать смерть?
Так или иначе — она погибла, и этого тоже забывать нельзя.
Они сидели на старых резиновых покрышках под мигающим светом желтоватой лампочки. На белом от снега окне сверкал иней. Мороз потрескивал в бревенчатых стенах.
— Об этом забывать нельзя, — напомнил Виталий Осипович.
Петров жестковато, но дружески поправил:
— Об этом не надо говорить.
— Сдержаться трудно.
— А мы не на легкое поставлены. — Это Петров сказал тихо и требовательно, вспомнив недавний разговор с Дудником. Спросил уже совсем спокойно:
— В партии давно?
— С сорокового.
— Ага, — оживился Афанасий Ильич, — одногодки мы с тобой. Я тоже с сорокового.
Это совпадение почему-то обрадовало обоих, они сразу увидели, как много общего между ними в судьбе, в жизни, в работе. И уже не стало того гнетущего чувства одиночества, какое испытывал каждый, — словно только сейчас они увидели себя не в одиночку, а вместе со всеми: то, что раньше они знали, то сейчас почувствовали всем сердцем. Это было до того неожиданно, что они сразу замолкли, как умолкают в минуту особой торжественности.
ДРУГ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
Конечно, как и следовало ожидать, Гольденко знал о новом начальнике больше, чем другие. Его приезд не возбудил в сердце старого искателя длинного рубля никаких надежд. Но он начал уверять всех, что такой старый солдат, каким является он — Семен Гольденко, непременно будет отмечен боевым командиром Корневым. И уверял до тех пор, пока сам не начал верить в свою выдумку. То, что эти придуманные надежды пока не оправдывались, уже не смущало его. Он подогревал эти надежды тем, что выдумывал невероятные подвиги, приписывая их Виталию Осиповичу.
Даже прискорбный случай в пятой диспетчерской недолго угнетал его. Выдумав утешительную историю, Гольденко поверил в нее сам и с увлечением повторял каждому, кто хотел послушать:
— Я, значит… это лежу я. Не сплю, знаю, что придет. Он ведь беспокойный. Еще на фронте все удивлялись: когда он спит? Откуда я знаю?.. Вот чудак человек!.. Откуда!.. Да он сам после мне рассказывал. Вот, значит, он и входит. В будку-то. Входит, значит, думает: захвачу я его на посту спящего. А я, конечно, не сплю. Глянул он на меня: «Ага, хитер старый солдат, одним глазом спит». Так и говорит. А голос, сами знаете, труба (хотя слушатели знали, что голосом новый начальник не отличался, но не перебивали). «Встать!» А я — лежу. Думаю: это тебе не армия. Ну он меня за воротник — цоп! Только он рукой до меня, а уж я на ногах и по всей форме рапортую: «Во вверенном мне участке все благополучно!» Ну, посмеялись мы с ним. Покурили. «Иди, говорит, вояка, на дорогу. Молодец, говорит, умеешь в полглаза спать, только не забывай мне почтение оказывать, а я о тебе подумаю». Вот он какой! Молодой солдат старому солдату всегда друг. Несмотря что начальник.
Но проходили дни и ничего такого приятного для Гольденко не происходило. Он слегка приуныл, но еще храбрился. Все ему казалось, что боевой командир увидит, как затирают его, старого солдата, и поставит на настоящее место. Что он старый солдат — в это он давно и сам поверил. Поверил до того, что начал удивляться, как это получилось: так геройски воевал, но был затерт, забыт.
Ночная смена дорожников отдыхала. Их было немного, человек десять в бараке. Бледный свет северного дня сочился в замерзшие стекла. Столько снега намерзло на окнах, что они казались заложенными толстым слоем серой ваты.
Дорожники напились чаю, закурила, собираясь поспать часок перед выходом в ночную.
Гольденко рассказывал о новом подвиге начальника. Ему надо было рассеять свои сомнения, поэтому рассказывал он увлеченно, даже с энтузиазмом.
В этот момент Виталий Осипович зашел в барак, чтобы посмотреть, как живут дорожники. В коридоре было чисто.
В полумраке он различил двойной ряд коек, в углу — фигуры людей. Вспыхивали огоньки папирос. Он хотел подойти к ним, но, услыхав свое имя, остановился.
Кто-то громко и восторженно рассказывал о его подвигах. Речь шла о взятии какого-то неизвестного на карте населенного пункта. Если верить рассказчику, он — Виталий Осипович — почему-то ехал на танке. Повторяя якобы его приказания, рассказчик очень похоже копировал его голос. Все остальное было совсем неправдоподобно.
Рассказ спасали только красочность и воодушевление, на которые не скупился неизвестный сказитель.
Виталий Осипович тихо подошел. Его увидели. Поднялись с коек. Обернулся и воспеватель подвигов его. Это был тот самый, из пятой диспетчерской. Он ошалело поводил рачьими глазами и растерянно улыбался.
Сделав вид, что ничего не слышал, Корнев подсел к дорожникам.
— Чем занимаетесь?
— Да вот отдыхаем.
Гольденко продолжал стоять.
— Да вы садитесь, — сказал ему Корнев. — На фронте бывали?
Гольденко сел.
— Как же, — неуверенно ответил он, — воевал. Да, пришлось повоевать. «Вот оно, — думал он, — начинается».
Горячая волна прошла по его телу. Слегка закружилась голова, и он сразу же, без запинки, заявил, что был в армии Буденного, рубал беляков и лично был знаком со многими командирами и героями гражданской войны.
Корнев, не улыбаясь, спросил:
— Александра Македонского тоже знали?
— Македонского? Сашку! Боже ж мой! Так он же был начальником штаба, да я ж у него ординарцем… И любил же он меня!..
Корнев, с трудом удерживая улыбку, сказал, что, кажется, ординарцем у Македонского был некто Буцефалов.
— Так разве ж я один у него был? У такого начальника Буцефалов при штабе состоял, вроде посыльного. Пакет в зубы. Аллюр три креста и скачи! Вот кто Буцефалов. Мы с ним…
— Постой, постой. Я про Александра Македонского сам все знаю, — остановил его Корнев. — Вечером не ходите в ночную. Часов в девять прошу зайти ко мне.
Он вышел. Гольденко сидел остолбенело, словно вдруг хватило его морозом. Наконец, вот оно, пришло долгожданное. Он поднял палец.
— О! Все слышали. А теперь спать. Приказываю отдыхать. Я ж говорил. Это настоящий командир.
Вызывая его к себе, Корнев знал, что Гольденко как работник ничего не стоит, работать не хочет, его дорожный участок самый запущенный. Но надо заставить его работать. Может быть, перевести на другую работу, где бы он был всегда на глазах.
Гольденко явился точно в назначенное время. Клинообразный его подбородок, голубой от бритья, горделиво выдвигался вперед. Монгольские усики расчесаны. Одет неважно, как и подобает человеку, который не любит работать.
— Ну, как дела? — спросил Корнев.
— Дела, товарищ начальник, они, значит, идут… — уклончиво ответил Семен Иванович.
— А по-моему, дела у вас не очень блестяще идут.
— Так ведь, конечно. Вам виднее, которое блестит, а которое…
Он тянул и крутился, стараясь сообразить, куда гнет начальник и какие слова ему больше придутся по душе.
— Да вы прямо скажите, почему не хотите работать?
— Товарищ начальник, да разве ж это работа?..
— Работа обыкновенная. Надо только постараться.
— Да боже ж мой! Если вы меня один раз застали, так я же нездоровый был. Живот так закрутило, думал, и не дойду.
— Что-то часто у вас живот крутит, Гольденко. Каждую ночь.
— Врут, товарищ начальник.
— Никто не врет, я сам вижу.
— Ну, ей-богу, обижаете, товарищ начальник. Надо на эту дорогу объехтивно посмотреть.
— Объективно? — покосился на него Корнев.
— Ну да же. Что мы имеем? Вам неизвестно, вы человек новый, а я знаю. Это только сверху снег, так сказать, снежный покров. А под ним же болото. Вы человек новый и не знаете, а я вам все скажу. На этом месте при старом режиме море находилось. Я объехтивно. Потом, значит, оно подсохло, а болото пока что осталось. Ну, где же вам все сразу узнать. Вы новый человек. А Гольденко виноват.
Корнев знал, что Гольденко никогда не сознается в своем лодырничестве, но такого не ожидал.
— Море-то давно было? — спросил он.
— Как бы не соврать, — глубокомысленно посмотрел Гольденко на потолок, — не особенно. Потому болото еще шибко глубокое.
— Д-да. А Македонский сейчас где?
Гольденко осторожно поглядел на начальника, соображая, нет ли здесь подвоха. Лучше отговориться незнанием.
— Не знаю, товарищ начальник. Да если б знал, разве б я здесь был? Меня каждый начальник вот до чего любил!
— А сейчас почему не любит?
— Не любит. Не показался я ему. Тут, конечно, если начистоту говорить, мне жизни не будет. Кабы не война, уехал бы… А сейчас, значит, лишен права передвижения до конца военных действий.
— Скажите, Гольденко, зачем вы приехали сюда? Ведь вы человек бывалый, белый свет повидали. Что вас потянуло на север?
— Ничего меня не тянуло. Взял да приехал. Надо же посмотреть. А тут война, вот и застрял.
— Так не бывает, Гольденко. У человека всегда есть, ну, что ли, мечта. Цель.
Гольденко задумался. Уж очень дотошно выспрашивает начальник. Тут надо осторожнее. Ну Зачем он приехал? Вот вопрос.
— Как вам сказать. Мечта, конешно, это точно, была. Как можно? Без мечты только скотина живет.
— Ну вот, какая же мечта у вас была? На северное сияние посмотреть?
— Я объехтивно, товарищ начальник. Была у меня мечта такая, что здесь заработки хорошие.
— Вот это правильно. Хорошему работнику — хороший заработок. Ну и что же?
— Хорошие, да не для нас. Руку надо везде иметь.
— У вас их две.
Гольденко понимающе засмеялся, даже подмигнул начальнику.
— Третью надо.
— Двумя длинный рубль не ухватишь?
— Никак, хе-хе.
— А если длинный язык?
Разом оборвав смех, Гольденко насторожился. Подумал. И понял по-своему.
— Ну что ж, это можно. Я могу.
— Что вы можете?
— Ну вы сами знаете.
Корневу тоже стало понятно, куда метнулся Гольденко. Вот дрянь какая. Сдержавшись, он сказал:
— Нет, мне шпионов не надо. Понял? Если что заметил, приди и скажи открыто. Газета есть. Вот как у нас делается. А еще, говорите, старый солдат. Барахло вы, а не солдат. Да солдатом вы и не были. Это тоже вранье.
Поняв, что сорвался, Гольденко испуганно заморгал глазами.
— Так вы же сказали…
— Я сказал — язык у вас длинный. В бараке что болтали?
— Я ничего. Гад буду…
— Что про меня рассказывали? Я же сам слышал. Откуда вам известно, как я воевал? Это, конечно, ваше дело, но прошу про меня не врать. Про Александра Македонского можете. Ничего не имею.
— Да как же, — лепетал Гольденко, — это же наболтали вам.
Он чувствовал, что погибает.
— Идите, Гольденко. Работать будете в дорожной бригаде. Там оплата сдельная. Если работать честно, то и двумя руками можно длинный рубль схватить. Идите…
Вернувшись в барак, Гольденко лег на свое место. Сосед по койке спросил, зачем вызывал начальник.
— Вызывал, значит, надо, интересовался насчет работы. Доволен ли. Ничего, говорю, только скушно. Как дикий зверь по лесу бегаешь всю ночь. Мне на людях веселее. «Куда, спрашивает, хочешь?» Я говорю: «Куда поставите, везде буду на месте». «Ну, говорит, иди в дневную дорожную бригаду, хороший, говорит, ты специалист по дорожному делу». Вот и все. И ничего тут особенного нету.
КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ
Гараж стоял у самой дороги. Прямо за ним возвышалась черная стена леса — тайга отступала, упорно цепляясь за каждый клочок земли. Вокруг гаража торчали из снежных сугробов невырубленные елки и кое-где возвышались молодые сосенки со скудной горсточкой хвои на самой макушке. Это были сосны, когда-то выросшие в дремучем лесу, под сенью громадных деревьев. Лес вырубили, а молодняк не тронули. Пусть растут.
При гараже было несколько маленьких комнаток, или, как их здесь называли, кабинок: инструментальная, кладовая, конторка, вулканизаторская.
Приказав привести в порядок одну из комнат, Корнев устроил здесь свой кабинет — свой штаб — и отчасти свою квартиру или, как он называл, КП. Полностью переселиться сюда он не помышлял. Все равно этого не допустила бы Валентина Анисимовна. Она с материнской заботливостью, переходящей в деспотизм, сама определила его режим.
Приходилось повиноваться. Иногда Корнев оставался ночевать в своем КП, но утром непременно должен был явиться домой к завтраку.
— Это тебе не война, — говорил Иван Петрович. — Где поел, а где и так. Тут насчет этого строго.
Он все еще хотел казаться радушным хозяином и добрым другом. Дома говорил шутливо или участливо, судя по обстоятельствам, а на работе был сдержан, и Корневу казалось, что он следит за ним. Следит терпеливо, изучающе, как охотник за редким зверем, повадки которого еще мало ему известны.
— Виталий Осипович, я прямо не знаю, что с вами делать? Ну, что вы думаете? Ведь здоровье надо поправлять. Я котенку больше наливаю, — негодовала хозяйка и вздыхала, — не знаю, что с вами делать.
Виталий Осипович уже знал многих работающих на лесопункте. Да, коренных лесовиков мало. Большинство на фронте. Северных жителей или таких, которые давно и прочно осели здесь, тоже единицы. Много эвакуированных, которые только и ждали конца войны, чтобы вернуться в родные места, на свою работу. Были здесь и случайные люди, приехавшие на заработки. Бывалые люди, исколесившие весь Советский Союз в погоне за длинным рублем, они, поработав год-два, ехали в другие места. Война продиктовала им свои законы, закрепив в тайге этих искателей призрачного счастья. Они тосковали, проклинали долю свою, мечтали, фантазировали и ждали.
Так или иначе, очень многие считали себя временными жителями тайги, но сейчас не стремились уходить отсюда. Заработки были хорошие, снабжение тоже. Вон кончится воина, тогда можно будет уехать подальше от этих болот, от жгучих морозов, от суровой, строгой жизни.
Когда он поделился этими мыслями с Иваном Петровичем, тот не согласился с ним:
— Многие никуда не поедут.
— Ты думаешь?
— Знаю. Тайга. Она держит людей. Поживешь — увидишь. Привыкают здесь люди. Эх, рук мало. Надо бы новый клуб построить, земли побольше раскорчевать под огороды. Много надо. Мы здесь с дролей моей двенадцать лет живем и уезжать не собираемся. Ты посмотри: птица в теплые края улетает, а детей выводить сюда возвращается.
— Это птица, А человек?
— А человек тоже гнездо свое любит. Вот и надо создать ему здесь дом, его родное место. Пусть он тут живет, женится, детей заводит. Пусть он всей душой здесь будет. На севере, в тайге. Лесов у нас на сто лет хватит. Не успеешь в одном месте вырубить, а он уже растет, поднимается. Работы по горло. Заводы ставить надо. Чего только из древесины не добудешь: бумага, пластмасса, лаки, дрожжи, спирт, сахар.
Корнев слушал сначала с удивлением: вот ведь как разговорился зверь лесной. Вот он о чем молчит. А ведь он прав. Не все уедут отсюда. Многие найдут здесь себя, свое счастье, свое призвание. У каждого свое. Он прав, этот суровый хозяин тайги.
— Это твоя синяя птица, — чуть растроганно улыбнулся Корнев.
— Какая это синяя птица? — насторожился Дудник.
— Сказка есть такая. Птица эта — мечта человека, счастье.
— Сказка? Пусть будет сказка. Я вот видел ботинки из пластмассы, а пластмасса из сосны. Здесь этих сказок на каждую сосну по сказке.
Он прав, возможностей много. У Ивана Петровича зоркий глаз. Он видит далеко. Он не заблудится в тайге.
— Ну, размечтались! — улыбнулась Валентина Анисимовна. — А для меня нет лучше Рязани.
— А сама здесь живешь.
— Так я же с тобой, залётко мой.
— Ну вот то-то же. Со мной и в лесу жить можно.
Но такие разговоры случались не часто. И Корневу, и Дуднику редко удавалось выкроить вечер для беседы по душам. Особенно Корневу. Ему много надо было узнать, войти в тонкости дела, и все это — как можно скорее. Виталий Осипович спешил. Он был уверен, что должны быть какие-то пути для улучшения работы всего лесоучастка. А пока все было почти так же, как и в дни его юности, когда еще он работал лесорубом.
— Дрын да веревка, волокуша да покат — вот и вся наша техника, — сказала Корневу девушка-трелевщица.
Она остановилась, чтобы поправить сбрую на своей мохнатой малорослой лошади. Положив рукавицы на взмокший лошадиный круп, от которого поднимался легкий парок, она связывала веревочные вожжи. Ее одежда, валенки и даже выбившиеся из-под клетчатой шали волосы были в снегу. Легкая поземка крутилась по всей вырубке.
Лошади были впряжены в волокушу, древнее изобретение лесных мужиков. Волокушей выволакивались бревна с места порубки к дороге, где их наваливали на лесовозные сани и доставляли к нижнему складу, и уже отсюда, на лесовозных машинах, вывозили на завод или к вагонам на погрузку.
И каждый раз тяжеленные бревна приходилось передвигать с помощью дрына, привязывать веревкой, поднимать на машину по затертым до блеска покатам. И все это требовало только силы, силы и сноровки.
Девушка подышала на пальцы, согревая их своим дыханием, и, обернув к Виталию Осиповичу свое покрасневшее на морозе, обветренное лицо, громко, словно требовала ответа от всего мира, спросила:
— Да когда же кончится жизнь эта проклятая?
— Ну, заплакала, — сурово ответил Виталий Осипович. — На войне, думаете, легче?..
— Так я про войну и спрашиваю, — удивленная его непонятливостью, пояснила девушка. — Работу я не кляну. Мы к ней привыкли. И до войны так вот лес выволакивали.
Она сунула руки в рукавицы. Взмахнув кнутом, крикнула на лошадь:
— Надуйся, красивая!..
На всей очень большой вырубке, где шла трелевка, работало много людей. Они, то пропадая в сугробах, то появляясь над ними, погоняли своих лошадей. Февральская поземка завивала снежные жгуты, бросая их в лица трелевщиц.
По узким трелевочным тропам, спотыкаясь и проваливаясь в разбитом лошадьми снегу, Виталий Осипович добрался до дороги. Здесь у костра сидели две женщины-навальщицы. Они о чем-то громко и недоброжелательно рассуждали. Увидев начальника, замолкли. Поздоровавшись, Виталий Осипович спросил, почему они вдруг перестали говорить.
— Да чего зря язык-то бить, — ответила одна, а вторая низким голосом объяснила:
— Не то делаем, что надо.
Виталий Осипович узнал ее. Это была та самая колхозница, которая выступила на совещании в день его приезда. Он спросил:
— Так ваше предложение и не приняли?
Она ответила снисходительно:
— Вам лучше знать. Эх, начальники, разучились вы считать. Вам лишь бы план выполнить, а того не хотите понять, что трелевка эта — вовсе ненужная работа. А если ненужная, значит, вредная. Деньгам перевод, людям морока.
И вдруг совершенно другим, доверительным тоном она предложила еще при разметке делянок пробивать в снегу дороги и лес валить вдоль этих дорог. Тогда можно будет сразу вывозить все, что лесорубы свалят за день.
Когда Виталий Осипович сказал Дуднику об этом, тот хмуро проворчал:
— Это бригадирша все мутит. Все равно так не будет.
— А знаешь, мне кажется, что так может быть, — тоже хмуро ответил Корнев.
Оба замолчали. Этот разговор происходил в кабинете Дудника. Стояла деловая тишина, способствующая раздумью, хотя бы даже такому тяжелому, какое наступило после слов Корнева.
Дудник понимал, что инженер не отступит, он знал его немирный, беспокойный характер. Будучи человеком сильным и напористым, он предпочитал ломать препятствия на своем пути и никогда не задумывался над тем, как бы найти способ, при котором эти препятствия не возникли бы. Он бросал на тяжелые участки все силы и добивался победы, забывая о том, что через месяц или через год все это должно повториться снова.
Так было и с вывозкой. В лесу у пня ежегодно остается много леса, но никаких мер для того, чтобы вывозить его вовремя, он не принимал.
Он не мог не заметить, что Корнев за короткий срок сделал очень много. На всех участках лучше стали работать лесовозные машины. Дорожные рабочие содержали свои участки в образцовом порядке. На нижних складах по его указаниям подняли подштабельные места: с высоких штабелей грузить стало легче. Машины не простаивали под погрузкой.
Виталий Осипович от всех требовал военной точности в исполнении его приказов. Его считали беспощадным, но все видели, что он беспощаден прежде всего к самому себе. За это его боялись, но уважали, потому что, прежде чем потребовать, он тщательно проверял, сколько можно потребовать и что надо сделать, чтобы легче и лучше можно было выполнить его требование.
Молчание затянулось. Тяжело вздохнув. Дудник поднял свое вдруг потемневшее лицо. Корнев понял: сейчас он скажет что-то такое, отчего сделается невозможной не только дружба, но и совместная работа. Корнев не хотел ссоры и знал, что и Дудник не хочет этого, но, как и свойственно человеку вспыльчивому, он плохо владел собой в минуты гнева. Поэтому Виталий Осипович поспешил предупредить его:
— Ну хорошо. Обсудим это на производственном совещании.
И сразу же заговорил о том, что в сушилке прогорели жаровые трубы, и спросил, где взять новые.
— Беспокойный ты человек, — вздохнул Иван Петрович.
— Это верно, — не возражал Корнев. — Жить — это значит творить беспокойство, сказал великий старик Ромен Роллан. Для того я живу на свете, чтобы творить беспокойство.
«Чего, чего, а беспокойства от тебя много», — подумал Дудник и с удивлением отметил, что эта мысль не вызвала в нем обычного протеста. Он все еще не мог простить Корневу его обвинения, тем более, что тот оказался прав насчет Тараса Ковылкина. Лучший лесоруб так и не поставил никакого рекорда.
Иван Петрович и сам понимал, что Тарас в своей выработке достиг того потолка, выше которого не прыгнешь.
Как-то днем он позвонил в гараж и попросил Корнева зайти к нему.
К концу подходил февральский день. И в этот день, в этот час солнце со всей щедростью обливало тайгу холодным серебром, словно желая вознаградить ее за прежнюю свою скупость. Но снег еще по-зимнему блистал пушистыми искрами и густо голубел тенями. Пышны были сугробы, не примятые рукой весны. Деревянные домики выглядывали из сугробов своими обледенелыми, потеплевшими от солнца глазами окон в кружеве белых ресниц инея. Из труб неторопливо струились белые ленточки дыма.
Когда Виталий Осипович вошел в просторный кабинет директора, там сидел парторг Петров. Дудник сразу, не дожидаясь, пока Корнев разденется, сказал:
— Дело у нас серьезное.
Дело оказалось не новым, но тем не менее оно волновало обоих. Леспромхоз вытянул февральскую программу, даже несколько перевыполнив ее, то есть сделал то, что раньше ставило его в число передовых. Но недавно в соседнем леспромхозе появился неизвестный до того лесоруб Мартыненко. Ничего о нем прежде не было слышно. А он взял да и закатил такую небывалую выработку на лучковой пиле, что сразу выдвинул свой лесопункт на первое место.
Об этом сообщали по рации, но очень скупо. Сидят там, в тресте, чиновники и пышными словами восхваляют Мартыненко. А как он работает, какие делает чудеса — ничего неизвестно.
— Надо узнать, — перебил Виталий Осипович.
— Надо. Мало того, что надо узнать. Надо свое найти. Что же, у нас лесорубов хороших нет? — сказал Петров.
Дудник молчал.
Понимая его настроение, Виталий Осипович сказал, что надо подумать и, конечно, прежде всего узнать, как там работает этот Мартыненко.
В этот вечер Корнев пришел домой раньше обыкновенного. Дудника еще не было. Валентина Анисимовна, стоя у стола, гладила белье. Виталий Осипович, раздеваясь, увидел картину домашнего теплого уюта: слегка пахло влажным с мороза бельем, в столовой шумели мальчики, играя, кажется, в войну. По крайней мере, младший самозабвенно кричал: «Сдавайся!», на что старший отвечал: «Я вот тебе сдамся».
— Для них и война — повод для игры, — тихо сказал Виталий Осипович.
Валентина Анисимовна возразила:
— Ну, не совсем. Они в школе и на улице очень верно говорят о войне. А если и играют, то всегда стремятся только к одному: разбить врага. Это им всегда удается. Ненавидят они войну. Кончится война, в другое играть станут.
Разглаживая штанишки с продранными коленями, добавила:
— Опять разодрал. Это Михаил. Он всегда разведчика изображает.
Часть вторая
ВАСИЛЬКИ
Три ночи, три своих дежурства Женя ждала. Чего — и сама не знала. Но ждала, ждала… Никогда не бывало, чтобы, отправляясь в диспетчерскую, и тем более на ночное дежурство, надевали девушки свои лучшие платья. А она наряжалась, как на бал. При этом повторяла все одну и ту же строку стихов:
— «На севере диком стоит одиноко».
А он все не шел и не шел.
Ох, до чего же одиноко на севере диком! Нет, это не сосна, а она одинокая. Женя Ерошенко, разнесчастная росомаха.
— Да что ты, Женька, ну как будто на свидание собираешься? — ехидно спрашивала Крошка.
Бурно вздохнув, Женя гневно вскидывала на Крошку глаза.
— Ф-фу! Замолчи, Крошка. Какое тебе дело?
Да, она надевала лучшие платья и жалела, что невозможно показать свою ножку в хорошей обуви. Да, она повторяла стихи, одну только фразу, как попугай. Да, она любила Корнева и отправлялась в черную тайгу, в свою будку, как на свидание. Но свидание так и не состоялось.
Первые две ночи ее развлекал Гольденко. Он тогда еще ожидал от нового начальника всяческих благ, хотя никаких причин для этого не было. И Женя знала — врет Гольденко, но слушала, слушала, замирая от тихого восторга, потому что говорили о нем.
Она сидела нарядная, влюбленная, улыбаясь румяными, похожими на лепестки роз губами.
Когда звонил телефон, она отвечала таким певучим, нежным голосом, что даже Крошка пожалела ее:
— Женька, у тебя, может быть, живот болит? Ты скажи.
Когда тридцатку задерживали у пятой диспетчерской встречные лесовозы, Мишка Баринов заходил к ней. Он садился против влюбленной росомахи. На чумазом от газовой копоти лице его мрачно горели бешеные глаза.
Он молчал, зная, что бесполезны сейчас слова. А она, далекая от него и от всего окружающего, просто не замечала его отчаянных переживаний. Тем более, что он ничего не говорил. Сидел и молчал. Но однажды, не выдержав, он хрипло спросил:
— Все ждешь?
Она, прикрыв белыми веками неспокойные глаза, вскинула голову:
— Ну и что? Жду!
— Он же и не думает о тебе и, может быть, смеется над тобой.
— Ах, если даже так!
— Он тебя, Женька, не замечает.
— Заметит.
— Да не будет по-твоему; у него, наверное, еще и не такие, как ты, бывали.
— А такой не было. Миша, забудь меня. Все равно я люблю другого.
Уронив голову, разметав по столу пышный чуб, Мишка простонал:
— Никого ты не любишь, Женька. Вся любовь твоя выдуманная.
Женя вспыхнула и в самом деле стала похожа на росомаху, злую лесную зверюгу.
— Ф-фу! Это как раз не твое дело.
Рванула ручку телефона.
— Крошка, где же твоя встречная?.. Да говорю же, тридцатка здесь газует… Терпенья нет… Это как раз не твое дело.
Так прошли две ночи, но и на третью он не пришел. Не пришел и Гольденко, потому что жесткая рука Корнева поставила его на место. Опять заходил Мишка Баринов и мрачно сверкал глазами. Ну что ему надо от нее? Подумаешь, какая страсть под северным сиянием! Прямо испанец.
Наконец это ей надоело. Она поняла, что герои — народ чрезвычайно молчаливый. Только и знают, что совершают подвиги, на девушек внимания не обращают, писем не пишут и вообще без боя не сдаются.
И она решилась.
Нарядилась с особой тщательностью, повязала белый пуховый платок, который особенно шел к ее румяному круглому лицу и делал его задумчивым и печальным. Вместо рабочего кожушка надела зимнее пальто, несколько легковатое для севера. Да разве страшен ей мороз?
Для начала Женя решила зайти к Валентине Анисимовне. У них были общие интересы — обе увлекались вышиванием, и вышивали хорошо. Валентина Анисимовна, прожившая столько лет в тайге, была очень довольна, что в леспромхозе есть девушки, с которыми можно посоветоваться насчет того, что к лицу, какие сейчас моды. Девушки, знающие толк во всем этом.
Она приветливо встречала их, расспрашивала о доме, о родных, давала советы, как надо жить в тайге. Жить достойно и просто.
Был полдень, невысоко над тайгой сияло солнце, пробиваясь сквозь морозную дымку. Солнце уже светит по-мартовски, но греет еще слабо. В это время — Женя знала — директор уезжал на лесоучастки, Виталий Осипович вообще редко бывал дома, а ребятишки в школе.
— Валентина Анисимовна одна сидела в своей просторной, сверкающей чистотой кухне. Она обрадовалась Жениному приходу.
— Вот и хорошо, что ты зашла, Женичка. А я мужикам моим рубашки к лету вышиваю. Ну да, залётке моему и Виталию Осиповичу. Кто же ему сделает?
«Я сделаю, я», — хотелось сказать Жене, но она сдержалась, отчего пришлось вздохнуть.
Валентина Анисимовна принесла начатую вышивку. Вот она начала, но еще не знает, кому. Мелкие розовые и красные розы по коричневой кайме. Будет очень красиво. Наверное, инженеру пойдет, красное идет брюнетам.
— Ой, какой же он брюнет? — вздохнула Женя. — У него же такое лицо, какое-то бледное. Нет, ему надо васильки по золотой кайме. А глаза у него как раз серые.
Женя вспыхнула так, словно на ее щеках вдруг оказались вышитыми эти красные розы, и глаза стали как васильки.
— Ой, Женичка, — засмеялась Валентина Анисимовна.
— Ну, Валентина Анисимовна, какая вы! Я только сказала, как лучше…
Но разве обманешь бабу рязанскую? Она со вздохом провела по вышивке своими полными белыми руками. Поглаживая красные и розовые цветочки, говорила:
— Он, Женичка, очень пережил много. На фронте израненный весь. Он и во сне командует все и даже стонет.
— Стонет?
— Да, представь себе. У него немцы невесту на свою каторгу угнали. Он сейчас кипит весь, виду только не подает, но я-то знаю. Ненавидит, а бить их, этих извергов, ему нельзя. Он от этого и не поправляется. Кровью сердце обливается на него глядеть. Вот, Женичка. Его пожалеть можно, а больше ничего. Пусть у него сердце отойдет.
У Жени дрогнули губы, а в горле застрял какой-то клубок. Она поспешно выдернула из рукава платочек; на тонком батисте — голубые васильки.
— Вот так, Женичка.
Валентина Анисимовна сочувственно погладила Женю по щеке и взяла платочек. Голубые васильки, вышитые искусной Жениной рукой. Один василек потемнел от слезинок, от этого узор стал еще красивее.
— Вот это и вышивать надо. Ты про это говорила, Женя?
Женя, наконец, одолела свое волнение. В общем, правильно сказала старшая росомаха Клава, — она дура. Если герой, — то, значит, ордена и почет. А под орденами что — их ведь на сердце носят? А что у него в сердце? Какое ей дело? Она любит, она любит его.
Она будет любить его молча, она ничего не скажет ему и ничем не обнаружит своей любви. Потом. Пусть пройдет время, у него отойдет сердце, и он сам заметит и ее, и преданную ее любовь.
Она совершенно овладела собой и даже сумела равнодушно сказать:
— Вы ничего не думайте, Валентина Анисимовна. Я к нему именно так и отношусь, как… к герою. Мне его очень, очень жаль. И невесту его. Я бы разорвала этих гадов — фашистов. Правда, васильки ему к лицу? Даже так лучше, один светлый, другой потемнее. Я вам помогу вышивать, мне по целым ночам все равно делать нечего.
ТАЕЖНЫЙ ПЛЕН
В этот вечер, собираясь на дежурство. Женя надела свое старое рабочее платье и вязаную синюю кофту, те самые, что надевала до того, как были прочитаны стихи про одинокую сосну. Новые платья сложила в чемодан. Ничего этого сейчас не надо. Ее любовь совсем не такая, чтобы наряжать ее в шелковые платья.
Наконец-то нашлось время перешить пуговицы на своем кожушке. Теперь он не будет сжимать грудь, когда придется вздохнуть поглубже.
Она оделась и вздохнула. Нет, теперь не давит.
Тридцатка все равно ждала ее у гаража. Приняв машину от сменщика, Мишка Баринов всегда находил какие-то неисправности. Он копался в моторе, поглядывал на дорогу. Что бы там ни было, он любит Женю и добьется своего.
Едва только в свете фар появилась Женя, машина оказалась в полной исправности.
Поехали. Женя сосредоточенно смотрела на знакомую дорогу, на груды снега по краям, на свет фар, теряющийся в темноте, и молчала.
Мишка украдкой наблюдал за ней. Он растерялся немного. Женя была прежней и вместе с тем чем-то не похожей на себя.
«Не вышло, — подумал он, — сорвалось».
И спросил:
— Все кончено?
— Ничего и не начиналось, — сухо ответила она.
— Я же тебе сказал — ни черта не выйдет.
— И не надо. А тебе-то какая печаль?
— Ну и ладно! — от гнева Мишка не находил слов и у будки так нажал на тормоза, что Женя едва не ударилась головой о стекло. Она открыла неподатливую дверь кабины и выпрыгнула на снег.
— Раскаешься, Женька! — крикнул Мишка, с грохотом захлопывая дверцу.
Женя ушла не оглянувшись.
Марина не ждала ее так скоро. Еще больше удивила Женина сдержанность и спокойствие. Казалось, ей доверена тайна, значимость которой обязывает к строгости.
— Женя, ты сегодня прелесть. И не опоздала, и в этом платье.
— Разве в хорошем платье хуже? — подозрительно спросила Женя.
— Да, но в лес, в эту копоть? Нет, ты сегодня очень мила. Ты вообще красивая. Ну, вот тебе график. На погрузке одна тридцатка. Я с ней поеду. Не ревнуешь?
Женя засмеялась. Определенно Марина очень хорошая подруга. Верно, не такая общительная, как сама Женя, и не так много смеется и болтает. Она симпатичная. Волосы, у нее очень красивые. Светлые и пышные. А глаза зеленые. Брови, как шнурочки, но она их не бреет. И ресницы, какие бывают только у киноактрис. Губы тонкие очень. Но она не злая, говорят, у злых тонкие губы. А Марина очень добрая. Все красиво в ней.
И одеваться она умеет. Даже простое, будничное выглядит на ней очень красиво. Сколько раз Женя пыталась подражать ей, но получается не то.
Завклубом Леша Крутилин сказал, что Марина похожа на Психею. Женя спросила, на кого похожа она. Леша ответил: «Вы похожи на Пышку». Она обиделась, но он дал ей книгу Мопассана, она прочитала и перестала обижаться. Только она никогда бы не поддалась этому пруссаку, чтобы выручить из беды каких-то там буржуев.
Когда Марина спросила, не ревнует ли она к Мишке Баринову, Женя вздернула плечи, чтобы сказать свое обычное «ф-фу», но вместо этого засмеялась:
— Что ты, Мариночка! Не говори мне так.
Марина с удивлением взглянула на Женю.
— Нет, определенно, ты или поумнела, или влюбилась.
— Да.
— В героя?
— Конечно.
— Эх, Женя. Я беру обратно свои слова насчет — поумнела.
Но Женя ничего не ответила, и опять у нее стал вид хранительницы большой тайны.
Оставшись одна, Женя развернула сверток. Белое полотно, мотки голубого шелка — светлого и потемнее. Она начала вышивать. Крестики аккуратно ложились на полотне, образуя голубенькие цветочки. Звонил телефон, она принимала и отправляла машины, делала в графике отметки и снова вышивала. Один василек светлый, другой — потемнее, словно смоченный легкой девичьей слезой.
Уже близко полночь, а Женя даже не задремала ни разу. Только васильки начали сливаться в сплошную голубенькую полоску. Она умылась холодной водой, и все прошло.
Она так увлеклась работой, что не заметила, как началась метель. Еще с вечера немного мело и слегка шумело в тайге. Но потом все стихло.
Зазвонил телефон. Говорила Клава, старший диспетчер.
— Ты не уснула, Женя? Нет? Разве не слышишь, что кругом творится? Метель!
Женя прислушалась. В телефонной трубке что-то потрескивало и шумело. Нет, это не в телефоне. Шумела тайга. Снежные вихри крутились уже около самой будки, тугими порывами ударяясь в бревенчатые стены. Ветер скулил в трубе. Нет, не это испугало Женю. Подумаешь — метель! Видала она метели, не первый год на севере. Встревожил ее ласковый, соболезнующий тон старшего диспетчера. Неспроста так Клава заговорила.
— Женичка, слушай приказ технорука. Быстро добеги до лесосклада. Там стоит машина, девятка, под погрузкой. Сними всех. Пусть немедленно едут домой. Да смотри, не растеряйся. Обязательно сходи на биржу, погибнуть могут люди. Ты слышишь? И сама приезжай вместе с ними. И ничего не бойся. Поторопись, милая…
Женя повесила трубку. Приказ технорука. Его приказ. Может быть, он сейчас думает о ней, может быть, беспокоится. Милый, дорогой, самый дорогой! Не беспокойся, я все сделаю, и не страшно мне ничуть.
Она побежала в лес. Ровная, укатанная дорога словно дымилась легкими снежными вихрями. Ветер наметал на дорогу, отполированную лесовозами, острые косячки сыпучего снега. Через полчаса здесь будут чудовищные снежные наметы, которые не пробить машине.
В черном лесу запевал ветер дикую таежную песню. Сосны тихонько поскрипывали, покачивались, разминая старые кости, готовясь к неистовой схватке с бурей.
Начиналась таежная метель.
Вот и лесной склад. Здесь открыто гулял ветер. На огромной поляне лежали штабеля бревен, прикрытые снегом. Между ними глубокие, пробитые в снегу дороги.
Женя взобралась на ближний штабель, разыскивая машину. Она увидела ее огни. Огни, мутные в метели, двигались по дороге, на выезд. Женя соскочила в снег. Надо спешить. Ведь так они могут уехать без нее.
Машина, как огромная черепаха, неуклюже раскачивалась, выбираясь на дорогу. На бревнах сидели грузчики. Они походили на белые мешки, приваленные друг к Другу, — так занесло их снегом. Машина уходила. Она словно таяла в метели. И Женя поняла, сразу поняла, не обманывая себя, что она осталась одна, что машину ей не догнать. Торопиться бесполезно, кричать — тоже. Кто услышит слабый ее голос в этом снежном аду?
Взбесилась тайга. С диким свистом неслись серые рваные полотнища снега, закручиваясь в тугие вихри. Казалось, что весь снег, накопившийся за зиму, мгновенно превратился в тугие жгуты смерчей. Небо и земля слились в сплошную серую воющую массу, страшную своей слепотой, своей грубой бессмысленной злобой. Ветер крутил снег, мял, бросал на землю, топтал, отплясывая дикий свой танец, наполняя тайгу свистом, громом, хохотом.
Тайга взбесилась. Гигантские сосны, как бойцы перед дракой, сбрасывали наземь свои снеговые шапки. Поднимая длинные мохнатые ветви, как руки, к невидимому небу, словно призывали его в свидетеля того ужаса, который сейчас должен произойти. Они раскачивались с такой страшной силой, как будто стремились выдрать из промерзшей земли свои корни и ринуться на врага. Задернутое бурей небо обрушивало на тайгу вихри тяжелого снега.
Машина ушла. Это была последняя машина. Больше ждать нечего. Женя, задыхаясь, вбежала в лес. Здесь было сравнительно тихо. Дорога уже исчезла под снежными наметами.
Дверь в диспетчерскую приоткрыта. Легкие белые смерчики, срываясь с гребня сугроба, похожего на застывшую волну, влетали в избушку. Открытая дверь — это немыслимо зимой в тайге, где знают цену тепла и умеют хранить его. Оставить дом открытым могли только люди, не знающие законов тайги, где, уходя надолго, даже навсегда, хозяин не забудет подпереть дверь колом.
Женя поняла, что, проезжая мимо диспетчерской, кто-то из грузчиков, видимо, забежал за ней. Увидев избушку пустой, он, наверное, выругал трусливую росомаху за то, что, не предупредив товарищей, сбежала с поста. Медлить они не стали и уехали, второпях забыв как следует захлопнуть дверь.
Женя все это сразу представила себе.
С трудом открыв полузанесенную дверь, Женя протиснулась в диспетчерскую.
Позвонила. Ну, конечно, провода порваны.
У нее дрогнули губы. Нахмурив брови, она соображала. Нет, ничего она не боялась, и не от того, что не знала всей опасности своего положения. Буря может продолжаться и день, и неделю. Дороги, конечно, уже нет, да она и не дойдет до поселка в темноте, в этом снеговом аду.
Ну, хорошо. Дров у нее хватит на день, есть еще стол и скамейка, есть, наконец, пол. Поголодать сутки тоже можно. А там придут. Выручат.
Но самое главное — она не ушла, не испугалась, не бросила свое дело. Может быть, она и умрет. Тогда скажут, что погибла на посту, выполнив приказ. Его приказ. У нее найдут васильки, вышитые ею в последние часы жизни. Валентина Анисимовна скажет ему одному, для кого они предназначены. И тогда он поймет все. И, может быть, он будет страдать о ней так же, как и о своей невесте…
Жене стало так жалко себя, что она разревелась. Она плакала до тех пор, пока все васильки не стали одного, темно-синего цвета.
— Ну и дура, — сказала она вслух, вытирая слезы мокрыми васильками. — И ничего я не умру. И бояться тут нечего.
За окном грохотала буря. Стекла были уже занесены снегом. В самом верхнем звене окна еще чернел треугольничек, свободный от снега. Это все. Вся ее связь с бушующим миром. Но и он исчез, этот крохотный кусочек. Мокрые снежинки с размаху бились в него, все больше залепляя стекло.
Женя обреченно смотрела на этот черный уголок, пока он не исчез. Теперь она совершенно отрезана от мира. Скоро ее избушка превратится в снежный холм, в сугроб, наметенный ветром у подножья огромных сосен. Ведь в этой чудовищно просторной тайге все кажется маленьким-маленьким.
Все, кроме любви.
Вспомнив о своей любви. Женя посмотрела на место перед печуркой, где сидел Виталий Осипович в ту первую ночь, и окончательно успокоилась.
Положив вышивание на столик, она подошла к печурке. От печурки струилось ласковое тепло.
Она ничего не боялась. Она знала север и людей, живущих на севере, и была уверена, что ее не забудут в этом лесу.
МАРИНА
Это был сон, с которым не хотелось расставаться.
Марина видела, что она едет домой. И дом вот здесь, недалеко, за этой горкой. Она сидит в кабине лесовозной машины, которая тоже спешит домой. Ведь война уже закончена. И все — и машины и люди — могут вернуться на свои места.
Машина с трудом одолевает крутой подъем. Мотор работает на первой скорости. Как страшно он завывает. Звуки тревожно и злобно вибрируют, то гудят басом, то повышаются до истошного визга.
И дом уже близко. Ее большой, стоящий на оживленной московской улице дом. На третьем этаже у нее была там очень маленькая комнатка, частичка этого дома, ячейка огромного улья, наполненного шумливым, деловым, столичным народом. И вот об этой комнатке она мечтала, считая ее своим домом.
Она не мечтала о доме, как мечтают другие. Не вздыхала, не рассказывала страстным шепотом подругам о своих переживаниях. Она мечтала молча, для себя. И потому не хотелось просыпаться, расставаться со своей мечтой.
Но вокруг кричали, говорили, смеялись, как-то испуганно, по-бабьи, тревожно визжали. Звуки, словно захлебываясь, тонули в жарком вое мотора.
Наконец она с трудом распахнула ресницы.
— Дверь! Дверь! — кричал тонкий девичий голос.
Это за стеной в общежитии. Кто-то открыл дверь, и в нее с шумом и свистом ворвался ветер. Марина услышала, как он бурно хлынул в помещение и ударился о дощатую дверь комнаты, где жили девушки. Дверь в общежитии оглушительно хлопнула. Все затихло.
Марина сбросила одеяло.
Неужели она проспала?
За окном ночь. Ее не видно сквозь промороженные стекла, на которых иней лежит густо, как серая вата.
Сейчас, в феврале, темнеет около четырех. Она посмотрела на свои часики. Двенадцать. Значит, ночь. На улице беснуется метель. Она несколько дней с неослабевающей силой будет давить на тайгу, на поселок, заметая дороги, ломая сучья, выворачивая с корнем столетние сосны, обрывая провода.
И думать нечего выйти из барака.
Распахнулась дверь. Повеяло снегом и ветром. В комнату вошло что-то белое. Это была Крошка. Густо облепленная снегом, она походила на того деда-мороза, которым украшают новогоднюю елку. От тепла снег сразу намок, покрылся трещинками и, отваливаясь кусочками, таял на полу.
Крошка, часто дыша открытым ртом, устало опустилась на табуретку.
— Женька осталась в лесу, на пятой, — сказала она, развязывая негнущимися пальцами тугой, намокший узел платка.
По ее пухлым детским щечкам текли ручейки растаявшего снега, смешиваясь со слезами. Крошка плакала.
— Сама виновата, толстая дура! Замечталась, наверное, а тут переживай за нее. Мариночка, что же теперь будет? Она в будке, а кругом страсти такие. Женичка, милая моя!..
— А телефон? — спросила Марина, снимая с Крошки полушубок.
— Порвало сразу. Все провода скрутило. Безумная же погода.
Крошка села на свою койку. Алюминиевой гребенкой она стала расчесывать свои мокрые волосы.
— Когда началось, — рассказывала она, — из центральной Клава передала распоряжение начальника. Всем немедленно с последней машиной — домой. Машина пришла, а ее нет.
— Ну, а грузчики, а шофер?
— Они ее, Женьку, ругали всю дорогу. Заехали за ней, а ее нет на месте. Они и не подумали, что Женя на биржу пошла. Решили, что сбежала.
Марина слушала Крошку, сдвинув брови. Пришли остальные девушки. Они ввалились все сразу. В комнате стало прохладно. Воздух наполнился влажным паром от одежды. Девушки раздевались, возбужденно рассказывая, как они спасались от пурги. Все они успели приехать на последней машине. Дорогу сразу замело, завалило буреломом. Хорошо, что у грузчиков был топор, пришлось буквально прорубать дорогу для машины, растаскивая тяжелые стволы в стороны. Без топора ни за что бы не проехать.
А Женя осталась одна. Конечно, они ничем не могли ей помочь, эти росомахи. Марине представилась маленькая будка, теперь уже до крыши засыпанная снегом, и там, в этом сугробе, сидит испуганная Женя и, конечно, плачет. Дров у нее мало. Разве она догадалась вовремя заготовить их?
Но помочь ей сейчас уже нельзя, по крайней мере до утра.
Пришла Клава. Черноглазая строгая девушка. Она молча сбросила у порога валенки, повесила свой кожушок на место. Молча подошла к своей койке и устало опустилась на нее.
— Ну, как же? — спросила Марина.
— Позвонила начальству, — тихо и спокойно ответила Клава. — До утра все равно ничего нельзя.
И начала раздеваться.
Марина, укрываясь одеялом, сказала:
— Если утром ничего не сделают, днем я пойду.
— Ты с ума не сходи, — посоветовала Клава.
Но она знала, что у Марины никогда слово не расходится с делом. Она не любит говорить напрасно и еще больше не выносит, если ее начинают уговаривать не делать того, что она уже решила сделать. Тогда она обязательно настоит на своем.
С детских лет Марина усвоила — уговаривает обычно тот, кто сам не верит в свои силы. Сильный уговаривать не будет, он, если сможет, — запретит, а если это не в его силах, то скажет только один раз. И тот, кого можно уговорить, тоже не всегда достоин уважения.
Марина презирала проявление всяческих слабостей.
Ей было три года, когда умер отец, и мать вскоре снова вышла замуж. Потом родилась Катя. Отчим был, несомненно, хороший, честный человек. Он старался одинаково относиться и к падчерице Марине, и к своей дочери Кате. Но именно старался. Не было в его отношении к Марине отцовской, родной теплоты, словно он все время заставлял себя приласкать падчерицу, когда ласкал дочь.
Маленькая Марина настороженно относилась к его нежности.
Причину такого отношения к ней отчима Марина узнала позднее, когда выросла.
Отец и отчим одновременно ухаживали за матерью, когда та была девушкой, оба сделали ей предложение, ревновали один к другому. Когда одному было отдано предпочтение, другой уехал из города. Но любовь его не остыла. Он вернулся, узнав о смерти отца Марины, и женился на матери.
Отчим был хороший, верный человек. Он очень любил мать и старался полюбить Марину. Вот именно оттого, что он старался, никакой любви не получалось. Уж очень Марина напоминала того, кто однажды вырвал у него счастье. И отчим замечал, что она чувствует неискренность его отношения.
Тогда, чтобы как-то расположить ее к себе, он попытался разговаривать с ней серьезно, как со взрослой. И этого Марина не могла принять. Марина отлично сознавала, что она девчонка, а он солидный человек, директор завода, и нечего ему заискивать перед ней.
Мать уговаривала ее не быть таким волчонком. За это Марина стала относиться к матери, как относятся в семье к неизлечимо больным, — мешала любовь с жалостью.
Но все же семья была дружная, хорошая. Марина не испытывала никакого гнета, она жалела мать, холодновато относилась к отчиму и очень любила свою маленькую сестренку. Катя росла девочкой бойкой, даже озорной. Она была такая полненькая, розовая, что подружки звали ее «Катюшка-подушка».
— Ну и пусть я подушка, — говорила Катя, — зато я на маму похожа.
Это был сильный довод.
Мать была красавица. Полная, с белым румяным лицом и ясным взглядом. На губах спокойная улыбка — печать уверенного, непоколебимого счастья. Характер у нее был ровный, все шло хорошо, и она считала, что надо жить так, чтобы сохранить это хорошее, не стремясь к лучшему. Еще неизвестно, каково оно, это лучшее. Достаточно и настоящего.
Отчим говорил:
— Ты — самая лучшая, лучше не надо.
Но все остальное он никогда не считал совершенным, Он руководил крупным сахарным заводом. Завод работал хорошо. Рассказывая об этом, отчим неизменно заканчивал:
— Значит, надо работать еще лучше.
Марина в этом отношении была на стороне отчима. Он водил ее на завод, показывал, как из грязной, невзрачной свеклы делают белый, сверкающий сахар.
В школу она вошла с гордо поднятой головой. Учителям отвечала спокойно, никогда не смущалась, если даже и не знала урока. Но это редко случалось.
Она охотно играла с подругами, принимала участие в невинных их заговорах против учителей, и все знали, что она никогда не спасует и не выдаст. С готовностью помогала всем, что было в ее силах. У нее всегда можно было списать задачи, занять денег, взять учебник и даже пожаловаться на девичьи неурядицы. Она помогала охотно, утешала, давала советы, но при всем этом не теряла строгой выдержанности и сознания собственного превосходства.
Когда она училась в седьмом классе, ей показалось, что пришла любовь. Влюблены были все; она выслушивала рассказы подруг, то восторженные, то полные отчаяния. Она снисходительно утешала их, слегка улыбалась. Любовь казалась болезнью не опасной, но все же причиняющей какое-то раздражение. Любовь, как поветрие, не миновала и ее.
Он учился в десятом классе. Был умен и застенчив. Он писал ей записки, сравнивая ее с далекой звездой, которая не может сгореть, а только ярко сверкает в недоступной вышине. Наконец он отважился и пригласил ее в кино. Они молчали всю дорогу. Ей хотелось, чтобы он был хоть наполовину так красноречив, как в своих записках, но он только глубоко вздыхал, не решаясь взглянуть на нее, и поправлял кепку. Это, наконец, возмутило Марину. По рассказам подруг, любовь выглядела совсем не так. Все прочитанное о любви, о ее радостях и муках совершенно не походило на их молчаливое шествие по темным весенним улицам. Вернувшись из кино домой, она отказалась от ужина, не пожелала ни с кем разговаривать и легла спать. У нее было такое чувство, словно ее обманули.
Утром она послала ему записку: «Прошу больше мне не писать. Отвечать не считаю необходимым». После первого урока он прислал ответ:
О поверь мне, холодное слово Уста оскверняет твои, Как листки у цветка молодого — Ядовитое жало змеи.После уроков она подошла к нему, возмущенная и высокомерная. Откинув назад косу, гордо вскинула голову:
— Я не понимаю. Вы всегда так поступаете?
Он побледнел и сжал губы, как от боли.
— Возьмите ваши стихи. Я не позволю, чтобы смеялись надо мной.
— Это стихи Лермонтова, — пробормотал он.
— Знаю, что не ваши. У вас, наверное, ни одного слова своего нет.
Впервые он прямо взглянул на нее, но, ничего не сказав, ушел. Через несколько лет она увидала его имя в газете и удивилась, что он поэт. Его хвалили. Прочла его стихи о далекой звезде и вздохнула. Нет, он не обманывал ее.
В это время она жила в Москве, работала в издательстве машинисткой и училась на вечернем литфаке. Всякая связь с семьей казалась потерянной. Она писала, ей отвечали, и ничего больше не связывало ее с домом, где прошли детство и юность. Даже фамилия у нее была своя, фамилия отца — Ефремова. Ей казалось, что она совершенно одинока на белом свете. Но вдруг все переменилось — в один день, в один час.
Началась война. Отчим приехал в Москву. Он был уже в военной форме, ехал в часть и зашел к ней проститься.
Она провела с ним весь день и поехала на вокзал провожать.
В этот вечерний час многие провожали на войну своих мужей, сыновей, отцов. Летнее солнце мирно спускалось над городом. Москва таяла в закатной сверкающей дымке. Фиолетовые тени косо лежали на пылающем перроне. Наступила какая-то завороженная тишина, немыслимая в большом городе. Это было величественное прощальное мгновение, когда люди заглянули в свои сердца. Но Марине показалось, что прошло очень много времени. Нельзя же за одну минуту увидеть в человеке то, чего не смогла разглядеть за много лет.
Она впервые прямо посмотрела в его очень ласковые и очень волевые глаза. В них таилась бесконечно добрая усмешка сильного, уверенного в своей правоте человека. Он никогда и никого не уговаривал. Он не уговаривал даже самого себя. Только сейчас это стало понятно Марине.
Он уезжал на войну. На западе уже кипел огненный вал, который потом прокатился по советскому югу и достиг Москвы.
Там был ад, был ужас, и этот человек шел туда, чтобы остановить его. Шел на самое страшное и самое славное.
Как бы поняв, что происходит в ее душе, он бережно положил свои руки на ее плечи.
— Попрощаемся, дочурка, — сказал он мягко.
Марина поняла, что сейчас он не заставлял себя быть нежным. Она прижалась к его широкой груди. Нет, плакать она не станет. Сейчас не станет. Она подняла голову. Он смотрел на нее с печальной нежностью. На его глазах блестели слезы, и он не скрывал их.
— Ничего. Это ничего, дочурка, — говорил он, — это пройдет.
И тогда Марина заплакала, заплакала, как девчонка.
— Я так рада, так рада, — повторяла она.
И он понял ее. Она, наконец, нашла то, чего не хватало ей, о чем бессознательно тосковала всю свою небольшую жизнь. Она нашла искреннюю, родную любовь. Она впервые назвала его отцом.
Ее потянуло домой. Туда, где еще не высохли слезы прощания, где остались мать и сестра. В отчий дом. Марина никогда так не думала — отчий дом. А ведь там жили самые родные люди на земле. Мать, сестра и человек, который всей душой стремился стать для нее отцом. Она не понимала его.
Проводив отчима, она решила ехать домой, но пока собралась, Украина уже запылала в огне пожарищ и враг топтал сады ее детства.
Где они сейчас, родные ее?
ТАЕЖНАЯ СКАЗКА
Настало утро. Не возвестили об этом кремлевские куранты. Взбесившийся ветер порвал, перекрутил все провода; не вспыхнули огни, молчали телефоны. Кругом стоял кромешный ад с дьявольским воем бурана, с летучими вихрями снега и диким стоном тайги.
Но утро все же наступило. Где-то в невидимой высоте вставало солнце.
Марина с рассветом пошла к директору. Дороги, конечно, не было. Она лезла по сугробам, задыхаясь от ветра и снега.
Ее встретил Иван Петрович, у него был такой вид, словно он ждал ее прихода. Открыв дверь, он пригласил:
— Проходите.
В теплой кухне, освещенной маленькой керосиновой лампой со стеклом, заклеенным бумажкой, Марина отдышалась.
Дудник и Корнев, оба в нижних белых рубашках, заправленных в ватные брюки, в валенках, стояли на кухне и ждали, пока она отдышится и придет в себя. И снова ей показалось, что никого не удивило ее появление в такое время.
Еще не понимая, отчего это, она рассказала о Жене. Иван Петрович коротко засмеялся.
— Вот видите, — указал он куда-то в угол, — тоже спасатель!
Марина обернулась, и все ей стало понятным. В углу, на сундуке, сидел Мишка Баринов. Его цыганские глаза вызывающе блестели. Он поднялся и отчаянным жестом кинул шапку на сундук:
— Короче говоря, меня не удержите. Я бы давно ушел, но у меня нет продуктов. Выдайте мне паек на три дня. И для нее тоже. Вот и все. Я вас очень прошу, Иван Петрович, не держите меня.
Дудник снова хмыкнул в усы. Он ходил по кухне тяжелой походкой, словно с трудом волочил за собой свою огромную тень. Корнев по-прежнему стоял против Марины, стараясь рассмотреть ее лицо, белеющее в сумраке слабо освещенной комнаты. Он видел эту девушку в первый вечер на совещании, но сейчас не узнал, и только ее голос напомнил о первой встрече.
— Вам нельзя идти, — тихо сказал он.
— Бывают случаи, товарищ Корнев, когда не существует нельзя. Сейчас такой случай…
— Об этом не может быть и речи, — оборвал ее Дудник, направляясь к двери.
Марина, вскинув голову, прошла мимо Корнева прямая, возмущенная. Она преградила дорогу Ивану Петровичу и сказала негромко, но очень твердо:
— Я не для речей пришла сюда. Вот Баринов все сказал. Надо продукты и лыжи.
И просто, словно сообщала о прогулке в майский вечер, добавила:
— Мы пойдем двое. Одной, конечно, нельзя.
— Вы знаете, что такое тайга, что такое буран в тайге? Я не могу послать вас на верную гибель, — сказал Иван Петрович. Марина снова преградила ему путь.
— Все это мы знаем. И тайга и метель. И дорогу мы знаем. Дайте распоряжение в магазин. Продукты на троих.
Иван Петрович остановился около двери, потянулся сильным своим телом и скучающе зевнул.
Все замолчали. В замерзшие стекла билась пурга и завывала на разные голоса. Казалось, вдоль улицы проносятся нестройные оркестры, составленные из чудовищных инструментов, издающих на лету завывающие звуки.
— Шли бы вы все по домам, — сказал Иван Петрович и вышел из кухни.
Корнев подумал, что он решил выждать, пока утихнет пурга, и готов был согласиться с Дудником, но в это время Марина спросила его:
— Вы тоже так думаете? — Не дожидаясь ответа, она ушла в угол и села на сундук рядом с Мишкой Бариновым.
Теперь Корнев как следует рассмотрел ее лицо с тонкими решительными бровями и крупным строгим ртом. Из-под белых век сухими огоньками блестели глаза. Умная городская девушка. Наверное, была студентка какого-нибудь института или секретарша, он знает этих девушек, очень самостоятельных, выросших без папы и мамы, умеющих заботиться о себе и не терпящих покровительства. Но все же попробовал предостеречь ее:
— Вы не знаете, на что вы идете…
Она словно хлестнула взглядом по его лицу:
— Это не вам говорить.
— Почему? — усмехнулся он.
Она поняла его усмешку. Конечно, ее строптивость смешна. Но она не позволит потешаться над собой.
— Вы всегда так рассуждаете, когда надо спасти близкого человека, просто человека?
«Колючая», — подумал Корнев и ответил:
— Я боюсь, что вас тоже придется спасать.
Она хотела сказать, что должна идти и выручить подругу и сделает это, невзирая на уговоры, но из комнаты вышел Иван Петрович. Марина все поняла и нахмурилась. Она нехорошо подумала о своем начальнике, когда он вышел из кухни. Оказывается, у него уже все решено. А она-то вообразила! Да, она именно вообразила себя героиней. Глупое самомнение. А он знал, что пойдет сам, когда уговаривал ее не ходить. У него все готово к походу. Он был уже одет и на ходу застегивал ватник. За ним появилась Валентина Анисимовна. Она сразу же подошла к печке, где в печурке сушились его рукавицы и шарф. Она достала их и держала в руках, ожидая, когда муж наденет полушубок.
— Вы тоже идете? — спросила она у Марины. — Я думаю, напрасно. Пускай мужчины, это их дело.
— Ну, пошли! — сказал начальник. — Дай-ка, дроля, мой вещевой мешок. Сегодня, может быть, и не вернемся. Виталий Осипович, оставайся тут за меня. Главное, смотри, чтоб пожара не наделали. По общежитиям и квартирам пройдись.
И началось сражение с ураганом. Это был коварный, изворотливый и, главное, неуязвимый враг. Он не шел на них широкой грудью, нет, он метался вокруг, ударял то с одной, то с другой стороны. То налетал сверху, сбрасывая вниз целые сугробы снега, то толкал в спину, сбивал с ног, то ронял сосну, и она падала с отчаянным грохотом, угрожающе раскачивая мохнатыми лапами.
Они шли просекой, где под сугробами была погребена автолежневая дорога. Но разве можно было узнать что-нибудь? Снежный ураган безумствовал в лесном коридоре, потрясая седыми своими космами. Иногда не было видно даже идущего впереди.
Дорогу преграждали поваленные ураганом сосны, сбитые сучья. Их было так много, что люди устали перебираться через них и решили передохнуть.
Иван Петрович, шедший впереди, ударил носками лыж во что-то мягкое. Думал — сугроб, но лыжи дальше не двигались. Оказалось — вздыбленное корневище огромной сосны. Под ним была яма, куда меньше задувал ветер. Там они притаились, тяжело дыша, вытирая мокрые от снега лица.
По всем расчетам, они находились где-то около третьей диспетчерской. Марина посмотрела на свои часы. Было без десяти двенадцать.
— Идем два часа, — сказал Иван Петрович, подымаясь.
— К четырем доберемся! — крикнул Мишка Баринов сквозь грохот урагана.
Он оказался прав. Уже стемнело, когда они вышли на полянку. Здесь где-то должна стоять Женина будка. Они знали, что трудно найти ее под снегом. Как различить, в котором из сугробов погребена диспетчерская?
Они долго блуждали по поляне, проваливаясь в снегу, стараясь не потерять друг друга. Ветер гулял здесь, не встречая препятствий.
— Стойте, — заорал Мишка, — дымом пахнет.
Остановились, потянули носами и пошли по направлению этого знакомого, родного запаха. Дымом пахнет. Таежники знают, что это значит в кромешном снеговом аду.
Пахнет дымом — значит, жив человек, значит, живы будут и они.
Так они нашли сугроб, в котором сидела Женя. Из него сквозь черно-желтую дыру струился легонький дымок.
Мишка отвязал лопату, которую нес за спиной, как ружье, и стал откидывать снег от двери занесенной избушки.
Он остервенело разбрасывал в стороны снеговые комья, которые сейчас же рассыпались в пыль под ударами ветра. Бросал и думал. Думал, что он сейчас похож на сказочного богатыря, который после борьбы с чудовищем нашел свою любимую и теперь борется с последним врагом, чтобы освободить ее. Такую сказку он где-то читал или видел в кино. Неважно. Такая сказка есть, и Женя должна в конце концов понять его чувства.
Он страшно устал, но не захотел уступить лопату Ивану Петровичу, пока не откопал всю дверь. Дернув за скобу, он распахнул ее настежь.
Все как в сказке. Царевна спит в ожидании, пока отважный избавитель не разбудит ее. Спит, истомленная страхом и тоской. Спит прямо на полу, у печурки, и во сне судорожно вздымается грудь, вздрагивают губы.
Уже нет в избушке ни стола, ни табуретки, ни топчана, — все пошло в печку, даже несколько половиц изрубила Женя и сейчас спала, утомленная переживаниями. Ее разбудили. Ничего не понимая, Женя глядела на заснеженные фигуры, думая, что все это — сон.
Мишка сорвал с себя шапку и бросил ее па пол.
— Женя, — сказал он тихо, — вот мы пришли.
Наверное, никакой сказочный Иван-царевич не получал такого бурного, такого горячего поцелуя, какой пришелся на цыганскую Мишкину долю. Он захлопал глазами и растерянно улыбнулся. Но переживал он зря: ничего больше ему не досталось.
В это время Женя с радостными воплями целовала Марину и Ивана Петровича, растопив лед на его усах жаркими своими слезами.
— Дорогие мои, золотые! — причитала она. — Мариночка! Иван Петрович, я обязуюсь, я обещаю — я теперь никогда на дежурстве спать не буду. Мишечка мой, цыганеночек!
— Плачешь? — спросил ворчливо Иван Петрович. — Зачем осталась? Наделала хлопот. Почему не приехала с последней машиной?
— А как же я могла самовольно?
— Как самовольно? Приказ был всем ехать!
— Так, Иван Петрович, провод же порвался сразу. Мне только и успели сказать, чтобы скорее снять грузчиков. А пока я бегала на биржу, машина ушла. Не могла я просто так убежать, себя спасти.
— Да? — удивленно поднял на нее глаза Иван Петрович. — Вот ты какая! Ну, ладно. Молодец!
Возвращаться обратно и думать нечего. Надо устраиваться на ночлег. Иван Петрович и Мишка вышли, захватив топоры. Они нарубили дров, чтобы хватило на целую ночь. На обратную дорогу у них уже не хватило бы сил, да и не успеть засветло.
После ужина легли спать. Кому-то надо было сидеть у печурки, поддерживать огонь, иначе все замерзнут. Женя вызвалась дежурить в первую очередь. К полуночи она должна разбудить Мишку.
Но будить его не пришлось. Выждав, когда все уснули, он поднялся и сказал, что спать он все равно не хочет, лучше посидит с ней. Женя, подвинувшись, уступила ему место около себя. Они сидели рядом, прикрыв плечи Жениным кожушком, и он рассказывал ей сказку о богатыре и спящей красавице.
— Я знаю, — сладко зевнув, сказала Женя, — это сочинил Пушкин. Хорошая сказка.
Мишка засопел от огорчения. Он обиделся не столько на то, что сказка уже известна Жене, сколько на равнодушный тон, каким это было сказано.
Он хотел обнять ее, но она строптиво отодвинулась от него:
— Ф-фу! Если ты будешь так, я пойду спать. Сиди один.
Скрипнув зубами, Мишка схватил ее за руки. Она вырвала их и быстро встала:
— Нельзя. И не надо. Я Ивана Петровича разбужу.
Кончилась сказка. Над головой, невидимая и злая, гудела пурга, стонали сосны. Трещали в печурке дрова, и в жестяной трубе гудело пламя. Вцепившись в черные волосы смуглыми от машинной копоти и масла пальцами, Мишка раскачивал отчаянную свою голову, словно хотел оторвать ее.
Жене стало жаль его, но еще больше себя. Что за несчастная она такая? Почему влюбляются в нее вот такие, обыкновенные, ничем не выдающиеся парни? Влюбляются и страдают.
— Мишка, — сказала она, страдая в свою очередь, — не надо. Мишка. Все равно ничего у нас не получится. Кончится война, и мы разлетимся в разные стороны. И никогда я тебя все равно не полюблю.
— Бессердечная ты, Женька.
— Ой, неправда, Мишка!
— Бессердечная.
— Ничего ты не понимаешь.
— Ты все в героев влюбляешься. Так ведь это, сама знаешь, глупость. На месте буксуешь, а тут живой человек погибает.
— Я сама погибаю…
— Опять герой?
— Герой, — восторженно согласилась Женя.
— Сколько писем написала?
Женя скорбно покачала головой.
— Он мне стихи читал.
— Кто он? — ревниво спросил Мишка.
— Ах, Мишка, тебе-то что!
— Стихи тебе сочиняет?
Женя молчала. Мишка яростно шуровал в печурке искривленным сучком.
— Скажешь — кто?
— Нет. Про сосну стихи, про север, — мечтательно шептала Женя.
Мишка тяжело вздохнул. Бросил сучок в печурку и поднялся.
— Так. Герой, и стихи сочиняет. Ты скажи ему, пусть на моем пути не попадается! В тайге дорожки узкие.
— Дурак ты, Мишка, — рассмеялась Женя и ушла в угол, где спала Марина. Оттуда сказала:
— Лермонтов стихи сочинял.
— Тебе?
— И мне тоже.
— Ну и дура, — рассмеялся Мишка, блестя горячими глазами. — Лермонтов-то умер, может, сто лет прошло с тех пор.
— Много ты понимаешь! Лермонтов никогда не умрет. Ах, Мишка, ничего ты не понимаешь.
— Зато ты все поняла. Лермонтов!
Мишка снова сел около печурки. Отблески пламени снова заиграли на его бронзовых щеках. В темной избушке, заваленной снегом, отрезанной от мира, воцарилась тишина.
Гудит пурга, трубя в печную трубу. Пылает в жестяной печурке огонь, согревая людей, победивших таежную слепую злобу. Несмотря ни на что, люди живут, любят, страдают, борются и побеждают.
Это и есть сказка, которой не будет конца.
СЕРДЦЕ
Проводив Ивана Петровича, Корнев ушел в свою комнату. За стеной озабоченно вздыхала Валентина Анисимовна.
Скоро она уснула. Корнев слышал ее ровное дыхание, стоя у теплой печи.
Нет, ему не холодно. Не зажигая огня, он долго стоял, прислонясь спиной к теплым кирпичам, курил и думал о девушке.
До сих пор единственной девушкой для него была Катя. Невеста. Первая любовь и первое горе. Сердце, обожженное ненавистью, — есть ли в нем место для любви? Он думал, что нет. Или эта любовь была так велика, что даже мстить за нее являлось целью жизни? Так было до сегодняшнего утра. Пришла девушка, сказала ему несколько злых слов и ушла в тайгу. Она ушла, и Корневу показалось, что он забыл о ней.
Наступал день; стоя у горячей печи. Корнев вспомнил о Марине и с удивлением заметил, что, оказывается, все утро он думал только о ней.
Вот и сейчас она стоит перед ним в своем белом кожушке и пуховой шали, туго завязанной сзади. Он видел ее пылающее от мороза лицо, строгие глаза под тонкими недоуменно поднятыми бровями, плотно сжатые губы — такой он запомнил ее. Запомнил, с каким укором прозвучал ее вопрос:
— Вы всегда так рассуждаете, когда надо спасти человека?
Наверное, у нее, у этой девушки, — кажется, ее зовут Марина, — тоже есть горе, причиненное войной. Конечно, есть. У кого его сейчас нет? И Петров, и Гриша Орлов, и многие другие, кого он знал, переживают то же, что и он. Но от этого жизнь не утрачивает главной своей прелести — любви.
Любовь к родине, к борьбе, любовь женщин и мужчин не исчезает, наоборот, она делается выше, чище. Как он раньше не понимал этого? Он хотел жить только для мести за свое поруганное счастье.
Он оделся и вышел на кухню. Там по-прежнему горела лампочка со стеклом, заклеенным обгоревшей бумажкой. Сколько времени прошло с тех пор, как они ушли отсюда? Наверное, немного. Вон еще у порога темные пятна от растаявшего снега, что Марина принесла на своих валенках. Прикурив от лампочки, он сел на табуретку около кухонного стола. Пурга гудела за окном, тихонько, но упорно постукивая ставней, как настойчивый посетитель, давая понять, что он не уйдет так просто.
Корнев не мог больше оставаться в бездействии. Надо идти, надо что-то делать. Стараясь не шуметь, он надел свой белый армейский полушубок, шапку и тихо вышел из дома. Пурга сразу подхватила его, накручивая вокруг серое свое месиво из снега и ветра. Вырываясь из одного смерча, он тут же попадал в другой, но продолжал идти, упрямо преодолевая снеговые налеты и удары ветра.
Так же, наверное, шла сейчас она, та девушка, прикрывая лицо платком и глядя вперед жесткими глазами. Да, какие у нее глаза — голубые или черные? Конечно, это не имеет никакого значения. Она смотрела на него несколько секунд, и этого оказалось довольно, чтобы ворваться в его сердце, опустошенное горем и злобой.
У них общее горе. Горе всей страны. Иначе быть не может. Надо идти, как пошла она, надо делать, нельзя сидеть. Нельзя успокаиваться.
В снежной мгле он столкнулся с человеком. Тот, придерживая шапку рукой, шел, пробиваясь сквозь взбесившийся снег, и ударился в плечо Виталия Осиповича.
Узнав лесоруба Тараса Ковылкина, Виталий Осипович махнул ему рукой. Они пошли рядом.
— Я к вам иду! — кричал Тарас, склоняясь к плечу инженера. — Это верно, что она ушла?
Корнев повернулся к своему спутнику. Снежный поток ударил в глаза. Он поспешил снова подставить ветру спину и, не отвечая, продолжал путь. Оцепеневшие от стужи, занесенные снегом лесовозы напомнили ему военные поля и дороги, где так же стыли в снегах трупы машин.
Отыскав дверь, они вошли в темный гараж. Здесь стояли две машины. На крыле одной горел керосиновый фонарь, освещая руки человека, который ключом отвинчивал что-то в моторе.
Корнев узнал Гришу Орлова. Шофер солидно, явно подражая своему приемному отцу, поздоровался и доложил, что эти газогенераторы всегда забиваются от копоти, но он от своей машины не отступится. Сегодня прочистит все и вообще он ручается за нее: до конца войны дотянет. Сейчас фашистов здорово бьют и скоро добьют. За это он тоже ручается.
— Вы, товарищ Корнев, много этих фрицев побили?
Поговорили о фрицах, о войне, о вражеских городах, занятых нашей армией, и еще раз о машине. И тут Корнев вспомнил о Тарасе Ковылкине. С того дня, когда они вместе валили лес, у них сразу установились приятельские отношения. Что-то он говорил про Марину.
Лесоруб, прихрамывая, прошел за Корневым в его КП. Только сейчас Виталий Осипович заметил хромоту Тараса и спросил, что с ногой.
— Да это давно, — рассеянно ответил Тарас. — Еще с финской. Отморозил обе ноги. Вот и воюю в тылу.
Виталий Осипович зажег коптилку.
Тарас сел напротив технорука, достал кожаный кисет, и они, свернув из газетной бумаги самокрутки, закурили.
Вьюга гудела за окном.
Тарас сказал:
— А они в тайге. Идут.
— Идут, Тарас.
— И она с ними. Не надо ей-то.
Корнев изумленно и строго глянул на Тараса. Тот, разглаживая кисет своей большой рукой, смотрел куда-то себе под ноги. Он был похож на человека, который ничего не видит, прислушиваясь лишь к тому, что происходит в нем самом.
— Нельзя так рассуждать, когда надо помочь человеку, — ответил Виталий Осипович, думая о Марине. Вот Тарас тоже думает о ней и, вероятно, с большим на то основанием.
Так, думая об одном и том же, они докурили самокрутки. Никто не спешил начать разговор.
— Закурим, Тарас, — предложил Виталий Осипович, вынимая свой кисет, фронтовой подарок, — еще раз закурим.
Не торопясь, скрутили папиросы. Вспыхнул огонек зажигалки.
— Интересная у вас машинка, — хмуро сказал Тарас.
— Подарок. В лазарете получил. На память.
Дымок слоистым облачком поднимался к потолку. Виталий Осипович спросил, кивнув головой на окно, завешанное снежной мглой:
— Надолго, как думаете?
Глядя в пол, Тарас хмуро ответил:
— А кто ж знает.
Снова замолчали. «Что ему надо? Зачем пришел ко мне?» — подумал Виталий Осипович.
Может быть, этот парень тоже носит в себе, в сердце своем, какую-нибудь беспокойную боль? Но Тарас очень сдержан, замкнут, подтянут, словно в строю.
Заговорили о фронте. Тарас прослужил в армии два года, воевал один месяц. До армии учился, валил лес на Каме и гонял плоты. Родителей не знает, вырос в детском доме, а еще раньше беспризорничал. Учился немного, семилетку кончил, собирался в техникум, но война смешала все планы и загнала его сюда, в северные леса. Положим, это не так далеко от Камы.
— Что ж здесь? — спросил Виталий Осипович. — Здесь тоже работать можно. Здесь надо работать, Тарас.
Тарас ответил, не поднимая головы:
— Я и работаю.
Он шевельнул своими широкими ладонями с крепкими пальцами, давая понять, что с такими руками он вполне надеется на себя.
— Это правильно, Тарас, рабочему человеку везде хорошо. Вы с Мартыненко знакомы?
— Видел летом на слете стахановцев. Тогда он ничем особенным не отличался.
— А теперь отличился?
— Ну не всем же, — неопределенно ответил Тарас и вздохнул. Вздохнул и Виталий Осипович:
— О чем зажурился, солдат?
— Это никакого отношения, к делу не имеет, товарищ Корнев, — поднял вдруг голову Тарас. — У каждого своя болезнь.
— С болезнью к доктору идут. А вы ко мне пришли.
Виталий Осипович внимательно посмотрел на лесоруба. Нет, не тяжесть горя лежит на его сердце. Тарас чего-то не понимал. У него был вид человека, которому задали неразрешимую задачу. Широкой ладонью он сдвинул голубую кубанку на затылок.
— А они все еще идут, — сказал он вдруг.
— Вы за нее беспокоитесь?
Тарас помрачнел, трудно дыша, ответил:
— Это к делу не относится.
— Ну ладно, Тарас. Потолкуем о деле. Я с вами хочу говорить как старший товарищ, как член партии.
— Я беспартийный.
— Мы с вами фронтовики, — не слушая возражений, продолжал Корнев, — кроме того, оба — лесорубы. Надо отвечать Мартыненко. Его метод работы вам известен?
— Известен, — досадливо отмахнулся Тарас. — Ничего мудреного нет. В тайге все методы на горбе держатся. У кого хребет здоровый, тот и прав.
— Не нравится мне этот разговор о хребте, Тарас. Недостойный разговор. Вот кончится война, в лесу как на заводе будет. Да и сейчас можно много нового придумать. Вы опытный лесоруб, не может быть, чтобы вы о работе не думали. Что же, у вас и мыслей никаких нет?
Тарас усмехнулся, шевельнул могучими плечами.
— Должно быть, есть.
Виталий Осипович встал из-за стола и подошел к лесорубу, отчужденно сидевшему на табуретке.
— Вот ведь какой вы, Тарас. Сила есть, и голова на плечах тоже есть, а простой вещи не понимаете. Одной силой не проживешь. Думать надо. Хребет у Мартыненко не железный, а он по четыре да по пять норм дает. Вот и скажите, в чем дело?
Он ходил по тесной комнатке, а Тарас скучным голосом говорил:
— Я к Мартыненко кланяться не пойду. Мне и не надо это. — Хмуро помолчав, он тоскливо поглядел в окно и вдруг пошел к двери.
— Счастливо оставаться.
— Подождите, Тарас.
Открыв дверь в гараж, Тарас через плечо взглянул куда-то в потолок.
— Вам из армии уходить, с фронта легко было? — спросил он.
И Корневу показалось, что Тарас открыл перед ним ту непонятную тоску, которая все время сковывала его волю. Он подошел к лесорубу, положил руку на крепкое его плечо и задушевно сказал:
— Нелегко, Тарас. Очень нелегко. Так же, как и всем.
Он потянул его к себе и закрыл дверь.
— Хотите, я расскажу, почему я вынужден был уйти с передовой? Как солдат солдату.
Трудно рассказывать спокойно о своем горе, перед которым отступил, теряя мужество. Перед врагом не отступал, а вот горе заставило поднять руки. Стыдно признаваться в этом, но, если признаешься, легче подавить горе, заставить себя служить интересам дела, которое надо поставить выше всего, выше личных неурядиц.
— Работа всякую беду лечит, да не сразу, — согласился Тарас.
Вьюга бьет в окна, наваливается белой, безглазой, слепой силой на стены, гремит по крыше, угрожающе трубит и воет в печи. И сидят два человека, два солдата и говорят о своих сердечных делах.
— Вот и у меня тоже, — неожиданно мягким голосом заговорил Тарас. — Я на северный фронт попал. Надо было лесок один прочесать. Пошли. Прошли. А на самом краю, на опушке, нарвались на засаду. Постреляли, поколотили финнов и сидим. И вот к вечеру атаковал нас противник превосходящими силами. Отбили. Снова атаковал, снова отбили. Дело знакомое. За один вечер двенадцать атак. Наших всех повыбило. В снегу лежат, застеклянели от мороза. Остались мы двое. Сержант Сергунин да я. Держим оборону. А когда темнеть стало, сержант спрашивает: «Цел?» Цел, говорю. Все равно, говорю, не отступим. Лес-то фашистский, а сосна, которую обороняем, наша. И будет нашей до конца моей жизни. Сосна. Во всем лесу одна сосна, за которой мы с сержантом залегли. Снова атака. Смотрим, редко стреляют, тоже, видать, мало их осталось. Да и куда стрелять? Лес, темень. А нам на снегу в чистом поле хорошо видно. Так и держали оборону целую ночь. Утром наши подошли. Сержанту обе ноги в госпитале отрезали, а я вот пальцы потерял да пятки чего-то повредил. Вот так и отвоевал без смысла и без славы. Подумаешь иногда, и нехорошо станет.
— Ну так вот, Тарас. Одна у нас с вами кручина и одна доля. С передовой попали в тыл?
— Попали, товарищ майор.
— Попали, солдат. А теперь перед нами задача: снова на передовую вернуться.
Тарас посмотрел на Корнева. Шутит инженер?
— Я не шучу, Тарас, — сказал Корнев. — Идет беспощадная война за коммунизм. И снова я командир, а вы солдат. И вот мой приказ: выходи на передовую и наступай, без отдыха наступай, за каждую сосну бейся. А почему не в партии?
— Не заслужил. Ничего я еще не заслужил, — с горечью сказал Тарас.
— Заслужишь, — твердо пообещал Корнев. — Ты еще все заслужишь, что человеку положено. И гордость, и славу, и почет.
Тарас встал и, протягивая широкую ладонь, несколько торжественно сказал:
— Я все это очень хорошо понимаю. С Петровым сегодня говорил, с парторгом. Он меня к вам послал. Я об этом столько передумал, а начать с чего, не знаю.
— Ну вот, садитесь и подумаем, как нам овладеть этой высотой. У меня есть такие соображения…
ОГОНЬ
Последние стон и грохот прокатились по тайге. Словно гигантская ладонь провела по вершинам сосен, примяв их огромные шапки.
Еще раскачивали сосны, утомленные борьбой, косматые лапы свои, еще кружились в серых вихрях обломки сучьев, но уже стихал ураган.
Он уползал на запад, тихонько подвывая, обессиленный и уже не страшный.
В избушке спали. Дежурила Марина. Скучающе глядя в огонь, она вспомнила о Корневе, и это уже не впервые. Он был очень настойчив, этот призрак чужого человека. Ее удивляли его частые посещения, но она не закрывала дверь. Ходит — ну и пусть ходит. Она даже улыбнулась, недоумевающе подняв тонкие брови.
Вот он вошел снова в тихий покой ее мыслей. Такой, каким она видела его, — резкий, стремительный, беспокойный.
— Мы еще поговорим с вами, — сказала она, обращаясь к своему назойливому гостю. — Зачем, я и сама не знаю, но чувствую — надо.
Она подложила в печурку дров. Сухие поленья загорались в ее руках, едва коснувшись пылающих углей. Огонь голубой струйкой с золотым гребешком бежал по желтым поленьям к ее рукам. Очень ласковые на взгляд струйки, но как опасны их прикосновения. Все дело в том, чтобы вовремя отнять руку. Это ей вполне удавалось. Огонь заливал дрова горячей позолотой, отбрасывая на стены избушки трепетный свой отсвет.
Ей надоело безделье. Она взяла вышивку, над которой трудилась Женя в часы своего дежурства. Голубые васильки на золотистом фоне неправдоподобных колосьев. Мужская рубашка. Кому это она вышивает? Неизвестному очередному герою? Чудачка эта Женька.
Марина взяла иголку и начала вышивать. Она ошиблась и вышила два василька одним светло-голубым шелком, а надо чередовать: светлый, темный. Если Женя захочет, может спороть и вышить снова; но тогда надо вышивать третий светлый василек, чтобы темный оказался на месте, между светлыми. Все-таки интересно: для кого она старается?
Марина так увлеклась, что не заметила затишья, наступившего в тайге. Проснулся Иван Петрович.
Он поднял взлохмаченную голову. Усы, такие же растрепанные, и небритый подбородок делали его непохожим на самого себя, всегда опрятного и подтянутого.
— Слышите? — насторожился он. — Затихло.
И в самом деле — тишина стояла в тайге. Огонь ровно гудел в трубе. Пурга кончилась так же внезапно, как и началась.
— А ну, зимовка, просыпайся, — скомандовал Дудник. — Кончай ночевать!
Дверь, занесенную снегом, пришлось рубить топором, потом пробивать лопатой выход в сплошном сугробе. Женя взяла лыжи, принесенные для нее.
К полудню они уже подходили к поселку, утонувшему в снегу. Стояла тишина. Было очень тепло, словно вьюга выдула весь мороз.
Первый, кого встретили, был парнишка лет десяти, в большой шапке, то и дело съезжавшей ему на глаза. Он деловито орудовал большой лопатой, прокапывая тропку от женского общежития к дороге.
Иван Петрович остановился:
— Малец, ты чей?
Парнишку звали Ромка. Он воткнул лопату в снег и обстоятельно доложил, что все взрослые ушли на расчистку автолежневки. Корнев поднял всех в три часа ночи. Школьники тоже не отстают и в первую очередь делают дорогу от женского барака к детскому садику, чтобы малыши могли пройти. А то они сидят одни в своих общежитиях и ревут. Не совсем одни, к ним из детского садика пришли, но они уже такие, эти малыши…
Ромка вытер рукавичкой нос, ожидая вопросов, но все было ясно: Корнев знал свое дело. Сегодня будет пробита дорога в тайгу, можно надеяться, что мартовский план вытянут.
Приказав своим спутникам отдыхать. Дудник пошел домой.
От гаража доносился шум работающих моторов. Шоферы разогревали машины. На столбы, лязгая когтями, лезли монтеры.
Поселок проснулся от вынужденной спячки.
Дома никого не было. Ключ лежал в условленном месте, над косяком. На столе лежала записка: «Залётка, ушла на работу. Вернусь вечером. Завтрак в печке. Сухие носки и портянки в печурке. Белье, если надо, сам найдешь. Валя».
— Все правильно, — улыбнулся Иван Петрович и, раздевшись, начал бриться. — Зарос, как черт лесной. Дроля бы увидела — испугалась.
И он улыбнулся, вспомнив жену свою, неунывающую, неустрашимую во всех случаях жизни.
«Надо бы ребят накормить, — подумал он о своих спутниках, — столовая уже закрыта. Эх, не догадался!»
А спутники его, вернувшись, прежде всего ощутили теплую радость от того, что вырвались из снегового плена. А дом, какой бы он ни был, всегда дом.
Мишка даже в общежитие не зашел. Нечего там делать. Спать он не собирался, есть тоже не очень хотелось. Он пошел прямо в гараж, к своей тридцатке, и дотемна провозился около нее со сменщиком. Разожгли под машиной костер, чтобы согреть мотор, и присели у огонька.
Оба молчали. Вспоминая избушку, где просидел рядом с Женей несколько малоутешительных и ничего не обещающих часов, он снова загорелся ревностью к неведомому Жениному вздыхателю. Узнать бы, кто этот неизвестный соперник. Поговорить бы с ним в темном углу.
Тут подвернулся Гольденко. Он слонялся около машин, стараясь не попадаться на глаза начальству. Мишка спросил у него:
— Ты там, в будке, часто околачиваешься. Не замечал, кто ей стихи читает? Лермонтова?
— Кому читает? — спросил Гольденко. — Их, будок-то, не одна. Их пять.
— Не крутись. Про пятую будку спрашиваю.
— В пятой? Там действительно… Марина по всем ночам книгой занимается. Конечно, по молодости все понять стремится. Ну, значит, промеж нас всякие научные высказывания происходят… — не спеша повествовал Гольденко, кося испытующим глазом на слушателя.
Мишка вздохнул.
— Так это было когда? До пересмены. А сейчас, действительно, Женя там. Как, говоришь, фамилия, который со стихами? Ага. Лермонтов?
Задумался Гольденко, потирая свой конусообразный подбородок.
— Как тебе сказать? Знаю. Так себе человек.
— Где он? — допытывался Мишка.
Гольденко подозрительно посмотрел на шофера. После случая с Александром Македонским он стал опасаться подвоха. Нет, лицо Мишки, скорбное и унылое, не внушало опасения. Он спросил на всякий случай, о каком Лермонтове речь, их, может быть, не один?
— А ну тебя. Мишка махнул рукой:
— Знаю одного. Этот парень ничего. Герой. Он у нас на Шито-Хеза багажным раздатчиком служил. Ну, конечно, потом выдвинулся. Одной рукой пятипудовые мешки бросал.
Мишка смотрел в ясное небо и думал о Жениных глазах. Такие же они ясные и голубые, и так же равнодушно взирают они на его, Мишкины, страдания.
Гольденко, увлекшись, продолжал врать, но Мишка не слушал. Он смотрел на пустое мартовское небо, и сердце наполнялось злым огнем…
…Женя и Марина, добравшись до своей комнаты, переоделись, умылись, съели холодный завтрак, приготовленный для них подругами, и перед сном немного посидели, поговорили.
Разглаживая пухлыми ладонями вышитые васильки, Женя вздохнула.
— Это кому? — спросила Марина.
Женя снова вздохнула так жарко и бурно, что Марина снисходительно рассмеялась:
— Опять неизвестному герою?
И Женя рассмеялась:
— Теперь уже известный.
Марину насторожил ее торжествующий смех. Она сказала, стараясь сохранить снисходительный тон:
— Ты, Женька, умнеешь не по дням, а по часам.
— Ох, Мариночка! — простонала подруга.
Потом она легла спать и уснула моментально. Задумчиво глядя в потолок немигающими сухими глазами, Марина снова увидела настойчивого своего посетителя, беспокоящего ее мысли. Встретила и улыбнулась: «Ну, что ж, входите, все равно я одна и, кажется, ожидаю вас». И тут же предупредила: «Но я не стану так вздыхать, как Женя, от меня не дождетесь голубеньких васильков, какие готовит она для своего уже известного героя. Имейте в виду — вы для меня не так-то скоро сделаетесь известным героем. Это трудно. И мне трудно и вам. А пока входите».
ВЕСНА
Нигде с такой робостью, с такой девичьей нежностью не ступает весна, как по таежным темным тропам. Еле заметны и преисполнены чудесной тайны ее приметы. Еще глубокие лежат снега, еще горячее человеческое дыхание белым облачком свертывается в холодном воздухе, а солнечные лучи уже рассыпают по пушистому снегу колючие, острые искры.
Солнце высоко поднимается над тайгой. А давно ли оно, бледное, зябко кутаясь в морозные туманы, проплывало, поднимаясь не выше верхушек сосен.
И вдруг — услыхал Тарас — глубоко вздохнула тайга. Он подходил к дому, возвращаясь с работы. Остановился на крыльце. Тишина. Хорошо покурить и подумать в тишине. Безмолвно стояла тайга, обступив поселок со всех сторон.
И вот в черной глубине тайги глухо ударилось о снег что-то тяжелое. Повторенный эхом, удар прозвучал как вздох.
Тарас улыбнулся в темноте — весна. Он как бы увидел: отяжелевшая за день под солнцем снеговая шапка сорвалась с сосны. И вот освобожденно вскинулись затекшие от усталости ветви. Снег свалился с зеленой вершины, как камень с сердца.
Камень на сердце. Вот и у него на сердце холодная тяжесть. Надо, чтобы очень разгорелось сердце, — тогда подтает она, тяжесть эта, и найдется сила сбросить ее.
«Камушек», — подумал он о Марине. Вспомнил о работе и тоже подумал: «Камушек».
И что там придумал Мартыненко? Двадцать кубиков на лучок — это не так-то просто. Да, тут одним хребтом не возьмешь. По рации передали — звено Мартыненко. Что это за звено, какая у них расстановка? Иван Петрович уехал в трест, обещал узнать, в чем дело. А дни идут.
Тарас бросил папиросу и вошел в общежитие.
Юрок ждал его, сидя на койке. Этот паренек полюбился Тарасу с первого дня. Маленький, неутомимый, верткий — настоящий вьюрок — таежная бойкая птичка. Однако силенкой не обижен и так же одинок, как и Тарас. Вырос в колхозе, выучился в семилетке, прислали его на сезон, а он так и прижился в леспромхозе. Хороший будет лесоруб.
Юрок сказал:
— Я так думаю, Тарас: звено у него человека три.
Тарас, не отвечая, присел около своего помощника. Из кармана старой гимнастерки достал бумагу. Развернул.
— Вот. С инженером вдвоем думали. Вот эта делянка. Первый номер на подготовительных работах…
По расчетам выходило: звено — из четырех человек. Юрок не соглашался.
— Много. По пять кубиков.
Долго не могли заснуть. Юрок поднимал голову. Прислушивался.
— Тарас, не спишь? А я думаю…
Тарас не отвечал. Но Юрок видел — не спит лесоруб. Хотел снова позвать его, но Тарас приказал:
— Спи.
Юрок снова начал думать. Ему показалось, что он нашел правильное решение, начал снова считать и неожиданно уснул.
А когда Тарас проснулся в семь утра, соседняя койка была пуста.
— Вот беспокойный, — усмехнулся Тарас, собираясь на работу.
Не оказалось Юрка и в столовой. В инструменталке сказали, что Юрок не заходил, как всегда, чтобы взять пилы.
Юрок исчез. Тарас, никому не сказав об этом, поехал в лес…
Было темно, когда Виталий Осипович вышел из дому. В гараже и около него малолюдно. Теперь шоферы принимают машины от своих сменщиков прямо на трассе, у заправочной, возле диспетчерской — нововведение, которое экономит дорогое время. Машины заходят в гараж только на ремонт.
На попутной машине он поехал в лес. До обеда пробыл на делянках и лесной бирже.
Шоферы, приезжая на биржу, жаловались, что на лесозаводе машины задерживаются под разгрузкой. Виталий Осипович поехал на завод. Действительно, у третьей пилорамы стояли две машины. Одна разгружалась, другая ждала очереди. Пилостав — маленький сморщенный человек — суетливо объяснил Корневу, в чем дело. Первая и вторая пилорамы завалены лесом, к четвертой дорога настолько разбита, что шоферы не рискуют сворачивать на нее. Ремонтировать дорогу некому. Когда нет погрузки, грузчики за отдельную плату ремонтируют дороги.
— А сегодня подали тридцать вагонов, пришлось снимать людей с дороги и направлять на погрузку. Не хватает рабочих.
— Где завбиржей?
— На погрузке.
Корнев распорядился весь лес направлять на погрузку. И посоветовал остановить пилы на час и исправить дорогу.
— А шпалорезку тоже остановить? Там срочный заказ на переводный брус. Шпальник плохо везут или нет в лесу шпальннка?
Сказав, что шпальник есть на лесном складе, что надо с вечера давать заявку на материал, а шпалорезки ни в коем случае не останавливать, Виталий Осипович пошел по линии узкоколейки к месту погрузки.
Отсюда лес шел на запад, в освобожденные районы. Кругляк, шпалы, брусья, доски, сноса шпалы, шпалы и шпалы нескончаемым потоком идут на запад.
На железнодорожной ветке, протянувшейся через всю биржу, стояла вереница вагонов. Здесь были и открытые платформы, и громадные пульманы, и угольные гондолы — все, в чем можно было возить, подавалось на биржу.
Грузили шпалы. Двое «наливали»: подхватив из штабеля тяжелую шпалу, они опускали ее на плечо грузчика, тот нес ее по шатким сходням и с грохотом бросал в вагоны.
Круглый лес — огромные сосновые кряжи, баланы, как называли их тут, — накатывали по длинным покатам на платформы.
Неторопливо шла работа. Несколько человек сидели у костра — перекур. Корнев подошел к ним. Один из грузчиков — высокий, худой, в черной с зелеными кантами фуражке, отодвинулся, давая место техноруку.
Он присел к костру. Грузчики молчали. Чтобы начать разговор, Корнев спросил;
— Как дела?
На что один из них односложно ответил:
— Да так.
— Дела наши все на виду, — пояснил тот, который дал Корневу место у костра, — не блестят у нас дела.
Выяснилось, что положение и в самом деле не блестящее. Люди работают уже вторые сутки, а на станции еще пятнадцать вагонов дожидаются. Вся работа идет насмарку. Леса много, вагонов много, а людей не хватает.
Огромная площадь лесобиржи завалена лесом. Вдоль железнодорожной ветки тянулись нескончаемые штабеля круглого леса, шпал, бруса. Отдельно высятся пиломатериалы: доски всех сортов и размеров аккуратно сложены огромными кубами, блистая нежными желтовато-розовыми оттенками свежей древесины. Штабеля образуют целые улицы и кварталы. А лесозавод выбрасывает все новые и новые партии досок, шпал, брусьев, и все это лежит на бирже, ждет отгрузки.
— Да, незавидные дела.
— Где Логунов? — спросил Виталий Осипович.
— Да где ж ему быть? Тут ходит. Биржа-то что город, только трамваев нету, — лениво отозвался один из грузчиков.
Его перебил другой, высокий:
— А ты языком-то не шлепай. Вон он, Логунов, по шпалам лазит.
Поднявшись во весь свой рост, высокий зычно крикнул:
— Логунов!..
Заведующий биржей Логунов стоял на платформе, высоко груженной шпалами. В голубом небе четко рисовалась его широкая фигура. Услыхав, что его зовут, он не спеша спустился вниз и неторопливой походкой, переваливаясь на коротких ногах, подошел к костру.
Он был небольшого роста, но чрезмерно широк в плечах. Сколько ему лет — определить невозможно: может быть, сорок, а может быть, и все восемьдесят. На лице, задубленном морозами, немного морщин, седые жесткие волосы бороды топорщатся во все стороны, как на еже. Глазки быстрые и блестящие под редкими седыми бровями.
Он подал Корневу узластую, похожую на цепкое корневище руку и вместо приветствия звонко закричал:
— Вы что же, начальник, куда глядите? Народу-то нет. Грузить кто будет?
— Надо было раньше подумать об этом, — раздраженно перебил Виталий Осипович.
— Раньше? Раньше погрузки такой не было. Это мартовский план. Чего всю зиму грузили? 10–15 вагонов в сутки. А сейчас — пятьдесят, да и то мало… Тут одной головой ничего не придумаешь.
— Кабы баланы-то сверху катать, — сплюнув в костер, вставил свое слово пожилой грузчик, — а то ведь в гору! Сколько в нем пудов-то?
— Иной балан всей бригадой вкатываешь, — добавил другой.
Корнев живо обернулся к грузчикам:
— А что, если в самом деле сверху вниз? Вот с этого штабеля по лагам. А?
Все посмотрели на штабель. Пожилой усмехнулся.
— А на штабель-то их кто закатит? Опять мы. Нет, здесь, если хотите знать, без машин нельзя. Это не работы, а позорный факт. Один вагон полдня грузим.
Он сплюнул в огонь и скомандовал: «Пошли, ребята!» Встал и направился к вагону. За ним дружно поднялись грузчики.
Поговорив с заведующим биржей, Виталий Осипович повторил свое приказание о ремонте дорог и спросил, давно ли он здесь работает. Оказалось, давно.
— У меня есть одно предложение, — подумав, сказал Корнев. — Грузчики правильно подсказали. Дело вот в чем…
Он присел на корточки и на сыром предвесеннем снегу начертил несколько линий.
— Ага. Эстакада, — сразу понял заведующий биржей, присаживаясь напротив.
Потом оба поднялись и принялись обсуждать, какой должна быть эстакада.
— Это дело стоящее, — горячился Логунов, — и давай ты, Виталий Осипович, скорее все рассчитывай! Такую погрузку на горбу не поднимешь. Не старые времена, чтобы горбом гордиться. Медведь здоров, а что толку…
ЮРОК ВЕРНУЛСЯ
Иван Петрович возвращался домой. Выехал он рано утром, когда еще в темном небе горели высокие северные звезды. Широкие, расписанные белой и красной краской сани легко скользят по накатанной, промерзшей к утру дороге. Звонко бьет подковами черный жеребец и фыркает от крепкого предрассветного мороза.
А Ивану Петровичу жарко. Он сидит широко расставив ноги и распахнув шубу. В тресте его здорово потрепали за план. И правильно. Хвалиться нечем. Выполнять план это не доблесть в наше время, а перевыполнить не хватило пороху. Верно, для одобрения, должно быть, отметили, что за последнее время «наметились сдвиги».
Дудник заматывает вожжи за передок саней и закуривает. Да, сдвиги, как говорится, наметились. Может быть, даже в апреле леспромхоз вновь станет передовым и знамя им привезут и повесят на старое место, где только дырки от гвоздей напоминают о былой славе.
Но эта слава уже не будет его славой. Что-то он проморгал, недосмотрел старый опытный лесовик и руководить. Выхоит, одного опыта маловато. Застоялся Дудник, зажирел. С Корневым спорил, не соглашался, а он-то и оказался кругом прав.
Если и вытащил кое-как февральское задание, то исключительно благодаря предложению этой колхозной бригадирши. Сколько Дудник ни настаивал на своем, Виталии Осипович показал, как надо бороться за свое мнение. Поставил вопрос на партийном собрании и доказал. Всегда он был настойчивый, а тут еще армейская закалка. Пришлось Дуднику подчиниться, прекратить трелевку и перейти на конную вывозку прямо из делянок, от пня. Сразу дело пошло веселее.
А сейчас и возить стало нечего. Лесорубы, сколько на них ни нажимай, выше головы не прыгнут.
Конечно, никакого рекорда Тарас не поставил. Приказы не помогли. Силы человеческие имеют предел. На хребте много не вывезешь, особенно в наше время. Думать надо, рассчитывать.
Так и ехал в расписных своих санях Иван Петрович и думал не столько о победах леспромхоза, сколько о своих поражениях. Руководил людьми, командовал производством, ходил всегда в передовых, и вдруг оказалось — главное проглядел. Тех самых людей не заметил, которыми руководил, и пошел против них. Так ли это или не так? Время покажет, кто тут прав.
Кругом по-весеннему просыпалась тайга. На вершине сухой ели скрипит черный ворон, разевая белый клюв на пламенеющее северное небо. Может быть, ворону этому не одна сотня лет, и мертвая ель, на которой он сиживал вороненком и сидит сейчас, была тогда еще зеленым росточком. Эх, не дано человеку такого долголетья, чтобы все свои ошибки мог он понять и успел исправить.
Километров за пять от поселка догнал паренька. Шел тот бойко, иногда, подбрасывая валенком снежные комочки, и гнался за ними, по-мальчишески взбрыкивая ногами, и все время поправлял шапку, съезжавшую на глаза. Совсем молодой парнишка.
Услыхав, что кто-то едет, паренек остепенился, отошел в сторону. Иван Петрович узнал Юрка Павлушина. Велел остановиться.
— Куда, парень, ходил?
Юрок смущенно тер рукавицей нос и моргал голубыми детскими глазами, в которых не потухали озорные огоньки. Вот нанесло начальника на его голову. Теперь нагорит. И соврать нечего. Дуднику соврать невозможно. Он сразу видит — заливает человек или честно говорит.
— На второй ходил, товарищ Дудник.
— В гости?
— Нет. Гостевать некогда. По делу.
— Ага, — одобрил Иван Петрович, — люблю, когда по делу в рабочее время ходят. А ну, лезь в сани. Мы все это сейчас проверим.
Юрок вздохнул и нехотя полез в сани. Поехали.
— Докладывай, — приказал Иван Петрович.
Не глядя на начальника. Юрок начал выкручиваться, выдумал какую-то тетку, которая истосковалась по нем на своем втором лесопункте до того, что даже заболела. Иван Петрович послушал, хмыкнул в усы и сказал:
— Ну вот что. Докладчик из тебя, как вица из гнилого пня. Врать ты тоже еще не научился. Давай, парень, начистоту. И скажи мне честно: зачем лучший помощник от лучшего лесоруба в рабочее время дезертирует?
— На Мартыненку ходил смотреть.
— Это что же, вроде больной тетки?
— Нет, мужик это. Ну Мартыненко же. Его все знают. Знаменитый лесоруб. Двадцать кубометров дает, честное слово, чтобы не видать мне свету…
— Ладно, не клянись, — строго сказал Иван Петрович. — Зачем к Мартыненко ходил?
Скрывать больше не имело смысла. Юрок рассказал все, как было. В тот день, когда стало известно о рекорде Мартыненко, лесорубы долго спорили, может ли один человек лучковой пилой дать за день двадцать кубометров. Дело дошло до брани, но вопрос все же остался темным. Бригвадзе, вращая белками, кричал, что пусть ему отрубят голову, если он не догонит Мартыненку. А Тарас молчал. Гордый этот Тарас, товарищ директор. Ему советовали по телефону узнать: как так? А он сказал: «Своя голова есть, чужой не поклонимся». Но больше одиннадцати кубометров свалить не мог.
— Он же переживает. Мы с ним ночью не спим.
— Вдвоем думаете? Это хорошо. Это что ж — он тебя послал?
Юрок, не мигая и глядя в строгие глаза директора, поклялся что ходил посмотреть Мартыненко сам на свой страх и риск. Утром, когда еще все спали, он побежал в соседний леспромхоз на второй участок. На тракте поймал попутную машину и к двум часам был на делянке Мартыненко.
Там он укрылся в ельнике и стал шпионить.
— Это, товарищ начальник, всякий может! Говорят, — секрет. Мартыненко этот, ему до Тараса еще расти два года надо. Он только валит, а вокруг него три помощника. Вот и весь секрет. Один снег откидывает, другие сучья обрубают и кряжуют.
— Так, — сказал Иван Петрович и покусал желтый свой ус. — Просто, говоришь? Это, Юрок, старая истина. Все гениальное просто…
— Так ведь надо поглядеть, как люди-то работают… — объяснял Юрок свой поступок.
— Надо, — согласился Иван Петрович, — никогда не мешает поглядеть, как люди работают.
— Поучиться у них, — подсказал Юрок.
— И поучиться. Да. — Иван Петрович задумчиво помолчал.
— Опыт перенять.
Иван Петрович вдруг спросил:
— А если человек не захочет учиться у других?
— Ну, таких-то, наверное, у нас и не найдется, — протянул Юрок и осторожно улыбнулся.
— Ну, а если найдется? Всякие люди есть…
— Конечно, есть, — согласился Юрок, — лодыри всякие да вредители.
— Прогульщики, — подсказал Иван Петрович и нахмурился.
Юрок решил — не к добру. Сейчас он его взгреет. Ну и пусть. Зато теперь загудит тайга. Подберут они с Тарасом хороших ребят, и пусть Мартыненко заткнется со своим рекордом!
Нет, не об этом думал Иван Петрович. Он думал о широких планах и простых делах. Размахиваемся широко, заносимся под облака, а что в лесу делается, забываем. Вот на совещании все превозносили Мартыненко, о его опыте несколько дней назад по рации передавали, и они у себя в леспромхозе поговорили, пошумели, и все осталось как было. А вот этот малец все разрешил просто, как и полагается у добрых соседей, — взял да посмотрел, как это у них там получается. Ох, мальчишки, мальчишки, скоро дадите вы нам по шапке, чтоб не путались под ногами, не мешались.
Но вскоре его размышления приняли другой оборот. Долго раскаиваться и вздыхать было не в его правилах. Он — человек рабочий, и о работе полагается ему думать. Ведь если дать Тарасу, Бригвадзе, — мало ли есть хороших лесорубов, — дать им по три человека подсобных рабочих, расставить всех на места, сразу поднимется выработка. Вот о чем думать надо, замышляя большие планы.
И как это он, старый опытный лесовик, не додумался до такой простой вещи?
Требуй прежде от себя, а потом от других. Это его постоянное правило, о котором напомнил вот этот, востроглазый.
Дудник сказал:
— Надо бы тебя взгреть за самовольную отлучку.
Юрок притаился. Вот оно, начинается…
— Ладно, — приказал Иван Петрович. — Беги в общежитие. Отдыхай.
ВЕСЕЛЫЙ РАЗГОВОР
Дом был гордостью Валентины Анисимовны. Она делала все, чтобы здесь было тепло, уютно, а главное — чисто. Кухня сверкала белизной клеенки на столе, желтизной выскобленного пола, яркими бликами посуды.
Самых своих близких гостей принимала она на кухне. И каждый понимал, что если здесь, на севере, где вся жизнь проходит в тайге, на морозе, под дождем, можно создать такой уют, то, значит, и жить можно.
Так казалось всем. Сама Валентина Анисимовна считала этот вопрос давно и окончательно решенным.
Она сидела, отдыхая, положив на сверкающую белую клеенку свои сильные руки. Они лежали на столе, как олицетворение крепкого домашнего уклада, довольства и уюта. Она отдыхала. Все было сделано, как всегда, вовремя. Мальчики еще не пришли из школы.
Сквозь чистые, без морозных узоров, стекла светило весеннее солнце. Снег на дворе блестел, как сырой сахар.
Она сидела и слушала легкий шорох в комнате Виталия Осиповича. Необычно шумливый прибежал он сегодня днем, прокричал про весну и даже улыбнулся, а улыбается он не часто и поправляется плохо, несмотря на все старания Валентины Анисимовны. Горе сжигает человека.
А сейчас он работает. Из его комнаты доносится скрип стула шорох карандаша по бумаге, иногда стукнет упавшая линейка. Работает и молчит. Это нехорошо. Если не с кем говорить, можно тихонько запеть, что-нибудь далекое рязанское. Ведь есть же у этого человека какие-нибудь свои песни. Иван Петрович петь не умеет, он вечно в движении, на людях, в работе, но и он, оставшись один, насвистывает сквозь усы что-то совершенно непонятное для других, да, наверное, и для него самого. Но все же это песня, и ничего непонятного нет в Иване Петровиче. Это она хорошо знает. Изучила, вызнала за годы дружной совместной жизни все тайности его нехитрого характера. И даже то, что ему самому не до конца понятно, давно подсмотрела и поняла Валентина Анисимовна.
Не поладили старинные друзья с первого совместного шага. Оба такие, что не свернешь. И оба они правы, и оба виноваты. Работу поделить не могут, будто мало ее, работы.
Валентина Анисимовна вздохнула.
И вдруг Виталий Осипович запел. Это было до того неожиданно, что Валентина Анисимовна подняла голову и убрала руки со стола. Поет! Человек, иссушенный тоской, поет!
И он определенно умеет петь. Сквозь неплотно затворенную дверь хорошо слышна знакомая старинная песня. Она знает эту песню.
Инженер пел, как поют люди, увлеченные работой. Пел задумчиво, останавливаясь на середине фразы и неожиданно начиная снова.
Он пел:
Задумал сын жениться, Разрешенья…Твердый шорох карандаша по прямой линии —
…стал просить. Веселый разговор… Разрешенья стал просить.Удивленно улыбаясь, Валентина Анисимовна тихонько встала и направилась к его двери. Мягко ступая, она вошла в столовую и остановилась.
Виталий Осипович пел:
Дозволь, тятенька, жениться, Взять тую, кую люблю. Веселый разговор…Удивительно. Валентина Анисимовна постояла у двери, но не вошла. Незачем мешать человеку. Еще спугнешь эту песню, которая, как птица, вдруг влетела в его холостяцкую комнату. Пусть поет на здоровье.
Она даже не услышала, как за окном прошумели сани, и только когда хлопнула дверь, поняла, что приехал муж.
Он стоял посреди кухни, сбросив шубу, и разматывал пестрый шарф.
— Соскучилась, дроля моя? — ликующе спросил он.
— Заждалась, — прошептала она и, как девушка, зарумянилась, целуя его в мокрые, с холода, усы.
Взять тую, кую люблю… Веселый разговор…— Что это? — насторожился Иван Петрович.
— И сама не знаю. Сижу и вдруг слышу: запел. Удивительно!
— Действительно, удивительно.
Еще раз поцеловав жену в счастливые затуманившиеся глаза, он отпустил ее плечи.
— Ну, тогда все в порядке. И будет у нас, дроля, сейчас веселый разговор.
Раздевшись, он умывался, она гремела посудой, собирая обед.
Валентина Анисимовна заметила, что муж приехал задумчивый какой-то, притихший, но не придала этому особого значения. Мало ли что по работе бывает. Не всегда по головке гладят, бывает что и побьют.
Знала она, что в такие минуты не следует лезть к мужу с расспросами, а еще хуже — с ласками. Гордый он, сразу поймет, что она жалеет, утешить хочет. А этого нельзя. Надо сделать вид, что ничего не замечаешь, ходить около него весело, расспрашивать о пустяках. Придет время — сам скажет.
Умывшись, Иван Петрович сел на приступочку у печки и задумчиво растирал белым полотенцем могучую шею.
— Да что ты сидишь у порога! — удивленно воскликнула Валентина Анисимовна.
Он опустил руки с полотенцем и поднялся.
Действительно, уселся у порога, словно в чужой дом непрошенным зашел. Глупость какая. Усмехнулся:
— Он песни поет, а мне скучно. — Вздохнул. — Вот какие у нас дела пошли, дроля.
Она взяла из его рук полотенце.
— Ах, да я все вижу, — перебила она. — Давно замечаю. Ты обиду-то выброси, ничего от нее хорошего не бывает. А может, он прав. Даже если он и провинился перед тобой неосторожным словом, ему простить надо. Он ведь и за тебя воевал. Ох, да что же это я тебя учу. Иди-ка зови его обедать.
Проговорив все это своим певучим голосом, она засмеялась и, отчего-то застыдившись, взяла мужа под руку. Так рядом они и пошли к Виталию Осиповичу. В это время он сам открыл дверь.
— Прибыл? А ну, зайди ко мне на минутку.
Они крепко пожали друг другу руки.
— Ну, как там? — спросил Корнев.
— Там все в порядке. Побили и похвалили. Я тебе сейчас подробно все доложу. А это что?
Иван Петрович стоял у окна, рассматривая чертежи, над которыми все утро работал Виталий Осипович. Сам он чертить не умел, но разбирался в чертежах прекрасно. На бумаге-то хорошо, а вот как оно получится… Поэтому на всякий чертеж смотрел недоверчиво, как на дело темное, которое надо еще проверить.
— Эстакада для погрузки вагонов, — сказал Виталий Осипович и стал объяснять:
— Вот это въезд для автомашин с лесом. Сюда сбрасывают круглый лес, сюда пиломатериалы. Это линия железной дороги. Вагоны подходят вплотную, и погрузка идет сверху вниз. Весь смысл именно в том и состоит, что груз на эстакаду поднимает автомашина, а люди только скатывают его на платформы. Остается увязать — и все. Самая тяжелая работа отпадает.
Иван Петрович сразу оценил огромную выгоду этого простейшего сооружения. Сейчас в погрузочных бригадах полторы сотни людей. Они заняты тяжелым малопроизводительным трудом. Пятнадцать-двадцать человек грузят один вагон, нередко втаскивая тяжелые бревна на высоту до десяти метров. Адская работа. «Мартышкин труд», — говорят грузчики.
— Вот я подсчитал тут, — сказал Виталий Осипович, указывая дымящейся папиросой на колонки цифр, — в общем, с применением эстакады нам для погрузки надо две бригады по двадцать человек. Все.
Валентина Анисимовна напомнила, что пора к столу. Борщ стынет.
— Подожди, дроля. Здесь такой веселый разговор… Ты посмотри, что он строить надумал.
Она понимала толк в этом. Приходилось и ей грузить, когда не хватало рабочих. А сейчас их всегда мало. Она посмотрела на Корнева. Да нет, он совсем не так уж убит горем. Он даже улыбается удовлетворенной и чуть смущенной улыбкой. Нет не только в эстакаде дело, он еще что-то знает, какое-то средство против угнетающей его боли.
Уж если человек запел грустную песню, значит, горе на убыль пошло.
— Ну, предположим, выдумал-то я немного, — продолжал Виталий Осипович, не сгоняя с лица улыбки, — эстакады давно строят, все дело в применении их к нашим условиям. Нам сейчас нужна простейшая механизация. Машин пока нам никто не даст.
— Неверно! — восторженно перебил Иван Петрович.
Он с жадностью проголодавшегося человека взял хлеб и, кладя его перед собой, закончил:
— И простейшая, и сложнейшая. Дроля, там на донышке не осталось?
Она принесла водку. Он налил две рюмки, чокнулись «за успехи во всех делах», выпили. Иван Петрович вытер усы и, закусывая, продолжал:
— Механизацию в лес надо. На лесосеку.
— Электропилы, — подсказал Корнев.
— Да. Все это надо, — согласился Иван Петрович и нахмурился, — а главное для нас вот что…
И стал рассказывать о самовольной отлучке Юрка Павлушина. О том, что высмотрел Юрок на Мартыненковой делянке и что просмотрели они — руководители леспромхоза.
Словом, начался тот веселый разговор, на который намекал Иван Петрович с самого начала.
Вечером в общежитии собрались лесорубы. Иван Петрович сел в конце стола, как глава огромного семейства. Табурет Виталия Осиповича пустовал. Он так и не присел весь вечер. Он ходил по скрипучим половицам и только, когда говорил, останавливался за спиной начальника.
Собрались все лесорубы, шоферы дневной смены и кое-кто из дорожников. За столом не хватило мест. Сидели на койках, на скамейках, прихваченных из соседних общежитий. Яркая лампочка освещала койки с разноцветными пятнами одеял, подушек, всевозможных пальто, пиджаков, бушлатов.
Иван Петрович, вытирая платком обветренное лицо, так как жара в комнате стояла неимоверная, рассказал о работе Мартыненко. Слушали напряженно. Лишь Юрок вертелся на месте и торжествующе шептал соседям:
— Во. А я что говорю!
Взял слово Тарас. Лесорубы насторожились: говорил не начальник, не Петров, а Тарас, который и в своем-то товарищеском кругу больше молчит.
— Значит, дело, товарищи, в следующем. Все сидящие здесь лесорубы и прочие знают, что такое лучок. Это пила, за которую держится человек. Сегодняшний момент не позволяет работать по-старинке, силой одной, хребтом ничего не возьмешь. Думать надо. Все знают, какой из себя Мартыненко. Я его одной рукой зашибу, а он на сегодняшний день — чемпион. Почему? Потому, что головой человек работает. Ну мы тоже здесь, у себя не лыком шиты. Кое-что придумали. Я не ошибусь, товарищи, если скажу: последний день сегодня Мартыненкин. Завтра мой день. Я сказал, так и будет.
Тарас посмотрел на Виталия Осиповича, хотел сказать еще что-то, но раздумал и сел на место.
СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
В своей избушке, в пятой диспетчерской, Женя встречала восемнадцатую весну. Весна в тайге. Ну как могла она предполагать, что здесь, на севере диком, вдруг вспыхнет и расцветет настоящая любовь, пожирающая огнем своим все существо, заставляющая тревожно биться сердце при одном воспоминании о «нем».
Она даже начала смутно догадываться о смысле истинной красоты человеческих отношений. Дело совсем не в том, что «он» под сенью пальмы, под рокот моря наклонится над ней, томной и недоступной. Не в этом красота. Где, в чем — она еще не знала. Наверное, в чувствах и каких-то особенных поступках. Вот она думает о нем — и даже холодный север делается милее.
Накинув теплый платок, Женя вышла из диспетчерской. Тепло. Тихо. Сорвалась сосулька с крыши и разбилась с хрустальным звоном. Замерла тайга в безмолвной истоме. И звезды в синем небе. И аромат леса, смолистый запах хвои и сырости. И она в расцвете восемнадцати своих лет, впервые полюбившая не фотографию героя, а самого героя. И ей все равно, герой он или не герой.
Пусть говорят что угодно, а на севере жить можно!
Резкий звонок прервал ее думы.
Говорила Крошка: «Ты не спишь, Женя? Между прочим, направляю к тебе двенадцатую. И еще, между прочим, на ней едет Тарас Ковылкин, он сегодня будет бить рекорд Мартыненко. Ах, Женька, это очень ужасно, когда кавалеры дерутся! Как от ревности. Ах!»
Вот дура эта Крошка. У нее все — кавалеры, другого слова и не знает. И всегда у нее кавалеры или подмигивают или дерутся.
А если эти кавалеры родину спасают? Если, не щадя сил, восстанавливают разоренную страну? Вот что надо хорошо понять. А понимает ли это Женя? Ей казалось, что понимает. Конечно, понимает. Какая же советская девушка не поймет?
Но любовь есть любовь.
Едет Ковылкин. Сколько же сейчас времени? Ого, шесть часов! Ковылкин, конечно, побьет рекорд. Об этом говорят все, и даже Леша вчера, передавая радиограмму Тараса в соседний леспромхоз—«Начинаю работать по методу Мартыненко, вызываю его на соревнование», — от себя добавил:
— Так и знайте. Побьем Мартыненко по методу Ковылкина.
А Крошка говорит: «Кавалеры дерутся!» Нет, она-то, Женя, понимает, что эти кавалеры способны на большие дела.
Подошла двенадцатая. Из нее вылез Тарас и пошел в диспетчерскую, сказав на ходу: «Привет, Женя». За ним шли три его помощника. Среди них — Семен Иванович Гольденко.
Шофер, выглянув из кабины, сказал охрипшим мальчишеским голосом:
— Не задерживай, девушка.
Женя фыркнула. Орлов, аварийщик несчастный, а туда же — командует! Впрочем, у него за последнее время ни одной аварии. Подтянул их Виталий Осипович. Умеет он поставить человека на место. У Жени беспокойно стукнуло сердце при воспоминании о Корневе.
— Можешь, — нежным голосом сказала она и махнула шоферу рукой.
Машина ушла. Женя вернулась в будку. Ну и надымили здесь. Но она даже и не подумала сделать замечание.
Подкручивая усы, словно приклеенные под хищным двугорбым носом, Гольденко говорил:
— Это что значит? Можем и мы сегодня на почетную доску попасть. Один выдающийся герой на своем памятнике написал, я сам в Москве видел: «Напишут наши имена». Вот оно как.
Тарас молча глядел на огонь в печурке. Юрок прикорнул на скамейке. Третий помощник — Женя только сейчас заметила ее — была женщина. Широколицая, широкобедрая; даже стеганая одежда не могла скрыть ее широкого, сильного тела. Настоящая таежница. Она, наверное, недавно здесь.
— Призывает меня начальник, — самодовольно продолжал Гольденко, разгоняя вокруг глаз многочисленные морщинки, — и говорит. Рекорды, говорит, можешь ставить? Есть, говорит, ответственное задание. Лучше, говорит, тебя нет мастера по снегу. Будешь снег откидывать из-под нашего рекордиста.
На этот раз Гольденко подошел к истине почти вплотную. А если и соврал, то совсем немного. Подбирая звено для Тараса, Виталий Осипович вместе с ним обсуждал каждую кандидатуру. Тарас сказал: «Дайте мне таких, которым делать нечего». Тогда вызван был Гольденко. Он явился, всем своим видом показывая, что страдает от начальственной несправедливости.
— Есть хорошая работа, — сказал Виталий Осипович. — Пойдете?
— Я, куда пошлют, туда и пойду, — смиренно отозвался Гольденко и вздохнул, словно приносил некую жертву.
— Ну вот к Тарасу, в звено. Снег откидывать, сучья убирать.
Гольденко встрепенулся:
— Да что вы, товарищ начальник, он же зверь в работе этот Тарас. Он вздохнуть не даст.
— А вы не вздыхайте. Звено будет рекордным, это Тарас твердо обещал. А значит, будет заработок, будет снабжение, даже премии будут. Работать, если захотите, вы сможете. Подумайте.
Подумал искатель длинного рубля и согласился. Целый день после этого он ходил по поселку, лихо закрутив тараканьи усики, и не переставал бахвалиться.
Тарас улыбнулся:
— Брось молоть, Шито-Хеза. Это я тебя выбрал. Я таких и взял, которые без дела болтаются.
Женщина строго поглядела на Тараса:
— Я не болтаюсь без дела. Я сама в лес пошла. На самую ответственную работу. Я, если хотите, мечтаю сама валить.
— Знаю. — Тарас бросил окурок в огонь. — Знаю, товарищ Панина. Откуда прибыли?
— Из-под Минска. Тоже в лесу выросла. Голодает народ у нас. Оголодил Россию враг проклятый. Многие в Ташкент едут. А я думаю: нет, мое место в лесу.
— Бомбили там у вас? — спросил Ковылкин.
— У нас бомбить больше нечего, — ответила Панина и замолчала.
Оттиснутый от разговора, Гольденко, однако, молчать не мог. Играя маленькими глазками и всеми морщинками на своем пунцовом личике, он сообщил новость:
— А начальник-то наш — герой. Виталий Осипович…
Подмигнув и увидав, что все прислушиваются, докончил:
— Лучшую девочку зафаловал.
У Жени похолодели руки…
— Не болтай, Шито-Хеза, — нахмурился Тарас, сдвигая кубанку на правое ухо.
— Нет, правда, — хихикнул Гольденко. — Марину Ефремову.
— Говорю, не болтай!
Тарас тяжело задышал и, не моргая, уставился на огонь. Но Гольденко не унимался:
— Чего болтать? Сам видел, идут из кино под ручку. Весь поселок знает. Сколько вокруг нее ходили, всем полный отбой. А этот налетел, раз, два, позвольте вас проводить, она головку на плечико: «Ах, извольте, я вас ждала с безумной жаждой страсти».
Молча поднявшись, Тарас сгреб болтуна за шиворот так что бушлат на спине собрался в гармошку и Гольденко сжался в комок. Застонав, словно от боли, Тарас бросил этот комок в дверь. Она с треском распахнулась, и Гольденко вылетел наружу.
Он настолько стремительно исчез в предрассветно синеющем прямоугольнике двери, что Жене показалось невероятным, чтобы так внезапно мог исчезнуть человек. Она поглядела на Тараса. В глазах ее были недоумение и ужас. Да был ли здесь Гольденко? Что такое он говорил? Или ей послышалось? Словно в воду ее бросили, она тонет, не чувствует себя. Тонет и нет ни сил, ни желания сопротивляться. Было ли сказано то, что услыхала она в это весеннее утро? Почему Тарас так смотрит? Она видела однажды, как человека придавило упавшей сосной. Он кричал на всю тайгу. Вот у Тараса сейчас такие же глаза, как у того человека. Только он не кричит. Почему он не кричит, ему же больно? Так ведь ей тоже больно. Только сейчас она поняла, как ей невыносимо больно. Наверное, она очень побледнела, потому что эта лесовичка из Минска — Панина — сказала насмешливо:
— Какая нежная вы. Не можете видеть драки. Я сама не одобряю сплетников. Зачем человеку сердце травить?
Тарас, гневно раздувая ноздри, бросил:
— При чем тут сердце? Болтать не надо.
Панина вздохнула:
— У меня муж на фронте погиб, ребятишек лишилась. А вы тут… Я на это смотрю вот так.
Она растопырила пальцы и поводила ими перед глазами.
Тарас вдруг отрезвел:
— Не думай, что думаешь, товарищ Панина. Пошли.
Он надвинул кубанку на соболиные свои брови и не глядя ни на кого, скрылся за дверью. Юрок ушел за ним. Панина замешкалась, завязывая платок.
— Разве сейчас любить нельзя? — все еще задыхаясь от волнения, спросила Женя.
Панина посмотрела в окно, запорошенное снегом, и укорила сухим жестким голосом:
— Девушка, что ты о любви знаешь? Любовь сейчас в крови выкупана, огнем высушена. У каждого сердце перегорело.
Она резко обернулась, желая сказать что-то жестокое, мстительное, но навстречу скорбному взгляду ее струился теплый свет Жениных глаз, и столько в нем было девичьей юной скорби, такой нежный весенний огонь горел в них, что лицо женщины смягчилось. Она улыбнулась тихой улыбкой матери.
— Не слушай меня, девушка. Я злая стала. Любишь кого-то?
— Да, — жарко сказала Женя.
— Ну вот и люби. Это хорошо. Люби, девушка. Если даже он не любит, все равно люби. Врет — полюбит. Ты — хорошая. Тебя Женей звать? Женичка. Ты молодая и красивая. Люби, Женичка, только не забывай, что сейчас война. Любовь дорогая сейчас. Ох, как сейчас беспощадно любить надо. Да он-то, гляди, этого стоит ли?
— Ох, стоит, — простонала Женя.
— Ну и хорошо, — засмеялась Панина, сгоняя с лица последние черточки скорби, и тут увидела Женя, как молода эта ширококостная, казавшаяся старой женщина. Ее блестящие зубы, крепкий упрямый подбородок, вздрагивающий от смеха, губы и четкие изгибы густых бровей придавали ей ту русскую красоту, которую не сразу разглядишь, а увидишь — никогда не забудешь. Вот только в глазах — глубокая, неизбывная скорбь, да еле заметная морщинка преждевременно пролегла на ясном выпуклом лбу.
Женю безотчетно потянуло к этой женщине, — она порывисто обняла ее и звонко поцеловала.
— Вон как! — певучим своим голосом протянула Панина. Обняв круглые Женины плечи, она любовно, как мать, поучающая дочку уму-разуму, проговорила:
— Ох ты, красавица ты моя. Сердечко, видать, у тебя мягкое. А жизнь у нас сейчас строгая. Во всем строгая. Ты этого не забывай.
Она тихо отстранила Женю. Поняв, что девушка только настроилась открыть ей какие-то сердечные свои неурядицы, торопливо проговорила:
— Ты ко мне в свободное время забегай… Вот там и обсудим все наши строгие бабьи дела. Забегай… Ну, я к Тарасу пошла, в работе он, погляжу, каков.
И ушла.
Снова звонила Крошка. Она направляла пятнадцатую.
— Между прочим, — сказала она, — на этой машине едет начальник. Какой? Дудник, конечно. А тебе какого надо? Корнева надо тебе? Пустой номер. Ага, он уже с Маринкой! — В голосе Крошки зазвучало нескрываемое злорадство. — Еще, между прочим, она тоже едет. Тут целая комиссия — Тарасов рекорд фиксировать.
Повесив трубку. Женя подумала о Тарасе. Какие у него глаза были. Так вот что это значит! Он любит Маринку. Как она раньше не догадалась? Он любит. И он сегодня должен работать лучше, чем всегда. «Я на это смотрю вот так», — сказала Панина, женщина, у которой немцы убили мужа и отняли детей. А смогла бы она, Женя, посмотреть на это вот так, сквозь пальцы?
Подумала и честно созналась:
— Нет, не могу.
РУКА И СЕРДЦЕ
До прихода комиссии Тарас и его два помощника развели костер, присели к огоньку, закурили. Все, как полагается. Приходили лесорубы, здоровались с Тарасом, с Юрком и Паниной, словно поздравляли с праздником. Не задерживаясь, расходились на свои места и тоже принимались за дело.
Строгий предстоял день. Не только для Тараса, для всех.
Пришел Гоги Бригвадзе. Снял черную кубанку и потом, надев ее, поздоровался по-своему, подав обе руки.
— Гогимарджоба, — сказал он по-грузински, — сегодня ты, а завтра я. Обычай наш знаешь? Кровь за кровь. — Он сверкнул белыми зубами. — Завтра я твой рекорд бить буду.
— Давай бог, — невесело ответил Тарас.
— Кацо, кто это на твоей делянке?
Тарас посмотрел на делянку, отведенную для вырубки. Как это он раньше не заметил? Вокруг ближних сосен снег уже был откинут, и дальше кто-то, невидимый за еловым подсадом, кидал снег, орудуя лопатой.
— А, — скучающе сказал Тарас. — Это Гольденко. Такой боевой попался помощник. Не удержишь.
Когда Гоги отошел, он послал Юрка. Пусть этот Шито-Хеза придет, погреется. Вперед болтать не станет.
— Вот я и говорю, — вздохнула Панина. — Сейчас переживания свои спрячь в карман. Не показывай людям. Засмеют. Похуже видали.
— Я тоже на фронте был, — чтобы оправдаться в глазах этой видавшей лютое горе женщины, сказал Тарас.
— Ранен?
— Ноги отморозил.
Она посмотрела на него потеплевшими глазами, на щеках ее выступил легкий румянец. Оказалось, она совсем еще молодая. И голос у нее жалостливый, певучий:
— Ну ничего, все будет хорошо.
И в самом деле, сердцу стало легче.
— Детей-то много было? — спросил Тарас.
— Двое. Отбились где-то. Там такая суматоха была. А может, и живы. Два года искала. У меня уж и слез не стало плакать-то.
Она не мигая смотрела на огонь костра, пламя оранжево светилось в ее скорбных глазах.
— Ну ладно, — с неожиданной лаской в голосе сказал Тарас. — Не плакать сюда пришли.
— Я знаю, — вздохнула Панина.
Явился Гольденко. Молчаливый и очень вежливый.
Где-то за тайгой всходило солнце. Верхушки сосен засветились, как свечи, оранжевым пламенем.
— Начали, — сказал Тарас, бросая окурок в огонь. — Гольденко, выруби подсад и потом твое дело — снег. Юрок, на раскряжевку, а вы сучья обрубайте и — в костер. Юрок, командуй. Да не зевайте. Валить буду на ленту. Я на правой, вы на левую переходите. Я — на левую, вы обратно на правую. Поняли? Пошли.
Он взял лучок, подкрутил бечеву и пошел к сосне.
— Бойся.
Столетняя сосна упала вдоль протоптанной в снегу тропки. Легла, как по ниточке. Тарас увидел между штабелями Ивана Петровича, который что-то кричал ему. Тарас махнул рукой: «Потом поговорим». Рядом с Дудником нормировщица, десятник и еще кто-то. Разглядывать некогда.
— Бойся!
Он переходил от дерева к дереву, подрубал и валил. Юрок, кажется, запоролся с раскряжевкой. Ничего, вытянет. Лесок хороший попался. Ага, Панина за лучок взялась помогает раскряжевывать. Хорошо. Только бы не ушибить кого. Тесно троим на одной делянке. Этот вопрос продумать надо.
Остановка. Юрок, торопливо работая пилой, разделывает сваленный хлыст, а Тарас ждет, пока он кончит.
— Вытащи лучок. Потом допилишь! — приказывает Тарас.
Сколько минут идет на ожидание? Нет, это дело пересмотреть надо.
— Бойся!
И опять пилит Тарас. Ходит лучок без остановки. Никогда не знал Тарас, что может так биться сердце. Это не от работы. Да, есть сердце, и есть в сердце боль. Этого никто не знает.
— Бойся!
Определенно запоролись с сучьями. Не успевают таскать. Юрок зовет Гольденко. Тот уже ушел далеко в лес, пожалуй, на полдня накопал. Молодец Юрок! Втроем справятся. Усталости нет. Этого не чувствует Тарас. Немного беспокоит отмороженная нога. Вот интересно! Сколько лет прошло, как в госпитале отрезали пальцы на левой ноге, а они все болят — будто на своем месте. А долго ли будет болеть сердце? Впрочем, трудно определить. Что это, в сердце боль или в голове такое, — как сверчок? Стрекочет, спасу нет. А Мартыненко мы покажем! Определенно.
— Бойся!
Любовь? Чепуха. Эта Панина — хорошая женщина. Правильно она все понимает. Сейчас это все оставить надо. Хорошо она сказала. Говорить, конечно, легче. Она тоже любила. Ее горе скрутило, а ведь, конечно, тоже любила. Сожгла война ее любовь. Гады-фрицы. В журнале картину видел: убитые дети. Может, и ее дети там. Вот это — горе.
— Бойся!
Грохнул сосной по стволам сваленных деревьев, взвилось снеговое облако, полетели сучья.
— Удар по врагу! — упоенно крикнул Юрок, набрасываясь с пилой на упавшую сосну. — Бей гадов!
— Бойся! — предостерегающе кричит Тарас, и снова тяжелый ствол со звоном падает на соседнюю ленту.
Сквозь шорох пилы Тарас услыхал удары в обрезок рельсы. Что это? Уже обед? Время летит-катится. Сейчас допилю эту сосну.
Пила волчьими зубами грызет нежно-розовую сердцевину, выбрасывая на бурый мох, на неувядаемые листочки брусники теплые опилки. Руки Тараса сильные, привычные к пиле, намертво сросшиеся с ней, гонят тонкое полотно. Сосна легонько навалилась на плечо и откачнулась назад. Довольно.
— Бойся!
В синем небе качнулась зеленая вершина и пошла в ту сторону, куда направил ее лесоруб Ковылкин. Свист ветвей в воздухе — и, ломая искривленные хрупкие сучья, падает дерево.
Тарас выпрямился, потянулся, разминая спину впервые за все время работы, и пошел вдоль штабелей. Ого, сколько положил! Только сейчас увидел он дело рук своих. Бронзовые и лиловые в свете яркого дня лежали бревна — две вереницы штабелей.
Панина, напрягая широкое тело, волокла по избитому, истолченному снегу целый воз сучьев. Она взвалила его на костер, искры взметнулись оранжевыми снопами, и жадный огонь золотыми змейками пробежал по хвое.
Панина вытерла пот рукавом синей кофты. Телогрейку давно пришлось сбросить. Сильное тело женщины, плечи, грудь обтягивала старая, латаная кофтенка. Спина потемнела от пота.
— Ну как? — спросил Тарас.
Да она совсем молодая! Щеки крутого яблочного налива грязны от гари. В глазах, высушенных горем, блеснули вдруг огоньки. Она ответила певучим говором:
— Хорошо. С вами работать можно.
— Можно, — согласился Тарас. — Как же тебя звать? Я по фамилии не люблю.
Проходя мимо него, она на секунду задержалась, улыбнулась, посмотрев через плечо.
— А зови меня Ульяной. Так-то лучше будет, Тарас.
Потом, возвращаясь от костра, она вновь остановилась около него. Он помогал закатывать на штабель последние бревна. Она спросила:
— Передохнем?
Не отвечая, Тарас приказал, надевая свою телогрейку:
— Семен Иванович, лучки собери, топоры. Отнеси инструментальщику. Пошли обедать.
По штабелям уже лазил десятник с нормировщицей. Иван Петрович шел навстречу. Он поздоровался с Тарасом и его помощниками. Спросил:
— Как дела?
Тарас ответил:
— Есть замечание по работе. А в общем и целом десятник все знает.
Обед ждал на просеке. Котел под навесом, пара скамеек и стол на еловых кольях, вбитых в снег. Тарас со своим звеном подошел к столу. Перед ними все расступились. Повариха, в знак почета, расстелила чистое серое полотенце.
Тарасу подали миску с кашей.
— Ей, — указал он на Ульяну.
— Благодарствую, — чуть вспыхнув, сказала Панина поварихе, глядя на Тараса.
Вторую миску он подвинул Гольденко. Тот закашлялся от непривычки к почету, но, тут же овладев собой, начал есть с достоинством, показывая окружающим, что так и должно быть.
— А где Юрок?
— Я здесь, Тарас.
— Это что у тебя? Ах, эта доска. Отдай ее Крутилину, пускай повесит. Мартыненковский рекорд — двадцать кубометров. Садись, Юрок, ешь.
Когда кончали обед, пришел десятник.
— Сколько? — спросил Дудник.
— Шестнадцать с десятыми. За полдня.
Вечером Леша передавал радиограмму в соседний леспромхоз:
— Работая методом Мартыненко, лесоруб Ковылкин с тремя помощниками — Павлушиным, Паниной и Гольденко — перекрыл рекорд Мартыненко, свалив за день двадцать пять кубометров. Завтра лесоруб Ковылкин приступает к работе по собственному методу, вызывает Мартыненко на тридцать кубометров в день. Побили вас по вашему методу, будем бить по нашему! Нет, это не записывайте. На словах, пожалуйста, передайте. Ну, пока. Некогда. У нас не как у вас. Не спим — работаем. Пока!
КОНЕЦ МАРТА
Виталия Осиповича и Тараса Ковылкина вызвали в трест, заинтересовавшись небывалой выработкой лесоруба. Не успели они расположиться в гостиничном номере, как Корневу позвонили. Его немедленно требовал к себе управляющий трестом.
Был уже вечер, когда Виталий Осипович вошел в кабинет управляющего лесотрестом Волгина. Все казалось бесформенным и расплывчатым в этот час заката. За окном смутно рисовалась тайга, вся в огневых и дымно-багровых закатных тонах и нечетких фиолетовых тенях на снегу.
Тревожные отсветы зари через широкое окно освещали пол и часть противоположной стены. Алые беспокойные блики рассыпались по всем граням и уголкам стола, кресел и чернильного прибора. Лицо управляющего казалось вырубленным из красного камня.
Волгин поднялся и протянул Корневу руку.
— Здравствуй, герой. Отвоевался? Ну, садись рассказывай, как воевал?
— Плохо. Раньше времени в тыл списали.
— Знаю. Про обиду твою слыхал, — посочувствовал Волгин и тут же пообещал: — Ты не смущайся. Мы и здесь жару задать можем. Да ты садись.
— Я работы не боюсь, — ответил Виталий Осипович, считая неудобным сесть раньше управляющего.
— Знаю. Дудник бездельников у себя не держит, а за тебя вот как уцепился… Да ты садись, а я похожу. Пользуюсь всяким случаем, чтобы походить.
Корнев сел. Он разглядывал Волгина, ожидая от него вопросов по существу, но тот, казалось, вовсе не был расположен заниматься делами. Небольшой, сухощавый, он легко, как по лесной тропе, ходил по ковру.
— Давно я по тайге не бродил, — проговорил Волгин мечтательно. — Ты на лыжах умеешь? Это отличная штука — лыжи. Мы с тобой на охоту пойдем… Когда-нибудь. На Весняне замечательный дед живет, отец Дудника. Ничего, кроме охоты, не хочет признавать. К нему бы хорошо на недельку. Давай-ка с ружьишком, знаешь когда? Денька через два-три после войны…
Умышленно не замечая, что Корнев открыл планшет и деликатно ждет, Волгин ходил и мечтал об охоте, о рыбалке, о дымном таежном костре до тех пор, пока Корнев, наконец, не напомнил о деле.
— Ну, что там у тебя? — поморщился Волгин. — Нетерпеливый какой. Нет, не возьму я тебя на охоту. Там выдержка нужна. Это что? — кивнул он головой на чертежи, которые развертывал Виталий Осипович. — Прожекты?
— Проект, — несколько вызывающе ответил Корнев, задетый пренебрежительным словцом.
— Ну, не ершись. Я тебе прямо скажу: сейчас главное — лес, больше леса на запад, на юг, в шахты, на строительство, и отвлекаться на разные, — он покосился на бумаги, — проекты пока не время. Вы хорошо поработали в марте, но погрузка смазывает все ваши достижения. Незачем рубить лес для того, чтобы он оседал в лесу. Грузить двадцать-тридцать вагонов мало. Сейчас требуется пятьдесят, а через месяц — сто. Вот о чем надо подумать.
Корнев положил маленькую крепкую ладонь на свои чертежи:
— Об этом мы и думаем.
— Так, хорошо, — не удивляясь, сказал Волгин.
Что же тут удивительного, если люди знают, что сейчас главное? На то они и поставлены руководить. Управляющий оживился, усталости как не бывало.
— Хорошо, — повторил он и включил свет.
Все сразу стало на свои места, приобретя четкость и определенность линий. Погас трепетный свет зари: Волгин задернул штору.
— Рассказывай, — нетерпеливо предложил он.
— Погрузочная эстакада, — сказал Корнев и стал объяснять, в чем состоит его проект. Волгин с первых же слов понял все выгоды, которые сулит постройка эстакады. Он хотел знать только одно — сколько времени потребуется на постройку.
И, как бы подчеркивая, насколько это важно, управляющий тут же взял телефонную трубку:
— Иванищева… У меня Корнев сидит… Уже приехал… Приходи.
Корнев поежился, вспомнив опыт довоенных лет. Вот, думал он, начнутся сейчас всякие совещания, консультации, проверки, где в деловую чистоту обсуждения обязательно вотрется что-нибудь нездоровое, чье-нибудь «особое мнение», недоверие, ущемленное самолюбие, и от проекта, так хорошо продуманного, проверенного, останутся рожки да ножки. А вот и он, главный инженер.
Корнев не был знаком с Иванищевым, но ему почему-то сразу понравился этот высокий, плотный человек с густой черной бородищей и с блестящими молодыми глазами.
Дудник рассказывал о его педантичности, придирчивости и странно уживающейся с этим технической смелости.
Корнев прислушивался, поглядывая на дверь: кто еще войдет? Но было тихо. Никто больше не входил.
— Прошу, — вздохнул управляющий.
Корнев начал говорить о необходимости постройки эстакады, но Иванищев неожиданно требовательным тоном перебил:
— Это пропустить. Конкретно об эстакаде.
Корнев сложил свои записки, взял проект, развернул его на столе и попросту, как недавно Дуднику, рассказал, какая эстакада им нужна, приводя только основные цифры. Управляющий слушал молча. Иванищев прерывал вопросами. Перед тем как спросить, он каждый раз нацеливал карандаш, которым все время что-то записывал, в грудь Корнева и говорил:
— Простите, коллега. Прошу повторить расчеты нагрузки на сваю. Благодарю.
Корнев докладывал минут десять.
Управляющий спросил, обращаясь к Иванищеву: «Ваше мнение?» Тот ответил: «Совершенно удовлетворен».
Это было полное одобрение. Все знали, как редко бывает удовлетворен Иванищев. Неоднократно приходилось выслушивать жалобы на якобы мелочные придирки главного инженера. Когда ему об этом говорили, он вежливо, но твердо отвечал:
— Мелочей в технике нет, а я, прошу меня простить, придирался к тому, что вы назвали мелочью, и буду придираться.
Иванищев искательно улыбнулся.
— Вы разрешите, Виталий Осипович, проверить детали? Это много времени не займет. Завтра я подпишу.
И снова Волгин спросил:
— У меня два вопроса. Люди и материалы. Людей дать не можем. Нету… А если вы израсходуете плановый лес, то нечего будет грузить.
— Люди есть, — сказал Корнев.
— Конкретно?
— Грузчики. Их у нас четыре бригады. В свободное время они будут работать на постройке эстакады. Снимаем часть людей с дорожных работ. На собрании, где обсуждался проект, все рабочие согласились работать сверхурочно и, если надо, — по ночам. Вот расчет рабочей силы. При этом условии мы построим эстакаду на погрузку десяти вагонов за пятнадцать дней.
— Надо строить эстакаду не на десять вагонов, а на двадцать минимум, — перебил управляющий. — Там у вас помечен один подъезд. Мало — надо два.
— Но ведь это первая очередь, исходя из наших возможностей.
— Плохо вы знаете ваши возможности, — осуждающе перебил его управляющий. — Надо учесть, что сейчас основная масса леса пойдет через вашу биржу. На сплав мы ничего не дадим. Потребности надо учитывать, а не возможности. Значит, надо строить эстакаду в пять раз больше, чем вы задумали.
«Вот это хозяин, — подумал Корнев, — как размахивается!»
А Волгин говорил уже о подвозке материалов, о прокладке узкоколейки от Весняны до биржи, о людях. Под конец сказал:
— Все. Эстакаду строить немедленно, с завтрашнего дня.
Иванищев вышел. Волгин начал расспрашивать Корнева, где он учился, где работал, что строил.
— Я больше разрушал, чем строил, — признался Корнев.
Волгин рассмеялся.
— Там разрушал, здесь строишь, а цель одна. Диалектика.
Подумал и сообщил:
— Кончится война, будем строить бумажный комбинат.
И распрощался совсем по-дружески.
Проходя сумрачным коридором, Корнев увидел Иванищева. Он стоял у двери своего кабинета.
— Я вас жду. У вас есть здесь какое-нибудь прокрустово ложе? Гостиница? Наплюйте на гостиницу, идемте ко мне. — При этом он сделал широкий, размашистый жест, желая показать, что он не такой-то уж педант, что он совсем компанейский парень.
— В самом деле, — настаивал Иванищев, — я один. Сын был на фронте, сейчас в госпитале. Жена уехала к нему. Дочка в Москве. В общем — пошли.
Виталий Осипович сказал, что ему надо позвонить в гостиницу, предупредить Тараса, чтобы он не ждал. Тарас долго не подходил к телефону. «Неужели уже спит?» — подумал Корнев и посмотрел на часы. Шел восьмой час. Рано. Наконец Тарас ответил. Оказалось, он нашел друзей, также приехавших на совещание.
Иванищев закрыл дверь кабинета, они прошли по пустынным коридорам треста и вышли на улицу, заваленную снегом.
Город спал, словно закутанный в вату, — такая глухая стояла тишина. И они шли, как по вате, по пышному снегу.
— Дело к весне, — сказал Иванищев, легко шагая рядом с Корневым. — Чувствуете, какая ласковость в воздухе и тяжесть? Как парное молоко. А проектик ваш хорош, хорош. Свежесть и смелость. Вот эстакада — дело не новое, а у вас как-то особенно получилось. Экономично. Очень приятно почитать такой проект. Как хорошая книга. Весьма доволен.
Потом сидели в большом домашнем кабинете Иванищева. Тепло, уютно, яркий свет под зеленым абажуром. Большой кожаный диван, за стеклами шкафов книги. Очень много книг и портретов в овальных и круглых рамочках. В углу мольберт с неоконченной картиной: тайга в легком утреннем тумане.
— Сын писал, — пояснил Иванищев. — Не успел закончить. Из академии — на фронт.
Поговорили о войне, об институте, где учился Корнев и откуда полтора десятка лет назад вышел Иванищев. Это еще больше сблизило их.
Корнев сказал, что здесь такая тишина, такой уют, покой, что трудно даже представить себе войну с ее ужасами разрушения и смерти.
— Покой, — усмехнулся Иванищев, — не люблю этого слова. Покой, упокой. Нет, дорогой товарищ, здесь, — он постучал пальцами по высокому лбу, — нет еще ничего такого… покойного. Нет. Война идет к победе, а после войны что? Мир, покой? Нет. После войны будем строить. Об этом надо уже не только думать. Скоро нас позовут и прикажут: стройте.
И несколько шутливо:
— Вы что думаете, я вас зазвал сюда для приятной беседы? Да валяйтесь вы в своей гостинице, мне-то что! Я сухой, расчетливый и даже злой человек. Так вам каждый скажет.
Он строго посмотрел на своего собеседника и быстро спросил:
— Хотите строить бумажный комбинат?
И, не ожидая, пока Виталий Осипович соберется с мыслями, он стремительно вскочил со своего кресла и подбежал к столу. И пока рылся в ящиках, вытаскивая оттуда какие-то папки и тетради в потертых дерматиновых переплетах, он все время рассказывал с убежденностью увлеченного своим делом человека.
Из его рассказа Виталий Осипович узнал, что проект бумажного комбината разрабатывался задолго до войны. Иванищев руководил этим делом. С группой геологов он обследовал многие таежные реки, потому что бумажный комбинат обязательно надо строить на большой сплавной реке.
Светлые воды Весняны пленили его. Она явилась могучей артерией, в которую впадало великое множество таежных рек и ручейков. Многие из них пересыхали за лето, некоторые только едва слышным журчанием напоминали о себе. Но было несколько весенних дней, когда все они эти речонки и ручейки просыпались, начинали наливаться, пухнуть и вдруг превращались в могучие потоки. Тогда они с грохотом и ревом катились по тайге, подмывая мшистые берега.
Вот в эти считанные дни весны надо сбросить в воду все запасы древесины, накопленные за зиму, чтобы они домчались до Весняны, а там и до комбинатских запоней и складов.
Именно здесь, где Весняна становится широкой, спокойной красавицей, Иванищев и решил строить.
Под нескончаемое комариное пенье он тут же на берегу, окруженный дымными кострами, набросал схему будущего комбината. Один из его спутников запечатлел этот исторический момент. Иванищев показал Виталию Осиповичу фотографию. Бородатый и фантастически волосатый человек, как бы плывущий в белом дымном облаке, склонился над планшетом. Накомарник с сеткой из конского волоса по просьбе фотографа откинут на затылок. Отсюда и вынес Иванищев свою бороду, с которой потом так и не расставался всю жизнь.
Вот и эта схема — зародыш будущего проекта, лист пожелтевшей бумаги из походного планшета с полустершимися карандашными линиями и рыжими пятнами от раздавленных комаров.
Эти несколько минут, пока продолжался рассказ Иванищева, решили судьбу Виталия Осиповича. Он уже знал, что примет предложение. И всякий бы настоящий инженер принял. Но он так ничего и не ответил Иванищеву, да тот как будто даже и сам забыл о своем вопросе.
Только утром, когда они оба проходили по пустынным улочкам городка, Гаврила Гаврилович деловым тоном сказал:
— Так я считаю, что мы с вами договорились. Ну, я очень рад.
И вообще все, что делалось под его руководством и при его участии, носило деловой характер.
Утром, еще до начала совещания, был подписан приказ о немедленном строительстве погрузочной эстакады, и Корнев, чувствуя глубокое удовлетворение, подумал: «Вот это по-военному».
И управляющий трестом, который быстро и четко решает дела, и главный инженер, сухой и придирчивый, оказавшийся таким пылким и расчетливым мечтателем, убедили его окончательно, что работать здесь можно хорошо, во всю силу и уменье.
Позвонил Волгин. Просил зайти. Корнев и сам очень хотел посоветоваться с ним о предложении Иванищева. Конечно, это очень лестное предложение. Сил хватит, энергии тоже. Знаний, опыта, верно, еще маловато. Но ничего — это придет.
Волгин ждал его. Он стоял у огромного окна кабинета и, развернув «Правду», просматривал ее. За его спиной в стеклах, по-весеннему чистых, был виден город, весь в зоревых дымках, а там дальше, за большой рекой, синела тайга.
Сложив газету, Волгин спросил:
— Как с Дудником уживаетесь? Он ведь медведь в берлоге. Посторонних не терпит.
— А я не посторонний. Мы с детства друзья.
Управляющий пояснил:
— Я про его мысли говорю. Не любит, когда люди по-своему думают, не так, как ему хочется.
Виталий Осипович осторожно посмотрел на Волгина и, встретив его чуть насмешливый, внимательный взгляд, подумал: «Дотошный какой, все ему надо знать», и спокойно, не отводя глаз ответил:
— В общем, работаем.
— Да знаю, как вы работаете, — рассмеялся управляющий. — Дудник рассказывал.
Корнев тоже улыбнулся. Управляющий все больше и больше нравился ему именно этой своей дотошностью, которая проявлялась у него не только в деловых вопросах. Настоящий разговор, да и все поведение Волгина Корнев не склонен был считать деловым. Управляющий еще некоторое время продержал его в этом заблуждении. Посмеиваясь, он расспросил о первых шагах Корнева в леспромхозе и вдруг задал прямой и жесткий вопрос:
— Как вы думаете: справится Дудник с работой в новых условиях?
Виталий Осипович чистосердечно и пылко ответил:
— Я думаю, да.
— Мне казалось, у вас другое мнение.
— Это, наверное, от того, что у вас другое мнение? — тоже прямо поставил вопрос Корнев.
— Нет, — ответил управляющий, — такого мнения у нас нет. Мне просто надо больше узнать о Дуднике. Вас я спрашиваю потому, что объективное мнение можно получить только у настоящего друга. Враги никогда не могут быть объективны.
Корнев только сейчас понял, что в тресте известно о его столкновениях с Дудником. Скорее всего он сам и рассказал обо всем так, как оно было на самом деле, ничего не прикрашивая и не затемняя. А здесь, в тресте, наверное, создалось неблагоприятное мнение о Дуднике. Недаром же Волгин упомянул о каких-то врагах. Хорош был Иван Петрович, когда леспромхоз всю войну перевыполнял задание, но стоит человеку споткнуться, как все бросаются от него и начинают наперебой кричать, что они знали и предсказывали это, но их не послушали — и вот результат…
— Иван Петрович талантливый организатор, — деловым тоном произнес Корнев, думая, что Дудника надо защищать от нападок врагов, но Волгин перебил его:
— Поставим вопрос прямо: есть мнение перевести Дудника в трест. У нас тут очень робкие люди, а он человек с размахом. И знающий лесное дело. Ну, а насчет всяких знаний и расчетов — подучим.
Он ходил по кабинету, невысокий, чуть сутулый, и говорил, как диктовал, возводя стройное здание своих мыслей:
— Война идет к победному концу. Война кончается и, как всегда, после нее начнутся новые сражения, откроются новые фронты. Мы — коммунисты и руководители — должны быть прежде всех готовы встретить бой на любом хозяйственном участке. Запомните, товарищ Корнев: ни минуты застоя.
Продолжая говорить, он подошел к своему столу, сел и, понизив голос, значительно сказал:
— Надо думать на много лет вперед. Подумай сам, посоветуйся с народом. Вперед думайте на пять, на десять лет. Не бойтесь масштабов. Берите смелее, шире, глубже. Все ваши соображения сообщайте мне. Мы готовим наши планы для первой послевоенной пятилетки. Учтите это. Ну, пойдем в зал. Пора открывать совещание. Ковылкин подготовился? Говорить-то он не мастер…
Часть третья
ПРОГУЛКА ВДВОЕМ
С потемневших ветвей срывались комья отсыревшего снега и с шумом падали, пробивая ледяную глазурь сугробов. Тайга нетерпеливо сбрасывала с себя надоевшую за зиму одежду.
Чудесный запах хвои стоял в чистом воздухе, чуть тронутом влажной прелью. В тайге начиналась весна.
Марина, сдав дежурство, отправилась домой пешком через просыпающуюся тайгу. Она шла по автолежневой дороге, уже освобожденной от снега. Широкие деревянные пластины, подернутые ледком, блестели, освещенные зарей, как яркие ленты, стремительно брошенные вдоль просеки.
Изумительны зори на севере. Марину всегда зачаровывало богатство красок, сверкающих на чистой синеве вечернего неба.
По нежнейшим оранжевым и лиловым полосам, протянутым вдоль горизонта, нанизано ожерелье мелких облачков — золотых, синих, опаловых.
И над всем этим буйством красок и присмиревшей тайгой широко раскинулся великолепный синий бархат неба.
Марина шла по лежневке, ощущая радость, зарождающуюся в сердце. Ее каблучки четко постукивали. Может быть, впервые немного тяготило одиночество, как старая одежда, которую приходится носить.
Она выросла из этой одежды, и стук ее каблучков мог бы показаться ликующим маршем, но как он был одинок, этот стук.
Нет, она не боялась одна в тайге. Она без страха глядела на темные ряды деревьев по сторонам дороги, на редкие искривленные стволы берез, белеющие в сумраке леса. Вот громадная сосна с обломленной вершиной застыла, как орудие, нацеленное на зарю, вот безобразные корневища тянут к небу причудливо переплетенные свои щупальца, опутанные бурым мхом.
Ко всему этому, как и к таежному труду, к суровой ласке севера, привыкла московская девушка, и сама посмеивалась иногда над своими давнишними страхами.
Шагая по доскам лежневки, она увидела далеко впереди фигуру человека. Он сидел на поваленной сосне у края дороги.
Она узнала Тараса Ковылкина.
Он сдержанно поздоровался с ней, приподняв над головой кубанку, и пошел рядом, по соседней ленте дороги. Она спросила, почему он сидел здесь.
— Вас дожидался.
Она удивленно посмотрела на Тараса. На его смуглом лице, немного скуластом, по-славянски правильном, блуждала трогательная детская улыбка.
— В лесу ни одного лесовоза, думаю, вам боязно одной. Да и приустал я немного.
Он говорил спокойным окающим баском сильного человека, и Марине казалось, будто все слова, составленные из одних «о», неспешно скатываются с его губ.
Он шел слегка прихрамывая. Марина знала, что у него отморожены ноги и поэтому он не попал на фронт, что он здесь родился и вырос, отсюда ушел в армию и сюда вернулся после ранения. Молчаливый, сдержанный лесовик.
Эта сдержанность всегда нравилась Марине. Тарас часто заходил к ней в будку после работы. Сидел, говорил мало, но казалось, что если он захочет, сможет говорить без конца, и если развернется во всю грудь, то удивит всех непомерной силой своей. Был он скромен, как девушка, и трудолюбив, как настоящий коренной лесовик.
— Вы давно здесь? — спросила она, чтобы начать разговор.
— Нет, недавно, с начала войны.
— Это много. Не скучно?
— Другие больше живут. Не скучают. Я в лесу родился. Недалеко отсюда.
И, начав так, неожиданно для себя рассказал ей всю свою жизнь. Он сирота. Из детского дома попал в крестьянскую семью. Учился в сельской школе. Закончил семилетку. Сторона была лесная. Жег уголь, гнал смолу. По тихой речушке гонял лес. И снова учился. Наверное, учился хорошо, жадно, любовно, потому что, когда говорил об этом, Марина заметила, он понижал голос и лицо его светлело. Так вспоминают о самом задушевном. Закончил семилетку, собирался в техникум, но началась война с Финляндией. Потом долго лежал в лазарете…
— Почему же не учились после фронта?
Нахмурившись, Тарас сказал:
— Не до этого было. После госпиталя собирался, да тут новая война. Вот так и опоздал.
Марина заметила, что еще не поздно. Но он твердо отрубил:
— Об этом рано говорить. Вот кончится война, там посмотрим. Есть у меня план.
Но какой план, не сказал. Дальше шли молча, и Марине это понравилось: человек не должен говорить о своих планах, пока не приведет их в исполнение. Она и сама не любила говорить о своем сокровенном. Скажет, когда придет время, и тому, кому нельзя не сказать.
Как бы угадав ее мысли, Тарас повторил:
— Рано еще об этом говорить.
Когда они подходили к поселку, он сообщил, что сегодня приехала кинопередвижка.
— Пойдете?
Она согласилась, и он обещал занять ей место.
После обеда они сидели в тесном, переполненном зале. Места были не нумерованы, и каждый, купив билет, устраивался, где мог. Тарас, придя в зал спозаранку, ревниво оберегал два места — свое и Маринино.
Перед началом сеанса Марина увидела Виталия Осиповича. Он стоял, притиснутый к боковым скамейкам, отыскивая свободное место. Сама не сознавая, что делает, Марина махнула ему рукой. Он кивнул головой и начал пробираться к ней.
— Потеснимся, Тарас, — чужим, потеплевшим голосом сказала Марина.
Тарас непонимающе посмотрел на нее, потом на приближающегося к ним технорука и медленно поднялся.
— Куда же вы? — спросила она.
— Ничего, ничего, — бормотал он, наступая на ноги соседям. — Пойду к ребятам.
Корнев, усаживаясь, спросил:
— Как это вам удалось удержать место в такой сутолоке?
Глядя на широкую спину Тараса, пробиравшегося к выходу через толпу, как через густой ельник, она ответила скорее самой себе, чем Корневу:
— Сама не знаю, как это получилось.
Картина была старая, лента часто рвалась. Публика вела себя шумно, и это помогало Марине и Корневу молчать. А говорить ей определенно не хотелось. Очень нелегко расставаться со старой одеждой, с которой свыклась. А Тарас? Она никогда не думала о нем так, как подумала, глядя на его широкую спину, исчезавшую в толпе. Она обидела его, и это надо исправить.
Они вышли последними в темную таежную ночь, хрустящую легким морозцем. Идти было скользко.
— Вы домой? Или погуляем немного? — спросил Виталий Осипович и взял Марину под руку. Простота, с какой он сделал это, покорила Марину.
Не отвечая на его вопрос, она сказала:
— В такие ночи я любила бродить по Москве.
— Я мало знаю Москву. Бывал редко. Поговорим о себе. Для этого я и хотел видеть вас.
— Вы хотели этого? — удивилась Марина. — Странное совпадение желаний.
— А разве вы тоже?..
— Да, и я хотела, — ответила Марина так же просто, как он взял ее под руку. — Но теперь не так, как раньше.
Она замолчала, думая о чем-то, а он ждал разъяснения ее слов. Что произошло, из-за чего она изменила свое желание говорить с ним?
Наконец она сказала:
— Я сегодня очень нехорошо поступила с одним человеком, который не заслуживает этого. Вот и терзаюсь теперь. Собственно, я только сегодня поняла его и, кажется, совсем не понимаю себя.
— Что-то очень сложно, — заметил Виталий Осипович. — Вы не понимаете своего отношения к тому, кого обидели?
Вместо ответа Марина сказала:
— Знаете что? Расскажите лучше о себе. А я потом. Мне надо хорошо, хорошо подумать, что я должна говорить вам.
Корнев видел, что девушка чем-то очень озабочена. Кого она обидела? Но Марина молчала, и он понимал: она сегодня все равно ничего не скажет.
Он начал говорить о себе. Марина умела слушать с тем понимающим участием, которое располагает к откровенности. И незаметно для самого себя он рассказал ей то, чего еще никому не рассказывал, считая, что это интересно только ему одному.
Она слушала строго сдвинув брови. Ее бледное лицо светилось в лунном сиянии. Но в темных глазах не было блеска. Наверное, ей самой нелегко жилось в последние годы. Он сказал ей об этом. Она согласилась.
— Нелегко. У вас невеста, у меня мать, сестра. Где они, я и сама не знаю. И мы уже пережили самое страшное. Ведь даже к боли привыкли. И больше не надо говорить.
После небольшого молчания он сказал:
— Забывать тоже нельзя.
— Забывать нельзя, — согласилась она, — особенно вам.
— Почему мне особенно?
— Это надо понять так: мать и сестра — это все, что у меня было, самое родное. Было и… нет. Если они живы — это счастье. Я только теперь поняла, какое это счастье — родные, свои, любимые. Но их нет. Никогда не может быть второй матери, а значит, и сестры. А у вас, мне кажется, сложнее… Вы понимаете меня? Я хочу сказать, что вы полюбите еще…
— «Увы, утешится жена и друга лучший друг забудет», — шутливо процитировал он. — Вы так хотели сказать?
И оттого, что в шутке прозвучала горечь, Марина не обиделась.
— В общем так. И думаю, вы поняли правильно.
Конечно, он понял. Невеста, любимая, с которой он мечтал прожить всю жизнь, может и не вернуться. Сейчас он не может не любить ее, память о ней священна. Такой была его любовь. А он будет жить. Пройдет время, и в какой-то тихий час он услышит биение не только своего сердца. Так он понял Марину. И еще он понял, что у нее не было любви.
— Была, — глухо ответила она.
Была любовь, а она и не заметила. Верно, это случилось очень давно. И любовь-то была детская. Он писал ей записки о далекой звезде, которая освещает его путь, но согреть не может. Через несколько лет она прочла сборник его стихов. Там было одно лирическое о далекой звезде, которая осветила его юность.
— Это было очень красиво и возвышенно, а потому я и не поверила. А вот недавно…
Марина замолчала. Опустив голову, она шла, глядя на серебряную ленту дороги. И вдруг подняла лицо, заглянула в глаза своему спутнику:
— И вот недавно я узнала, что он любил меня всю жизнь. Всю свою жизнь.
Ее лицо оказалось так близко, что Виталий Осипович почувствовал тепло, которое оно излучало, увидел глаза, вдруг блеснувшие ярко и горячо. Казалось, тепло это струилось именно из темной глубины этих глаз.
Они остановились друг против друга. Виталий Осипович спросил:
— Он погиб?
— Да. Пойдемте обратно.
Несколько минут шли в полном молчании, и только подходя к поселку, она медленно, как бы по обязанности, проговорила:
— На днях прочла в газете. Погиб. В записной книжке нашли стихи. Они напечатаны как посмертные.
Она смотрела прямо перед собой. И снова в глазах ее не было блеска.
— Стихи о далекой звезде, которая освещает его боевой путь. И только тогда я поняла, как красива жизнь. Слов таких нет, чтобы сказать, как она бывает красива.
Они молча миновали поселок и вышли на дорогу. Снова сверкающий под луною снег, серебряная дорога и черные стены леса под серым куполом неба. И все: и небо, и лес, и снег, — казалось, не имеет границ, будто по этой дороге можно идти и идти всю жизнь.
Они шли, разговаривая о жизни. Он согласился, что если хорошо жить, то жизнь действительно очень красива. Хорошо жить? А как это — хорошо?
— Надо жить не отгораживаясь от людей.
— Это вы обо мне? — спросила она.
— И о себе тоже. Нельзя таить в себе радость и горе. Они могут задавить.
— Радость — нет, а горе — может. Но ведь у нас нет времени очень предаваться своим чувствам. Сейчас война.
— Вот именно сейчас-то и нельзя скрывать своих чувств. Ни ненависти, ни любви.
— Я так не могу, — жестко ответила она. — Знаю, тяжело. Но кому расскажешь? Вот рассказала вам.
— И стало легче?
Она повернула к нему свое бледное лицо:
— Не знаю. Уже хорошо то, что сказала.
— Вот что, Марина… — он неумышленно затянул паузу, и не потому, что надеялся, что она разрешит ему так называть ее. Он и в самом деле забыл ее отчество и у него мелькнула мысль, что она нехорошо подумает о его навязчивости.
Ей именно так и показалось, что он забыл, и она не спешила помочь ему.
— Ну, Николаевна.
Оба засмеялись. Он продолжал:
— Марина Николаевна. Спасибо, что хорошо подумали обо мне, когда доверили свое горе. Война может искалечить нас, но не может убить наши чувства. А в них-то вся красота жизни. Бороться и любить! Этого не убьешь. И будьте доверчивее к тем, кто достоин доверия.
Они вернулись в поселок поздно, когда уже погасли огни почти во всех домах.
В общежитии, не зажигая света, чтобы не разбудить девушек, она быстро разделась и легла в постель.
Одиночество — как зимняя одежда, которую мать в детстве не позволяла снять, хотя была уже весна. Приходилось долго доказывать, что давно уже «все, решительно все надели весеннее пальто», пока ей не разрешали сделать то же.
Сейчас приходилось доказывать самой себе. Она готовилась к этому, пока не догадалась, что совсем не нужны ее доказательства — весна уже пришла.
На следующий день вечером, возвращаясь с работы, Тарас зашел к ней в диспетчерскую, будто ничего не случилось. Это удивило ее.
— Я виновата перед вами, Тарас, — сказала Марина, когда они вдвоем шли домой по темнеющей просеке.
— Ни в чем я вас не виню, — хмуро ответил он.
— Я просто не подумала, что вы уйдете.
Тарас помолчал, потом сказал медленно:
— Конечно. Мне не надо было уходить. Виталий Осипович мог подумать…
— Он ничего не заметил, — перебила Марина. — И совсем не в том дело. Пусть бы даже все видели.
— А какое мне дело до всех? — спокойно сказал Тарас. — Я с утра жду, когда придет вечер. Вот что, Марина Николаевна.
Он улыбнулся виновато и, сняв кубанку, провел ею по разгоряченному лицу.
— Может быть, вам скучно со мной. Я вчера так и подумал…
Опустив голову, Марина смотрела на хрупкую ледяную корочку, покрывающую доски лежневки, по которой она должна пройти и оставить след. Льдинка тихо зазвенела под каблуком.
Она сказала:
— Нет, Тарас. Мне не скучно с вами. Я очень ценю вашу дружбу.
ОТЕЦ И СЫН
Да. Так обернулось дело, что пришлось задуматься. Большая ответственность легла на плечи Афанасия Ильича, и в этом надо разобраться. Чувства — к черту, ничего хорошего они не подскажут. Тут надо подумать.
Не от жгучей тоски, не по прихоти усыновил он осиротевшего Гришу. По велению сердца сделал он это. И считает — сделал правильно, а отступать не в правилах Петрова.
Гришка хороший парень, но очень уж привык бродяжить, да, по правде сказать, в такой дом, где нет ни тепла, ни уюта, не особенно и тянет.
Гришка — хороший. У Петрова не было детей, не успел завести, но сейчас ему кажется, что если бы у него был сын, то обязательно такой, как Гришка, — лобастый, скорый на слово, горячий в деле паренек. Только сыновней привязанности у него было бы побольше. Гришка — диковатый парень. Хлебнул горького до слез.
Вот и надо так повести себя, чтобы знал Гришка свой дом, своего отца и знал, что отец, хоть и приемный, — первый друг и советчик. Но должен он знать также, что сердце у отца нежное, а характер, между прочим, твердый.
Шел Афанасий Ильич домой и думал. Вот сейчас затопит он печурку, наведет мало-мальский порядок, а Гриша? Придет ли он?
Как это вчера все получилось? У Петрова дрогнул небритый подбородок и нежная улыбка заиграла на лице. Да, как вчера. «Гриша, сынок, сегодня вечеруем вместе». «Есть, товарищ отец!» Он так и зовет приемного своего батьку. Пришли вместе домой, натопили печь. Ужинать в столовке не стали, Гриша сбегал за котелками, принес домой. Вскипятили чайник с жидкой кофейной заваркой. И все так хорошо получилось, по-семейному. Сидят отец с сыном, толкуют о войне, о третьем фронте и о том, что надо поэтому лесовозы гонять без передышки. Хоть газогенераторы — старые самовары, но на то и шоферы, чтобы машины работали.
Так сидят и толкуют, как отец с сыном, как друзья. А потом? Эх, не совсем хорошо это вышло. Как раз перед этим получили известие, что прибывает одна новая машина. Не совсем новая, из заводского ремонта. Гриша и закинул удочку:
— Дай мне ее.
— Нельзя, сынок.
— Я знал, ты скажешь — нельзя. Я у инженера спрашивал, он не возражает. Говорит, на усмотрение завгара.
— Ну так я возражаю, — как можно ласковее и убедительнее ответил Петров и начал приводить доводы: — Во-первых, я кто? Парторг и завгаражом. Скажут: вот новую машину сынку дал. Во-вторых, ты кто? Сын парторга. Должен и на старой машине не хуже других работать.
Лицо Гриши помрачнело.
— Так это, выходит, мне всю жизнь на старых машинах работать? — проговорил он. — Вот спасибо.
— Эх, Гриша!
— Ну что Гриша… Ты разговоров боишься, а еще партийный.
Тут уж не выдержал Афанасий Ильич. Сухо сказал, что это не Гришиного ума дело и вообще пора спать. Надо бы по-хорошему поговорить с парнишкой, он ведь ребенок еще. А вот не сумел партийный руководитель с собственным сыном сговориться. Нехорошо.
Спать легли молча.
Утром Петров, как всегда, разбудил его:
— Гришутка, сынок. Пора.
Гриша заворочался под одеялом, совсем по-ребячьи потер кулаками сонные глаза и, ощутив на голове жесткую руку, погладил ее своей теплой, в мозолях и ссадинах, ладошкой. Эта ласка умилила Петрова. Непривычное чувство отцовской нежности охватило его.
— Вставай, сынок, вставай! — теребил он спутанные Гришины волосы.
Тот быстро сбросил одеяло, вскочил, сонными глазами глянул на Петрова. И вдруг лицо его посуровело. Он вспомнил вчерашнее.
Молча позавтракали, молча вышли из дома.
— «Ничего, — думал Афанасий Ильич, — ничего. У тебя характер и у меня тоже. Испытаем, чей крепче».
Как только Афанасий Ильич появился в гараже, ему позвонил Корнев.
— Я на бирже, — сказал он. — Узнай немедленно, почему не везут сваи. Или лучше поезжай сам и отгрузи четыре машины.
Петров ответил, что сейчас едет на лесной склад и оттуда, из пятой диспетчерской, позвонит. Он остановил попутную машину. Оказалась как раз двенадцатая. Гришина. Сменщик сказал, что Гриша, как всегда, ждет смены у главной диспетчерской.
Было еще темно, и только небо слегка зарумянилось над самыми вершинами леса. На площадке у диспетчерской стояло несколько машин. Шла пересменка. Гудели моторы, хлопали крышки бункеров, выпуская клубы ядовитого желтого газа. Перекликались шоферы хрипловатыми с утра голосами.
Гриша очень солидно подошел к машине, очевидно предупрежденный своим сменщиком, что в кабине сидит Петров. Так же солидно он молчал всю дорогу. Афанасий Ильич делал вид, что дремлет. Только когда подъезжали к складу, он сказал коротко:
— Проезжай в конец, под сваи.
Поставив машину под погрузку, Петров помог погрузить тяжелые сырые бревна и, чуть улыбаясь в усы, думал: «Какой самолюбивый, чертенок! Интересно, надолго у него горючего хватит?»
Потом начался день, наполненный заботами, делами, — одно важнее другого. На складе пробыл часа два, поехал на биржу, где Корнев, весь перепачканный в земле и саже, помогал обжигать и ставить сваи. Петров взялся было помогать Корневу, но тот, вытирая пот рукавом новой, но уже безнадежно испачканной телогрейки, сказал, что надо поехать в поселок, распорядиться, чтобы привезли завтрак для грузчиков, которые, отработав смену, остались помогать строителям эстакады.
— Еще спрошу тебя, Афанасий Ильич, как думаешь, если часть людей из конторы сюда на денек?
Петров ответил, что поговорит с Дудником.
Они вытерли руки снегом, закурили, и Виталий Осипович вскочил на проходящую машину, указывая шоферу, куда свалить сваи. Корнев сам помогал сбивать замки стоек, сдерживающих воз. С грохотом скатывались тяжелые бревна в мокрый снег; их тут же подхватывали и тащили на костры обжигать.
Уходя, Петров еще раз увидел Виталия Осиповича — мелькнуло его лицо, освещенное пламенем костра, ослепительно блеснула полоска зубов. С двумя рабочими инженер поворачивал сваю в костре. Густые клубы черного дыма скрыли его, а когда дым рассеялся, Виталия Осиповича уже не было у костра.
Вдоль железнодорожной ветки высились сваи, вкопанные в землю. Ближе к выезду с биржи группа женщин копала ямы для нового ряда свай. Среди работающих Петров увидел Женю и Валентину Анисимовну. Одинаково одетые в старые ватники, они очень походили друг на друга, как мать и дочь: круглолицые, ясноглазые, обе работали энергично и весело.
Женя что-то сказала и засмеялась. Валентина Анисимовна воткнула лопату в землю и, убирая выбившуюся из-под платка прядь волос, тоже засмеялась…
Петров шел по дороге к поселку, а в памяти еще звучал веселый женский смех, поднимая из глубины души тоску, которую он так старательно заглушал в себе. Он думал, что вот так же могла работать и смеяться та, которая никогда уже не будет ни работать, ни смеяться. Он не хотел думать об этом. Мысли о жене возникали сами собой, помимо воли. Так не думает грузчик о своей ноше, но она все-таки тяжестью лежит на его плечах.
Это не может долго продолжаться. Жизнь, которую он строит, предъявляет свои права, требуя неусыпного внимания. И он целиком отдается работе — так легче, так можно не думать о своем горе.
Поздно вечером он пришел домой. Гриши не было. Не зажигая огня Афанасий Ильич сидел у стола и гонял по липкой клеенке хлебные шарики. Снова, как и утром, зашевелилась в груди тяжелая тоска. Нет, нельзя быть одному.
Он встал и пошел искать сына. В диспетчерской узнал — двенадцатая в гараже. Гриша, сдав машину, должно быть, ушел в общежитие.
«Ничего, пусть пробегается», — подумал Петров, но, подходя к дому, снова вспомнил о пустоте и холоде неуютной, неприбранной квартиры и ужаснулся. Как он до сих пор мог мириться с одиночеством?
Он постарается сделать все для того, чтобы Гриша понял, что ему нужен теплый дом, старший товарищ и родной человек.
Он решительно повернул к общежитию. Надо настоять на своем. Сын, если уж он стал сыном, должен повиноваться отцу. И нечего с молодых лет от дома отбиваться. Он поговорит с ним. Уж сегодня они сумеют столковаться.
Но все его добрые намерения были разбиты: в общежитии Гриши не было. Потолковав для порядка с шоферами о положении на фронтах и о положении в гараже, что сейчас связывалось в один тугой узел, Петров вышел из общежития. Домой не тянуло. Решил дойти до гаража, заняться каким-нибудь делом. А с Григорием — завтра же поговорить, как начальник и как отец. В общем, как равный с равным. Этих фокусов он не допустит.
В ремонтной мастерской горел свет и слышен был шум мотора. Кто-нибудь из механиков заработался. Он прошел по полутемному гаражу, привычно минуя ремонтные канавы, и остановился около неплотно притворенной двери. Оттуда доносился только шум токарного станка да шорканье напильника. Но вот токарь перевел ремень, и он захлестал на холостом ходу. Смолк и напильник.
— Пойдет! — раздался звонкий мальчишеский голос, который Петров узнал бы из тысячи голосов. — Зашплинтуем — и пойдет.
Парторг потер жесткий подбородок и улыбнулся, спокойно и одобрительно, постоял еще немного, дожидаясь, когда заработает станок, чтобы уйти незаметно. Тут и придраться не к чему. Люди работают, а шофер помогает им ремонтировать свою машину. Хотя это и не его дело. Ему утром на работу, а он вот что придумал. Но что ему скажешь? Делает не плохое дело, отличное дело делает! Вот ведь упрямый парень. Вообще надо его подтянуть, чтоб не таился: какой ни есть, а отец. Законное дело. В паспорте записан: сын Григорий Афанасьевич Петров. Понимать надо. Ну, ладно. Пусть работает.
Решив подождать сына у гаража, Петров вышел на площадку и встретился с Корневым: он шел прямой, по-военному подобранный, в том же самом ватнике, что и утром.
— А я тебя ищу, Афанасий Ильич. Зайдем ко мне.
В крошечном кабинетике было тепло и чисто и, как всегда, по-рабочему уютно. Ничего лишнего, и все на месте. Стол со стопкой чертежей, без единого чернильного пятнышка, шкафчик с деталями машин и книгами наверху, прислоненная к стенке чертежная доска, на стене — рейсшина, лекала, телефон. В углу вешалка, у стола две табуретки. Вот и все убранство.
Корнев повесил испачканную свою телогрейку на вешалку и, расчесывая взлохмаченные волосы, на ходу бросил:
— Завтра надо в чуркорезку послать двух слесарей. Будем переделывать сушилку. Печи эти долой, трубы перегорели. Выкинуть! Иди-ка сюда.
Он разложил на столе чертежи, Петров придвинул табуретку поближе, ожидая объяснений, но Корнев посмотрел на него с укоризненной улыбкой.
— Знаю, — сказал Петров. — Сегодня бриться приспособился, да вот парнишка мой от рук отбивается. И вообще, скажу я тебе, не легкое это отцовское дело.
Корнев сел против него за стол. Подумав секунду, быстро спросил:
— Неужели некому убрать в комнате, истопить?
— Это я и сам умею. Времени нет.
— Нет времени, попроси кого-нибудь.
Афанасий Ильич отмахнулся:
— Ну, ладно. Это дело второстепенное. Давай о сушилке.
— Нет, погоди, — не сдавался Корнев. — Ты партийный руководитель. Я — администратор. Мы рабочим создаем условия для отдыха, а для себя, что же — права не имеем? Рабочие приходят в общежитие, там все убрано, тепло, светло. А почему завгар, который работает больше любого рабочего и у которого ответственности в десять раз больше, должен сам таскать дрова и мыть пол? Это, по-моему, ложная и вредная стыдливость. Понял?
— Понял, давай о деле.
— Я о деле и говорю, — с нажимом произнес Корнев. — Не могу разговаривать с небритым человеком. Я думаю, ты на фронте не забывал бриться.
— Вот далась тебе моя борода! Нарочно брить не стану. Отпускаю для солидности. У меня сын взрослый — чтоб уважал.
— Ну ладно. Я тебя по административной линии образую. А сынишка у тебя герой! — широко улыбнулся Корнев. — С башкой парень. Знаешь, что выдумал? К машине второй прицеп.
— А машина возьмет?
— Старые не все. А новая — безусловно.
— Новую я ему не дам, — отрезал Петров. И рассказал, почему нельзя посадить Гришу на новую машину. Корнев согласился: если дело приняло такой оборот, то — нельзя.
— Но надо, понимаешь, надо. Предложение-то дельное.
— Сам знаю. Если бы он сразу сказал о втором прицепе. Как отцу сказал бы, — с горечью произнес Петров. — А то ведь не сказал. А? Сидим с ним вечерами, обо всем, кажется, переговорено. Он парнишка, надо тебе сказать, очень толковый. Спроси его, что на каких фронтах, — все знает. В политшколе первый. Читать любит. Под погрузку встанет, сейчас же книгу из-под сиденья — читает. А по вечерам я ему о политике, любит слушать, а он мне — что прочитал. Понимаешь, друг друга вверх тянем.
Петров вздохнул.
— А об деле не сказал. Ладно. Я вот что решил. Вы ему скажите, пусть у меня еще попросит да скажет, для чего. Передачу машины проведем приказом по гаражу, чтобы никому обидно не было. Дело такое, что отцовское самолюбие на сей раз показывать не годится.
— Ясно, — подытожил Корнев. — Значит, бороду сбрить придется. — Он рассмеялся так широко и весело, что Петров не подумал обидеться.
— Ну давай твои чертежи. А об этом прицепе мне потом подробнее расскажи, со всеми техническими данными. Я ему покажу, как отца не уважать!
Когда Петров ушел, Виталий Осипович позвал к себе Гришу. Тот пришел вытирая руки паклей.
— Расчеты мы с тобой сделали, прицеп оборудуем, а машину завгар даст? — спросил Корнев.
Гриша удивленно посмотрел на инженера и одним духом, как давно решенное, выпалил:
— Как же не даст! Вы прикажите…
— Погоди, погоди. Во-первых, я этого приказывать ему не могу. Он отвечает за машины и за расстановку людей. Я думал, ты уже с ним договорился.
Гриша вскочил с табуретки.
— Да я ему говорил. Не дает. Потому что сын, вроде по-родственному, другие обижаться будут…
— А ну сядь, — строго и спокойно приказал Корнев. — Ты не маленький. Надо уметь себя держать, когда разговариваешь со старшими. Если бы я знал, что ты ничего не сказал завгару о своем предложении, я бы сам ему об этом сказал. Посоветовался бы. У него такой опыт, что нам с тобой далеко до него. Машины он знает у нас лучше всех. Ты про свою машину того не знаешь, что он знает. Вот мы тут сидели сейчас. Да не вскакивай ты! Мы проверили наши расчеты. Он нашел ошибки. Оказывается, износ машины в расчет я и не принял. Он, брат ты мой, не только политически грамотен, он и технику знает, дай боже каждому! Понял?
— Понял, — просиял Гриша. — Я вам скажу, почему я не говорил ему. Боялся.
— Чего?
— Думал, тогда он и совсем не разрешит.
— Напрасно так думаешь. Он мне ничего не сказал. С твоим предложением согласился. А в общем, выкручивайся, как знаешь. Да не три руки паклей, насквозь протрешь. Я тебе советовать не стану. Предложение твое дельное, как инженер, я его принял, с завгаром согласовал, а кто будет выполнять, договорись сам. Понял?
— Понял, — упавшим голосом согласился Гриша.
— Ну, раз понял, иди и выполняй.
СЫН И ОТЕЦ
Афанасий Ильич с улицы не мог видеть окон своей комнаты. Он вошел в темный коридор и только тут заметил полоску света под дверью.
«Вернулся орел», — подумал он и постарался принять вид, какой, по его мнению, подобает оскорбленному, но справедливому в своем гневе отцу. Громко топая, он решительно прошел по коридору, толкнул дверь и остановился в замешательстве.
Комната, довольно запущенная холостяцкая комната, сейчас сверкала чистотой и уютом. Теплом веяло от печурки; на ней в чистых, блестящих кастрюлях и чайнике что-то кипело, обещая хороший ужин. Никаких сомнений относительно того, что здесь хозяйничали женские руки, быть не могло.
Да и сама обладательница этих заботливых рук находилась тут же. Это была Ульяна Демьяновна Панина.
Он стоял на пороге, не вполне еще поняв, что здесь происходит, а она просто посоветовала:
— Ну чего помещение студите? Входите, Афанасий Ильич.
Петров вошел, вежливо затворив за собой дверь. Затем он долго вытирал ноги о старый половичок, специально для этого брошенный к порогу. Разделся, повесил куртку и шапку на вешалку у двери.
Фыркая больше, чем надо, он долго умывался, до тех пор, пока не заскрипела кожа на крепких ладонях. Панина подала ему полотенце, он взял его не без опаски: такой оно было снеговой белизны.
Наконец он сел к столу, она села против него, положив странно маленькие, но, наверное, сильные руки на белую скатерть.
— Вот теперь объясните, — свертывая папиросу, начал он, но Панина перебила его:
— Хоть спасибо-то скажете или сразу ругать начнете? Да не сорите табаком на пол. Завтра зайду проверю, как вы умеете чистоту соблюдать.
Афанасий Ильич хмуровато глянул на нее. Она смотрела прямо в глаза, спокойно, без тени улыбки, так что ему пришлось изменить тон.
— Я, конечно, очень благодарен. Только как-то неожиданно. — И ворчливо добавил:
— А вообще я не просил. Есть уборщицы, они и должны. Конечно, за вашу заботу спасибо.
Панина спокойно убрала руки под фартук, и если бы Петров лучше знал женские повадки, то понял бы, что сейчас ему будет выговор. Но он этого не знал и подготовиться не успел. Она спокойно, как и все, что делала, начала его отчитывать:
— Не просил? А вас кто просил подобрать сироту-парнишку? Никто не просил. Сами. Так и меня просить не надо. Вы уже отблагодарили меня и всех вперед на много лет. Я давно смотрю, как у вас парнишке живется. Вижу — хорошо. Вы думаете, я этого не понимаю. Сама мать. И кто чужое дитя приветит, для меня самый человек дорогой.
Она словно одарила Петрова редкостной своей улыбкой.
— Поняли? Ну и не будем считаться.
— Ну, ладно, — сдерживая волнение, проговорил Афанасий Ильич, — дайте руку. Большое вам спасибо, Ульяна Демьяновна.
— Не за что, — вежливо, как отвечает хозяйка благодарным гостям, сказала Панина. — А Гриша где?
— Гриша? Тут вот какое дело получилось, — ответил Афанасий Ильич и рассказал все, что произошло и что он по этому поводу думает.
Она выслушала с большим вниманием, вздохнула сочувственно:
— Да, с детьми трудно. Своих и то не всегда поймешь, а тут все-таки свой, да не совсем. Я вам как мать скажу. У меня детишки-то маленькие еще.
Она внезапно остановилась. Странно заблестели глаза. Петрову показалось, что это слезы, но блеск так же мгновенно потух, как и вспыхнул.
— Вот, все прошло. Может, живы еще. Война кончится, искать поеду. Так вот. Маленькие у меня детки-то, и то глядеть надо, кто что задумал. Сразу не доглядишь, потом хуже будет. А у вас парень большой. Вы с ним, Афанасий Ильич, как товарищ с товарищем говорите. Не напускайте на себя гордости, что я, мол, большой, а ты еще недоросточек. А Гришка-то ведь мальчонка еще. Пусть он вас как старшего уважает. Вот тогда и будет у вас согласие во всем. Это большую сноровку надо иметь — детей растить.
Речь ее лилась просто и плавно, как широкая благодатная река; ее хотелось слушать и слушать, эту простую русскую мать. И Петров отдыхал, наслаждаясь теплом и чистотой. Давно так мирно не было на душе его. А она все говорила простые, обычные слова:
— Вот и мне радостно. Я ведь домашность люблю. На работе будто устала, а пришла сюда и прибираю как в своей хате. И все мне мило. Занавесочки еще тогда нашла, когда белье у вас стирала. А вы и не знали. Гришутка мне белье-то дал. Сюда на стену картину бы надо. Не люблю, когда стена пустая. За ужином в столовую сходила. Повар наливает и спрашивает, не замуж ли я за вас вышла. Ну я ему ответила — больше не спросит.
Афанасий Ильич глубоко вздохнул и, как бы оправдываясь, заметил:
— Всякий бывает народ.
— Бывает, — согласилась Панина, — всякий бывает. А хороших у нас больше. Хороший народ. А позубоскалят, так мне от этого не убыток. Да я и сама люблю посмеяться, когда душа на месте.
Петров спросил, как она попала в его квартиру. Не Виталия Осиповича это выдумка?
Оказалось, Корнев здесь ни при чем. Приходила уборщица из конторы, когда Ульяна Демьяновна уже хозяйничала в комнате. Посидели, поговорили, сколько положено для порядка, и уборщица ушла, по-своему истолковав хозяйственный тон Паниной. Пусть думает что хочет, от этого никуда не спрячешься.
— А ключ я у Гриши взяла. Я ему бельишко стирала, когда он еще в общежитии жил. Ну он мне и отдал, ключ-то. Вот теперь вы все знаете.
В коридоре застучали подмерзшие валенки.
— Вот он идет, — встрепенулась Панина.
Гриша сбросил валенки и снял комбинезон у двери. Долго мылся, отфыркиваясь и звонко повизгивая от холодной воды.
— Ну, не балуйся! — строго покрикивала на него Панина.
— Да вода ледяная же!
— Ничего, здоровей будешь. Да нагнись ниже, ниже. Ишь, весь пол залил.
И вот он, умытый, сидит против отца. Панина отошла, к печурке, занявшись ужином.
Отец молчит и курит. Сын поглядывает исподлобья и тоже молчит. Панина поняла: Гриша стесняется начать разговор при ней, и вышла на несколько минут в сени. Когда она вернулась, Петров хрипловатым от волнения голосом спрашивал:
— Ты что же думал, отец у тебя вовсе в технике дурак? Думал, а?
— Нет.
— Врешь, думал. Я, брат, все видел и молчал. Хотел, чтобы ты сам все понял. Не маленький. И вот давай, чтобы нам в дружбе жить, не таиться друг от друга. Что думаешь, то и говори. Хочешь так? По-товарищески. Я — коммунист, ты — комсомолец. Нам хвостом вертеть да фокусы друг другу показывать не годится. Понял?
Гриша вскинул голову, выпрямился, ясно блеснули его глаза.
— Понял.
— То-то. Это ценить надо. Ну, давай лапу. Изобретатель.
Они пожали друг другу руки. И, давая понять, что торжественная часть окончена, Петров будничным тоном разъяснил сыну:
— Завтра подашь заявление по всей форме, вот тогда и посмотрим, дать тебе машину или нет. Инженер поддерживает, а то бы не дал. Смотри, не осрамись только.
— Ужинать, — прервала их беседу Панина, ставя на стол фанерный кружок под кастрюльку.
ЖЕНЯ ВЫЯСНЯЕТ ОТНОШЕНИЯ
Марина никогда не опаздывала. Уверенная в аккуратности подруги, Женя вышла из будки встречать ее. Марина приедет на тридцатке. Мишка всегда подгоняет последний рейс с таким расчетом, чтобы на обратном пути захватить Женю.
Теплый ветер шел над тайгой, сшибая остатки снега с зеленых вершин. Сосны тихонько шумели. Старушки-ели раскачивали свои замшелые лапы над диспетчерской.
Издалека донесся сигнал идущей машины. Негромко, словно вздохнув, ответило эхо многоголосым хором. Замелькали яркие звездочки фар, но чем ближе они, тем желтее становится их свет. Женя не пошла навстречу машине. Она знала — это тридцатка и нечего ей тут задерживаться, может отправляться под погрузку.
Но машина подошла и встала.
В кабине трое. У Жени упало сердце. Рядом с четким профилем Марины его бледное лицо.
Виталий Осипович вышел первый и помог Марине сойти, как будто она сотни раз сама не прыгала из машины. Подумаешь, нежности какие! Вышла и даже не посмотрела на Виталия Осиповича. Гордо неся голову, она подошла к Жене, как-то мимоходом обняла ее за плечи, негромко сказала:
— Доброе утро, Женюрочка.
И ушла в будку.
Корнев что-то наказывал Мишке, тот понимающе кивал головой, а сам торжествующе поглядывал на Женю. Она хотела уйти, но в это время Виталий Осипович повернулся к ней.
— Здравствуйте, ночная бабочка, — сказал он, протягивая Жене руку.
Нет, это ей не показалось. Его лицо, всегда хмуроватое, освещала улыбка.
Она обреченно вздохнула, подала ему пухлую теплую руку. Нет, не ее любовь то солнце, которое осветило его лицо. Но это длилось одно мгновение, он озабоченно сказал, что если будет звонить Дудник, то предупредить — он на делянке у Ковылкина.
— Отчего вы такая хмурая? — спросил он.
Женя довольно твердо ответила, что, наверное, во всем виновата бессонная ночь. Губы ее дрогнули.
«Как вишни на заре», — подумал Корнев, вспомнив другие зори и другую девушку, и сразу помрачнел.
— Ну, всего хорошего, — упавшим голосом проговорил он и пошел в лес по лесорубной тропе.
Женя смотрела на его мелькавшую между темных стволов спину. Хотелось, очень хотелось броситься за ним и, как великую милость, попросить переложить тяжелый груз его страданий на ее плечи.
От таких мыслей ее оторвал Мишка:
— Женька!
— Ну, что тебе? — простонала она.
Он подмигнул в сторону, куда ушел Корнев.
— Видела? Ничего тебе тут не отломится.
— Ф-фу! Глупо до чего!
— Постой. Не фыркай. Не газуй под горку.
Он торжествующе посмотрел на нее.
— Найди его портрет, повесь на стенку. Герой, да не твой.
Женя подняла голову. Какой дурак! Она медленно махнула ему рукой.
— Не загораживай путь. Можешь ехать. У меня на линии таких, как ты, пятнадцать, и все на лесовозах. Газуй!
И, повернувшись, пошла в диспетчерскую, гордая, неприступная.
— Эх, жизня! — отчаянно махнул рукой Мишка и полез в кабинку.
Марина сбросила с головы на плечи пуховый платок; на ней был синий берет — тайная Женина зависть. Под белым кожушком, распахнутым на груди, — клетчатый джемпер, белый шарфик, как нежное облачко, обвивает тонкую шею. Умеет одеться Марина. Ничего не скажешь. И всегда одевается одинаково: не хуже, не лучше, чего даже сейчас Женя не могла не отметить. Но это признание, конечно, не могло успокоить ее.
Ей очень хотелось сказать Марине что-нибудь очень сильное и, может быть, даже обидное, но она не знала, с чего начать.
Марина подошла к печурке. Ну, конечно, со своими переживаниями Женя забыла даже вовремя подбрасывать Дрова. Дров тоже нет. Присев около топки, Марина увидала печально дотлевающую головню. И ни одной сухой щепки поблизости не было.
— Хоть бы чурок взяла у этого твоего вздыхателя, — сказала она, поднимаясь. — Где топор?
Газогенераторные чурки — топливо для лесовозов — были на особом учете. Пользоваться ими для отопления строго воспрещено. Но каждая уважающая себя росомаха имела тайный запас чурок, возобновляемый неравнодушным к ней шофером. А если все шоферы оставались почему-либо равнодушными, то чурки просто воровались из бункерного ящика.
— За чурки ругаются, — сухо ответила Женя.
— Кто?
— Корнев.
— Н-ну!
И тут Женя дала себе волю:
— Ах, значит, он для тебя уже «н-ну!» Не знала. А я думала, все это — разговоры. Значит, это верно, да?
Отчаяние, злость, внезапные слезы, которые никак нельзя удержать. Женя не владела собой. Это не удивило Марину. Очередной припадок влюбленности. Она, как можно сердечнее, спросила:
— Влюбилась, Женюрка?
Но Женя с такой горячей страстью, с такой болью сказала «да», что Марина поняла — это не на шутку.
— Ну, тогда давай выяснять отношения. Я тебе, как говорится, не соперница. Глупости все это, Женюрка.
Марина улыбнулась, и Женя поняла: верить ей нельзя.
— Ну, вот, слушай. У него невеста есть. Он ее очень любит, а ее немцы угнали. А твоя любовь на один день. И не забивай ты себе голову и ему. Ему невозможно даже думать об этом.
Женя не стала больше сдерживать слез.
— Глупой любовью своей не утешишь его.
— Глупой! А ты? У тебя. Маринка, очень все умно получается!
— А у меня ничего не должно получиться. Я надеюсь только на дружбу с ним.
Женя вытерла глаза. Вздохнула.
— Нет, я не могу так. Как-то у тебя все получается как в книге. А я вот люблю и ни о чем уже думать не могу. Люблю, и все тут. Я не могу ждать, пока кончится эта проклятая война.
Марина хотела улыбнуться покровительственно — «дура ты, Женька», — но вместо этого строго посмотрела на подругу, сказав:
— Ну, хорошо. Давай договоримся.
Но Женя так и не узнала, о чем тут можно договориться. Зазвонил телефон. Начальник лесоучастка приказал немедленно разыскать Корнева и сказать ему, что его срочно вызывают к телефону из леспромхоза.
— Сходи, Женя. Только вытри слезы и вообще без этих глупостей. Мы еще поговорим, и ты узнаешь, почему я не могу полюбить сейчас.
Женя не шла, а летела по лесным тропам. Нет, Марина ни в чем ее не убедила. Она просто, наверное, сама его любит. Но она честный человек: если уж говорит, значит, так и есть на самом деле.
Вот и пасека. На вырубленной поляне торчат из осевшего снега черные пни. В лес уходят прямые ленты штабелей. Снег примят, как после битвы. Здесь человек побеждает тайгу.
Десятник объяснил, где найти Корнева. Он у Ковылкина, смотрит, как лесоруб, вернувший себе первенство по тресту, применяет сбой метод.
Это очень несложно, что придумал Тарас. Он даже и не придумывал, работа сама подсказала. Валил он на одной делянке. Три его помощника следом за ним разделывали хлысты и убирали порубочные остатки. Они мешали ему, он мешал им. Тарас беспокоился, как бы кого не задеть, а его помощники, в свою очередь, опасливо поглядывали на каждую падающую сосну. Нередко им приходилось бросать работу и поспешно отбегать в сторону, пережидая, пока упадет сосна. Как ни валит Тарас, но все может случиться, особенно, если такой ветер, как сегодня.
Тогда Тарас придумал: работать сразу на двух соседних делянках. На одной свалит несколько деревьев — переходит на другую. В это время его помощники спокойно работают на первой делянке. Все успевают, и выработка повышается. В первый день его звено дало двадцать восемь кубометров, на второй — тридцать, на этом и утвердились.
— Не только хребтом надо валить лес, надо еще думать, как валить, — это сказал Тарас, когда его, спрятав гордость, вызвал к телефону сам Мартыненко.
Сегодня еще пятеро лесорубов валили лес по-ковылкински, но пока никто не сравнялся с ним.
Женя шла по дороге, сторонясь лошадей, везущих длинные, с блестящими каплями смолы на торцах, бревна.
Она сразу заметила Виталия Осиповича. Он стоял, не видя ее, и свертывал папиросу. Вот он, не торопясь, пошел к костру и, присев около него, начал добывать уголек для прикурки. Его лицо было сосредоточенно и сурово, как всегда, когда человек прикуривает.
Горячая нежность поднялась в ее груди. Беспокойно стукнуло сердце. Какая сила нужна, чтобы сдержать себя и не показать, что любишь, любишь до изнеможения… Нет, такой силы у Жени не было. Она — не Марина, холодная и рассудительная.
…Все произошло мгновенно. Она очнулась на руках у него. Он нес ее, спотыкаясь в избитом снегу. Хорошо. Даже боль во всем теле была приятна. Ведь эта боль из-за него. Это для него, спасая его, бросилась она под эту сосну.
Она покачивается на его руках. Какие сильные, какие дорогие руки! Наверное, ему тяжело — ведь она не легкая. Как болит спина!
Подбежал Тарас. Это он валил сосну, когда Женя увидала Виталия Осиповича. Он пилил и чувствовал, как ветер помогает ему, напирая на вершину. Он не видел, что по ту сторону огромного костра сидит человек и прикуривает.
Тарас даже не успел крикнуть: «Бойся!», как сосна пошла, отклоняясь под напором ветра от заданного направления, прямо на костер. Секунда — и она накроет Виталия Осиповича, сомнет его, бросит в жаркий огонь костра.
Женя все это видела и, не раздумывая, бросилась под падающую сосну. Ей удалось тяжестью своего тела оттолкнуть его, но сама она не успела отбежать в сторону. Сосна с размаху накрыла ее своей вершиной и бросила в снег.
Виталий Осипович ничего этого не видел. Он только собрался прикурить и уже поднес к папиросе тлеющий уголек, как вдруг заметил, что над головой внезапно выросли искривленные ветки, показавшиеся совершенно черными в посветлевшем утреннем небе. Он еще не успел сообразить, что происходит. Тут же на него упало что-то теплое, мягкое, отбросив его от костра.
Густая пушистая вершина прижала их обоих, обсыпав снегом и хвоей.
Подбежал Тарас, двумя отчаянными ударами отсек вершину сосны и откинул ее в сторону. Женю подняли без памяти. Виталий Осипович вскочил на ноги. Увидев Женю, лежавшую на снегу, он все понял. Он поднял ее на руки и понес. Его догнал Тарас с помощницей Ульяной Паниной.
— Идите! — крикнул Виталий Осипович. — Донесу сам.
— Подождите. Сейчас будет лошадь.
Виталий Осипович сел на грядку лесовозных саней, неудобных, предназначенных для перевозки леса. Поправляя истерзанный Женин кожушок, Панина сказала:
— Вот она, любовь-то, какую силу взяла. Эти слова не сразу дошли до сознания Виталия Осиповича. Он сидел на узком брусе грядки, упираясь в полозья ногами. Было очень трудно удерживать равновесие на раскатах наезженной лесовозной дороги. Перед ним на полозьях стоял паренек в старом овчинном полушубке и погонял коня непрочным мальчишеским басом:
— Н-но, не отставай!
И тянул простуженным носом.
С трудом удерживаясь на неудобном своем сиденье, Виталий Осипович старался как можно бережнее держать девушку. Он смотрел на ее лицо; встречный ветер смахнул со лба легкие завитки волос. Женя была бледна. Снежинки таяли на щеках, на круглом подбородке и скатывались, как тяжелые слезы.
Губы, которые недавно напоминали ему две вишни, сейчас также были похожи на вишни, но не созревшие еще. И, что было непонятно, — она улыбалась.
Тогда он вспомнил все сразу: и слова Паниной, и странное дрожание губ этой девушки, когда он утром уходил в лес. Смутная догадка пронеслась в его голове. Так это значит — она его любит? Спасла любя?
Он понял, что на эти вопросы ему сейчас никто не ответит. Во всяком случае. Женя сейчас не может ответить.
ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ
В больницу к Жене никого не пускали. Приходила Марина, ее успокоили, что все обошлось благополучно, и пообещали разрешить свидание дня через три-четыре. С Мишкой Бариновым даже разговаривать не стали. Он до тех пор заглядывал во все окна больницы, пока санитар — дядя в сером халате — не пригрозил ему увесистым кулаком.
Виталий Осипович долго сидел в кабинете у главного врача, высокого пожилого человека с очень молодыми озорными глазами, слушая медицинские анекдоты. В промежутках между анекдотами врач сообщил, что все хорошо, недельки через две Женя будет здорова.
— Такая мягкая девушка. Тело, как мячик. Вот если бы ваши кости под такую сосну попали, пришлось бы вас, дорогой мой, в гипсе подержать. Спасла вас от больших неприятностей эта девушка. Ничего, мы поставим ее на ножки.
Так и ушел Корнев, не узнав толком ничего, а главное, не повидав Женю. Он хотел сказать ей что-нибудь очень ласковое. Отношения с Мариной — дружеские, разговоры с ней ни к чему не обязывали. Он рассказал ей о своем горе, а она о своем, и этого было достаточно для того, чтобы оба прониклись сочувствием друг к другу, сочувствием, не переходящим в жалость. Уважая горе друга, невозможно говорить с ним о своей любви. Впрочем, к этому ни она, ни он и не стремились.
А вот Женя сразу внесла беспокойство в его душу. Она откровенно заявила о своей любви и настойчиво требовала ответа.
Как тут быть, он еще не мог решить.
Мудро предоставив времени развязать этот узелок, он уехал в трест, куда его снова вызвали.
Пробиться к Жене удалось одной Валентине Анисимовне. Надев халат, она вошла в палату. Женя лежала на правом боку, так как спине досталось больше всего. Она, с трудом повертывая забинтованную шею, протянула руку. Рука до локтя тоже забинтована.
— Лежи, Женичка, лежи. Я на минутку. Никого не пускают к тебе, даже Виталия Осиповича.
— Он приходил? — побледневшее лицо девушки залилось нежным румянцем.
Он приходил к ней!
— Спокойно, девочка, тебе поправляться надо. Уж если под сосну сунулась, то терпи. Кормят-то хорошо? Я вот принесла тебе, покушаешь после. До чего любовь-то доводит!
Женя подняла счастливые глаза, ставшие еще больше и ярче.
— Валентина Анисимовна! Я бы все равно спасла человека. Его или другого, все равно. И не любовь тут главное. — Женя закрыла глаза. — Ну, конечно, я люблю.
— Ох, уж не знаю, — вздохнула Валентина Анисимовна, — что у вас творится. Уж очень он разный какой-то. Бывает, по целым дням слова не скажет, а то шумит, смеется, даже песни поет.
— Он?
— Ты лежи, лежи. Нельзя тебе двигаться. Бабы песни от тоски поют или от радости. Ну, когда делать нечего, тоже поют. Всегда мы поем. А если такой запел, значит, отходит у него сердце.
— Марина… Марина, — шептала Женя.
Валентина Анисимовна, посмеиваясь, гладила Женину руку.
— Нет, Женичка, не Марина. Оба они строгие, такие не сходятся. Нет, я ему сказала: вам, Виталий Осипович, вот какую жену надо, и про тебя сказала. Он смеется. Я, говорит, только на такой женюсь, как вы, Валентина Анисимовна.
Она гладила Женину розовую руку и думала о человеческих чувствах. Нипочем этим чувствам глухая чащоба, лютые морозы, голод и тяжелый труд. Даже в страшном горе будет любить человек. Вот они все, молодые и старые, думают: кончится война и все разлетятся в свои стороны, забудут тайгу с ее горькими годами. Нет, не все забудут. Никогда не забудут, если любовь свою здесь нашли.
— Поправляйся, Женичка. Скоро зацветет тайга, березки распустятся. Может быть, придется и тебе свой дом здесь ставить. За голубикой станем ходить. Поправляйся только поскорей и не думай ни о чем.
Но не думать Женя не могла. Она лежала ночью с открытыми глазами и думала. Очень хотелось, чтобы пришла Марина. Только посмотреть на нее. А может быть, придет и он. Теперь уж совсем хорошо ей стало, даже можно сидеть, хотя доктор не разрешает.
Он пришел через пять дней. Принес печенье в пестрой обертке и книгу. Ее кровать стояла в глубине палаты, отдельно от других, и он сел, заслонив ее ото всех, от всего света. По правде говоря, он давно уже заслонил все на свете.
Белый халат, накинутый на плечи, он придерживал руками и смотрел на Женю с такой душевной серьезностью, что у нее замирало сердце.
Она смотрела на него глазами, сияющими такой любовью и благодарностью, что он не выдержал и сказал:
— Вы очень хорошая. Женя. И я все готов сделать для вас. Ну, что вы хотите?
Она покачала головой и, задыхаясь от счастья, сказала:
— Ничего мне больше не надо.
И вздохнула так жарко, что бинты сразу оказались тесными.
— Больно? — спросил он.
— Нет.
Он утешил:
— Это пройдет.
— Никогда, — сказала Женя, удивляясь своей смелости.
Он ушел, оставив Женю в состоянии тревоги и счастья.
— Я — дура, — говорила она себе, — почему не сказала ему все? Он мужчина, он умный. Пусть уж он сам думает, что делать.
Потом потянулись длинные, скучные дни. Она съела печенье и два раза прочитала книгу, передумала все, о чем хотелось и не хотелось думать. К ней никто не приходил, и ей начинало казаться, что ее все забыли, занятые своими делами. Конечно, она преувеличивала. Два раза Валентина Анисимовна присылала ей очень вкусное самодельное печенье, в записочках ободряла, передавала привет «от В. О.» и сообщала, что сейчас, после постройки эстакады, снова все очень заняты на дороге, ходят на «ударники» по укреплению автолежневки.
Женя не знала, что это за работа. Она прожила на севере три года. Лежневую автодорогу регулярно сносило весенней водой, особенно в местах низких, в болотах, но никто и никогда не укреплял ее. Наверное, это придумал он, а значит, это необходимо.
Наконец пришла Марина. Она была в белом больничном халате, и Женя отметила, что белое к ней очень идет. И вообще Марина была оживлена и красива, как всегда. Она принесла с собой запах весенней свежести, солнечного воздуха и хвои; так пахло по утрам, когда в палате открывали форточки. Марина поставила в уголок на тумбочку таежный букет: несколько веточек березы с набухающими почками и колючие сосновые метелки, увенчанные желтоватыми весенними шишечками. Горячий привет от скупой на нежности тайги.
Сияя строгими глазами, Марина приласкала подругу:
— Ты, Жанюрка, похудела и похорошела.
И, чего трудно было ожидать от Марины, поцеловала в лоб.
— В общем, ты молодец. Все превозносят твой поступок. Я и не знала, что ты такая.
— Ну разве только ты…
— А кто еще?
— Есть и еще. Не знали, а теперь знают.
— Ну, ладно, — сказала Марина. — Ты ничего не сказала про Тараса.
— А что я должна сказать о нем?
Марина поморщилась, словно ей предстояло пройти через лужу в новых туфлях.
— Болтают, — резко бросила она, — что это он нарочно сделал. Сосну на Корнева ронял умышленно. Глупости. Будто он, Тарас, вздыхает на мой счет и ревнует. Говорят, что это обычная таежная месть. Тарас уже двоих избил за болтовню.
— И ты веришь? — ужасаясь, спросила Женя.
— Я не верю. А ты? Ведь ты все видела. Одна ты.
Женя закрыла глаза, стараясь представить себе всю картину той несчастной, нет, счастливой минуты, когда она смогла, не таясь, заявить о своей любви. Нет, ничего она не помнит. Она видела только лицо Виталия Осиповича, жарко озаренное пламенем костра, и стремительно падающую на него сосну. Она видела другое лицо, лицо Тараса, когда тот в будке швырнул Гольденко за дверь. Конечно, он любит Марину.
— Что же ты молчишь, Женя? — тревожно спросила Марина. — Ведь если так, ты знаешь, Тарасу — тюрьма. Я не говорю о себе. Мне проходу не дают. Это Крошка, ее специальность — отравлять жизнь. Ты знаешь, я на все это мало внимания обращаю, но, конечно, тогда придется уехать. Ну, скажи, Женюрка.
— Я вспоминаю, подожди, — говорила Женя, мучительно отгоняя какую-то мысль, угнетающую ее.
Эта мысль налетела внезапно, как стая комаров. Женя даже не отбивалась от нее, она просто растерялась. Злые замыслы против подруги? Вот они, эти замыслы. Если она скажет: «Да, Тарас умышленно уронил сосну» — то Марина уедет. Уедет. Она останется одна. И он останется один. Это неправда, что Тарас нарочно уронил сосну, но только она одна видела все. Ей поверят… Почему именно ей приходится жертвовать собой, пусть пострадают другие. Ох, глупость! Разве так надо защищать свою любовь? Нет. И как такое могло в голову прийти?
Она открыла глаза. Марина смотрела на нее спокойно. И Женя с улыбкой, сияющей, как ее глаза, сказала, пожав пухлыми плечиками:
— Какая глупость! Конечно, Тарас ничего не видел. Я очень хорошо все помню.
Нет, Марина не всегда умела владеть собой. Ее брови дрогнули. Она положила голову на подушку, прижавшись своей щекой к Жениной теплой щеке.
Она ничего не сказала. Она только полежала так, испугав и растрогав Женю. И говорить тут было нечего. Женя отлично поняла: Марина догадалась обо всем, что думала подруга в эти минуты.
Жене стало очень хорошо и легко, она даже закрыла глаза. Какая она строгая и какая нежная, эта Марина! Вот в то последнее утро, когда она приехала вместе с Виталием Осиповичем на дежурство, она тоже была такая же. Просто не умеет она хитрить и поэтому кажется холодной, высокомерной. Нет, она хорошая. Тогда она хотела о чем-то договориться с Женей. О чем? Жене казалось, что ни до чего не могут договориться две девушки, любящие одного. В том, что Марина любит Корнева, Женя ни минуты не сомневалась.
И она, не открывая глаз, далеким голосом спросила, о чем Марина тогда хотела договориться.
Марина подняла голову. Лицо ее стало спокойно и, как всегда, чуть холодновато. Но глаза по-прежнему излучали нежное тепло.
— Надо ли говорить об этом? — задумчиво спросила она. — Ну, если хочешь. Так ведь ты, Женюрка, уже сделала все, о чем я только подумать могла тогда. Хотя нет, совсем наоборот: ты сказала ему о своей любви. А этого, по-моему, ты не должна делать. У него есть любовь, я ведь только одной тебе сказала об этом. Ты понимаешь, что такое долг совести? Вот у него так. Пока не кончится война и он не узнает о ней, о своей невесте, все, до тех пор нельзя ему любить и его нельзя любить. Можно только оберегать его чувство, помогать ему, как может помочь лучший друг. Ты поняла меня?
Да, Женя отлично поняла все, но это выше ее сил. Она любит, она будет любить, она согласна ждать, она согласна щадить чувства любимого человека. Но кто пощадит ее чувства?
— Хорошо, — сказала она, — ты это хорошо придумала. Хотя не знаю, сумею ли я.
— Сумеешь, если захочешь, если любишь, — уже совсем холодно сказала Марина.
Как просто получается все у этой девушки. Вот если бы Женя могла так просто, таким ясным голосом говорить о человеке, которого любишь. Ведь даже подумать о нем невозможно без того, чтобы беспокойно не стукнуло сердце. А она может. Вот она совершенно спокойно сообщила:
— Виталия Осиповича вызвали в трест.
— Зачем? — спросила Женя.
— Говорят, переводят его на строительство, — безмятежно рассказывала Марина, — да ты не бледней. Нет, ты, Женька, совершенно ненормальная! Никуда он не уедет. Строить будут здесь же, на Весняне. И не сегодня же начинают строить. Успокойся. Вот только что ты больна, а то отчитала бы я тебя. Ну, поправляйся. До свидания, Женюрочка.
И, поцеловав Женю в пылающую щеку, Марина ушла.
РИСК И РАСЧЕТ
Только в конце апреля вернулся из треста Виталий Осипович. Он приехал под вечер, когда морозный воздух, слегка подсиненный сумерками, был по-весеннему чист и прозрачен. Белые полосы легкого тумана колебались над оттаявшим болотом. В домах мелькали желтые огоньки.
Его встретила Валентина Анисимовна в своей сверкающей чистотой кухне. Она сказала, что Иван Петрович в конторе, давно ждет его и просил сразу же позвонить. Виталий Осипович позвонил. Дудник спросил, что хорошего.
— Хорошего много, — ответил Виталий Осипович таким звучным и ясным голосом, что Ивану Петровичу очень захотелось хлопнуть его по плечу и, как в былые времена, сказать: «Эх, Витька!» Но он спросил:
— Эстакаду продолжать будем?
— Эстакада — это для нас вчерашний день. Ты сегодня радио слушал? Ну, значит, знаешь. Взяли Кенигсберг. Теперь капут. Всыплем немцу. На днях выезжает к нам Иванищев с бригадой. Придешь, расскажу подробно. Интересного много. Никуда я не собираюсь уезжать. С чего это ты? Тайга — дом родной. Да, самое главное: дают нам электропилы. Придется курсы открывать. Ничего, своими силами. Освоим. Сейчас идешь? Жду.
Он повесил трубку и вышел на кухню, расправив плечи, ступая твердо, словно получил важное задание, которое потребует всех его сил.
— Живем! — сказал он. — Живем, Валентина Анисимовна.
Она, поставив перед ним тарелку, певуче проговорила:
— Ну и хорошо. Живому только и жить.
И, убедившись, что все для ужина подано, села против него и принялась за работу, прерванную его приездом. На другом конце большого стола лежали раскроенные куски полотна, из которых она шила рубаху. Вышивка — голубые и синие васильки; где-то он видел такую вышивку.
— Мужа наряжаете? — спросил он.
— И мужу, и вам. На праздники наряжу. Всех. Парням своим уже пошила. Сама бы не управилась, девушки помогли.
— Девушки? Какие девушки?
Валентина Анисимовна улыбнулась.
— Есть тут одна. Да вам-то что?
— Видел я эту вышивку, а где — не припомню…
— Будет время — припомните.
Когда пришел Иван Петрович, начались длинные разговоры, в которых Валентина Анисимовна, как и всегда, принимала самое горячее участие, потому что дело шло о самом кровном, чем жил ее муж и что она считала своим делом.
Когда все трестовские новости были доложены и обсуждены, Иван Петрович сказал, что все это хорошо, но это будущее, пусть ближайшее, но все же будущее. Есть дело, которое нельзя откладывать ни на один день.
В тайгу идет весна. Уже подснежные заговорили ручьи. На болотах проступает темная таежная вода. Скоро на низинах вздуются целые озера. И поплывет лежневка. Остановится транспорт, потому что лесовозы плавать не приспособлены. Недели на две остановка. До сих пор с этим мирились, а теперь нельзя.
— Нельзя, — согласился Корнев.
На другой день, часов в двенадцать, позвонил Иван Петрович и сказал, что он ждет Корнева в пятой диспетчерской. Виталий Осипович дошел до заправочной и, дождавшись попутной машины, поехал в лес.
У четвертой диспетчерской он сошел с машины и велел шоферу ехать не спеша, а сам пошел сзади, наблюдая, как оседает лежневка под тяжестью лесовоза.
Вот погрузились в мокрый мох лаги — толстые сосновые бревна, в которые врублены шпалы. На шпалах двумя рядами лежали пластины по четыре в ряд, образуя две бесконечные ленты, по которым ходят машины. Каждая пластина пришита к лагам березовыми колышками — нагелями.
Машина шла медленно, постукивали пластины там, где ослабли нагели. Здесь никакая опасность не угрожала лежневке. Корнев махнул шоферу — газуй на полный. Шофер мотнул головой и дал газ. Машина ушла, Корнев остался один.
Показался встречный лесовоз. Виталий Осипович сошел с лежневки. Машина проходила мимо него тяжело раскачиваясь, поскрипывали оранжевые бревна, но Корнев смотрел только на лаги, которые погружались в бурый мох, выжимали темную болотную воду.
Это еще не угрожало аварией. Гораздо хуже, если вода поднимется и лаги со шпалами, ломая нагели, вырвутся из-под пластин.
Опасный участок, о котором говорил вчера Иван Петрович, начинался за пятой будкой. Строители дороги там прошли по болоту, укладывая жерди сплошным настилом. На этот настил положены лаги и уже в них врублены шпалы. Получилась надежная, прочная дорога. Но бурная подымалась вода, и угроза была налицо.
Солнце пригрело лежневку. Узорные полосы автомобильных баллонов на обындевевших пластинах почернели, над лежневкой закрутился легкий парок. Виталий Осипович выбрал местечко, где обсохли пластины, и сел. Шумела тайга под ласковым солнечным теплом. Тайга, как и море, шумит даже при полном безветрии, и так же, как моряка успокаивает шум моря, лесовику приятен неумолчный шепот тайги.
Хорошо так посидеть на робком по-весеннему солнечном припеке, покурить и подумать наедине о сложных человеческих делах.
Виталий Осипович курил и думал. Он слышал, как по-ребячьи невинно лепетали сотни ручейков, выбиваясь из-под снега, лежавшего в лесу сероватыми клочьями. И он представил себе, как они, тоненькие, бегут, извиваясь между корней и кочек, блестя на солнце и снова пропадая в тени. И все они стремятся к одной цели — к впадине за пятой диспетчерской. В их невинном лепете заключена угроза. Они бегут к болоту, которое набухает водой, как губка, они заполняют все ложбинки, заливают каждую еле заметную ямку.
И вот тут-то и наступит беда.
Вода изломает прямую линию лежневки, изорвет ее, разбросает по болоту. Все, что с таким трудом построили люди, полетит к черту.
Вот о чем думается, когда разнежишься на весеннем пригреве и задремлешь под хрустальный лепет таежных ручейков.
Виталий Осипович решительно поднялся, бросив папиросу в сырой мох. Посидел, покурил, подумал о сложных делах человека и принял решение. Через несколько минут он подошел к пятой диспетчерской. Избушка, освещенная солнцем, вдруг похорошела, как Золушка, надевшая новый наряд. Дверь была открыта. Виталий Осипович услыхал, как Иван Петрович внушительно говорил:
— Вот и подумайте. От таких перспектив не уезжают.
Ему отвечала Марина:
— Я уезжаю не от перспектив, а к перспективам. Зачем мне быть лесовиком, если меня интересует совсем другое?
В это время вошел Корнев.
Увидав его, Иван Петрович сказал:
— Девушка вызов получила.
— Из института, — добавила Марина с таким видом, словно растерялась от неожиданности. И тут же, рассердившись на себя, отрывисто бросила:
— Не знаю. Подумаю.
Иван Петрович повернулся к Корневу всем своим большим телом:
— Ну?
— Смотрел дорогу. Пусть плавает.
Ничего не понимая, Дудник уставился на него. Как это — плавает? Виталий Осипович сказал:
— Шпалы и лаги надо связать. Пластины прошить — добавочными нагелями и скрепить скобами. Укрепить отбойный брус, чтобы не было скольжения и крена. Вот и все.
Иван Петрович покачал головой. Смело, но вряд ли выйдет. Он, старый лесной волк, знает эти машины. Они и с лежневки умудряются слетать. А тут — понтонный мост!
— Правильно, мост, — подтвердил Виталий Осипович. — И всего-то здесь метров пятьдесят, а дальше высохшее болото, там воды не больше, чем в луже.
— Не знаю, — сказал Иван Петрович. — У тебя это из института или — практика?
— Война научила, — ответил Корнев. — На войне мы, инженеры, поняли, что расчеты только тогда хороши и приемлемы, когда они отвечают поставленной задаче. И еще: что риск, не подкрепленный расчетами, является опасной глупостью.
Иван Петрович снова покрутил головой. Все это хорошо. Война премудрости научит.
Корнев вынул зажигалку, щелкнул крышкой, вздохнул, Прикуривая, и с дымом сказал:
— Война научила действовать быстро, решительно и не терять голову. Словом, это дело, лежневку, если ты сомневаешься, беру на свою ответственность.
Глядя мимо Корнева куда-то в угол, Иван Петрович трудно, словно тащил на спине тяжелый груз, сказал:
— Может быть, актик напишем… Дескать, директор умывает руки, а инженер в случае чего подставляет голову…
И вдруг, сбросив свой невидимый груз, он с яростью заорал:
— Надоело мне это! Понимаешь?
— И мне надоело! — в свою очередь закричал Корнев.
— Да ты что орешь-то? — удивился Иван Петрович.
— А ты первый начал.
— Ну, будем еще считаться.
— Давай не будем, — согласился Виталий Осипович.
— Эх ты!
— Да и ты тоже.
Они стояли друг против друга в тесной избушке и весело выкрикивали слова укора. Марина была так занята своими переживаниями, что не сразу это заметила. А Иван Петрович говорил все о той же лежневке, но так, словно продолжал какой-то давнишний спор:
— Нет, ты мне докажи, а отвечать я и сам умею. В общем, я тебе этого вовек не забуду. Я тебе еще припомню, как ты из меня хотел пешку сделать.
Виталий Осипович рассмеялся:
— Ну, будет тебе! Ну, пошутил.
— Ты со мной так не шути.
— Ну ладно. Не буду.
— Проси прощенья, — шумно вздохнул Иван Петрович. — А теперь пойдем на дорогу. Там договоримся скорее. Я словам все равно не верю. Даже твоим словам.
На пороге он обернулся, посмотрел на Марину:
— Так вы подумайте. Здесь люди вот как нужны. Но имейте в виду: я никого не уговариваю. Люди везде нужны. Сами подумайте.
Марина не любила, когда ее уговаривают, но она только сейчас сообразила, что Иван Петрович именно уговаривал ее. Но — как? Он просто поделился своей мечтой. «Землю, на которой голодал, никак позабыть нельзя». Так, кажется, у Маяковского? А она не только провела в суровой тайге трудные военные годы, она впервые, вот в эту весну, узнала, что и ее сердце подвержено таянию. Он останется, как же уедет она? В общем, она поймала себя на том, что сама себя уговаривает. Это ее очень поразило, но еще более удивило, что она и не сопротивляется и даже не сердится за это самоуговаривание.
Она вздохнула и вышла на дощатую залитую солнцем площадку разъезда, разрисованную узорчатыми отпечатками автомобильных покрышек.
Вокруг, как в хороводе, стояли сосны с позолоченными верхушками. Пахло нагретой хвоей. Далеко по просеке убегали широкие пластинчатые ленты автолежневки. Неподалеку от будки по сторонам дороги сидели на корточках Дудник и Корнев, щупали шпалы и о чем-то переговаривались.
Подошла тридцатка. Мишка Баринов, невыспавшийся, закоптелый и злой, как черт, вышел из машины и полез на площадку. Марина знала, что заболел его сменщик и Мишка работает вторую смену. Шоферов не хватало. Он откинул крышку бункера. Ядовитый желтый дым крутыми клубами пополз в небо. Мишка гремел в бункере длинной шуровкой, отплевываясь и ругаясь.
Из лесу шла груженая машина, и тридцатка, ожидая ее, стояла, ворча мотором. Мишка присел на подножку и спросил, кивнув на начальство:
— Чего они там колдуют?
Марина рассказала о проекте плавучей лежневки на время распутицы.
— Это инженер придумал? — спросил он равнодушно. — Ну и пускай ездит сам.
Его глаза блеснули горячей злобой:
— Погробим машины! Там, если сорвешься в болото, сам живой не вылезешь. Хорошо придумал! Герой!
…Через несколько дней его тридцатка опять стояла у пятой диспетчерской. Так же сияло солнце, и мирные облака не спеша пробирались по голубому небу.
Мишка не смотрел на облака. Пусть эти поэты, герои, Лермонтовы любуются на них. Нечего задирать голову, когда такие же облака не спеша плывут по водяной глади, разлившейся на целый километр. Через все болото, залитое водой, среди мшистых островков и черных кочек, пролегала знакомая автолежневка. Но в том-то и дело, что она не лежала, а плавала на этих распроклятых облаках, в том-то и дело, что тридцатке предстояло впервые пройти до плавучей дороге, между двух рядов молоденьких елочек, которые обозначали путь. Елочки прибиты к шпалам вдоль дороги. Конечно, если Мишка себе враг, он поедет, ныряя в облаках, как летчик.
Он подвел машину к тому месту, откуда начинался страшный путь, и остановился. Лежневка мягко опустилась, ушла под воду, желтые пузыри весело закружились на том месте, где исчезла дорога. Вода подбежала к самым колесам; мокрые баллоны отразились в ней вместе с облаками.
— Не поеду, — сказал Мишка, вылезая из кабины. — Я не водолаз. Слетишь с машиной в болото.
Подошел Корнев.
— Боишься? Сам вызвался. Никто не тянул.
Мишка угрюмо блеснул сумасшедшими цыганскими глазами. Инженер! Герой! Вот сейчас наломаем тебе дров. Стоит над душой, издевается! «Боишься». Верно, никто Мишку за язык не тянул, сам сказал: «Разрешите первому проехать?» Затаив черную мысль, сказал. Знал: если сорвется машина, инженеру по шапке накладут. Черная мысль — угробить инженера — точила озлобленное ревностью Мишкино сердце.
Мишка взглянул назад. На разъездной площадке ожидали еще три машины. Около будки стоит Женя. Когда она успела выписаться из больницы? Рядом с ней — Марина в своем красном платье и черном жакете. Пришла посмотреть? Ну, хорошо. Смотри. Смотри, как полетит твой герой, — куда ордена, куда чего! Смотри, Женька, смотри, когда человек своей жизни не рад.
— Ну, поехали? — спросил инженер.
Он по воде обошел машину и сел в кабину. Мишка решительно уселся за руль и выжал сцепление. Дал скорость. Рванул машину. Держись, тридцатка, едем к черту на рога!
Зашумела под колесами вода, молоденькие елочки, качая зелеными лапками, указывали путь. Мишка — опытный шофер, он всегда чувствовал дорогу так, словно не в кабине сидел, а босиком по ней шел. Злоба постепенно угасала в нем, будто ее захлестнула вода, бегущая перед колесами. Лежневка уходила в воду, мягко ложась на грунт, и машина шла по ней как обычно. Ничего сверхъестественного, не страшней, чем через лужу переехать. Мишка с уважением покосился на инженера. Придумал, черт башковитый! Недаром ему орденов понавешали. Наверное, такое выдумывал, что немцы на том свете сидят и до сих пор удивляются.
Злясь на свои мысли. Мишка утешался тем, что по такой лежневке гробануться может только шофер, не уважающий себя.
А в общем, леший их всех дери, с их любовью! Фашистам все равно дыханья остается на один глоток. А там — дорога у Мишки широкая. Пусть пропадают в этой тайге!
— Ну? — спросил Виталий Осипович. — Страшно?
Мишка угрюмо промолчал.
Стоя на лесобирже под погрузкой, они покурили. Бригадир грузчиков спросил, не довольно ли класть: дорога непривычная.
Виталий Осипович не ответил, давая слово шоферу. Мишка презрительно блеснул глазами.
— Давай полный воз!
У пятой диспетчерской их встретили с радостным волнением, какое наступает вслед за напряженным ожиданием. Шоферы успели поспорить на интерес. Проигравшие, обрадованные не меньше, чем выигравшие, вытряхивали кисеты — спорили на табак.
Потом водители сели на свои лесовозы и один за одним поползли по водяной глади.
Корнев ушел в диспетчерскую. По телефону он докладывал в леспромхоз, что все благополучно, что риск вполне подтвержден опытом, что первый провел машину Баринов и его надо премировать, потому что он вообще парень толковый, таких бы побольше, — настоящий таежный шофер.
Мишка слушал и думал: «Черта с два, так я и остался здесь, по дешевке не купите». Интересно, что еще скажут о нем? Но в это время подошла Женя.
— Ну, здравствуй, герой!
— Здравствуй, — задохнулся он.
— И — до свиданья! — засмеялась она, но, заметив его недоуменный взгляд, пояснила: — Ну, конечно. Тебе на лесозавод, а я тут останусь. У меня перемена в жизни. Я теперь в дневную перешла. Ты — тоже. Будем часто встречаться.
Но она так ясно, так дружески спокойно смотрела на него, что Мишка понял: ему-то никаких перемен ждать не приходится.
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Как и предсказывал Иван Петрович, знамя ему привезли. Красное переходящее знамя треста, отобранное в свое время соседним леспромхозом, снова вернулось на прежнее место.
Привез его прославленный лесоруб Мартыненко со своим звеном. Приехали они к вечеру и, прежде чем отдать знамя, пожелали посмотреть хозяйство.
Маленький, коренастый, плечистый Мартыненко имел вид чрезвычайно задорный и совсем не походил на побежденного. Шагая рядом с Дудником по лежневке, он заносчиво спрашивал:
— Сколько же у него в звене народу, у этого Ковылкина?
Ему ответили. Он недоверчиво глянул на Ивана Петровича, наткнулся на спокойную усмешку и сразу поверил:
— Молодец. С троими управляется.
Встреча двух знаменитых лесорубов на лесосеке не отличалась торжественностью. Собственно, никакой особенной встречи и не было. Отделившись от своей свиты, Мартыненко подошел к работающему Ковылкину, постоял, посмотрел, как пилит тот, и сказал:
— Здорово, Тарас.
Не поднимая головы и продолжая пилить, Тарас ответил:
— Здравствуй, Иван.
Тарас положил сосну, перешел к другой. Мартыненко одобрительно крякнул — так точно она упала — и последовал за лесорубом. Постоял, посмотрел, как упала с прежней точностью вторая сосна, третья, и ушел к своим. Те смотрели, ничем не выдавая своего отношения к событиям, бесстрастные, как послы на дипломатическом приеме.
— Снайпер, — отрывисто сказал Мартыненко. — Заслужил.
Его спутники значительно улыбнулись, давая понять, что они не удивляются, и вообще, если приехали сюда, значит, несомненно, Тарас этого заслужил. Сам работать умеет и звено — один к одному. Во всем поведении звена-победителя чувствовалась крепкая выучка.
Гости шли по просеке. Против каждой делянки на шестах висели доски показателей выработки. Цифры были хорошие. То, что удалось одному Мартыненко, здесь успешно делают многие.
Пройдя по всему лесоповальному фронту, Мартыненко убедился, что знамя отдают не зря.
Под навесом кухни он заглянул в котлы, попробовал обед, даже пощупал белую клеенку на столе. У инструментальщика спросил: «Напильников хватает?» Инструментальщик, не зная, что за начальство перед ним, посмотрел на Ивана Петровича и пробормотал что-то невнятное.
— Вот и у нас так, — посочувствовал Мартыненко.
Без слов ясно: напильники — на вес золота.
Мимо лошадей, которых возчики выпрягали на подкормку, Мартыненко прошел не задерживаясь.
— Машины у вас где плавали? — спросил он, когда вышли на лежневку.
Оказалось, что у них не додумались укрепить автолежневую дорогу и почти две недели лес не вывозили. Погрузочная эстакада вызвала сдержанное восхищение.
Мартыненко долго смотрел, как машины по отлогому подъему поднимались на широкий помост. Там, на высоте железнодорожного вагона, они сбрасывали бревна. Потом их подкатывали к фронту погрузки. Грузчикам оставалось перекатить бревна по лагам на платформу и закрепить стойки.
— Здорово! — не вытерпел один из гостей, нарушив дипломатическую бесстрастность. И ни один из его товарищей не бросил на него осуждающего взгляда.
— Что здорово, то здорово, — подтвердил Мартыненко.
Ничего подобного у них не было.
Окончательно растрогался знатный лесоруб в подсобном хозяйстве. Агроном Шалеев встретил их у парников, где выращивалась капустная рассада. Мартыненко взял в руки торфяной горшочек, в котором упруго покачивались бледно-зеленые листочки на белых ножках. Он смотрел на них с нежностью отца, которому показали новорожденного. Потом тем же нежным взглядом он оглядел стеклянные полотна парников, напоминающие голубые озера под солнцем. Дальше, через речушку, вытекающую из леса, начинались участки вспаханной земли, окруженные изгородью из выкорчеванных пней. Корни, искривленные, изломанные, мохнатые, как лапы мертвых чудовищ, вздымались уродливыми грудами. Каких усилий стоило вырвать их из земли, чтобы освободить под пашню эти два гектара земли!
Это хорошо знал Мартыненко. Агроном мог бы и не говорить о сотнях возов навоза, земли, торфа, которые пришлось уложить, чтобы сделать землю пригодной для выращивания овощей. Этот маленький агроном как клещ вцепился в землю, и уж он не отступит от своего. Овощи на севере для человека дороги, как солнце. Мартыненко тихонько подул на зеленые листочки и, бережно опуская горшочек в парник, растроганно сказал:
— У нас на Полтавщине…
И, махнув рукой, закончил:
— У нас агроном — шляпа.
В теплице гостям подали помидоры. Они приняли их благоговейно. Это воистину было чудо на севере диком. Не выдержав, Мартыненко вздохнул:
— Такую штуку последний раз едал я, когда ездил на Полтавщину. Годов пять назад…
РАЗГОВОРЫ О ЛЮБВИ
Вечером два лесоруба стояли на маленькой клубной сцене друг против друга, держа за углы алый квадрат шелка с золотыми искрами букв. Их помощники толпились каждый около своего вожака. Юрок Павлушин, с трудом напуская на себя солидность, никак не мог совладать со своими губами. Они расплывались в улыбку, что не соответствовало моменту. Ульяна Панина в сиреневом выцветшем платье, обтягивающем ее сильное тело, смотрела ясными глазами из-под светлых бровей, сдвинутых чуть скорбно. Здесь многие, впервые увидав ее, аккуратную, ладную, в простеньком женском наряде, подумали: «Очень неплохая женщина».
Оттесняя всех, Гольденко старался вылезти вперед. Он горячо дышал в плечо Тараса и поминутно правой рукой покручивал и расправлял незначительные свои усы точно так, как, по его мнению, должен делать герой, вояка, каким он всегда считал себя. Он был единственный среди победителей, кто так жадно упивался славой. На них смотрели сотни глаз; сотни рук, белея в темноте зала, взлетали с оглушительным шумом. Но Тарас видел только одни глаза и одни руки. Он их видел даже тогда, когда не смотрел на них. Он не думал ни о славе, ни о подарках, которые ему вручали, он даже не думал о том, что надо сказать. Как-то само сказалось, может быть, и не так, но кто же осудит?
Он даже о ней не думал. Он просто всем видом своим говорил ей: «Вот видишь. Все это для тебя. Я стою на такой дороге, которая ведет к тебе. Пойми это».
Но потом он забыл о ней. Гремели аплодисменты. На Трибуне стоял парторг Петров, который только что зачитал приказ треста о победе леспромхоза. А лесорубы все еще стояли и держали за уголки шелковое полотнище. Это продолжалось долго, пока не затихли аплодисменты и кто-то, у самого входа на подмостки, негромко протянул:
— Ишь, держится. Жалко отдавать-то.
Мартыненко обернулся на голос, но знамя не отпустил.
— Жалко? — спросил он. — Нет, товарищ, для Тараса не жалко. Если хотите знать, он мне друг на всю жизнь. Я без него скучать стану. Бери, Тарас, знамя! Береги. Да, не забывай меня. Скучать стану без тебя в своем леспромхозе. Так ты это помни, и тридцатого мая надеюсь увидеть тебя в нашем клубе с этим красным знаменем.
Он выпустил из рук знамя, Тарас бережно положил его на стол и улыбнулся.
— Ты, Иван, надейся, но не очень. А чтоб не скучно было ждать, я тебе подарочек к завтрему припас. Скрывать не стану. Надумали мы применить укрупненное звено. Выходим завтра пять человек, а что у нас получится, я тебе загодя не скажу. Хвалиться не люблю, но, как ты есть друг, то дешевого не поднесу подарка. Так, значит, ожидай, Иван, и давай мы забудем про рекорды, это игра неинтересная. А начнем соревнование на выполнение годовых норм. Кто за сезон больше сработает.
После торжественной части Тарас сидел с Мартыненко за кулисами, в маленькой комнатке, где свален в кучу немудрый реквизит клубной сцены. Выпили, поговорили о делах, о Полтавщине, о пилах и топорах, словом, подружились до того, что начали поучать друг друга тонкостям своего ремесла. Потом пришли к мысли, что все это никому не нужно, скоро придет в тайгу электропила и введет свои законы.
В зале хлопали в ладоши и кричали: «Асса! Асса!»
— Жора? — спросил Мартыненко.
Тарас взял бутылку, налил себе и товарищу. Ответил, думая о другом:
— Он. Везде мастер — и плясать и валить.
Взял свой стакан, чокнулся, сказал то, о чем думал:
— Закон в тайге останется старый. Наш закон. Советский. Навеки нерушимый. Ну, выпьем последнюю.
— Правильно, Тарас. А почему последнюю?
Он вытянул из кармана бутылку и, ставя ее на столик, пояснил:
— Ты что же думаешь, наш леспромхоз с пустыми руками отпустит меня в гости к другу? Я тебе насчет переходящего знамени — лютый враг. Зубами выдеру!
Тарас, чувствуя приятную истому опьянения, любовался своим другом, который напрашивается во враги.
Он рассмеялся:
— Так я же не один.
— И я не один.
— У нас таких больше.
— У вас больше, — согласился Мартыненко, — этим и взяли. Они за тобой здорово тянутся.
— Да, не отстают. Мне сейчас от Бригвадзе житья нет. До чего ж злой на работу! Да что ж он не идет? Очень плясать любит.
Бригвадзе, запыхавшись, стремительно, словно продолжая свой танец, влетел в комнатушку. Глаза его возбужденно блестели. Играя бровями, он кричал:
— Кацо! Ну, что ты сидишь? Водка — лодка, наливай!
Пришел Гольденко. Его послали за Юрием и Паниной.
— Зови, Иван, своих ребят, — сказал Тарас.
В комнате стало тесно. Стаканов было только два, пришлось пить по очереди. Ульяна Панина выпила тоже, обтерла губы ладонью:
— Ну, я плясать пошла, благодарствую, угостила бы вас, да в моей посылке только одеколон.
За ней разошлись и остальные. В зале стало сразу шумнее, или это только так показалось Тарасу, потому что он сидел один в маленькой комнатке для бутафории, один со своими мыслями. Нельзя сказать, чтобы они радовали его. Он думал о Марине, как о солнце в тайге, когда оно не светит. Все хорошо — и работа, и почет, но сердцу холодно. А что, если пойти к ней и сказать все? Ведь он еще даже не отважился намекнуть о своей любви. Конечно, она и не думает о нем.
Да, Марина сейчас была занята только собой. У нее появились свои заботы, но она высокомерно считала себя выше их. Она презирала эти девические волнения, ожидая, что любовь внезапно откроет перед ней свои золотые двери и ей останется только войти в тихий благоухающий сад. На опыте других она знала, как извилист, как тернист этот путь к заветной двери. Удивляясь и сожалея, смотрела она на любовные тревоги и страдания подруг, пока сама с изумлением не почувствовала, что идет вместе с ними, прижимая тонкую руку к бьющемуся сердцу.
Тарас после работы иногда заходил за ней по вечерам, и они вместе шли домой по гулким брусьям лежневки, разговаривая о будущем, которое для обоих рисовалось совершенно ясным. Они сами выбирали путь. Она любит литературу. Кончится война — снова литфак, потом аспирантура, диссертация по языкознанию. Все это очень интересно и нужно. Он ставил себе цели не менее определенные: после войны — тоже учиться. Его интересует механизация лесного хозяйства. Раньше он заблуждался, думая, что в лесу побеждает только сила, сноровка. В общем, глупо думал. Он хочет стать инженером. Верно, поздновато спохватился, но он добьется.
В зале стоял веселый шум. Лесорубы, возчики, грузчики — здесь было больше женщин — смеялись, говорили, танцевали. Играл оркестр — две гитары, скрипка, балалайка и неизменный баян. Оркестранты упоенно отдавались своему искусству, каждый из них простодушно считал себя гением. Даже доктор, высокий, с седыми висками и мудрой иронической улыбкой, самозабвенно безумствовал на самодельных ударных инструментах. Все музыканты с преданностью одержимых смотрели на своего руководителя, который, по их мнению, бесспорно был гением. Искренне обожая музыку, они слепо подчинялись ему — преподавателю какой-то столичной школы, заброшенному в тайгу войной, и, надо сказать прямо, играли хорошо.
Женя любила танцевать и не пропускала ни одного танца, жалея только, что мало кавалеров. Приходилось приглашать девушек, а это — половина удовольствия.
Музыканты, закончив очередной вальс, опустили свои инструменты и зашептались, утирая вспотевшие лица. В зале было жарко, несмотря на распахнутые окна. Иван Петрович, хитровато ухмыляясь в жесткие усы, подошел к сцене и поманил к себе руководителя оркестра. Нагнувшись к директору, тот выслушал его и, обернувшись к насторожившимся музыкантам, сказал тихо, но многозначительно:
— Русскую! Ну, ребятки, не подкачайте.
Доктор потряс руками, держа в одной барабанную колотушку, в другой — медную тарелку, давая понять, что понимает всю ответственность момента.
Русская пляска. Зарокотали струны, кинул по клавишам пальцы баянист, и мягко запела скрипка — медленно, нежно, но так, что сразу подкатило под сердце, замер дух, и даже не умеющие плясать почувствовали зуд в ногах.
— Виталия Осиповича! — оглушительно крикнул Иван Петрович.
Зал загудел, зашумел, очищая круг.
— Просим!
Застигнутый врасплох, Корнев быстро вскинул голову, улыбнулся, оглядываясь, и снова стал серьезным. Он сидел между Женей и Мариной, отдыхая после танца, но его уже толкали, к нему тянулись аплодирующие руки. Он посмотрел на Марину, ее глаза выражали удивление. Взглянул на Женю, сияющую возбуждением, и встал. Не спеша снял китель. Звякнули ордена. Женя протянула руки и подхватила китель.
Марина побледнела.
Васильки. Голубые и синие васильки на золотистом поле ржаных колосьев, которые с любовью вышивала Женя в долгие зимние ночи, замелькали в ее глазах. Марине на секунду показалось, что она теряет сознание. Она сейчас же взяла себя в руки. Она даже заставила себя улыбнуться, но это плохо ей удалось. А он, не замечая ничего, стоял, одергивая вышитую Жениными руками рубашку.
Эх, давно не плясал он! Как это вспомнились Ивану Петровичу залихватские их пляски на гулянках в камских лесах? Ну, ладно, покажем всему миру, что не забыли еще, как надо плясать, когда разыграется русская душа. Шире круг!
Он топнул тонкими офицерскими сапогами раз, другой и пошел по кругу, легкий, стремительный, как вольный ветер.
Доктор оглушительно звякнул тарелкой и колотушкой, и вот уже трудно разглядеть мелькающие руки музыкантов.
Пройдя по кругу, Виталий Осипович, как бы задумавшись, замедлил танец и, остановившись около места, откуда начал, поклонился, разведя руками.
Гордо улыбнувшись уголками губ. Женя медленно передала Марине китель и с достоинством поднялась.
Высокая грудь ее колыхнулась легким порывистым вздохом. Она повела бровью и, вальяжно двинув круглыми плечами, легко понеслась навстречу Корневу. Он, словно изумляясь внезапному ее порыву и ее пышной красе, которая вдруг раскрылась перед ним, отступал, выбивая ногами невообразимую чечетку.
Вдруг, изогнувшись, она плавно повела плечами, грудью и, топнув ножкой, остановилась, гордая и торжествующая.
Он повернулся к ней и уже протянул руки, чтобы поймать ее, но в это время Женя скользким движением всего своего тела вывернулась из-под его руки и пошла, описывая круги около него. Она плясала с такой легкостью, что казалось, и не касается пола.
Они словно играли друг с другом, то приближаясь, то убегая, то отдаваясь безотчетному, влечению, кружились в бешеном танце, стараясь превзойти один другого, показать, что они стоят друг друга.
Зрители, забыв все на свете, тянулись к танцорам, вскрикивали, хлопали в ладоши, притопывали ногами.
— А, дроля! — восторженно говорил Иван Петрович, глядя вокруг растроганными глазами.
Ничего не говоря, Валентина Анисимовна прижималась плечом к мужу. Она всегда утверждала, что они достойны друг друга. Женя и Виталий Осипович.
Это же старались доказать и сами танцующие. Трещал пол под его каблуками, когда он стелился по земле в присядке. А она неутомимо кружилась около него, то гордая и неприступная, то лукавая и манящая.
Да, они оказались достойны друг друга.
Марина словно окаменела. И только потом, когда, казалось, померк свет и рухнул потолок от грохота аплодисментов, почувствовала себя в самом деле ослепленной и оглушенной. Она любила и уже больше не размышляла ни о чем. Она любила и готова была на все муки, прежде чем откроются таинственные двери любви. Да откроются ли? Скорей всего их надо открывать той силой, с такой откровенной страстью, которую показала Женя.
И, почувствовав это, она вздохнула. Ей показалось, что не Женя, а она сама так ясно, так откровенно сказала о своей любви.
И вдруг она увидела Тараса. Он стоял на самом краю сцены, большой, сильный, надежный. Почему за весь вечер он не подошел к ней?
Она провела по лбу тонкой своей рукой. Это все Женькины фокусы вывели ее из равновесия. Надо держать себя в руках. А до каких пор? Один раз она прошла мимо любви, не заметив ее. Во всяком случае, надо еще разобраться во всем этом.
Пока зрители шумели около танцоров. Мишка Баринов стоял в стороне. Широко раздувая ноздри и сверкая цыганскими глазами, он оглянулся. Над ними, на краю сцены, стоял Тарас. Мишка подошел к нему.
— Тарас! Будь человеком — выпить есть?
— Пойдем, — сказал Тарас.
Они сидели в комнатке для бутафории, молча слушая, как затихает в зале шум. Тарас больше не пил. Откинувшись на спинку стула, он, усмехаясь, глядел на шофера.
— Тарас, с кем он? — спросил Мишка, тоскуя.
Тарас улыбнулся насмешливо и промолчал.
— С кем? С твоей или с моей?
— Дурак ты, — вздохнул лесоруб. — Куда ты лезешь? Ты кто? А она кто? Она с тобой говорить не станет, а ты глазами своими цыганскими похлопаешь, вот и весь у вас разговор. А ты вот встань, подымись до нее, заслужи, а потом сватайся. Учиться надо, Мишка. Головой работать надо.
— Это чего? Политика?
— А хоть бы и так. Политика у нас к тому направлена, чтоб всем и тебе учиться идти, а нет — так сиди и не рыпайся. А то с инженером тягаться вздумал, с героем!
Мишка понял, мрачно взглянул на пустой стакан:
— Вот какие слова ты мне говоришь?
— И тебе говорю и себе. Политика для всех дорогу показывает. Вот я тебе опять про то же скажу. Мне, если хочешь знать, не меньше твоего обидно. Нет, не думай ни на кого. Чужому счастью не завидую, коль своего не взял. Болтают всякое — будто сосну я на него нарочно уронил. Дураки. На такого человека! Первое — из лесорубов инженером стал. Поди, попробуй, — легко ли? Второе — немцу жизни дал: ордена даром не вешают. Третье — сам знаешь, его дела у нас. Ты за него держись. Мишка, он из тебя человека сделает. А на это все плюнь. А как плясал! Сумеешь так? Тоже дал жизни! Это четвертое. Вот тебе и вся политика. Человек у нас на все руки мастером должен быть — и в работе, и в жизни.
Часть четвертая
ЧУВСТВА И ДОЛГ
На другой день после праздника Тарас, как и всегда, поехал в лес раньше других. У пятой диспетчерской он сошел с машины и увидел Марину. Он махнул шоферу рукой, и машина, звеня цепями, умчалась в лес.
В опаловом предутреннем сумраке уже чувствовалась невидимая заря. Потеплели краски неба, нежным пламенем вспыхнули верхушки сосен, но внизу еще царил седой мрак, сюда не проникали живительные лучи наступающего дня.
Марина стояла в дверях своей будки, словно загораживая вход, улыбалась спокойной, немного высокомерной улыбкой. И вообще показалось Тарасу, что все это означает немой ответ на немой его вопрос. И ничего благоприятного в этом ответе не мог прочесть Тарас.
— Здравствуйте, Марина Николаевна.
— Доброе утро, Тарас.
Она протянула руку, глядя прямо в его растерянные глаза.
— Знаете что, Тарас! А, пожалуй, нам надо поговорить.
Он насторожился, и Марина поняла, что она сказала слишком высокопарно и, пожалуй, многообещающе. И чтобы все выглядело проще, она легко пояснила:
— Проветрить мозги, чтобы все было светло и чисто.
Она взяла его руку. Тарас с нежностью смотрел на ее маленькие пальцы и другой своей рукой бережно прикрыл их.
— Надо, Марина Николаевна, — согласился он.
— После работы поговорим, хорошо? Вы зайдете сюда?
Войдя в темноту леса, Тарас оглянулся. Вся поляна, где стояла избушка, пылала нежным огнем зари, розовый туман поднимался над пурпурными кочками мха. Поляна казалась чашей, заполненной алым светом. И там, около открытых дверей, стояла девушка, которую он любил. Все было неправдоподобно хорошо. На лесной тропе, по которой он шел, лежали красные листочки брусники. В лесу пахло прохладной весенней сыростью. Он шел, радуясь всему на свете: своей молодости, своей любви, вчерашнему торжеству и торжеству, которое будет сегодня, завтра и которое, как казалось ему сейчас, не окончится никогда. На делянке его ожидал Гоги Бригвадзе.
— Тарас, какое твое обязательство? Сколько даешь?
Тарас не любил пустых обещаний.
— Работа покажет, Гоги. Однако не подкачаем.
Гоги захохотал, блеснув зубами.
— Довольно я терпел, Тарас! Теперь выхожу на первое место. Сегодня бью тебя твоим методом! У меня тоже укрупненное звено.
— Слыхали?! — спросил Тарас, обращаясь к своему звену.
Юрок сдвинул фуражку козырьком на круглый нос.
— Ничего я не слышу, — сказал он.
— Я чего-то слыхал, да не разобрал, — подкрутил свой ус Гольденко.
Ульяна Панина жалостливо посмотрела на Гоги. Рассмеялась:
— Ничего, Тарас. Ему темечко солнышком напекло, вот он и волнуется.
Двое других, новых, старики-лесовики, только посмотрели на Гоги, потом друг на друга и сочувственно покачали головами.
— Слыхал? — засмеялся Тарас.
Гоги вдруг помрачнел. Он всегда завидовал дружной спайке Тарасова звена. Вот и сейчас разыграли его как по нотам, даже эти, новенькие, только что зачисленные в звено лесовики. Ну, ладно, вечер покажет.
— Смеетесь? — спросил он зловеще. — Как бы плакать не пришлось.
Когда он ушел, Тарас обернулся к своим ребятам.
— Поняли, в чем дело?
— Понятно, — протянул Гольденко, затаптывая окурок.
— Дело в том, ребята, — сказал Тарас, — что сейчас мы должны работать в полную силу, как велит рабочая совесть. Я вам митингов устраивать не буду, уговаривать вас много не надо. Одно хочу сказать: наша лесная работа сейчас самая нужная, самая необходимая. На нас сейчас весь мир смотрит. Ну вот, остальное понятно без слов.
В продолжение этой речи он сбросил с себя стеганку, взял лучок, подкрутил бечеву и пальцем тронул тугое зубастое полотно. Оно загудело как струна.
Ничего не надо говорить. Все знали свои места. Звено работало, как слаженный механизм, где поворот одного колеса приводил в движение второе, третье. Звено работало, как не может работать ни один механизм: здесь были люди, полные желания, гордости, умения, люди, думающие о своей работе, задетые за живое…
Потому так и случилось: когда Тарас, кончив пилить, поднялся, чтобы свалить первую сосну, он увидел, что она падением своим словно увлекает за собой другую, на соседней делянке. Он оглянулся и понял все. Да и понимать-то здесь нечего.
Юрок в одно мгновение оценил обстановку. Пока Тарас валит первые хлысты, звену еще нечего делать. Эти несколько минут он решил использовать. Он взял лучок и начал валить на соседней делянке.
— Давай, Юрок, давай! — крикнул Тарас.
Свалив шесть хлыстов, он пошел на вторую делянку. Юрок сейчас же перешел на первую, где Гольденко уже обрубал сучья, а старики-лесовики оттаскивали их в стороны и скатывали бревна в штабель. Юрок раскряжевывал хлысты и успел свалить еще две сосны, пока Тарас управлялся на соседней делянке.
Главное, чтобы работа шла без перерыва. И вот Гольденко заметил, что, обрубив сучья, он вроде как бы отдыхает. Старички целыми возами стаскивают сучья в кучи, а он ждет, когда Тарас кончит валить и перейдет на Другую делянку. Да, он отдыхал, когда другие работали, работали самозабвенно, не замечая ничего, в том числе и его, Гольденкиного, лодырничества.
И почему-то стыдно стало ему, недавнему искателю легкой работы. Стыдно за безделье, а почему — он и сам не знает. Он только понял, что не может стоять и ждать, когда другие работают. Это так поразило его, что он растерялся и, еще не понимая, что творится в мыслях его, взял запасный лучок и подошел к Юрку. Тот приложил двухметровку к хлысту, провел пилой, наметив место реза, и приготовился пилить. Семен Иванович оттеснил парнишку плечом и поставил свой лучок на заметку.
Юрок понял, засмеялся, блеснул озорными глазами:
— Давай, Семен Иванович, давай, в честь близкой победы!
Вдвоем они покончили с раскряжевкой на несколько минут раньше.
Потом так и пошло. Юрок начинал раскряжевку, размечал хлысты и уходил на соседнюю делянку, где работал Тарас. Там он начинал валку и успевал, не мешая Тарасу, свалить несколько деревьев.
Тарас замечал все в короткие промежутки, когда, выпрямляясь, сваливал сосну. Ему уже некогда было смотреть, как она падала. Он шел к следующему дереву, намечая глазами три-четыре, которые предстоит свалить одно за другим.
Он замечал все у себя, на своих делянках, но не упускал из вида и звено Бригвадзе. Он слышал его гортанный крик. Ясно, что там тоже времени зря не теряли. Очень разозлился Бригвадзе. Если зазевается Тарас, пожалуй, придется уступить первенство. Но знал Тарас: не может этого случиться. Все хорошо. Все очень хорошо, не исключая и Марины. Сегодня он скажет ей о своей любви. И будет это — последний разговор.
— Бойся! — закричал Тарас, раскачивая спиленную сосну. Она не поддавалась. Это было очень старое дерево с седым от дряхлости стволом и белыми сучьями. Сосна стояла наклонно и упорно не падала туда, куда хотел положить ее Тарас. Он нажал плечом: «Врешь, упадешь!» Сосна качнулась и медленно, как бы в раздумье, начала падать, кренясь на сторону.
— Эх, мазило! — выругал себя Тарас.
Сосна, зацепившись сучьями, повисла на двух соседних, как древняя старуха на руках могучих внуков.
«Замечтался! — продолжал ругать себя Тарас. — Вот расскажу ей сегодня, как раскис от любви».
Это происшествие нарушило четкий ритм работы. Юрок поспешил к Тарасу, но тот махнул рукой:
— Иди на место. Сам справлюсь.
Он подошел к повисшей сосне. Ее ствол заклинился между двух стволов; надо подпилить один из них. Стоит зазеваться, как под тяжестью нависшего ствола пошатнется подпиленная сосна и придавит Тараса. Нет, зевать не полагается. Ни в тайге, ни в жизни вообще.
Тарас пилил, как всегда, левым плечом прислонясь к стволу. Сосна угрожающе покачивается.
С тревогой следили помощники Тараса за этим единоборством.
Вот, слегка треснув, сосна начала падать. Повисшее на ней дерево, медленно поворачиваясь, покатилось по наклонившемуся стволу.
— Бойся! — крикнул Юрок.
Тарас, выхватив лучок, отбежал в сторону и с досадой махнул рукой.
Старая сосна огромными изогнутыми своими сучьями намертво сцепила обе сосны, удерживая от падения только что спиленное Тарасом дерево. Создалось еще более опасное положение: теперь уже две сосны висели на третьей. Так они могут провисеть десятки лет, состариться, умереть, не разомкнув смертельных объятий, но, может быть, достаточно ударить их ладонью — и все с грохотом повалится на землю.
Раздумывать было некогда. Надо свалить эти сосны. И как можно скорее. Время не ждет. Счет идет на минуты. Юрок притащил вилку, которой помогают свалить дерево, хотя Тарас ею никогда не пользовался.
— Юрок, на место! — послал Тарас. — Сам справлюсь.
Рыжебородый кривоногий старичок-лесовичок снял старенький войлочный колпак, вытер им свою голову и снова надел:
— Эх, парень, на силенку надеешься?
Тарас, не отвечая, пытался вилкой расцепить сучья, но, убедившись в бесполезности, решился на какой-то очень отчаянный маневр.
— Отойди, — сказал он старичку. — Ступай на место — крепок черепок, а не выдержишь.
И вошел под огромный шатер, образованный из трех сосен.
Тарас глянул вверх. Да, игрушка вроде смертельная. Кто кого обманет? Третью сосну и подпилить не успеешь, как завалится вся эта постройка. И бежать некуда. Из опыта знал Тарас: от падающего дерева не беги, а беги к нему. У комля опасности меньше.
Ну, хорошо. Думай не думай, валить эту комбинацию надо. Время не ждет. Осторожно начал пилить, прислушиваясь, не раздастся ли предательский треск вверху.
Старичок-лесовичок топтался неподалеку:
— Тарас! Э, слышь-ка, Тараска! Жизнь надоела тебе? Брось-ка, брось! Сама завалится.
Тарас будто и в самом деле послушался. Бросив пилить, он повесил лучок на плечо, вышел из опасной зоны и, посвистывая, смотрел на верхушки сосен. Так же не спеша подошел к следующей сосне и начал пилить ее.
Юрок досадливо сплюнул. Испугался Тарас. Отступил. Теперь стыдно будет на людей смотреть. Захламили пасеку. Эх!
Но в это время раздался страшный треск. Юрок подпрыгнул от восторга. Тарас и не думал отступать. Подпилив сосну, на которой висели две спиленные раньше, он свалил на них стоящее поодаль дерево. Оно упало на сцепившиеся сосны и тяжестью своей увлекло их.
— Бойся! — крикнул Тарас торжествующе.
А старичку сказал:
— А ты говоришь!
— Да-а, — закрутил тот остреньким войлочным колпачком, — башка тебе, значит, не зря дадена.
Во время обеда появился Леша Крутилин. Он бежал по тайге, прыгая через кочки, размахивал бумажкой.
— Телефонограмма! — кричал он зычным голосом. — Мартыненко за вчерашний день свалил 50 кубометров.
Бригвадзе бросил ложку. Смуглое лицо налилось горячей кровью.
— Пошли, ребята! — крикнул он, срываясь с места.
За ним побежали лесорубы из его звена. Бросились было и ковылкинцы, но Тарас удержал их.
— Дай-ка телефонограмму.
Внимательно прочел торопливые Лешины строчки. Потом спокойно сказал своим ребятам:
— Все правильно. Ешьте поплотнее. Заправляйтесь. Кубиков шестьдесят сегодня положить надо.
ОЖИДАНИЕ
Марина долго ждала Тараса в своей будке. Приняв дежурство и проводив Женю, она привела в порядок рабочий стол и, не зажигая огня, села к столу. Огненное небо пылало над тайгой. Оранжевые отсветы проникали в избушку, окрашивая стены ее в теплый цвет зари.
Она сидела и думала о Тарасе. Наверное, он скажет ей сегодня о своей любви. Обязательно скажет. Слово — закон, говорили про Тараса. Он скажет о своей любви, и она должна ответить ясно и определенно. Зачем играть в прятки? Нет, все эти уловки, якобы присущие женщине, все эти мелкие хитрости не для нее и не для Тараса. Надо ответить ему честно и прямо. И она знала, что скажет: «У нас разные дороги, но это еще ничего не значит. Мне надо учиться, вам тоже. Не помешают ли нам наши чувства?» Он ответит: «Нет, не помешают» И тогда? Что наступит после его ответа, она еще не знала. Но одно ясно для нее: надо, чтобы в сердце и мыслях было чисто и светло.
А может быть, и не так. Может быть, все надо совсем наоборот. Ведь тогда, в юные годы, когда ее сравнивали с далекой звездой, тоже не было никакой ясности. Ничего определенного. И только через много лет она убедилась в постоянстве чувства, мимо которого высокомерно прошла.
Сейчас она чувствует одно, но в этом трудно признаться даже самой себе, — она любит Виталия Осиповича. Но имеет ли право на это? Ведь есть еще Женя, и есть Тарас.
Почему же он не идет? Надо поговорить с ним, как вот сейчас говорит сама с собой. А говорить другое она не сможет.
Но он не идет. Скоро восемь. В это время, лесорубы обычно уже бывают дома.
Она вышла из будки, прислушалась. Было тихо, если не считать извечного шума тайги, к которому привыкаешь так, что и не замечаешь его. Легкая, как облачко, тревога начала обволакивать сердце. И вдруг Марина поняла, что тревожится за одного Тараса. Что там случилось в лесу? Она растерялась от этой внезапно возникшей мысли.
Марина вспомнила, как впервые мысленно разговаривала с Виталием Осиповичем. Тогда все было проще. Она сразу определила свое отношение к нему. О любви не могло быть и речи. Он должен ждать свою невесту. Тогда она не разрешала себе любить. Это было трудно, но по-другому нельзя поступить.
Есть чувства, но есть и долг. И сила на стороне того, кто чувства не противопоставляет долгу.
Теперь все сложнее. Тарас ждал прямого ответа. Но чувства молчали, а долг предоставлял полную свободу сердцу, мыслям, поступкам. Чувство свободы становится в тягость, когда надо решать и не знаешь, что решить.
Значит, надо ждать. Если придет любовь, она откроет перед ней свое сердце широко и бездумно, как Женя. Так, кажется, будет лучше.
Придет Тарас, и она скажет ему все, что думает, и они вместе решат — как должно быть. Но что же он не идет?
Он ворвался, гремя сапогами, стремительный, торжествующий. Смуглое от таежного загара лицо пылало возбуждением.
Она поднялась навстречу, охваченная непонятным волнением.
— Что, Тарас, что? — спросила Марина одним дыханием.
Он сел, хлопнув большими ладонями по коленям. Шумно выдохнул:
— Устал. Хорошо!
В тайге послышались возбужденные, ликующие голоса. Они приближались, но Тарас не говорил того, чего ждала Марина весь день.
Люди шли из тайги шумящей толпой.
— Ну, что, Тарас? — спросила она опять. — Да скажите же скорее!
— Сейчас, — ответил он и всем телом повернулся к столу, где стоял телефон.
Тогда Марина поняла причину необычайного оживления Тараса, которое она второпях приняла на свой счет.
С шумом вошел Бригвадзе, за ним — Юрок, Панина и еще несколько человек, пока не заполнилась избушка.
Тарас заговорил. Наступила тишина.
— Иван Петрович! Говорю от всех лесорубов. Сегодня получили добрую весть от друга моего Мартыненко. Он вчера со своим звеном свалил пятьдесят кубометров. Что? Сколько я? В общем, ответили достойно. Тут учетчики все промерили и записали.
Повесив трубку, он сказал:
— Пошли, ребята!
И вышел последним, шумно попрощавшись с Мариной.
Марину сначала оскорбило такое невнимание. Она готовилась к свиданию, она советовалась со своим сердцем и знала, что он тоже ждал этого вечера. И вот что-то оказалось сильнее любви. Да была ли любовь? Скорее всего ничего не было. И напрасно ока мучила себя, готовясь к какому-то большому и очень важному разговору.
Она гуляла по дорожке около будки, маленькая, одинокая, под огромными соснами, которые равнодушно шумели. Конечно, Тарас не изменился, он остался тем же, что и был. Но сегодня он увлечен другим, что никогда не затмится никакими любовными туманами.
Поняв это, Марина почувствовала себя не такой уж маленькой и одинокой.
Звонил телефон, она разговаривала с Крошкой, с Клавой, принимала и отправляла машины и снова гуляла под соснами по гулкой лежневке, слушая, как звонит телефон, считая звонки. Если пять, — она заходила в будку и брала трубку.
Она делала все, что ей полагалось делать. И никогда никто, даже проницательная Крошка, не догадался бы, какое смятение царило в сердце самой неприступной из росомах.
Она ходила не торопясь мимо ярко освещенного прямоугольника двери — двадцать шагов туда, двадцать обратно. Потом перестала считать шаги и вдруг увидела далеко за поворотом огоньки машины. Они приближались, мелькая между сосен. Тогда она сообразила, что ушла от будки слишком далеко, и поспешила назад.
Она не опоздала. Машина только что остановилась на разъезде у диспетчерской. Шофер выглядывал в двери кабинки. Ослепленная лучами фар, Марина крикнула ему сквозь гул мотора:
— Свободно! На разъезде не ожидай! На прямую.
И сошла с дороги. Машина, звеня цепями, тяжело прошла мимо. Проводив ее взглядом, Марина резко повернулась и пошла в свою будку.
Там, на ее месте, за столом сидел Тарас. Она не удивилась. Тарас был в своем новом костюме, очень солидный и очень смущенный.
Он поднялся и отошел в сторону, давая девушке дорогу, но она не спешила на свое место, впервые забыв отметить в паутине графика ушедшую в лес машину.
— Я уезжаю, Марина Николаевна, — сообщил Тарас, — через час идет поезд.
— Так вы опоздаете, — сухо сказала Марина, поглядывая на часы. Стрелки показывали, кажется, два, но она тут же забыла — сколько. Вообще никакой ясности ни в чем не существовало.
— Но я не мог уехать, не увидев вас.
Она все еще стояла посреди комнаты. Тогда он подошел к ней и взял ее руку, чего до сих пор не осмеливался делать.
— Я должен сказать вам…
Она не убирала руки. Она знала, что сейчас он скажет то, что еще никто никогда ей не говорил. Но почему же он молчит? Марина не смела взглянуть в лицо Тараса и очень досадовала на свою непонятную нерешительность. Растерялась, как маленькая. Никогда еще такого не было.
Она заставила себя поднять голову и посмотреть в глаза Тараса.
— Марина Николаевна, — тихо и восторженно прошептал Тарас.
Свободной рукой он обнял ее плечи и неожиданно поцеловал.
Марина зябко повела плечами, но он, должно быть, не понял этого движения, потому что крепче прижал ее к себе.
Звонил телефон, возвращая Марину к действительности. Она считала звонки:
— Раз, два, три, четыре, пять. Теперь вы, думаю, должны меня отпустить.
Слова прозвучали насмешливо. Это удивило ее.
Она взяла трубку.
— Я. Да, у меня, — она скорбно подняла брови и строго обрезала: — Клава, это никого не должно задевать. Я сказала, у меня. Зачем? Ты становишься болтлива, как Крошка.
— Оказалось, Тараса уже ищут.
Он улыбался растерянно и смущенно.
— Надо идти…
— Идите, — разрешила она, не глядя на него.
— Марина Николаевна!
Марина стояла за столиком. Маленькая лампочка освещала ее бледным желтоватым светом. Тарас, задыхаясь, сказал:
— Счастливо оставаться. — И стремительно вышел.
Марина стояла одна, неподвижная, тонкая, с безвольно опущенными руками, слушая, как затихают его шаги на звонких брусьях лежневой дороги.
БЕЛАЯ НОЧЬ
Вся жизнь состоит из чудес, которые мы давно перестали считать чудесами.
Была тайга. Одно из тех мест, о которых принято говорить: «Где не ступала нога человека». Да тут и в самом деле ступить было некуда. Здесь рождались и умирали сосны, обрушивая полуистлевшие тела свои на зеленый мох. Здесь стояли деревья-мертвецы, белые и страшные. Они и мертвые еще держались на корню, а некоторые при падении запутывались в ветвях соседних деревьев и годами качали на них безобразные свои скелеты, свешивая седые космы высохшего мха.
Здесь были болота — веками высыхали они и не могли высохнуть…
Здесь был бурелом — сваленные бурей сосны, вывороченные из земли с корнем.
Но здесь был кратчайший путь к Весняне — великой таежной реке, где начинают строить бумажный комбинат. Значит, нужна дорога, — и люди совершали чудо. Они вырубили широкую просеку, убрали тысячи кубометров бурелома, высушили болота и скоро начнут строить железную дорогу.
Виталий Осипович шел по просеке, пробираясь к началу ее — пятой диспетчерской. Так высоки были сосны, что солнце заглядывало сюда только около полудня. Он шел а пел о сыне, который задумал жениться и решил просить благословение отца, но…
Не поверил отец сыну, Что на свете есть любовь… Веселый разговор…Не поверил? Чудак. Есть любовь на свете! Вчера по рации сообщили Виталию Осиповичу, что пришел ответ из бюро справок. Катя жива. В блокноте, что носит он в кармане гимнастерки, записан адрес его любви.
Полетели к черту все опасения и вымыслы. Катя жива! Она у себя дома, чудесная, милая, единственная. Какая она? Через какие муки прошла? Разве это сейчас имеет значение? Пусть будет самое страшное, что убьет его любовь, — все равно останутся обязанности. Но трудно поверить, невозможно поверить, что есть сила, способная сломать его любовь.
Во всяком случае, он должен увидеть ее. Она не солжет, она никогда не лгала.
И хотя он пел:
Что на свете девок много — Можно каждую любить… Веселый разговор…Но не мог поверить песенным словам.
— Нет, не каждую! Не каждую!
Вот и конец пути. Сквозь деревья мелькнула избушка — пятая диспетчерская. Скоро она станет таежной железнодорожной станцией. Как ее назовут? Может быть, «Росомаха»? Станция «Росомаха»? — в честь этих девушек, которые в любую погоду, днем и ночью, встречали груженые лесовозы.
И каждый, кто жил и трудился здесь, проезжая через эту станцию, вспомнит лесную избушку в сугробах под гигантскими соснами, и девушек, проводивших дни и ночи в ее рубленых стенах.
Он шел и негромко напевал, думая о человеческих Сложнейших чувствах и простых человеческих чудесах.
Сын собрался, сын оделся, Пошел в зелен сад гулять… Веселый разговор…А в это время у пятой диспетчерской сидели девушки, говорили и мечтали.
Женя сдала дежурство и, как всегда за последнее время, осталась поболтать с Мариной. Очень хорош был таежный вечер. Даже трудно сказать — вечер или день. Начинались белые ночи — неправдоподобно светлые и тихие.
Девушки сидели на скамеечке у будки, слушали любовное щебетание какой-то птички, бездарно подражавшей соловью, и страстное кваканье лягушек. У лягушек получалось убедительнее, потому что они никому не подражали, пели, как могли, а непосредственность тем и хороша, что в ней больше души.
Девушки мечтали, глядя на верхушки сосен, окутанные опаловой дымкой, на спокойное, словно светящееся, небо. Скоро все это будет только воспоминанием. Вспомнишь и, может быть, вздохнешь.
Женя сказала:
— Обязательно вздохнем. Правда, Маринка?
Марина покровительственно улыбнулась:
— Ты — обязательно.
— Мариночка, не притворяйся, — и ты.
— Ты права, Женюрка, и я тоже. У нас тут много хорошего было. Сколько мы узнали за эти годы и сколько сделали!
Женя сказала:
— Вот сижу и думаю: жалко уезжать отсюда.
— Кого жалко?
— Всех. Привыкла.
Марина подумала: «Прощальная тоска, поминки по любви. Обожает вздыхать девушка. Еще скажет — здесь кладбище, где похоронена любовь».
Но тут же Марина почувствовала, как в ее иронические размышления врывается какая-то щемящая боль. Вот новость, уж не собирается ли и она затосковать.
Услыхав пение в тайге, девушки прислушались. Человек пел для себя, и поэтому чувствовалось, что ему хорошо.
— Он! — шепнула Женя.
— Беги навстречу, — усмехнулась Марина.
Женя вспыхнула:
— Ф-фу, Маринка, тебя не поймешь!
Виталий Осипович благодушно поздоровался, уселся против девушек на лежневке, рассказал, что идет с Весняны, куда уже прибывают первые строители, а так как на лесопункте он не был четыре дня, то поинтересовался новостями.
— Берлин заняли, — сообщила Марина.
Он сказал, что знает об этом. На строительстве нет еще кухни, но антенна уже поставлена, потому что новости с фронта сейчас хватают жадней, чем хлеб.
— Министерство представило к награде Ивана Петровича и Тараса Ковылкина. Он делал доклад в институте об организации труда в лесу. Об этом напечатано в газете.
— Знаю, — ответил Виталий Осипович.
Марина улыбнулась кончиками губ:
— Ну, вас ничем не удивишь.
— Но зато я могу сообщить новость. Конечно, это касается только меня одного. Получил сообщение из справочного бюро.
— Жива? — спросила Марина.
Виталий Осипович ликующе ответил:
— Да!
— Поздравляю, — сказала Марина, глядя на тонкую полосу заката над лесом; темные зрачки ее казались разрезанными алой полоской надвое. — Поздравляю от души!
Женя встала и ушла в будку.
Звонил телефон. Марина сосчитала звонки. Пять. Но Женя, по-видимому, не сняла трубку, потому что звонки раздались снова. Марина резко поднялась. «Женька с ума сходит, опять придется ее уговаривать, ну теперь-то я смогу это сделать». Она тоже ушла в будку, где возле телефона неподвижно сидела Женя, глухая ко всему на свете.
Виталий Осипович слышал, как говорила с четвертой диспетчерской Марина, сообщая, что путь свободен. Через несколько минут далеко на лежневке показался лесовоз. Потом Марина что-то тихо говорила Жене тоном матери, уговаривающей обиженную дочку. «Ну вот, и нечего тут слезы лить», — донеслось до него.
Подошла груженая машина с двойным прицепом. Шофер вышел из кабинки. Виталий Осипович узнал Гришу: он был так мал по сравнению с огромной машиной, что напоминал того мужичка с ноготок, с которым когда-то Корнев познакомился в школьной хрестоматии.
Виталий Осипович рассмеялся и спросил:
— Откуда дровишки?
Очевидно, мужичок «в больших сапогах, в полушубке овчинном» был хорошо знаком и Грише, потому что он тоже засмеялся и в тон ответил:
— Из лесу, вестимо. Тарас, слышишь, рубит, а я — отвожу!
Тогда оба они расхохотались так громко, что из диспетчерской выглянула Марина.
— Сейчас встречная придет, и можешь ехать, — отрывисто сказала она шоферу.
— Что-то у вас похоже на похороны, — нахмурился Виталий Осипович.
Марина вздохнула.
— Да нет. Так. Девичья грусть. Впрочем, вы сами знаете.
Он решительно отстранил Марину и вошел в будку.
— Женя! — позвал он твердо и ласково.
Она подняла голову. Слезы наполняли ее глаза и казались такими же голубыми, как и сами глаза.
— Уходите, — прошептала она в ужасе. — Уходите сейчас же!
Вскочив со скамейки, она стояла против него, задыхаясь от волнения.
— Женя, надо успокоиться.
— Ох, сама знаю! — простонала Женя с такой трогательной беспомощностью, что Виталию Осиповичу стало не по себе, словно он, сам того не желая, совершил какую-то непростительную глупость.
А Женя очень трогательным тоном провинившейся девочки, беспомощно уронив руки, проговорила:
— Ну, разве я виновата, что люблю… — и вздохнула. — Вот и все.
Он сел на скамейку и взял ее за руки, усадив рядом. Он знал, что надо сказать этой девушке.
— Вот что, Женя. Я совершил большую ошибку, что сразу не поговорил с вами.
— Это было бы бесполезно, — убежденно перебила она, глядя на его руки, в которых все еще лежали ее ладони.
— Нет, Женя, нам надо поговорить серьезно.
— Ах, не надо.
— Нет, надо, Женя, надо.
— Ну, что вы мне скажете? Что любите свою невесту? Это я и сама знаю.
— Подождите. Я еще не все сказал. Я видел ваше увлечение, но не считал, что это серьезно. Допустим, и я полюблю вас, и мы будем счастливы. А она?
— Знаете что, — перебила Женя, — не надо ничего говорить. Нет, говорите, говорите… Только не об этом…
Но ни о чем он уже говорить не мог. Она, эта девочка, в чем-то оказалась сильнее его. Вот сказала: «не надо говорить», и он понял — сказать ему нечего. Самые хорошие, самые разумные слова бессильны против любви. И как ошибался он, считая несерьезными и ее увлечение, и ее самое!
Но все же надо что-то сказать. А что — он не знал. Он только слегка сжал ее теплые пальцы. Наверное, вид у него сейчас жалкий. Женя поспешила помочь ему. Она приблизила к нему свое лицо, заглянула снизу в его глаза.
— И не будем мучиться этим, — успокаивающе произнесла она. — Все будет хорошо.
Он не видел ни ее сияющих глаз, ни ее полуоткрытых губ, которые улыбались для него. Он только ощущал ласковое тепло ее запрокинутого лица, и ему казалось, что такое же тепло источают ее глаза, ее золотистые волосы. Она, молодая, сильная своей любовью и состраданием к его растерянности, тянулась к нему, и он чуть было не совершил поступка, который никогда бы не простил себе.
А Женя мягким движением высвободила руку и поднялась. Теперь она была выше его, сидящего в прежней позе. Она сказала спокойно, ликующим голосом человека, убежденного в своей правоте:
— А я все равно буду любить вас. И тут уж ничего не поделаешь.
СОСНА И ПАЛЬМА
Ночью восьмого мая Виталий Осипович ходил по своей комнате и, размахивая папиросой, говорил:
— Ты меня должен понять. Сидеть здесь в такие дни очень трудно.
Иван Петрович в белой рубашке и брюках, заправленных в узорчатые, северной вязки носки, сидел на его кровати. Он кивал огромной кудлатой головой и соглашался.
— Понимаю. Кончают дело, в котором и твои силы, и твоя кровь. И — без тебя. Понимаю.
Остановившись против него, Корнев воткнул папиросу в пепельницу, вздохнул:
— Говорят — драться легче, чем ждать. Этого и великие полководцы не отрицают. А ждать — надо уметь. Ждать. Выжидать.
Несмотря на поздний час, никто не хотел спать. Иван Петрович, закинув руки за голову, потянулся всем своим большим телом так, что шатко дрогнула кровать. Растягивая слова, он опять согласился:
— Ждать или догонять — хуже нет.
А он именно ждал, и поэтому ни о чем не хотелось ни говорить, ни думать. И возбуждение Корнева слегка раздражало его. Он, проведший все военные годы в таком глубоком тылу, не мог полностью прочувствовать все, что волновало его друга, но, понимая состояние его, терпеливо слушал.
— Война создает свои законы, определяющие отношения людей и государств, — говорил Виталий Осипович, — законы, не всегда пригодные для мирного времени. И, как только кончается война, замечается стремление избавиться от них. И это вполне нормально. Мы стоим на пороге огромных изменений. Начнется новая жизнь, надо по-новому жить и работать. Мы, руководители, в первую очередь должны подготовиться к работе в любых условиях.
Эта мысль показалась Ивану Петровичу достойной внимания. Он оживился. Свертывая самокрутку, сказал твердо, словно поставил все сказанное Корневым на прочный фундамент:
— Мы готовы к послевоенной работе.
Рывком поднявшись с кровати, он заходил по тесной Комнате, размахивая рукой, в которой сохла и развертывалась незажженная папироса.
— Слушай, Виталий, как подумаешь, — какого черта нам здесь надо, в тайге, в болотах! Мерзнем, недоедаем, а все же не бежим отсюда. Боремся, строим, лес добываем, столько всяких дел творим, что десять Джеков Лондонов не успеют описать. Зачем?
— Страна требует, — ответил Виталий Осипович.
— Страна! — ликующе закричал Дудник. — Ты мне общих слов не говори. Я это требую. Ты требуешь, Тарас, все требуют. Отними у нас эту тайгу с болотами, с морозами, мы зачахнем. Нам настоящее дело давай! Чтоб трудно было… Мы — лесовики…
В это время в столовой звякнул телефон. Иван Петрович круто повернулся и подбежал к аппарату.
— Давай на всю сеть! — охрипшим вдруг голосом закричал он.
Вешая трубку, зашептал на весь дом.
— Радиоузел. Особое важное сообщение. Спрашивает, включать ли все точки. Народ разбудим. Чудак! Да кто же сейчас спит!..
Папироса его совсем расклеилась, из нее высыпался табак, он ткнул ее в цветочный горшок.
— Товарищ майор, как думаешь: конец? Победа?
И тут же умолк. Раздалась мелодия позывных. Затем наступила тишина, торжественная, настороженная. Тишина томительная, в которой, кажется, слышен даже трепет сердец. Кто из советских людей не переживал этих величественных мгновений!
И затем знакомый мужественный голос диктора:
— Победа.
Иван Петрович подошел к другу, положил руки на его плечи и обнял. Оба в молчании дослушали передачу.
Потом началась невообразимая кутерьма. Они обнимали. Валентину Анисимовну, не стыдясь слез своих, говорили перебивая друг друга. Проснулись дети, их тоже целовали, подбрасывали на руках. По русскому обычаю выпили, как полагается, с радости.
Торопливо одевшись, вышли на улицу. Уже никто не спал. Во всех домах горели огни, слышался возбужденный говор. В опаловом сумраке светлой ночи двигались люди.
Лесорубы подхватили Виталия Осиповича и с восторженным ревом начали его качать, подбрасывая вверх сильными руками. Запоздавшие выбегали из бараков, на ходу застегивая одежду. Им кричали:
— Победа! Товарищи, фашистов добили!
Кричали, словно все были глухие, но никто этого не замечал. Всем хотелось кричать о победе, которую так долго ждали, для которой много поработали и много перенесли.
По дороге пробежал лесовоз, с грохотом раскачивая пустой прицеп. На кабине сидел высокий парень, растягивая меха гармони. На заправочном ящике около бункера стояли люди. Они бушевали радостно, исступленно. Из нестройного хора на минуту вырвался трубный голос Леши Крутилина:
— В лес едем, к грузчикам. Ура!
Машина унеслась в тайгу по черной просеке.
Женя не спала. Она прослушала сообщение о победе и, накинув платок, выбежала из барака. Навстречу ей двигалась толпа опьяненных радостью людей. В сумраке белой ночи она разглядела фигуру в длинной шинели. Виталий Осипович! Она остановилась, зная, что он сейчас подойдет к ней. Но он не сразу разглядел ее и, только проходя мимо, вдруг увидел и бросился к ней.
— С праздником, Женя!
Он подхватил ее под руку и повел вслед за толпой к женскому бараку. Она сказала, что торопится в главную диспетчерскую, надо сообщить всем росомахам, всем шоферам на линии и грузчикам в лесу. Они шли вместе.
Прислушиваясь к своему легкому дыханию, Женя не чувствовала ничего, кроме его твердой руки около своей груди. Белая ночь, и на душе светло, а в сердце бьется тоненькая, больная струнка. Счастье, призрачное, неощутимое, как белая ночь, лишь слегка прикоснулось к ней, и она почувствовала себя неловко, словно украдкой взяла крупицу чужого счастья.
Он что-то говорил о радости, ожидающей всех, всю страну. Она молчаливо соглашалась, но радость казалась ей неполной. Поняв ее молчание, он тихо спросил:
— Уедете домой?
— У меня нет дома.
— К родным?
— Я сказала — никого нет. И никуда я отсюда не уеду.
Тогда он начал говорить, что впереди много хорошего и что они друзья на всю жизнь. Они хорошо поработали здесь. По-фронтовому поработали.
— На севере диком, — вздохнула она, вспомнив ту ночь, когда он читал ей стихи про одинокую сосну. И спросила, помнит ли он ту ночь? Да, он помнил свою первую ночь на лесопункте. Тогда он был очень одинок и подавлен тоской и злобой. А сейчас…
Они шли по лежневке, по одной ленте. Идти было тесно и приходилось прижиматься друг к другу. Он тихим голосом повторял ей стихи, которые читал в ту ночь.
И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет.— Тоже одинокая? — горько улыбнулась Женя. — И на севере, и на юге.
Ей стало жаль себя, но в эту ночь ликования не хотелось никаких сожалений. Вспомнив Марину, она подняла голову и высокомерно одобрила:
— Очень хорошие стихи.
Виталий Осипович удивленно взглянул на Женю. По щеке ее скатилась прозрачная слеза.
— Женя, не надо! — сказал он дрогнувшим голосом. Он снова почувствовал тоску бессилия: она любила его, она страдала, а он не мог и не смел утешить ее. Ну, что тут можно сказать в утешенье?
— Не надо, — вздохнула она, — и я очень люблю, очень. Но не надо. Знаю, что не надо.
Она хотела сказать: «Только не понимаю, почему». Но не сказала.
На заправочной площадке около центральной диспетчерской танцевали. Под навесом громадных сосен слышались звуки оркестра. Музыканты старались от души. Руководитель оркестра упоенно водил смычком по своей скрипке, покачивая в такт головой. Седоватый доктор, не довольствуясь своими ударными инструментами, жидким тенорком напевал веселую мелодию. Он так старался, что под конец охрип, но, не замечая этого, продолжал петь.
Виталий Осипович сбросил шинель. Он танцевал с Женей. Она уже не думала ни о чем. Ей, как и всем, было хорошо. Она знала, что будет еще лучше. Несмотря ни на что, будет хорошо. Она танцевала, подняв пылающее лицо свое к высокому небу, на котором кружились яркие звезды… А может быть, и не было никаких звезд, откуда им взяться в эту белую ночь! И все равно казалось, что звезды сверкают над ее головой, потому что здесь, рядом, был он, ее невыдуманный, любимый герой.
А вокруг шумели люди. Танцевали, пели, обнимались, кричали.
Неподалеку от площадки в тайге, на болотных кочках, вспыхнул костер, другой, третий. Площадка, озаренная трепетным блеском огней, словно сдвинулась со своего места и, качаясь, поплыла по черной тайге.
Люди танцевали у костров. Безмолвные, неподвижные сосны, освещенные пляшущими огнями костров, тоже казались живыми, танцующими вместе с людьми.
И Женя вдруг в одну минуту увидела то, чего не могла разглядеть за все эти трудные годы. Она увидела живую тайгу. Жизнь в тайге вдруг раскрылась перед ней во всем своем величии, и она увидела в этой жизни такие радости, о которых прежде не думалось.
Она рассмеялась.
— Хорошо, Женя? — спросил Виталий Осипович, не доняв еще ее настроения. — Ведь хорошо? Да?
Женя продолжала радостно смеяться. Кружась по площадке, она видела ликующих людей, подруг, товарищей. Вон Клава, старший диспетчер, в паре с черномазым заправщиком, вон лесовичка Панина с Иваном Петровичем. А рязанскую его статную дролю крутит лучший танцор лесоучастка и лучший лесоруб Гоги Бригвадзе. Все здесь и все ликуют. Здесь, на севере диком, нет одиноких людей. Что это толкует ей Виталий Осипович о жизни, о счастье? Разве о счастье расскажешь? Ведь так хорошо кругом, столько счастья во всем, что свои маленькие горести тонут в нем, не оставляя следа.
В центре круга лесорубы обступили Ивана Петровича. Его подхватили сильные руки и поставили на высокое крыльцо диспетчерской. Требовали, чтобы он сказал что-нибудь, кричали «ура!». И когда он начал говорить, стало тихо, так тихо, как в самую морозную ночь, когда, кажется, даже слышно электрическое потрескивание призрачных лучей северного сияния.
— Товарищи, — негромко сказал Иван Петрович, — дорогие мои товарищи!
В наступившей тишине послышался легкий шум, звонко рассмеялась девушка, словно льдинка упала с крыши на весенний лед.
— Мы за свое счастье сражались и завоевали его. Теперь начинаем это счастье строить! — сказал Иван Петрович.
В тишине кто-то вздохнул, кто-то хлопнул по плечу друга: «Эх, друг!», кто-то обнял подругу, шепнув ей: «Про нас это, подруженька».
— Верно! — послышался чей-то голос. И словно эхо прокатилось по тайге от одной звонкой сосны до другой:
— Правильно!
— Точно!
И вот снова все заговорили, закричали. И все-таки никто не сказал бы, что нарушен порядок, что смята тишина, что оратору мешают говорить. Разве кому-нибудь может помешать шум тайги под весенним ветром? Шумит тайга, а человек делает свое верное, свое значительное дело.
Женя потеряла в суматохе Виталия Осиповича. К ней подошел Мишка Баринов, она протанцевала с ним. Он спросил, когда она уезжает. И вздохнул:
— А я остаюсь.
Она ответила, что никуда уезжать не собирается, и пошла искать Корнева. Она видела его на крыльце, а потом он исчез в радостно бурлящей толпе.
Хрипя сигналом, в лес шла машина, чтобы привезти оттуда грузчиков, которые не приехали с первой машиной. Люди перед ней расступались и снова смыкались. Тогда Женя вспомнила о Марине. Она сидит в будке одна и, пока не пройдут все лесовозы, не сможет присоединиться к общему веселью. Бедная Марина. И Жене очень захотелось увидеть ее. Она побежала за машиной и на ходу прыгнула на подножкну. В кабине сидел Гриша. Он медленно вел свой лесовоз сквозь ликующую толпу. Она села рядом с ним.
Марина стояла на пороге избушки. Подруги обнялись и поцеловались.
— Как хорошо, что ты приехала, Женюрочка! В такую ночь и быть одной! Мы все время по телефону переговаривались. Леша, знаешь, что придумал? Смотрит в окно, как танцуют на площадке, и передает по линии. Репортаж с площади Победы! Выдумает же — площадь Победы! И речь Ивана Петровича передал, словом, полная радиопередача. Умница этот Леша.
Потом спросила Женю, что она делала весь вечер.
— Танцевала! — упоенно воскликнула Женя, тряхнув головой.
— С ним?
— Да.
— Ты неисправима, Женька.
— Да! — счастливо сказала Женя.
ПИСЬМО ОТ КАТИ
После той памятной ночи Женя новыми глазами увидела тайгу и себя, и свое место здесь. Она стала спокойнее, сдержанней. Конечно, она любила по-прежнему — нежно и ясно. И по-прежнему отказывалась понять, почему она не имеет права на эту любовь.
Понять это не легко. Хорошо Марине: у той все продумано, она не даст увлечь себя, она сильная и гордая. Понять это не легко, а заставить себя не любить еще труднее. Но Женя и не подозревала, что делается в сердце подруги.
Как и всегда, в этот вечер Женя после дежурства осталась с Мариной в тайге. Сидела на обычном месте — на скамеечке у диспетчерской.
Неслышно подошел Гольденко. Он казался удрученным и растерянным. От былой его славы остались только закрученные в колечки усы, да и то один уже печально опускался, показывая, что хозяину опять не повезло.
Он поморгал красными веками, погладил конус подбородка и вздохнул:
— Улетаете, девочки?
Женя фыркнула, Марина безразлично сказала:
— Придет время — уедем.
Он еще раз судорожно вздохнул и присел на пенек.
— Нельзя тут жить. Завянет в тайге, в болоте вся радость-красота.
— Чья, Семен Иванович, твоя?
— Хо! Да разве я о себе?
Подумал и сообщил:
— Человек — игрушка судьбы, а жизнь — быстротекущая проблема.
Девушки рассмеялись. Гольденко скорбно посмотрел на них, подождал, пока они кончат смеяться, поднялся и торжественно произнес:
— Выходя из вещества этого дела, выпил я от огорчения. Не хотят у нас людей понимать.
Девушки удивились. Как будто все шло хорошо. Гольденко работал в лучшем звене, получал премии, задирал нос и вообще, казалось, был всем доволен.
— Эх, ничего вы понять не можете!
Он опять уселся на пенек, пристально посмотрел на подруг и горестно вздохнул:
— Тарас меня обидел. Ну, чем я хуже Юрка? А? Скажите. Ему премия — и мне премия, ему ордер на валенки — и мне. А теперь, что получается? Он мальчишка, мамину, извиняюсь, титьку не забыл, а ему звание — мастер.
— А ты?
Гольденко ударил кулаком по колену.
— И я мастер! Мальчишка меня догнал! Сколько я лет потерял. Целую жизнь. Я, может, здесь первый раз свое имя-отчество услыхал. От этого не отступлюсь.
И мечтательно добавил:
— Семен Иванович Гольденко. Во!
Он горделиво приосанился, подумал и вздохнул:
— Тю! Да что вы понимаете, Марина Николаевна? Вы, извиняюсь, еще молодые, невинные на поле жизни, цветок душистых прерий. С Тарасом только слон работать может или белый медведь. А я работал и буду работать. А почему? А потому, что, обратно я говорю вам, Марина Николаевна, здесь человека ценят. Кто я был и кто стал? Тарас орден получил, был лесоруб, стал инструктор. И я добьюсь.
— Пьяный вы, Семен Иванович, — поморщилась Женя. — Шли бы спать.
Надев шапку, Гольденко махнул рукой:
— Эх, человека не понимают!
И побрел прочь от диспетчерской.
Стояла ночь, но в избушке не зажигали огня — так было светло, что даже клеточки диспетчерского графика на столе были ясно видны.
Телефонный звонок. От четвертой отправился лесовоз. Марина вышла встречать. Шофер передал ей письмо, пришедшее с вечерней почтой. Знакомый, такой знакомый почерк.
— Женя! — крикнула она. — Письмо! От Катюши моей! Подожди. Сначала сама прочту.
Они присели на скамеечку у двери. Марина разорвала конверт. На ее колени выпали два одинаковых листочка бумаги, исписанных разными почерками.
Женя старалась деликатно не смотреть на подругу, но не могла. Она видела, как дрожали ее пальцы, разрывающие конверт, откуда выпали два листка, как потом, когда она, наконец, заставила себя прочесть один из них, уронила руки с письмом на колени и закрыла глаза.
Несомненно, письмо принесло страшное известие, с которым не могла она совладать.
— Мариночка! Ну, Мариночка! — умоляюще прошептала Женя и, сама не зная отчего, заплакала.
— Что ты? — вдруг открыла глаза Марина и улыбнулась. — Это письмо от отца. На, читай. А это сестра пишет.
Женя, вытирая слезы, читала короткое письмо, где отец спрашивал у дочери, как она прожила эти ответственные годы. Он сообщал о себе, о матери и сестре. Все живы, здоровы. Адрес Марины отыскали через институт и сразу же написали. Ждут, целуют, — что же еще! Очень хорошее письмо.
Прочитав другой листок, Марина медленно сказала:
— Вот как сложно бывает в жизни. — И задумалась. Потом протянула письмо подруге.
— Прочитай и это. Женя. И не падай в обморок. Вообще не переживай. Ты за последнее время умницей стала. Читай.
Женя прочитала. Да, такое письмо заставит задуматься.
— Что же делать? — спросила Женя.
Марина помолчала, невесело улыбнулась, скорбно приподняв брови:
— Нам?
— Нет, ему. И нам и ему?
Но вопрос остался без ответа. Так они сидели и молчали, слушали, как тихо шепчутся сосны, сочувственно покачивая вершинами. Потом они услыхали пение. Сначала его трудно было отличить от шелеста сосен. Потом стало ясно — пел человек веселую песню. Нет, песня не была веселой. Печальная оказалась песня, просто человеку было весело, и оттого он пел, не жалея голоса, и, наверно, улыбался. Все ясно: песня о любви.
— Он! — Женя прижал письмо к груди. — Мариночка, что же это такое?
Взял он саблю, взял он востру И зарезал сам себя…Виталий Осипович вышел из леса и размашисто снял фуражку:
— Ну, как жизнь молодая! Здравствуйте!
Ему не ответили. Девушки смотрели на него такими глазами, словно явилась перед ними мифическая росомаха, сверкая зелеными глазами.
— Что случилось?
Марина устало поднялась со скамейки. Женя продолжала сидеть, прижав ладони к похолодевшим щекам.
— В чем дело, Марина Николаевна? — снова спросил Виталий Осипович.
Стоя против него, напряженная и строгая, так, что брови сошлись в одну ниточку, она протянула прямую, негнущуюся руку с письмом.
— От сестры, — вызывающе сказала Марина.
— Да? Поздравляю. Все хорошо?
— Читайте, — приказала она.
Сестра писала, что попала в эшелон, в котором немцы отправляли в Германию девушек и женщин. На эшелон напали партизаны, перебили немцев и всех женщин освободили. Она осталась в партизанском отряде, ухаживала за ранеными, пока не ранили ее. Тогда ее перебросили на «нашу сторону». Она выздоровела и снова пошла на фронт. Познакомилась с лейтенантом, теперь он майор, и они поженились.
«С удивлением узнала, что Корнев В. О. находится там же, где и ты, и ты, наверное, встречаешься с ним. Когда-то он ухаживал за мной и делал мне предложение. Мне казалось, что я его любила. Может быть, это так и было, но я не успела разобраться. Война разбила все. Недавно я получила от него сумасшедшую телеграмму. Умоляет приехать, но ведь я не могу. Ты скажи все. Объясни, как умеешь. Я люблю своего мужа и очень счастлива. Желаю В. О. всех благ, и пусть он поймет меня и простит».
Это Катя, его Катя! И это она своим ясным, спокойным голосом, который запомнился на все военные годы и так мучительно волновал, лишая покоя, заслоняя все радости, просто просила передать ему?
Глядя на письмо, как в пропасть, он сказал:
— Конец.
Протянул листок Марине, она взяла его, хотела что-то сказать, но Корнев поморщился, как от боли.
— Не надо. Ничего не надо объяснять.
И, круто повернувшись, пошел в лес.
Марина сделала несколько шагов за ним. Несколько неверных, осторожных шагов, — словно по тонкой жердочке, — и остановилась. Подумала. Решительно повернулась и в дверях будки увидела Женю.
— Какая глупость, — поморщилась Марина.
Женя спросила:
— Ты так думаешь? Ох, не можешь ты так думать!..
Молчание, шепот сосен.
Марина сказала:
— Посидим, Женя.
И обе опустились на скамейку. Женя обняла подругу за плечи.
Тишина. Шумят сосны.
— Ужас, Марина, какой ужас! — тоскливо прошептала Женя.
— Не причитай, Женька!
— Ты подумай: он один пошел в тайгу! — ее шепот становился все быстрее. — Я боюсь! У него такое лицо, такое лицо, ну, как будто на нем ничего нет. Одно белое пятно, ты видела его лицо?
Она сняла свою руку с плеча Марины и вздрогнула, словно от холода.
— Подумай! Ждал, верил, мучился, ведь он молился на нее… Он любил ее… Ну, что это такое, Марина?
— Перестань, Женя! Переживет.
Женя вскочила, глаза ее решительно блеснули.
— Я пойду!
И снова тяжело опустилась на скамейку, простонав:
— Может быть, ты, Марина? Иди. Я подежурю за тебя.
Опустив голову на ладони, Марина глухо уронила:
— Нет.
Когда она подняла искаженное болью и отчаянием бледное лицо, Жени около нее уже не было.
ДОЛГ И ЧУВСТВА
Поезд на Москву должен уйти в час двадцать, но только почти в час Афанасий Ильич выбрался с биржи. Очередной затор на погрузке. Все, кажется, идет хорошо, но сегодня с утра подогнали под погрузку сразу пятьдесят вагонов и забили биржевую железнодорожную ветку до самого тупика.
Посматривая на часы, он шагал по шпалам. Он торопился. Поезд уже стоял на станции, и многочисленные пассажиры роились около каждого вагона. Война не нарушила строгой работы транспорта, но загрузила его до предела. Маленькая таежная станция стояла еще без крыши, билеты продавались в наспех сколоченном дощатом сарайчике, прямо из окна. Дежурный по станции, разговаривая по селектору, высовывался в оконный проем и кричал плотникам, устанавливающим стропила:
— Эй, отцы, подождите стучать!
Отцы, бородатые плотники, втыкали топоры в стропильные балки и, закурив, каждый раз заводили разговор на одну и ту же тему: «И куда это народ едет, не сидится ему на месте».
Народ ехал.
На длинной дощатой платформе, с которой не успели еще смести щепу и стружки, действительно, набралось много народу. Кончилась война, и многие стремились домой. И пусть разбит, загажен врагом, пусть совсем уничтожен дом, — все равно. Осталось место, на котором он стоял. Дом можно построить. Была б голова на плечах да руки.
Афанасий Ильич пробежал по платформе, разыскивая Ульяну Панину. Он должен обязательно увидеть ее и сказать одно только слово. Одно слово, которое определит всю его жизнь.
Ульяна Панина ехала искать своих детей.
Афанасий Ильич помог ей собраться, достал билет, пропуск, предлагал денег, но Панина сказала, что хватит своих. Последние два месяца она почти ежедневно заходила к Петрову, но не всегда заставала хозяев дома. Она брала ключ, спрятанный в условленном месте, наводила порядок, уносила грязное белье, приносила чистое. А если заставала дома Петрова или Гришу, то оставалась посидеть. Нечасто выдавались такие вечера. Всегда было тепло и чисто в комнате. Афанасий Ильич читал или писал, готовясь к занятиям в политшколе. Иногда Гриша читал вслух. Ульяна шила. Изредка, не отрываясь от шитья, она глянет на Афанасия Ильича, на Гришу, легонько вздохнет, и снова мелькает иголка в маленьких ее крепких пальцах.
— Чем благодарить вас, не придумаю, — как-то сказал Афанасий Ильич.
— А вы не думайте, — отозвалась она, — благодарность хороша, когда не придумана.
— Нет, в самом деле… — вступил в разговор Гриша, но она ласково отстранила его:
— Ты, Гришенька, еще мал росточек. Дубочком станешь, тогда зашумишь.
Уезжать она собралась сразу и так твердо сказала о своем отъезде, что никто и не подумал препятствовать. Что ж тут скажешь? Мать едет искать своих детей. Ничего не скажешь, и не надо ничего говорить. Помочь ей надо.
Но Афанасий Ильич хотел сказать одно только слово, которое она должна запомнить, тогда он будет спокоен. Но так и не успел сказать, И вот теперь он ищет ее в этом людском скопище, штурмующем вагоны.
Она сама окликнула его. Ульяна попала в вагон первой, она вообще не умела оставаться в хвосте.
— Эх, думал, опоздаю! — крикнул он и умолк, не зная, как сказать то слово, которое она должна запомнить.
Много было сказано слов, но все не те. Все какие-то случайные, обыденные.
— Денег не хватит, телеграмму давайте, не стесняйтесь.
— А чего мне стесняться, — просто ответила Панина. — Хороших людей у меня привычки нет стесняться.
Помолчали. Панина спокойно положила руки на спущенную раму окна, смотря сверху на Петрова, а он похлопывал по лакированной обшивке вагона широкой ладонью, словно испытывая его добротность.
— Птенцов своих сюда привозите. Не стесняйтесь. Найдем место.
— Привычки у меня нет стесняться, — тихо повторила Панина, и крутой ее подбородок дрогнул. Но она овладела собой и твердо пообещала:
— Привезу.
Снова помолчали. Ударило два звонка. Петров крепко шлепнул ладонью по вагону и, словно убедившись, наконец, в его прочности, спрятал руки за спину. И вдруг понял, что медлить больше нельзя, что осталась, может быть, одна минута для решения его судьбы. Он глянул в вопросительные глаза женщины.
— Может, найдешь там кого, не вернешься? — попытался он пошутить, но губы дрогнули и шутка не получилась.
А Панина сквозь непрошенную слезу ответила:
— Этого не ищут, Афанасий Ильич, это само находится.
Он взял ее руку и шел так вдоль перрона, не отставая от вагона. А она вся тянулась к нему, и он бежал и бежал, пока, наконец, не пришлось выпустить ее маленькую крепкую ладонь.
— Жди спокойно, — донеслись до него ее прощальные слова. — Жди. Приеду как домой.
Так и не успел сказать он своего слова. А поезд, набирая скорость, катился уже далеко, втягиваясь в тайгу. Мелькнул между соснами последний вагон, но еще долго шумели в тайге многочисленные отголоски поездных шумов, словно поезд запутался там и кружит между сосен, не находя выхода. И в сердце Афанасия Ильича, во всем его существе так же, как гулкое таежное эхо, звучали ее последние слова:
— Жди спокойно…
— Жду, — сказал он и в самом деле почувствовал себя очень спокойно. Он был уверен, что не останется один, у него будет семья, будет она, которую не ищут, которая находится сама.
Опустела платформа. Те, кому не удалось уехать, разошлись.
Плотники, так и не решив, куда же стремится народ, снова застучали топорами.
По биржевой ветке старенький паровозик, горячо дыша широчайшей трубой, вытягивал длинную очередь вагонов, груженных круглым лесом, досками, шпалами.
На эстакаде под майским ласковым солнцем стояли грузчики, отряхивали рукавицы, провожали каждый вагон придирчивым, оценивающим взглядом: надежно ли крепление, полностью ли загружен? Над грузчиками возносились легкие курчавые облачка махорочного дыма.
Виталий Осипович остановился в конце эстакады и не спешил ступить на ее отлогий спуск. Он тоже засмотрелся на состав с лесом. Проплывали вагоны с тяжелыми бревнами, с нежно-кремовыми аккуратными пакетами досок, с драгоценной авиапланкой, надежно запрятанной в крытые пульманы. Проплыли четыре платформы с мостовым брусом, потом целая вереница шпал, уложенных правильными кубами, и снова — бревна, крепежный лес, доски всех сортов. И так каждый день, каждую ночь. Идет лес в разоренные врагом места.
Теперь никто не скажет, как раньше: «Подавиться бы проклятым фашистам нашим лесом». Не для войны идет лес. Кончилась война. Строим.
Подошел Иван Петрович.
— Засмотрелся? — спросил он Виталия Осиповича, кивнув на вагоны. — Даем лесок! — Мельчайшие солнечные лучики запутались в его жестких усах. Посмеиваясь, он горделиво погладил их и озабоченно посмотрел на часы.
— Ты иди на вокзал, а я забегу на шпалорезку и тоже приду. Сегодня Тарас из Москвы приезжает. Надо встретить.
В ожидании поезда Виталий Осипович ходил по перрону и вдруг увидел Гольденко. Тот слонялся среди пассажиров, присаживался к ним поболтать о том о сем.
— Вы что, Семен Иванович? — спросил Корнев.
— То же, что и вы, товарищ Корнев. Встречаю.
— Скажите, Гольденко, откровенно: тянет?
— Куда?
— В полет.
— Откровенно? — задумался Гольденко. — Если откровенно — тянет.
Он вздохнул, свернул огромную папиросу: «Разрешите прижечь от вашей машинки», — и снова вздохнул.
— Не то тянет, что других, — родные места. У меня таковых нет. Ни места родного, ни людей родных. Всю жизнь чего-то ловил, а поймал ворону за хвост.
— А здесь? — спросил Виталий Осипович.
— За это вам спасибо. Спасибо! — прочувственно произнес Гольденко, притрагиваясь к козырьку вылинявшей своей кепочки. — Нет, в другие места меня не тянет. А вот хочется в вагоне на верхней полке полежать, с народом, который со всех сторон собрался, поговорить, как у них на Кавказе, в Сибири, в Москве. Слушаю и вижу — везде лучше, все хвалят свои места. Очень отчаянно хвалят, даже непонятно, как это люди, которые хвалят, покинули такую замечательную жизнь.
Гольденко провел по губам острым языком, втянул со свистом воздух.
— Так прокатиться, и потом — назад.
— Посидим, Семен Иванович, — предложил Корнев, присаживаясь на скамеечке. Сел и Гольденко, с тоской поглядывая на стремительно убегающие вдаль полоски рельсов.
— Похоже, скоро сорвусь. И не удержит меня никакая сила. Заберусь в вагон на верхнюю полку и начну врать про хорошую жизнь на севере диком.
— Да, плохо вам здесь было, — посочувствовал Корнев. — Тяжело.
Усмотрев какой-то подвох в этом сочувствии, Гольденко опечалился:
— Дык я же объехтивно, товарищ Корнев. Я же не о себе говорю. Вот гляжу на этих отъезжающих — и жалко их. Ну куда они устремляются? Разве здесь нехорошо?
Виталий Осипович коротким смешком дал понять, что сомневается в чувствах собеседника.
— Не крутитесь, Гольденко. Вы ведь откровенно сознались, что нет силы такой, чтобы вас удержала на севере.
— Есть, — тихо и значительно сказал Семен Иванович. Что-то новое, не свойственное старому искателю счастья, Прозвучало в этом коротком слове.
— Есть, — торжествующе повторил Гольденко. — Сила такая есть, как в сказке живая вода. Вы меня извините за упоминание сказки. А только это так.
Виталий Осипович положил руку на плечо Гольденко и, глядя в его выпуклые растерянные глаза, попросил:
— Говорите, говорите, Семен Иванович. Это очень правильно — живая вода. А вот к чему эта присказка?
— Правильно, — ободрившись, подтвердил Гольденко. — Присказка, а теперь началась сказка про то, как дурак умным стал, или быстро текущая проблема жизни. А случай этот, о котором хочу рассказать, перевернул всю мою жизнь. Это, когда мы накануне Дня победы рекорд ставили. Очень самоотверженно работали. И, значит, расстановка сил такая. Тарас валит. Юрок на раскряжевке, а я сучья обрубаю, подкатываю. Ну, Ульяна Панина тоже на валке. Перед этим Тарас нам такое слово сказал. Товарищи, говорит, сейчас, когда Россия разрушена проклятым врагом, наш труд самый полезный, на нас весь народ смотрит. Я по привычке подумал: ладно, уже слыхали. Во внимание не взял его слова. А когда начали работать, вижу: слова с делом расхождения не имеют. Вот, думаю, какая эпоха пошла. Ну и пусть хребты гнут. У меня своя работа. Я ее не торопясь сделаю. И вот на этом месте мне неудобно стало. Ну будто я при всех своей ложкой в чужую кашу залез. Стыдно мне стало. Вы это поймите, Виталий Осипович. Постеснялся я, коему название было лодырь, в сторонке от горячей работы стоять, когда кругом люди жизни своей не жалеют. Без дела стыдно стало. Как товарищ Дудник сказал в День победы: «Посмотрите, дорогие мои товарищи, какой вы красивый народ!» Я очень это помню. Я желаю красоты. Я сам хочу иметь красивые поступки, чтобы обо мне говорили: Гольденко — этот может!
Он хлопнул ладонью по своему колену, как бы удивляясь и вместе с тем восхищаясь тем, что случилось с ним.
— Перекурим это дело, товарищ Корнев.
И снова с тоской посмотрел на стремительно убегающие вдаль голубые полоски рельсов.
Корнев рассмеялся.
— Это дело поправимое. Вот немножко встанем на ноги, отпуска разрешат, и поедет знатный лесоруб Семен Иванович Гольденко в отпуск в мягком вагоне.
— Нет. Мягкого мне не надо. Там пассажиров мало. Мне жесткий, да чтоб остановок побольше. Вот что мне надо.
На этом месте беседа была прервана. Явились Юрок и Бригвадзе. Пользуясь выходным днем, они пришли встретить Тараса, который сегодня возвращается из Москвы. Пришло и еще несколько человек.
Марина появилась последней. Ее увидел Виталий Осипович и, наверное, не мог скрыть удивления, потому что она сказала:
— Почему бы мне не встретить Тараса? Он мой товарищ.
— Это хорошо, — торопливо заговорил Виталий Осипович, вдумываясь в слова «мой товарищ». — Это очень хорошо. Он наш товарищ.
Марина строго посмотрела в его глаза, лицо ее слегка вспыхнуло.
— Пусть будет по-вашему.
Опустившись на скамейку, где только что сидел Гольденко, она сказала:
— Сядьте. Тут что-то надо объяснить. Ну, садитесь же и не улыбайтесь так сочувственно.
Виталий Осипович сел, согнав улыбку, которая показалась Марине сочувственной. Нет, дело не в этой улыбке… Скорей наоборот. Но он не стал вдаваться в объяснения, тем более, что она собиралась что-то сказать.
— Я улыбаюсь от удовольствия, — начал он, пытаясь придать предстоящему разговору оттенок шутливости, приглашая ее вспомнить прошлое с грустной улыбкой.
Но она не склонна была шутить.
— Вы думаете, все, что случилось, — смешно?
— Я думаю, запоздалая драма не может не вызвать улыбки.
Она посмотрела на Виталия Осиповича долгим, осуждающим взглядом, удивленно подняв брови: вот как, он уже забыл свою обиду? Он уже склонен относиться к пережитому с улыбкой? Тут что-то не так.
— Вы так скоро забыли все? — спросила Марина, стараясь казаться равнодушной, но это ей не удалось. Виталий Осипович заметил ее волнение.
— Ну хорошо, — вздохнул он. — Вам обязательно хочется еще раз вернуться к пережитому. Я согласен. Вернемся. Только вновь переживать прошедшее я не намерен. И вам не советую. К чему? Прошлое — как вот эти стружки и щепа на платформе. Их сметут, и никто не вспомнит, как трудно было построить на мшистом болоте эту платформу, у нас и без того дел хватит…
— Не то, — перебила Марина, — не то вы говорите. Стружки сметут, а постройка останется. Так вот, давайте сметем стружки.
Смести стружки, убрать мусор — на это он согласен.
— Я скоро уеду, — продолжала Марина таким тоном, словно едет она не по своей охоте, словно ее увозят насильно. — Уеду. И для меня все будет прошлым. И то, что мы сейчас сидим с вами и говорим в последний раз, — тоже станет прошлым. И мне многое жаль. Не так все должно быть…
Она сделала протестующий жест. Виталий Осипович сказал:
— Вы очень рассудительны, Марина Николаевна.
— Может быть. Я согласна, что иногда надо не рассуждать, а поверить сердцу. Но я не очень-то доверяю ему.
— Не доверять своему сердцу — не значит ли не верить себе? — спросил Виталий Осипович.
— Не знаю. Мне было не легко заставить себя не любить. Но заставлять себя полюбить — это почти невозможно. И мне кажется, это нечестно — заставлять любить.
Нет, такой разговор на шутку не переведешь. Виталий Осипович отказался от своего намерения, тем более, что разговор приобретал определенность. Надо было назвать все своими именами.
— Вы — о Тарасе? — спросил он.
Она просто ответила:
— Сначала о вас, потом о Тарасе.
— Я — это прошлое. Стружки. Так?
Легкий румянец вспыхнул на ее щеках. Разве может прошлое так волновать сердце? Он — ее прошлое, которого не было. Ничего не было у нее. Вернее, было в ее мечтах, и только. На его вопрос невозможно ответить. Любительница ясности, она предпочла оставить невыясненным, стало ли прошлым ее чувство к нему. Вот скоро, сейчас приедет Тарас и тоже потребует ясности. И она должна внести эту ясность прежде всего в свои отношения. Но что-то надо ответить. Он ждет. И она ответила:
— Вы? Не знаю. И зачем это знать сейчас?
В смятении Марина поднялась, она не могла понять, куда сейчас пойдет, что будет делать в этот светлый день весны.
Высоко на фоне яркой голубизны неба плотники, с блестящими от пота лицами, сверкающими топорами рубили золотые бревна, стесывая лишнюю древесину. Вот если бы можно было взять топор и стесать всю шелуху, которая мешает расцвету простых и ясных, как небо, человеческих страстей! Она оскорбилась, когда Тарас от чистого чувства поцеловал ее. Долг она противопоставила чувству, не сообразив, что и долг и чувства существуют вместе, не мешая жить.
— Зачем это знать сейчас? — повторила она тоскливо.
— Да, вы правы. Зачем? — печально отозвался Виталий Осипович и тоже поднялся.
Они сейчас поняли только одно, что разговор состоялся, все стало ясно — встреч больше не будет.
Это подтвердил торжествующий гудок паровоза, еще невидимого из-за леса. Поезд стремительно приближался к станции. Это конец.
Снова торжественно прогремел гудок и пошел перекатываться по лесу. За ним катились многочисленные шумы быстро идущего поезда, и вот с торжествующим гулом из тайги вырвался поезд. Сверкая стеклянной линией окон, состав подошел к платформе.
Тарас вышел из вагона. Его встретили приветственным шумом. Он соскочил на платформу, пожимая руки друзей. С Бригвадзе поцеловался три раза. После каждого поцелуя они били друг друга по плечу и, удовлетворенно крякнув, снова целовались.
Потом торжественно поцеловался с Виталием Осиповичем, погладил по голове Юрка, а когда к нему протиснулся Гольденко, Тарас просто сгреб его в свои могучие объятия. И тут он увидел Марину. Она стояла одна, в стороне от шумной толпы встречающих. Он подошел к ней, протянул руку и осторожно спросил:
— Как живете, Марина Николаевна?
На них смотрели плотники с высоты сверкающего новым лесом здания. Но они никого не замечали, занятые только друг другом.
Она протянула ему руку.
— С приездом, Тарас. Расскажите, как Москва?
— Расскажу! — ликующе крикнул Тарас. — Есть что рассказать о нашей Москве! Ну, пошли домой.
Шли шумной толпой. Это была одна семья, очень дружная, гордая, счастливая оттого, что выдержала, не сдала в самые трудные годы, что впереди много хороших дел.
Корнев вспомнил слова Гольденко:
«Живая вода. Вот она — живая вода!»
Вечером все население поселка собралось у клубной веранды. Пришли слушать рассказ Тараса о поездке в Москву. Вынесли из клуба скамейки, но их не хватило, и многие сидели прямо на молодой травке.
Уже комары запевали унылые свои песни. Их отгоняли платками, березовыми ветками, махорочным дымом, но это не помогало. Тогда кто-то развел небольшой костер завалив его сухим мхом.
Гольденко не мог сидеть спокойно. Он ходил вокруг веранды, щурился от дыма, горделиво подкручивая небогатые усики.
Он не замечал ни комаров, ни дыма, не слыхал рассказов Тараса, он сам хотел говорить, но все отмахивались от него, как от комарья. Да и что он мог рассказать здесь, где всем известны его поражения и его подвиги?
Тогда Семен Иванович ушел в общежитие, сел на крыльцо и задумался.
Тонко звенели комары. На лесобирже гулко хлопали доски, сбрасываемые со штабеля. Звонко свистнул маневровый паровоз. Свистнул пронзительно, коротко, как бы поставив точку на нелегкой думе Гольденко.
Мысль созрела, точка поставлена, надо действовать. Гольденко поднялся и ушел в общежитие. Через несколько минут он снова появился на крыльце, только на плечи был накинут черный ватник и в руках он нес баульчик с притороченным к нему жестяным чайником.
Оглядевшись, он побежал к лесу, прыгая как заяц с кочки на кочку.
Гольденко исчез. Вечером никто не обратил на это внимания. И только утром Виталий Осипович узнал о его бегстве.
«Вот тебе и живая вода! — подумал он. — А ведь как говорил убедительно. И все, оказывается, врал».
Но была у него какая-то уверенность, что это ошибка. Все Гольденко поймет, все. Не может не понять после того, чем жил он последнее время.
Корнев сказал Тарасу:
— Вернется.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
Утром, когда Виталий Осипович торопливо глотал горячий чай, ему принесли письмо. Валентина Анисимовна, подавая пакет, сказала:
— Спешное.
Из тысячи почерков он узнал бы этот прямой, с легкими утолщениями на концах букв, очень знакомый почерк. И он увидел ее, легкую, стремительную, на полянке, залитой солнцем.
Чай уже не казался очень горячим, да и вообще он не замечал ничего, складывая конверт пополам и пряча в карман гимнастерки.
— Спешное? — с ударением повторила Валентина Анисимовна.
— Не очень, — улыбнулся он одними губами.
Почтовый штемпель четырехдневной давности. Его телеграмму она получила месяц тому назад. Письмо, которое потребовало месячного раздумья, вряд ли надо посылать авиапочтой.
— Вот и пойми вас, — с досадой проговорила Валентина Анисимовна. — Ведь ждал, ждал. Я же видела, как мучился. А получил — и даже не читает. Знаете, Виталий Осипович, даже мне непонятно. Да вы прочтите, а потом будете осуждать. Я теперь весь день волноваться буду.
Проводив Корнева, Валентина Анисимовна сейчас же позвонила мужу. Рассказав ему обо всем, она попросила:
— Смотри за ним, залётко, глаз не спускай.
— Ну вот, что он, дите?
— Дите не дите, а ты знаешь какой он… неожиданный.
А Виталий Осипович, выйдя из дому, словно забыл о письме. Утро. Тишина. Прохлада. Над тайгой нежная роспись зари. На вырубке колышется облачко легкого тумана, как бы разрезая все, что находилось позади него, на две части. Кажется, что лес растет из этой непрочной пелены, медленно поднимаясь вместе с нею к алым небесам.
Хороша тайга ранней весной, и даже угрюмые ели выглядят ярко-зелеными и молодыми.
Около парников стоял агроном Шалеев. Поднимая к пламенному небу какой-то зеленый отросток, он поучал стоящих вокруг девушек, как поступить, чтобы эта травинка выжила, расцвела и дала плод на севере.
Корнев достал блокнот. Развернул на том месте, где записаны дела на сегодня. Там стояло: «Шалееву подвезти горбылей на щиты».
Из домов и общежитий выходили рабочие. Степенно прошел Бригвадзе, надвинув черную кубанку на самые брови. Пробежал Юрок Павлушин, что-то жуя на ходу. Увидев Бригвадзе, остепенился.
— Привет, Гоги, — солидно сказал он.
Бригвадзе прикоснулся пальцем к кубанке и ничего не ответил. Он еще не мог обогнать первое звено. Подобрал себе Тарас ребят — ничего не скажешь.
Пока Виталий Осипович дошел до гаража, поселок опустел. Иван Петрович стоял у дороги, ведущей к гаражу.
Он сказал, что сегодня с поездом прибыло пополнение.
— Есть хорошие ребята. Лесовики. Сами приехали, вот что дорого. Девушек две. Одну — диспетчером вместо Ефремовой. Придется отпустить — ей в институт надо. Другую на старшего диспетчера будем готовить. На фронте телефонисткой служила. Тоже лесовичка. Ну, как дела?
Иван Петрович вспомнил наказ Валентины Анисимовны — смотреть за Корневым. А что за ним смотреть? Выдумала дроля. Виталий Осипович сейчас совершенно не походил на человека, за которым надо присматривать.
На всякий случай он спросил:
— Ну, как самочувствие?
— А что? — подозрительно ответил вопросом Корнев, отрываясь от записной книжки.
Иван Петрович, глядя на белый дымок, поднимающийся над кухней, спросил:
— Я насчет Иванищева. Каждый день звонит.
— А ты как думаешь?
— Дело большое, — неопределенно ответил Иван Петрович, вздохнув.
День предъявлял свои права, требуя неослабного внимания. И только часов в пять Виталий Осипович собрался ехать домой.
Он сидел у пятой диспетчерской, ожидая лесовозную машину. Из избушки доносился голос Марины:
— Главное, ни минуты не давать им покоя. Опоздал — почему, что случилось? И не бойтесь. Шоферы — народ зубастый.
— Я сама зубастая, — отвечал другой голос, низкий и певучий. Видимо, обладательница его знала себе цену: в ее тоне слышалась некоторая снисходительность.
— Вы, девушка, того и во сне не видели, что я от всяких водителей и танкистов наслышалась. Вы знаете, что такое отступление? Тут снаряды рвутся, дорога подогнем. Машины одна на другую лезут. А ты стой, регулируй. И то не растерялась. Одного генерала два часа выдержала, обозы пропускала. Его шофер мне и в любви объяснялся и автоматом грозил, а я не пропустила. Не могла. Потом этот генерал мне орден дал.
Марина вежливо выслушала и поучающе сказала:
— График не забывайте.
— Ох, не люблю бумажную волокиту!
— Придется полюбить. Мы тут тоже не спали.
— Это точно, — снисходительно подтвердила фронтовичка. — Вы поработали по-боевому. Я ведь сама здешняя. Из Таежного, слышали? Заимка такая была. Сейчас поселок. Здесь до войны только первые домики ставили. А сейчас смотрю — индустрия.
Корневу захотелось посмотреть на эту новую росомаху — столько в тоне ее и манере говорить услыхал он близкого, фронтового, что не утерпел и вошел.
Новая стремительно встала. Она была в старенькой гимнастерке и юбке, в начищенных сапогах. На черных подстриженных волосах пилотка, на высокой груди два ордена и медаль.
— Технорук, Виталий Осипович, — отрекомендовала Марина.
Девушка щелкнула каблуками, вскинула руку к пилотке. Быстрый взгляд на орденские колодки. Наметанным глазом определила — фронтовик, только погон не хватает.
— Разрешите представиться, товарищ технорук, — диспетчер Елена Макова.
— Отставить, — засмеялся Корнев, протягивая руку. — Держаться по-граждански, работать по-фронтовому.
— Есть, — улыбнулась Макова, крепко пожимая руку Корнева и усаживаясь против него.
Разговорились. Она рассказала, что на фронте с начала войны, трижды ранена, трижды возвращалась в часть. До Берлина не дотянула, попав в госпиталь после четвертого ранения. Она сидела прямо, отвечала на вопросы точно, и в ее тоне не было и тени той снисходительности, с которой обращалась она к Марине. Перед ней находился командир, фронтовик. Это надо понимать, а она — солдат, она понимает.
— Уезжаете, Марина Николаевна? — спросил Корнев.
— Да…
Разговор не клеился. В это время подошла Машина, и Корнев уехал.
На четвертом разъезде Виталий Осипович встретил Петрова.
— Посмотрите, какую машину получили.
На запасном пути стоял новенький трелевочный трактор.
— Первый послевоенный, — с волнением произнес Корнев, нежно поглаживая фары. — Фу ты, черт, даже слеза прошибла, до чего хорош! А главное, свой, отечественный.
Они обошли машину раз и два, забрались в кабину, осмотрели управление. Снова обошли, радуясь, как дети, драгоценному подарку.
Около четвертой диспетчерской стоял тракторист, из демобилизованных, — молодой разбитной парень со звездообразным шрамом на щеке, который как-то очень шел к его озорному лицу. Он, играя глазами, приводил в трепет Крошку замысловатыми фронтовыми комплиментами. Увидев Корнева, Крошка что-то шепнула своему неожиданному ухажеру. Тот подтянулся, привычным жестом скользнул руками по швам и взял под козырек:
— Здравия желаю, товарищ майор!
— Вольно, — с удовольствием ответил Виталий Осипович. — Флиртуете?
— Как полагается при заторе, товарищ майор.
— Моя фамилия Корнев.
— Ну, сразу-то и не привыкнешь к гражданскому обиходу. Все кажется: товарищ майор. Как-то красивее получается. Вроде родня. Свой человек.
Корнев присел на скамеечку. Крошка охорашивалась и беспричинно смеялась. Тракторист, свертывая цигарку, победительно поглядывал на нее.
— Такой дивчине цены не было бы в прифронтовой полосе.
— Уж вы скажете! — пискнула Крошка.
Корнев понял разбитного тракториста: в прифронтовой полосе все девчата хороши. Он сказал укоризненно:
— Это уж вы очень…
— Да я же говорю, — не унимался тот, — такую девчиночку в карман спрячешь, никакой даже самый глазастый старшина не заметит.
— Насмешники, — кокетничала Крошка, — меня как раз очень все замечают.
Только телефонный звонок отвлек ее от дальнейших Приятных разговоров. Подошел встречный лесовоз, уехал на сверкающей машине веселый тракторист.
Вечером, как и всегда, Виталий Осипович сверял по своему блокноту: все ли сделано.
Он сидел один в своем «капе». За стенкой кто-то проверял мотор. Мотор то ровно рокотал, то завывал, переходил на гул, заставляя дребезжать стекла. Шофер крикнул кому-то: «Прикрой газ!», и снова рокотал усмиряемый мотор.
Эти звуки никогда не мешали Корневу сосредоточиться. Записи в блокноте отмечались птичкой — знаком выполнения — или переносились на завтра, на послезавтра. Он подводил итог дня.
Все. Кончился день, очень хороший, ясный, солнечный.
Такой хороший, что с ним не жаль и расстаться для грядущего дня. Из пустого, бестолкового дня уходишь с таким чувством, словно тебя обокрали или обманули.
Нет, сегодняшний день не обманул. Расставаться с ним легко и немного грустно. Грусть. Вот она, лежит в нагрудном боковом кармане гимнастерки, и когда привычным движением хочешь положить туда рабочий блокнот, она напоминает о себе, цепляясь за коленкоровый корешок.
ДЕНЬ, КОТОРОМУ НЕТ КОНЦА
Оказалось, что день еще продолжается. Дома в большой столовой за сверкающим самоваром сидела Валентина Анисимовна. Поставив полные локти на стол и положив круглый девичий подбородок свой на сплетенные пальцы, она слушала, что рассказывал Петров. А он, рассказывая, мешал ложечкой в стакане, и, видно, мешал давно уже, потому что чай остыл. Увидав Виталия Осиповича, он еще раз крутанул ложечкой и вынул ее из стакана.
Против Петрова сидела Женя. Когда вошел Корнев, она вспыхнула и, поставив чашку на стол, тихонько сказала:
— Ах!
Петров внимательно разглядывал чайную ложечку, повертывая ее перед глазами. По его лицу бегал светлый блик. Наступила минутная тишина.
Ивана Петровича еще не было, дети спали.
— Чаю хотите? — спросила Валентина Анисимовна. — Ужинать будем, когда залётко придет.
Виталий Осипович взял стакан. Он был спокоен. Он улыбался, зная, что день, который так хорошо прошел, не может кончиться плохо. Его открытая улыбка успокоила Валентину Анисимовну.
— Афанасий Ильич с хорошей новостью.
Квадратное лицо Петрова засветилось радостной и немного смущенной улыбкой, но он тут же напустил на себя суровость.
— Вот. Это действительно хорошо! — сообщил он. — Детей Ульяна Демьяновна нашла.
Но Валентина Анисимовна перебила его:
— Тамара-то большенькая. Десять лет ей. А сынок, Анатолий, пятилетний. В детском доме нашла.
Сказав это, она взяла у Петрова его стакан.
— Дайте, я вам горячего налью.
Наливая чай, сказала деловым тоном:
— Надо Паниной отдельную комнату, и так встретить, чтобы почувствовала — домой приехала. Кроватки детские в нашей мастерской сделают. Одежду, одеяла, посуду соберем. Кое-что в магазине есть. Дело за комнатой. Обязательно отдельную комнату.
— А может быть, квартиру? — не улыбаясь и очень по-деловому спросил Виталий Осипович, поглядев на Петрова. Но, не выдержав вопросительного и строгого взгляда Афанасия Ильича, улыбнулся. Так хорошо, задушевно улыбнулся, что обидеться никак было нельзя.
— Может быть, — мечтательно произнес Афанасий Ильич и тоже улыбнулся.
Виталий Осипович сказал, что квартира есть, две комнаты и кухня. Ждет хозяев.
— Где? — спросила Валентина Анисимовна.
— Та, что приготовили для меня, а я пока и в своем «капе» проживу, если меня отсюда выгонят.
— Глупости вы говорите! — рассердилась Валентина Анисимовна.
Но только один Корнев понял ее как следует.
Женя задумчиво разглаживала и без того гладкую скатерть. Она по-своему поняла Виталия Осиповича, когда он отказался от квартиры. Она любила мечтать, подменяя мечтой действительность, когда та не вполне ее удовлетворяла. И украдкой, очень осторожно, но со всем пылом любви своей она уже жила в этой квартире, в этих комнатах, со своей неустанной заботой и любовью. Именно здесь, в этих уютных комнатах, Виталий Осипович поймет, как непростительно медлил он.
Женя знала, что так не будет. Но иногда мечта кажется реальнее действительности.
— Вы вместе с Мариной Николаевной уезжаете? — спросил Корнев, обращаясь к Жене. — Еще стаканчик покрепче, Валентина Анисимовна.
— Да, — надменно ответила Женя.
Передавая Корневу стакан, хозяйка спросила:
— Вы определенно решили насчет квартиры?
— Конечно, определенно, — твердо ответил Виталий Осипович.
Женя поднялась.
— Я пойду, Валентина Анисимовна.
Корнев осторожно взял Женю за руку, усаживая на место. Она подчинилась.
— Подождите, Женя. Все-таки надо поговорить.
— О чем? — печально спросила она, но осталась.
Афанасий Ильич понял, что его присутствие здесь не потребуется, и поспешил попрощаться. Валентина Анисимовна, забрав самовар, ушла на кухню.
Женя сидела, уронив руки на колени. Виталий Осипович спросил, где она думает учиться.
— Не знаю, — равнодушно ответила она.
— Это плохо. Надо знать. Мы сами выбираем свои дороги.
— Ах, не все ли равно, где я буду учиться! — с отчаянием воскликнула Женя, закрывая глаза.
— Мне это не все равно, Женя. Поймите, не все равно.
Она медленно подняла голову. Золотые кольца волос рассыпались по плечам. Так же медленно распахнула большие чистые глаза, словно спрашивала: это верно, что она слыхала сейчас, или ей только показалось? Такой вопрос нельзя оставить без честного ответа.
— Я хочу помочь вам, Женя, как очень хорошему и дорогому человеку. И прошу принять от меня любую помощь, как от товарища. Я ведь строитель. Скоро уеду на большую стройку. Хотите поступить в строительный техникум? Я тоже когда-то начинал учиться там. Это в нашем областном городе. Мы будем переписываться, будем встречаться, на практику вы приедете на бумкомбинат. Мы достанем учебники, программы, я помогу вам подготовиться. Хотите?
Она поднялась, подошла к нему:
— Я все хочу, что пожелаете вы.
— Ну, вот и хорошо, — рассмеялся Виталий Осипович, поднимаясь ей навстречу. Он взял ее под руку, и они стали ходить по большой столовой, обсуждая дальнейшие подробности Жениной жизни.
— Вот и хорошо, — повторил Виталий Осипович. — Вам надо крепче стоять на собственных ногах, иметь свое мнение, не зависимое от меня. Надо, чтобы вы делали не то, что хочу я, а что сами захотите.
— Да, да! — задыхаясь от радости, соглашалась Женя, зная, что ничего она никогда не захочет, что бы не понравилось ему, самому любимому и дорогому.
…Проводив Женю, Виталий Осипович не торопясь возвращался домой.
В поселке стояла тишина. Под горой, у моста через лесную речушку, играли на баяне. На веранде клуба Леша вслух читал какую-то книгу. Его слушали десятка два молодых парней и девушек.
«Пушкина читает», — улыбнулся Виталий Осипович.
Я знаю: век уж мой измерен; Но, чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я… —со свойственной ему страстью читал Леша. Виталий Осипович подтвердил:
— Правильно! — и улыбнулся.
Дома Валентина Анисимовна молча прибирала посуду. Ивана Петровича еще не было.
— Задержался залётко, — вздохнула она.
— Что бы вы сделали, Валентина Анисимовна, — спросил Корнев, — если бы Иван был в другом городе и написал бы вам одно слово — «приезжай»?
— Об этом не надо и спрашивать, — медленно ответила Валентина Анисимовна.
Корнев вынул из нагрудного кармана письмо, разорвал его пополам, сложил, снова разорвал, еще и еще.
— Я тоже так думаю, — охрипшим вдруг голосом сказал он.
…Ни за что не хотел кончиться этот день. Он уже давно захватил часть ночи, почти такой же светлой, как день. Мерцающее небо светилось словно гигантский матовый абажур.
Пришел Иван Петрович. С ним вместе, как будто он принес их, вернулись шумные заботы прошедшего дня и грядущие дела дня, который уже открывал свои солнечные глаза.
— Подписан приказ о тебе. Командируешься на строительство, — сказал Иван Петрович, принимая тарелку из рук жены.
После ужина, закурив, мужчины вышли на высокое крыльцо. Под мерцающим белым кебом бескрайняя расстелилась тайга. Поселок тихо спал. Пророкотал мотор лесовоза и, удаляясь, замолк. Мощно взревел на станции паровоз. Первая кукушка пробовала свой голос, но ей мешала какая-то ночная пичужка, высвистывая без отдыха простенькую свою таежную песенку.
Стояли облокотясь на резные перила, тихо переговаривались.
— Расставаться с тобой неохота, — хмуровато сказал Иван Петрович.
— А зачем расставаться? До бумкомбината рукой подать. Ветку построим, хоть каждый день езди.
— Да я не о том… — начал Иван Петрович, — не о том, а вот…
И обоим понятно стало, о чем идет речь. Ни кровное родство, ни шумливые беседы за бутылкой вина, ни согласованность мечтаний так не роднят советских людей, как роднит одно общее дело. Нет ничего сильнее трудового родства, которому отдаешь без остатка творческие свои силы.
— Сам понимаешь, о чем я говорю, — закончил Иван Петрович и весело посмотрел на друга. — Ну, а здесь никто нас не разлучит. Иди, строй свой комбинат, а мы тебе, когда надо, помогать станем. Так сообща и коммунизм построим и наживемся в нем вдоволь, и по-хорошему.
— Да, — задумчиво согласился Виталий Осипович и вздохнул.
И сейчас же в тени высокого крыльца, словно эхо, раздался ответный вздох.
— Кто это? — спросил Иван Петрович.
— Так это я вернулся, товарищи начальники, — сказала темнота голосом Гольденко.
Снова послышался скорбный вздох. Звякнула какая-то жестяная посудина. Шаги. И вот уже сам Семен Иванович стоит перед ними в новом, несколько помятом костюме, в одной руке ватник, в другой — фанерный баульчик. Чайник тускло светился в опаловом мраке белой ночи.
Он стоит, склонив голову к плечу, готовый принять любую кару, понимая, что начальники растерялись от неожиданности, Гольденко подтвердил свое согласие претерпеть за совершенное им:
— Как хотите, так и осуждайте.
— И осудим, — пообещал, оправившись от изумления, Иван Петрович. — Да ты откуда свалился?
Гольденко сложил баульчик и ватник аккуратной стопочкой и объяснил:
— Да я уж давно сижу здесь. Войти не решаюсь. Так и сижу. Речи ваши, извиняюсь, слушаю. Про коммунизм, про строительство. Сижу и думаю: не может быть, чтобы при коммунизме должности мне не нашлось. Я же все понимаю. Не последний человек. Коммунизм приветствую. Ну, а тут насчет прокуратуры высказывания начались. Я, конечно, понимаю. За самовольство надо судить. А только прошу вникнуть прежде.
Гольденко уже стоял на крыльце. То прижимая кепочку к груди, то обтирая ею вспотевшее лицо, он говорил не переставая.
— Слушайте, — перебил его Виталий Осипович, — скажите просто и ясно, что вас заставило сбежать и почему вы вернулись?
— Это я сейчас доложу, — пообещал Гольденко, готовясь к пространному рассказу, но Корнев предупредил:
— Только по-честному.
Они сели на лавочки по сторонам крыльца: Виталий Осипович и директор с одной стороны, Гольденко — напротив. Но он не мог долго сидеть. Не такой это был рассказ, чтобы вести его спокойно. Да, он сбежал тайно, «как последний летун», которого потянуло на новые места. Опытный пассажир, он влез в вагон раньше всех, занял верхнюю полку, подстелил ватник, под голову пристроил баульчик. Полежал, послушал, о чем народ толкует. Утром сбегал за кипятком, попил чайку, познакомился с соседями. Разговоров было много. Но все не те разговоры, к которым привык Гольденко за все свои перелеты с места на место.
— Вот так, как вы сидите, напротив меня женщина ехала. В Харькове у нее муж завод восстанавливает. Она к нему и едет. А сама все про свою работу рассказывает. А вот так, в сторонке, на боковых местах, две девушки. У них свой разговор про колхоз. Их в Москву на совещание вызвали. Вот они и едут. Тут солдат к ним с вопросами. Как и что? Ну, известно, молодежь! Смеху на весь вагон. Старик один с крайчику присел. Очень ехидный старик. Ну, конечно, справедливый и без хитростей. А рядом целая артель — парни и девушки — на восстановление стремятся. Ну, против меня мужчина расположился. Давно не бритый и, видать, серьезный. Молчит все.
И вот, спустившись вниз, Гольденко развернул кисет, угостил табачком старика и солдата. Предложил молчаливому соседу, но тот коротко отрезал: «Не курю». Закурив, Семен Иванович решил, что настало его время, и начал свой рассказ: где жил и что пережил. И тут получился первый конфуз. Соль каждого рассказа, по мнению Гольденко, заключается во вранье.
— А тут, что ни скажу, — правда. Рекорды ставил? Ставил. Заработок большой, лучше не надо. Звание мастера получил? Получил. Вот старик, что с краю сидит, и говорит: «Врешь ты все, такой почетный человек в этаком ватнике да на третьей полке не путешествовал бы. А ты скорей всего от темного дела спасаешься. Или выгнали тебя с лесоучастка». Сказал, ну как ударил. И все меня неодобрительно рассматривают. Словно я жулик. И никто со мной разговаривать не желает. А который против меня на полке лежал, подтверждает: «Ясно, жулик! Видели мы таких, от войны в тылу отсиделся».
После такого конфуза влез Семен Иванович на свою верхнюю полку и начал думать. Пахло пылью и махоркой, было темно, неуютно.
— И думаю я так: откуда ты удалился, Семен Иванович, и куда стремишься? Что ты покинул и что найти мечтаешь?
— Так и вернулся? — спросил Иван Петрович.
— Так и вернулся, — поник Гольденко. — Куда теперь меня?
— Куда? — задумался директор. — Тараса спросим. Примет к себе — пойдешь. Иди, Гольденко, пока на свое место. Разговор завтра будет.
В своей комнате Виталий Осипович долго стоял у окна. Спать не хотелось. Сегодня Валентина Анисимовна выставила зимние рамы. Вспомнив об этом, он открыл окно.
И сразу же наступающий день возвестил о своем прибытии.
На лесозаводе мощным вздохом охнул гудок и несколько секунд выводил свое басистое соло, заглушая многоголосый хор пробуждающейся тайги. Гудок умолк, и пошла стройная утренняя перекличка по бескрайней тайге под алым знаменем зари.
Виталий Осипович вынул из кармана блокнот. Надо проверить, все ли записано, что потребует от него новый день. В конце длинного перечня дел и забот он приписал: «Программа для Жени».
И снова положил блокнот в карман. Он скользнул свободно: ничто не зацепилось за коленкоровый корешок.
Часть пятая
ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ
Закатывалось солнце над тайгой — уезжала Марина безвозвратно.
Вечером, накануне отъезда, она сказала Тарасу:
— Как в романе: любящие под давлением обстоятельств вынуждены расстаться.
Тарас хотел ответить с горечью: «В этом никто не виноват, кроме вас…» Но, проглотив горечь, сказал с безнадежной страстью:
— Если бы вы только захотели…
Она посмотрела в его глаза, и у нее вдруг затосковало сердце.
Она давно уже не скрывала своей любви ни от себя, ни от Тараса, но даже и его признание ничего не изменило в их отношениях. В этот последний вечер они шли по шершавым пластинам лежневой дороги, согретым скупым северным солнцем, и, отгоняя березовыми ветками комаров, лениво переговаривались. Они говорили о пустяках, боясь задеть главное. Но это главное сквозило во всем, что бы они ни говорили.
И только у дверей ее общежития они вдруг замолкли. Гнусаво пели комары, и Марине казалось, что вот так же гнусаво и надоедливо ноет сердце от неизведанных чувств. Чувств и переживаний. Надо что-то делать, говорить, а что, Марина не знала. Она только видела, что Тараса тоже одолевают чувства, которых она, кажется, хотела и, несомненно, боялась.
Была ли это любовь?
Они стояли на высоком крыльце. Северная весна — печальная и медлительная красавица — заканчивала свое чудодейственное шествие по тайге. Важно раскачивая тяжелые вершины, стояли темные сосны. Они снисходительно поглядывали на стыдливо зазеленевшие березки. Марине казалось, что все окружающие так же поглядывают на нее — с покровительственным снисхождением. Это не возмущало ее, а только заставляло как можно тщательнее маскировать свои чувства, не давать им прорываться ни в словах, ни в поступках.
Стояла пора белых ночей — пора беспощадного света и ясности.
Марина с удивлением отмечала, что она, предпочитающая ясность всегда и во всем, сейчас охотно вернула бы дремучую многодневную северную ночь. Она не желала доводить свои отношения с Тарасом до той очевидной ясности, к которой он так безуспешно стремился.
Уже давно сказано все, что она считала необходимым сказать. Да, она любит его, но к этому надо привыкнуть, найти свою линию поведения.
— А чего же тут искать, — искренне изумлялся Тарас, — зря вы все выдумываете, Марина… Николаевна.
— Опять Николаевна?
— Ну, это не всегда получается. Надо мной Гольденко, на что мужичонко завалящий, и то смеется.
— Вот я уеду, и никто смеяться не будет.
И она снова, для его утешения, повторила в конспективном виде все свои доводы. Она уедет в Москву, окончит институт, к этому времени он поступит в лесотехнический институт, и тогда они встретятся…
— А сейчас, выходит, образование не позволяет…
— Нет, Тарас, не то. Как вы не понимаете? — уговаривала его Марина. — Надо проверить себя, прочно определить свое место в жизни. Будем переписываться, встречаться. Мы станем вполне достойны друг друга.
Тарас сказал, глядя на нежное пламя заката:
— Кончится тем, что я унесу вас… вот этими руками.
Она посмотрела на его могучие, чуть вздрагивающие от сдерживаемой силы ладони с темными пятнами смолы, и ровным голосом ответила:
— Да. Тогда, наверное, этим все и кончится. Я не люблю пасторалей и грубой силы. Вы это знаете.
А на другой день она уехала в Москву.
Проводив Марину, Тарас и Женя возвращались со станции. Они пошли почему-то не обычной дорогой, а свернули на широкую просеку, такую ровную, что она казалась стрелой, стремительно летящей в синеватую зыбкую от зноя даль.
Просека вела прямо на площадку строительства бумажного комбината. Через некоторое время здесь будет железнодорожная ветка, по которой легко и удобно можно будет доехать до Бумстроя за два-три часа.
Идти по моховым болотистым местам было трудно, а для человека, не знающего тайги, просто невозможно. Женя немного отстала от Тараса, который не выбирал дороги, но шел именно там, где лучше всего пройти. Но вот вышли на пригорок, поросший оленьим мхом — седым ягелем, идти стало легче, и Женя догнала Тараса.
— Шел бы потише… — попросила она.
Не отвечая, Тарас сбавил шаг.
Женя подумала: переживает.
Дошли до пятой диспетчерской, где через просеку проходит лежневая дорога. Вековые ели раскачивают мохнатые свои лапы в седых космах мха над деревянной крышей избушки. Здесь живут воспоминаниями. Они, подобно комариным полчищам, таятся в местах, недоступных солнечным лучам, и ждут своего часа. Дождавшись, нападают мгновенно, наваливаются всем скопом и терзают без жалости податливое на грусть по ушедшему человеческое сердце.
Подавленные печалью воспоминаний, Тарас и Женя остановились. В диспетчерской звонил телефон, и новая, малознакомая девушка, занявшая место Марины, неуверенно отвечала:
— Ясно. Приму на запасной. Прямо пропущу десятую. Порядок?
Тарас прикурил от своей собственной папиросы и, сосредоточенно глядя на струйку дыма, сказал:
— Завтра уеду на Бумстрой. Требует меня к себе Виталий Осипович.
У Жени вдруг неспокойно встрепенулось сердце: «А меня не требует, — подумала она, — без меня он может жить. Но зато я без него не могу». Она тоже посмотрела, как поднимается голубой дымок от Тарасовой папиросы, и попросила:
— Возьми меня!
Занятый своими мыслями, Тарас не успел ответить. Женя нетерпеливо проговорила:
— Не возьмешь? Сама уйду. Пешком. Дорожка-то до самого места вон какая пряменькая…
Тарас усмехнулся, и глаза его грустно потемнели:
— Ну собирайся, раз ты такая…
Да, она такая. Ее никто не зовет, а она все равно едет туда, где живет ее любовь. А как же иначе? Уж если она сумела сломать столько преград на пути к любимому, разве сейчас что-нибудь остановит ее? Девчонкой-несмышленышем привезли ее сюда, спасая от войны, дали ей трудную работу и скудный тыловой кусок хлеба, а все остальное, что требуется человеку, завоевала она сама: и товарищей, и уважение, и любовь. Завоевала сама и отдавать не намерена.
Кончилась война, люди — и фронтовые и тыловые — жадно устремились в свои родные места. Первым уехал Мишка Баринов, отчаянная голова и замечательный шофер. Прощаясь, он посмотрел на Женю горячими цыганскими глазами из-под крутого чуба и тоскливо сказал:
— Последний раз спрашиваю: поедем со мной на вечное счастье?
— У меня уже есть счастье, — ответила Женя, — может быть, на век, может быть, на один день.
Мрачным голосом Мишка предсказал:
— Засохнешь ты около своего счастья. Я знаю, об чем ты мечтаешь… На Виталия Осиповича надеешься. А он на счастье издали смотрит прищуренными глазами. У него в голове промфинплан. Ты это учти…
Уехала Клава, старший диспетчер, уехал на свою солнечную родину Гоги Бригвадзе, наконец уехала Марина. Уехали многие, но не все. Некоторым некуда ехать, а некоторые здесь, в тайге на севере диком поставили свой дом. Нет еще у Жени своего дома, но она уверена — будет. Будет дом в том таежном городе, которого пока еще нет, но который появится, потому что его строит очень любимый человек. И Женя обязана помогать в его трудном деле.
Иван Петрович Дудник, прощаясь с Женей, сказал:
— Ну, будь счастлива. Заработала, заслужила. А если что не так получится, возвращайся. Ты ведь таежница, закаленная.
Он, большой, громоздкий, вышел из-за стола и поцеловал Женю в лоб, как маленькую.
Она растерялась и заплакала. И волнение ее было так велико, что когда прощалась с конторскими служащими, то ревела без всякого стеснения. Ее усадили на деревянный диванчик около кассы и отпаивали водой. Здесь, наверное, она вылила все слезы, потому что, целуясь на прощание с Валентиной Анисимовной, уже не плакала. Удивленная Валентина Анисимовна заметила это:
— Ты, Женичка, молодец, взрослая становишься.
Потом прощалась с подругами по общежитию и уже вечером зашла к Петровым.
Это была не обычная семья. Она возникла из трех, разбитых войною семей. Не родством спаяна она, а влечением сердец исстрадавшихся, измученных, жаждущих тепла и ласки. И это влечение оказалось сильнее чувств родства.
Если человек перейдет через все муки, все страдания, вынесет все пытки, переживет смерть близких и вдруг увидит, что все он преодолел, что самое страшное позади, — как дорого для него станет тепло мирного дома! Как потянется он сердцем к родному сердцу!
Он не забудет, никогда не забудет пережитого и сделает все возможное и невозможное, чтобы оно не повторилось.
Жизнь семьи Петровых началась после войны. Все они крепко держались друг друга, и в этом было столько настоящей родственной любви, что никогда никто не поверил бы, что они, в сущности, чужие люди.
Чужие? Гриша помнит, как ждали приезда Ульяны Демьяновны с детьми. Нервно поглаживая черные усы, Афанасий Ильич как-то странно покашлял и объявил:
— А я, знаешь, Гриша, решил… с Ульяной мы решили…
Гриша поспешил прервать это трудное объяснение:
— Да знаю я.
— Знаешь? Кто сказал?
— Сам знаю. Она хорошая, Ульяна-то Демьяновна.
— Вот и ладно, — обрадовался Афанасий Ильич. И уже строго предупредил: — Значит, ты к ней по-родственному, как к матери…
— Ну не сразу…
— А ты, Гриша, постарайся. Натерпелась она. Ты пойми, дети ведь, — уговаривал Афанасий Ильич и, волнуясь, думал, как это у него у самого получится, по-родственному?
Но вот приехала Ульяна Демьяновна, и все получилось само собой, как и должно быть. Гриша первый подбежал к вагону и подхватил на руки тоненькую бледнолицую девочку с остренькими коленками. Она показалась ему такой легонькой и, как сухая сосновая веточка, хрупкой, что сердце его сжалось от боли и злобы: довели гады.
Он полюбил ее с этой самой первой минуты, как, наверное, любил бы сестру, если бы она у него была.
Девочка сказала, сощурив темные глаза:
— Я знаю: ты — Гриша.
Он поставил девочку на перрон и, держа ее за руку, смотрел, как Афанасий Ильич одной рукой прижимал к себе маленького лобастого мальчика, а другой ожесточенно сбрасывал на перрон какие-то узлы и кошелки. Потом оказалось, что все эти вещи принадлежали другим пассажирам. Ульяна Демьяновна привезла один только небольшой сверточек с бельишком, которое дали ей в детском доме.
Когда Афанасий Ильич сообразил, что он сбрасывает чужие вещи, то сразу притих, отошел в сторону и стал рядом с Гришей. Оба они смотрели на Ульяну Демьяновну. Она секунду помедлила и певучим своим голосом сказала:
— Ну, здравствуйте, хорошие мои.
И просто, как жена, приехавшая к мужу, закинула одну руку за его шею и, как истосковавшаяся в разлуке жена, уверенно и жадно поцеловала его в губы.
— Ульяша! — прошептал он, прижимая к себе мальчика.
Потом она поцеловала Гришу и, поцеловав, на секунду прижала его голову к своей большой упругой груди.
— Ну, ничего, — угрожающе сказала она, — мы двужильные, поднимемся.
Они поднялись и начали жить новой семьей.
Когда Женя вошла к ним в дом, то прежде всего увидела Гришу. Он стоял в кухне около железного корыта, поставленного на две табуретки. Перед корытом стояла Тамара — десятилетняя девочка, маленькая, смуглая и очень подвижная. Гриша, наверное, только что вымыл ей голову и сейчас, высоко подняв ковш, выливал остатки воды и при этом хохотал во все горло. Тамара тоже смеялась и визжала.
— Закаляйся, Томка! — кричал Гриша. — В тайге живешь.
Увидев Женю, Гриша смутился от того, что его застали за таким немужским занятием. Он положил ковш и суровым голосом спросил:
— Ну, чего тебе?
— От тебя ничего, — строго и слегка надменно, как, по ее мнению, и полагалось диспетчеру разговаривать с шоферами, ответила Женя. И, вспомнив, что она уже не диспетчер, посоветовала:
— Вон мыло у нее на шейке, смой.
— Не твое дело, — хмуро осадил ее Гриша. — Ну, хватит тебе, Томка, пошли.
Он накинул на голову Тамаре полотенце и повел в соседнюю комнату. Его неотмываемые от копоти, масла и всех шоферских неурядиц ладони ярко чернели на белом полотенце.
Женя услыхала, как он сказал суровым мальчишеским баском:
— Мама, к тебе Женька пришла.
Ульяна Демьяновна вышла из комнаты, на ходу завязывая синюю косынку. Она работала на лесозаводе и собиралась в ночную смену. Они вместе вышли из дому. Узнав о решении Жени ехать к Виталию Осиповичу, она одобрительно воскликнула:
— Женичка! Правильно! Поезжай! Учиться-то когда еще…
И, обняв Женю за плечи, напутствовала, как мать:
— Будь, Женичка, умной. На шее у него зря не виси, он тебя старше и жизнь видел, ты делай все, как он велит. Хмуроват он, это верно, но ведь ты сумеешь хоть кого развеселить…
Женя проводила ее до лесобиржи. Прощаясь, Ульяна Демьяновна тоже, как и все, напомнила:
— Голову держи гордо. Никогда не печалься. Если трудность случится — всяко бывает в жизни, — про нас не забывай, примем с радостью.
Возвращаясь, Женя думала, что вот и у нее, одинокой, бездомной девчонки, вдруг оказалось так много хороших, родных людей, которые обещают принять ее в трудную минуту жизни. Но о такой минуте она сейчас не могла и помыслить.
Рано утром Женя и Тарас двинулись в путь.
Весеннее солнце невысоко стояло над тайгой. Туман плыл над землей, цеплялся за разную хвойную мелочь и стекал в низины.
Тарас и Женя неторопливой походкой путников вышли из поселка и стали спускаться вниз к Весняне. Отсюда с вышины далеко видна тайга, безмолвная и неподвижная, как застывшее море, залитое солнцем, но в чаще еще таилась серая таежная ночь. Здесь было серо, проторенная тропка пружинила под ногами и стояла такая тишина, что даже за полкилометра слышно было, как звенит на перекате вода.
Тропинка круче пошла под уклон, и скоро меж сосен блеснула светлая река. Они спустились к воде и пошли вверх к повороту. Широкая река, вся в зоревых солнечных искрах, торопливо бежала через тайгу.
Жене пришла в голову веселая мысль о том, что река похожа на резвую девчонку, которая бежит, прыгая по камешкам, что-то напевая журчащим русалочьим голосом и своевольно бросаясь из стороны в сторону. Но, пройдя перекат, она круто свертывает влево и сразу как бы взрослеет. Это уже не девчонка-резвушка. Потупив глаза, она идет величавой поступью. Здесь в ней уже угадывается та полноводная красавица, какой немного погодя явится она людям.
— Плотик я связал, — сказал Тарас, — к вечеру на месте будем.
И в самом деле, у берега, ниже переката, стоял плот, связанный из четырех сосновых бревен.
Тарас постарался: плот был связан на совесть, хоть до самого устья плыви. На средине, чтобы не заливала вода, был устроен настил из жердей и сосновых веток.
Женя подумала: никогда бы Тарас не стал все это делать для себя. Да и для нее он сделал только потому, что она — подруга Марины, живое напоминание о ней. Наверное, весь вечер и часть ночи он, не зная куда себя девать, делал этот плот. Надо было свалить несколько сосен, подкатить их к реке, связать еловыми вицами, да еще позаботиться о том, чтобы ей, Жене, было удобно.
Всю тоску свою вложил он в эту нелегкую работу.
Женя ступила на мокрые бревна и начала пристраивать вещи свои и Тараса так, чтобы они не намокли.
Тарас уперся шестом в берег и с такой силой оттолкнулся от него, что плот сразу вынесло на середину реки. Он стоял в рабочей гимнастерке, заправленной в брюки, большой и ловкий, четко рисуясь на светлой воде, и, взмахивая шестом, гнал плот по течению. И как человек такой красоты и силы не смог удержать свою любимую? Это трудно понять.
Негодующе глядя на его спину, Женя мстительно сказала:
— Эх ты!
Он ничего не ответил, продолжая работать шестом.
И какой же должна быть та, другая сила, которая оказалась сильнее любви! Этого Женя уже никак не могла себе представить. Она была убеждена, что такой силы нет на свете.
ГРЯДУЩИЕ ЗАБОТЫ
Виталий Осипович только сегодня приехал из Москвы, куда его вызывали для утверждения в должности главного инженера строительства. Был вечер. На улицах областного города зажглись фонари. В театральном сквере трепетала молодая, еще не успевшая запылиться листва. На клумбах вокруг памятника Ленину расцвели первые цветы. И на улицах и в сквере гуляло много девушек и молодых военных.
Виталий Осипович прошел через сквер и спустился к пристани, где его должен был ожидать катер, чтобы отвезти на Бумстрой, но он не знал ни катера, ни моториста и поэтому не сразу отыскал их.
Моторист сказал, что надо ехать немедленно, потому что начальник строительства завтра тоже поедет в Москву.
Поужинав в ресторане речного вокзала, они выехали только ночью. Было совсем светло. На небе неподвижно висели легкие облачка, обведенные по краям теплым золотом заката.
Катер, мягко работая сильным мотором, рвался вперед. Под этот глухой однообразный гул Виталий Осипович задремал и проснулся уже только когда подъезжали к Бумстрою.
Было очень рано. Легкий туман поднимался над водой и наползал на берег. Все кругом было пронизано сыростью: и катер, и одежда, и даже лицо и руки. Когда Виталий Осипович закуривал, то долго не мог зажечь папиросу. И моторист тоже каким-то отсыревшим голосом сообщил:
— Вот и начальник кому-то дает прикурить.
На высоком берегу, задернутом туманной завесой, среди каких-то странных нагромождений нечетко, как на матовом стекле, вырисовывалась высокая фигура Иванищева. Судя по решительным взмахам руки, он за что-то распекал окружающих его людей, чьи фигуры тоже нечетко выступали из тумана. И Виталий Осипович сразу понял, что хотел выразить моторист, когда сказал, что начальник «дает прикурить».
Услыхав шум катера, Иванищев еще раз взмахнул рукой и вдруг начал как-то странно оседать, проваливаться сквозь землю. И все, кому он «давал прикурить», тоже начали проваливаться вместе с ним. И уже только когда катер, выключив мотор, приткнулся к мосткам, выяснилось, что это все они спускаются по крутому откосу к реке.
Расправляя затекшие ноги, Виталий Осипович не мог сразу подняться. Стремительно подошел Иванищев и, протягивая ему руку, сердито, словно все еще продолжая ругаться, проговорил:
— Ну, наконец-то. С прибытием вас!
И, сильно потянув рукой, он как бы выдернул Виталия Осиповича из катера. Представив его своим спутникам, которые все оказались прорабами или десятниками, Иванищев приказал:
— Захламили берег… Сегодня же все убрать! — и, обернувшись к Виталию Осиповичу, тоже приказал: — Вечером проверить. Ну, пошли чай пить.
Пили чай в столовой, под соснами. Собственно, никакой столовой еще не успели построить. Под навесом были сложены большие плиты с вмазанными в них котлами, а столы и скамейки просто врыты в землю и над ними никакого навеса не существовало. Официантки ходили в сапогах, телогрейках, но с наколками на завитых волосах.
После чаю, не дав Виталию Осиповичу даже отдохнуть, Иванищев повел его показывать строительство. Он должен был уехать сегодня же после обеда и потому торопился.
Все утро, до самого обеда, они ходили по обширной строительной площадке. Везде, где уже успели вырубить лес, кипела работа.
Вдоль реки гремели взрывы. Корчевальные машины оказались бессильными против столетних пней. Брызгало жидкое пламя, взметались фонтаны земли, клочья мха — и огромный пень отваливался в сторону, грозя искореженными корневищами.
Копали котлованы под многочисленные цеха бумажного комбината. Немного выше, прямо между сосен, строили длинные бараки — общежития. Это сейчас было главное. Ежедневно прибывали рабочие, их надо было прежде всего поместить под крышу. Каждый, кто способен был держать топор, становился плотником. Из леса, срубленного здесь же, ставились первые временные здания. Торопились: северное лето коротко, не успеешь на солнышке погреться, как снова запаливай костер.
Пообедав в той же столовой под соснами, Виталий Осипович сидел в наскоро срубленном домике, временной конторе строительства, и слушал, как Иванищев устало говорил:
— Сейчас основное: общежития. Плотников у нас мало. Не все, кто с топорами, — плотники… Сами убедитесь. На ваш беспокойный характер только и надеюсь.
Он расслабленно вытянул под столом ноги в пыльных кирзовых сапогах и закинул за голову руки с широкими ладонями. У него было тонкое с вечным, таежным загаром лицо, густая выхоленная и аккуратно подстриженная черная борода и такие же черные, но с обильной проседью волосы, зачесанные назад.
Еще работая в леспромхозе, Виталий Осипович много раз встречался с Иванищевым, но никогда не видел его таким усталым, как сейчас. Он участливо посоветовал:
— Вам бы отдохнуть перед дорогой.
Скосив на Корнева свои карие глаза, в которых не было ни тени усталости, а скорее лукавая смешливая искорка, Иванищев спросил:
— Разве похоже, что устал?
И тут же сразу преобразился: подобрал ноги, выпрямился и заговорил своим обычным, глуховатым, но веселым голосом:
— Уставать нам с вами, милейший, не позволено. А вот так отдохнуть с минутку очень хорошо. Попробуйте. Освежает. Так вот, о том, что предстоит сделать вам, мы договорились. Теперь о моей поездке. Это вам необходимо знать.
Нагретые полдневным солнцем нежно-кремовые бревенчатые стены кабинета источали кислый запах сохнущего дерева и всегда приятный, горьковатый и бодрый запах свежей смолы — живицы. Через рассыхающуюся дверь из конторы доносились обычные канцелярские звуки: щелканье счетов, лязг и шипенье арифмометра. Изредка слышались негромкие голоса людей.
Виталий Осипович слушал прощальные слова начальника строительства:
— По утвержденному плану мы строим фабрику на три машины. Если не смотреть вперед, то все в порядке. Но всякий, кто сколько-нибудь разбирается в производстве, скажет, что этого мало. Три машины, работая даже на самых высоких скоростях, никогда не переработают всего сырья, которое будут давать целлюлозный и древесномассный цеха. Первоначальный проект предусматривал два зала по три машины. Этот проект был утвержден, но потом его почему-то отодвинули на вторую очередь. Словом, неразбериха. Сейчас еду в Москву уточнять проект. Надо добиваться, чтобы решили вопрос о постройке второго корпуса именно сейчас, а не зимой. Попробуйте зимой долбить мерзлый грунт!
Через час он уехал.
ОБМАНОВ
Стучали топоры на Весняне. Наступило то время, когда исчезла граница между днем и ночью: еще дотлевали остатки заката, но уже вспыхивало нежное пламя утренней прохладной зорьки, — и только мера человеческой усталости полагала окончание трудового рабочего дня.
Старик Обманов, в домишке которого временно поселился Виталий Осипович, любил повторять:
— Топор в тайге — человеку первый друг. Если б я над попами главный был, топор бы целовать заставил, заместо креста.
Дом стоял в лесу, далеко от таежной деревушки Край-бора, на самом берегу Весняны. В ясные дни на черном закоптелом потолке играли веселые отблески воды, отражались на щелистых бревнах стен, на немногочисленной мебели, и тогда вся комната становилась похожей на темный омут, если в него погрузиться с головой.
Но ясные дни здесь, на севере, выдавались не так уж часто, отчего в доме почти всегда стоял зеленоватый полумрак и пахло застарелой влажной плесенью.
Петр Трофимович Обманов был одинок, и поэтому, вероятно, его домашнее хозяйство отличалось крайней запущенностью. Он очень охотно и совершенно бесплатно пустил Виталия Осиповича Корнева к себе на квартиру, тем более, что дома сам он почти и не жил. Он все лето проводил на рейде, который строился выше по реке. Он работал десятником и фактически главным руководителем хитроумного и в то же время простого, как бобровые плотины, сплавного сооружения.
Виталий Осипович еще раньше слыхал о Петре Обманове как о редкостном мастере сплавного дела, но встретился с ним впервые только на строительстве. И вот как это получилось.
Проводив Иванищева, Виталий Осипович почувствовал себя в положении человека, очутившегося в глухой тайге без проводника. Это положение, насколько Виталий Осипович понимал, обязывало прежде всего к действию, как, впрочем, и любое положение. Тем более, что он как раз и является тем проводником, который обязан не только найти путь в тайге, но и повести за собой других.
Он начал с того, что выполнил наказы Иванищева. Прежде всего договорился по телефону с Иваном Петровичем Дудником, чтобы тот послал на время бригаду лесорубов для расчистки площади. Конечно, Дудник немного поломался для порядка, но потом согласился отпустить на месяц бригаду Тараса Ковылкина. При этом он не забыл подчеркнуть:
— Видишь, на какую жертву иду…
Но, словно вспомнив, что Виталий Осипович совсем недавно сам работал в леспромхозе и он-то уж хорошо знал, что никакой тут жертвы нет, потому что заготовительный сезон, в общем, уже закончен, перевел разговор на дела семейные…
Потом справился, когда отгрузили две шпалорезки и пилораму «Болиндер» и где находятся баржи с кирпичом.
Кончился рабочий день. В контору потянулись люди с разными делами и вопросами. Приходили десятники, прорабы и рабочие. Допоздна просидев в конторе, выслушав десятки докладов, ответив на множество вопросов, Виталий Осипович пошел на берег Весняны. Там он долго стоял спиной к реке широко расставив ноги и оглядывая панораму вверенного ему строительства. Площадь, растянувшаяся вдоль реки на добрый десяток километров, по отлогому склону поднималась вверх. Чтобы окинуть взором всю картину строительства, Виталию Осиповичу приходилось высоко поднимать голову, что придавало ему вид вызывающий и даже надменный. Он как бы вызывал на поединок все, что мешает работе: бестолковщину, нехватки, свойственные началу огромной послевоенной стройки.
А небо на западе уже зарумянилось нежно, как невеста, принимающая жениха. Лиловые тени побежали по земле. Затеплились скудные огоньки в ближних деревеньках. В северном легком сумраке расцвели оранжевые цветы костров, и белый дымок, мешаясь с туманом, пошел по тайге.
И топоры угомонились до раннего рассвета.
А Виталий Осипович все стоял и смотрел на первозданный хаос стройки, и завтрашние заботы уже овладевали им.
Но вот он услыхал, как посыпались камешки по откосу и раздались чьи-то легкие шаги. Он не спеша, как и подобает начальнику, обернулся и увидел человека, поднимающегося от реки.
Голова этого человека в старой кепочке того неопределенного цвета, про который не скажешь даже, что он сероватый, казалась непомерно маленькой на широких плечах. Большие руки, как и полагается при крутом подъеме, раскачивались, почти касаясь земли широкими ладонями.
Но когда человек поднялся и подошел, Виталий Осипович с удивлением увидел, что был он среднего роста, но необычайный размах плеч и широкая, коробом стоящая грудная клетка создавали впечатление странной несоразмерности. Казалось, взяли большого человека и все обрубили до малого размера. Но шел он легко, скоро, как бы подлетая при каждом шаге, словно широкая его грудь была наполнена одним только воздухом.
А был он немолод. Коричневое, навек обожженное таежным, крутым загаром с немногими крупными морщинами скуластое лицо, колючие пронзительные глазки того же цвета, что и его маленькая кепочка, круглый вздернутый нос с широкими ноздрями и очень толстой переносицей, рыжеватая и такая растрепанная клочковатая борода, какая бывает сразу после настоящей драки, — все это Виталий Осипович успел разглядеть за долю минуты, которая понадобилась неизвестному старику, чтобы подойти и поздороваться.
Пожимая руку, старик певучим таежным говорком сообщил:
— Фамилие мое, значит, такая — Обманов.
— Отчего же так? — удивился Виталий Осипович, соображая, где и в связи с чем слышал он эту странную фамилию.
Пристально поглядев на нового начальника, старик часто помигал мокрыми без ресниц веками и быстренько объяснил:
— В названии своем человек не повинен. Обманом в здешних местах не проживешь. Не-ет. Это в городе — может быть. А у нас нет. Здесь человек весь на виду — как лесинка в воде…
ТЕМНЫЕ ГОСТИ
Едва старик упомянул про лесинку, брошенную в воду, как Виталий Осипович сразу сообразил, что перед ним стоял не кто иной, как тот самый Петр Обманов — сплавной мастер.
Охотно и сразу принял Виталий Осипович предложение переночевать в лесной избушке Обманова и, если поглянется, пожить в ней, сколько надо.
Это была редкая удача. Найти квартиру здесь было невозможно. Сам начальник строительства жил в комнатушке, выгороженной в конторе. В деревушке Край-бора, что находится в километре от стройки, невозможно было сыскать ни одного свободного угла. Все было занято первыми строителями: плотниками, землекопами, бурильщиками.
И вот они сидят у костра, по обе его стороны, а кругом необыкновенная тишина белой ночи, когда отсутствуют ясные звуки, резкие тени и четкие контуры. Такая тишина и такие неясные очертания неправдоподобны, как сон.
Петр Трофимович, то исчезая в дыму костра, то вновь появляясь, сыплет звонкие, как каленые кедровые орешки словечки:
— Я многое знаю. Мужики здешние и то удивляются. Тебя, говорят, Петра, надо бы в лешие определить, да теперь отменено это звание. Однако темноты у нас еще достаточно. Все-таки они меня колдуном почитают. Дурачки, говорю, пятачки, вас какая-то сила по всей земле мотает, вот вы ничего и не знаете, а я твердо на месте живу, все на моих глазах происходит. Мне тут каждая сосна — родня, каждая елка — кума… Так-то, мужички-пятачки…
Говоря, он посмеивался, то и дело растягивая толстые губы под редкими, как у кота, усами и блестя чистыми молодыми зубами. И невозможно было понять, говорит он всерьез или шутит. Виталий Осипович еще не привык к этой его странности. Он спросил:
— Почему мужички-пятачки?
— Присловье у меня такое, — отмахнулся Петр Трофимович и хмуровато помолчал с минуту. Потом опять пошел сыпать:
— Есть у нас в здешней местности некоторые жители, напуганные с малолетства… У них тут артель. Раньше, до войны, баржи-солянки ладили, а теперь в город дрова сплавляют, по договорам. Ну все это не главное дело. Молельня у них здесь. Души спасение. Деды ихние, а может быть, и прадеды от казенного бога сюда бежали, в Дикие места. Так вот и живут. Всего боятся, а пуще всего нового гонения, — вы, значит, как бы их с места не согнали. Бежать-то еще куда?
Он вдруг обернулся и негромко позвал:
— Давай, бегуны, подходи!
И сейчас же Виталий Осипович ощутил какое-то движение, вдруг возникшее вокруг того места, где он сидел. Какие-то тени заходили в мелком ельнике и, словно свиваясь из белесого тумана, начали обозначаться фигуры людей.
Ему показалось, что он забрел в такую глухую чащобу, которой не коснулось последнее столетие.
— Что за мужики? — спросил он, ощущая спиной неприятный холодок.
— Да, говорю, бегуны, — неопределенно посмеиваясь, повторил Петр Трофимович. — Очень мужики через религию пуганы. И бога боятся, и начальства боятся, и от старого бога отстать боятся, как бы новый-то еще злее не оказался. Так и шатаются между богом и начальством… Кто страшнее, никак не поймут. Ну, а когда поймут, будет им конец.
Между тем темные мужики уже подошли и окружили костер. Виталий Осипович слыхал за спиной чье-то трудное дыхание. Но он заметил, что стоящие по сторонам смотрят на него с тем истовым покорством, с каким, вероятно, стоят они перед лицом своего капризного и злого бога.
И вместе с тем это были обыкновенные мужики, советские граждане, такие точно работали на строительстве землекопами, коновозчиками, плотниками. Почти все они были безбороды или с такими бородами, которых не часто, но все же касалась рука деревенского парикмахера. И одежда их была обычной: на многих солдатские гимнастерки и брюки, уже утратившие свой строевой вид — может быть, оттого, что складки не заправлены, ремни заменены домашними опоясками или вовсе отсутствуют, может быть, от заплат, нашитых заботливой домашней рукой. На головах некоторых были повидавшие виды военные фуражки пехотного образца или пилотки со свежими следами звездочек.
Среди них заприметился Виталию Осиповичу один небольшого роста парень. Он тоже был во всем солдатском, только на плечи, скорее для форсу, чем для тепла, накинул старенький коричневый пиджачишко. На голове его была выгоревшая добела пилотка, с черным от пота краем. Кирзовые сапоги и даже брюки на коленках заляпаны сухой глиной.
Он подошел последним, но протиснулся вперед и, встав у самого костра, как-то особенно пытливо посматривал на Виталия Осиповича своими веселыми глазами.
— Так что же вы хотите, дорогие граждане? — спросил Виталий Осипович, доставая папиросы. — Вы не стесняйтесь. Садитесь поближе, потолкуем. Садитесь, садитесь. Да не бойтесь, против вашего бога агитировать не собираюсь.
Выныривая из дымного облака, Петр Трофимович посмеялся:
— Агитации они не боятся. Им дай волю — такую агитацию разведут, успевай понимать.
И вдруг один из мужиков, самый, казалось, неприметный, маленький и начисто бритый, с неожиданной властностью вмешался в разговор:
— Не дело говоришь, Пётра, — быстреньким тенорком заговорил он, — не для того хотели мы с товарищем начальником беседу иметь. Наше верование — делу не помеха. Мы зарегистрированные, властям известные, — сказал он, обращаясь уже к Виталию Осиповичу.
Присев на обрубок бревна, услужливо пододвинутый его товарищами, бритый продолжал:
— Это Петр Трофимович вам справедливо доложил насчет нашей веры — притеснений было достаточно. Ну теперь, конечно, не то. Теперь наше дело вот какое: Живем мы недалеко отсюда, где деды-прадеды наши поселились и нам жить велели. Деревенька наша Край-бора — промартель. От войны сколько мужиков осталось — все тут. Восемнадцать душ. Есть еще, но уж те вовсе старые, топора не удержат, а молодежь у нас не живет. Неинтересно у нас молодым-то, по другим местностям разбегаются. Вот этот один только и остался: Валентин, значит, Рогов. Возвратились мы домой, кто с фронта, кто из других мест, и слышим, сгонять нас будут с дедовских обжитых мест. Вот и весь наш вопрос: правильный ли тот слух?
Он закончил и насторожился, и все мужики сгрудились теснее вокруг сидящих у костра, задышали часто, словно навалили на плечи каждого непомерную тяжесть и заставили нести…
А Виталий Осипович спросил у Валентина Рогова.
— Верующий?
Тот подтянулся, как полагается перед старшим, но ответил снисходительно, словно объясняя человеку его ошибку:
— Да нет. Зачем это мне? Я пришел потому, что все они просили. Чтобы, значит, показать, что мы все здесь. Это правильно: работоспособные все налицо…
— Вы где работаете?
— На строительстве, конечно. Пока вот землекопом. — Он блеснул веселым огоньком глаз. — А потом учиться пойду. Говорят, скоро курсы откроют. Тогда я к машинам. Я бы, конечно, тоже ушел в город, да у меня бабка, старуха вовсе недвижимая… А сейчас я не уйду. Я уж дождусь.
— Ваша фамилия Рогов? — спросил Корнев, доставая свой блокнот.
— Рогов. Валентин Гурьевич. Да вы не записывайте. Я все равно приду. Я ведь настырный.
Он застенчиво, по-мальчишески и в то же время вызывающе улыбнулся, как бы намекая на то, что это его качество может оказаться не для всех удобным.
— Вот за это молодец, что настырный! — с удовольствием воскликнул Виталий Осипович и вдруг спросил:
— Работать тяжело?
— У нас политрук говорил: только бездельнику тяжело работать.
— Правильный у вас был политрук! Скоро машины получим. Лопатами нам за десять лет не управиться. А мы за пятилетку хотим комбинат пустить. Вот так, Валентин Рогов…
Виталий Осипович еще поговорил бы с парнем, но со всех сторон так чающе смотрели на него темные мужики, что пришлось вернуться к прерванной беседе. Он нахмурился, хотя настроение у него было отличное, и скучным голосом начал объяснять, что никто их деревеньку трогать не собирается, что в тайге места хватит, но его перебил Петр Трофимович, посоветовав:
— А вы спросите, почему они на строительство не идут. Плотники ведь все. Спросите-ка.
Мужики еще плотнее надвинулись на сидящих у костра И глухо зашумели:
— Жизни нашей не затрагивай…
— Не для этого пробили тебя, Пётра Трофимович…
— Мы в артели работаем, — послышался чей-то густой голос, заглушая все остальные голоса.
— Вы артелью прикрываетесь, — перебил его Петр Трофимович и вдруг пустил мелкий мстительный смешок: — Мужички-пятачки…
— Учен ты, Пётра, учен… — вдруг медленно заговорил бритый, глядя на костер немигающими глазами, — да забывать науку начал. Смотри, завистливые твои глаза… От зависти все пороки произошли на земле. Змеей зависть обернулась и смутила первого человека. Зависть — матерь пороков, крепка в тебе, Пётра. За то и пострадал и память о том носишь. Надобно этого не забывать. Смотри, Пётра.
Вскочив со своего места, Петр Трофимович замахал правой рукой, словно играя крутыми клубами дыма, как мячиками. Виталий Осипович впервые заметил, что другая его рука, словно не разделяя неистового гнева своего хозяина, оставалась спокойной.
Раздувая черные вывороченные ноздри, он, задыхаясь, говорил:
— Смотрю… Смотрю… А ты тоже не забывай, посматривай! У меня какой интерес? Свой? Не-ет, государственный! Для кого стараюсь? Для нашей власти. Вот это, мужички-пятачки, не забывайте, когда снова учить надумаете. Как бы самим не хватить горького до слез. Ученье ваше помню. Помню! День и ночь глаз не смыкаю, все думаю, какую бы такую благодарность учителям-то моим благочестивым сотворить!..
Мужики засопели гуще, словно дорога, по которой заставили нести тяжелое, вдруг пошла в гору, переполняя чашу их терпения. Не выдержав, один из них страстно, как на молении, выкрикнул:
— Миру зачем мстишь?
— А-а! — торжествующе протянул Петр Трофимович, — задевает за кишку? — и вдруг затряс дерганой своей бороденкой, закричал исступленно: — Держи ты их, товарищ начальник. Держи! Они привычные к бегу. Держи!
Мужики притихли, истово глядя на Виталия Осиповича, ожидая от него или неминучей кары за грехи отцов и дедов, или нечаянной милости за свое покорство.
Бросив окурок в костер, Виталий Осипович, зевая, равнодушно сказал:
— Ну, вот что, граждане, время позднее, спать пора. А склоки ваши всякие… исторические и бытовые, давайте на этом прикончим.
И вдруг вскочил. Усталости словно не бывало. Звучным, веселым голосом приказал:
— Точите топоры, товарищи плотники! Завтра на стройку чтобы явиться всем. Проверю. Бога — какой он там у вас, не знаю, — дома забудьте. Чтобы потом у нас с вами неприятного разговора не получилось. Понятно? Все! Отбой! Давай твою руку, Валентин Гурьевич. До утра!
И, не глядя на огорошенных таким поворотом дела мужиков, он пошел к дому.
РАННЕЕ УТРО
В первую же ночь Виталия Осиповича атаковали клопы. Он выскочил на улицу и, сдирая с себя рубашку, которая показалась ему наполненной пылающими угольками, громко поносил избяных варваров.
Его проклятья бессильно прозвучали среди равнодушной тайги под высоким бледным небом. Он это сообразил, как только дыхание северной ночи охладило его тело и вернуло способность трезво отнестись к положению.
И первой трезвой мыслью было острое желание сломать все это замшелое, старое, наполненное клопами, вонью и дурными воспоминаниями.
Он надел рубашку и, поеживаясь от холода, побрел обратно в кислую духоту избушки.
Хозяин безмятежно спал на печке, благодушно всхрапывая.
Утром он, посмеиваясь в негустую, растрепанную бороду, говорил:
— А меня жрать неинтересно, клопам-то. Какой во мне вкус? Я моченый, дубленый, смоленый. А вы для них вроде пряника. Балованные, черти.
Он сидел на высоком тесовом крыльце, с интересом наблюдая, как под его босыми ногами мгновенно тает иней, и терпеливо выслушивал советы своего постояльца насчет уничтожения паразитов. Прослушав, снова засмеялся:
— Пробовала жена-покойница их вымораживать. Не боятся. После еще злее делаются. А вы наплюйте на них. А не то я вам новый домишко приплавлю. Это у нас скоро.
Петр Трофимович начал обуваться, ловко одной правой рукой навертывая портянки. Левая праздно свисала вдоль тела и, когда он поворачивался, с сухим стуком ударялась о ступеньки крыльца. Иногда он брал ее и, чтобы не мешала, клал к себе на колени.
На вопрос Виталия Осиповича, где он повредил руку, Обманов не сразу ответил:
— Лесиной пришибло. — И, поглаживая мертвую свою руку, строго попросил глухим голосом:
— Вы их, чертей боговых, мужиков-то этих, сразу за холку берите. Они сами не придут, а плотники хорошие.
— Мужички-пятачки? — спросил Виталий Осипович, вызывая своего хозяина на откровенность.
— Деньги любят… — неопределенно ответил тот, явно уклоняясь от прямого ответа.
— Деньги, наверное, многие любят, — подсказал Виталий Осипович.
Обманов согласился:
— Наверное.
Поморгал веками, глядя на полоску зари над тайгой, и вдруг заговорил злобно и в то же время насмешливо, будто продолжая застарелый спор с каким-то давним и несокрушимым врагом:
— …Зависть все это, зависть. У одного много, а другому уж и завидно. Начинает он тоже наживать. Себя не жалеет при этом, не говоря уже о других. На всякую подлость идет. И до того разгорячится, что даже подлость эту за доблесть почитать начинает. Ему бы тут по зубам, по зубам… В понятие его произвести, что богаче всех ему не жить. А надо таковое житье себе наладить, хуже которого некуда. Чтобы этому худу пуще богатства позавидовали. И будет это самая главная зависть: потому нечего уже и взять с такого человека. С голого рубахи не сымешь. Вошка и та его не грызет. Вот ему, голому-то, и позавидуют некоторые…
Выслушав это неожиданное признание, Виталий Осипович рассмеялся:
— Выдумываете вы глупости, дорогой товарищ.
Обманов очень охотно согласился:
— Это вы правильно. Глупости у нас еще много. — И тут же снова вызывающе прибавил: — А умный-то и в глупости смысл найдет.
Усмотрев в этом ответе некий вызов, Виталий Осипович сказал, все еще продолжая посмеиваться:
— Не вижу смысла: завидовать одичавшему…
— В этом и смысл, — запальчиво перебил его Обманов. — Люди счастью завидуют — нехитрое дело. Рыбка тоже счастлива бывает, когда червячка заглатывает. И все ей, другие-то рыбки, завидуют. А у червячка-то крючок в середине. Вот тебе и счастье. Рыбину из воды выдернули, а все, которые в реке остались, так и до сей поры мечтают: «Как бы нам такое счастье урвать».
Он говорил быстро и сердито, словно ждал возражений. Но Виталий Осипович спокойно спросил:
— Это как понимать? Рыбка, значит, на земле счастлива была, а на том свете к чертям на сковородку попала?
Обманов поморгал красными веками, стараясь понять, смеется его собеседник или спрашивает всерьез. Решил — испытывает, и оставил вопрос без внимания.
— Ну, скажем так, — заговорил он. — Жили два друга, два брата. Пока были малы — лизали друг дружку, как телята. А начали в возраст входить, ума набираться, да пришлось самим корм добывать, тут и пошла у них вражда. Увидали они: счастье одно, а ртов много. Кто ухватит, тот и жует. И схватила их зависть. И начали они топить друг друга. Какое уж тут счастье. А вот который голый, такого никому и не надо. Пусть живет как хочет, голый-то.
— Так что ж, по-вашему, счастья на свете мало? На всех не хватит? — спросил Виталий Осипович.
Обманов быстро пояснил:
— В том вот и вопрос. Может быть, и хватит на всех, а каждому побольше хочется. И каждый смотрит и думает: «А вот тому кусок жирнее попался». И соображает, как бы отнять. Вот оно как. Зависть душит.
— А у вас есть зависть?
— Еще есть маленько. Без зависти человек не живет. У меня зависть вот какая, с еловое семечко. Грошик рублю не завидует, ему и пятачка хватит. А у кого много, тому еще больше хочется. На зависти мир стоит.
— Это верно! — согласился Виталий Осипович. — Только смотря чему завидовать. Я вот на работу завистливый. Так бы вот все и сделал в один день для общего счастья. А у вас зависть черт знает к чему. Друзья-то эти… или братья родня вам?
Но Обманов увильнул от прямого ответа:
— Работу в карман не складешь, — сказал он и, натянув сапог, встал на кривые ноги.
Постоял, глядя на залитую нежным зоревым светом воду, подумал и вдруг спросил:
— Такого человека не довелось встречать: Берзина Павла Сергеевича?
— Нет, — безразлично ответил Корнев, — а кто он такой?
— Да, говорю — человек. Чина-звания и которого места жительства не знаю. Потому и спрашиваю. Надо мне его сыскать. Если встретится — немедля оповестите. Это моя просьба. Я вам за это что хотите.
Он говорил негромко и строго, словно, прощаясь навек, завещал Корневу некий подвиг. Перед ним таежная река катила по огненной воде шелковую волну. И какие-то воспоминания разбудило в нем это утро и эта река, на берегу которой прошла вся его жизнь, потому что он улыбнулся и сказал задумчиво:
— Полушалки в прежние времена девки носили. Как река. Алые до того, что в синь ударяло. Да…
Здоровой рукой он взял свой заплечный мешок, ловко закинул его за спину и спустился с крыльца.
— Ну, вот и владейте моим дворцом. А просьбы моей не забудьте…
Попрощался, поморгал мокрыми веками и пошел вдоль берега.
На Весняне, в пятнадцати километрах выше Бумстроя закладывали запонь — верхний склад древесины. Сюда и держал путь Петр Трофимович Обманов.
Шел такой легкой походкой, будто широкое тело было невесомо и его несло попутным ветром вдоль реки. Думы у него всегда были так же необременительны. Одинокое пребывание в тайге располагает к мыслям спокойным и неторопливым. А вот за последнее время события начали принимать какой-то иной, неспокойный оборот. На днях пришли к нему эти мужики из таежной деревушки разведать, не угрожает ли течению их жизни новое строительство. Чудаки. Войну видели, многие до Берлина дотопали, а спокойствия ищут. Бога своего спасают. Очень они нужны богу-то, такие спасители. Да они за пятачок кого хочешь продадут, человека лесиной придавят. Потом ходи весь век сухоруким. А тут, когда прижало, прибежали: «Послужи артели, Пётра, не помни старое. Все под богом грехами обросли, как болотным мохом». Вот они какие гладкие да удалые — против ветра сосну валят. Боговы старатели, мужички-пятачки.
Шел он берегом по песку и мелкой гальке, перепрыгивал через многочисленные таежные ручейки, со звоном падавшие в Весняну, и только у самой будущей запони пришлось отойти от воды и подняться на пригорок.
В этом месте река делала поворот, и берег возвышался над водой высокой каменистой кручей.
Медленно поднимаясь по крутой тропке, петлявшей в густом ельнике, Петр Трофимович продолжал размышлять.
Вот какими голосами запели. Артель, дескать, у них, промышленный коллектив. Они артелью только богу молятся, да и то каждый на свою сторону тянет: «Мне помоги, господи, я тут самый праведный, а другим не надо». Он им поможет, Виталий-то Осипович. С налету бьет. Не бог: молитвой его не купишь. «Я — говорит — на работу завистливый». Это у них у всех нынче повадка такая. Себя не очень-то бережет, значит, и других не жалко. Однако, если не бог, значит, грехи имеются. Надо домишко ему срубить да приплавить, эта свечка покрепче будет всех ваших боговых…
ВТОРОЙ ДЕНЬ
Оставшись один после ухода Обманова, Виталий Осипович подумал привычной формулировкой: «Силён мужик», но размышления о чужой тайне не покинули его. Словно кто-то невидимый и поэтому раздражающий преследовал его, выглядывая из-за деревьев и заставляя все время быть настороже. Подкинул старик загадку.
Впрочем, он недолго развлекался поисками отгадки — другие заботы легли на его плечи. Начался второй день его пребывания на Бумстрое, и за весь этот день он только один раз утром вспомнил о Петре Обманове. И то потому только, что ему напомнили об этом.
Ксения Ивановна, конторская уборщица, — нелюдимая, неопределенных лет женщина, спросила, как он устроился в избушке Обманова. Он рассказал ей о бессонной ночи. Это сообщение не удивило ее. С непонятной интонацией не то осуждения, не то одобрения она сказала:
— Вот так у нас! И клопы его не берут.
— За что его ваши мужики не любят?
— Про то мужиков спрашивайте.
— А вы разве не знаете?
Женщина исподлобья поглядела на Виталия Осиповича, но, встретив его взгляд, спокойный и немного насмешливый, отвернулась и пошла к двери.
— Ну, я спрашиваю! — властно остановил ее Корнев и, шумно задышав, потребовал: — Если я спрашиваю, надо отвечать. Понятно?
Постояв у двери, Ксения Ивановна не спеша повернулась и, смягчая голос, начала объяснять:
— А я и отвечаю: у мужиков спросите. Я за них не ответчица. У меня свои дела.
Подумав, подошла к столу и сообщила:
— Руку ему это они покалечили. Сосну на него уронили. Он их обсчитывал, мужиков-то. Наживался. Теперь он приутих, затаился. А то на эти дела он лихой был. Ох лихой! Этому месту лет двадцать прошло.
— Судили их? — спросил Виталий Осипович, застегивая планшет.
— Какой же суд? — удивилась она. — Тайга не выдаст. Он сам и прикрыл все дело. У нас так…
Виталий Осипович, решив, что разговор окончен, поднялся. Но Ксения Ивановна сама спросила:
— Про Берзина, наверное, спрашивал?
— Спрашивал.
— Всех спрашивает. Придумал себе забаву на старости лет, что будто Берзин его сын.
— А зачем это ему?
— Да кто ж его знает. Темная у него голова. Может быть, думает: два сына — два пособия.
Виталий Осипович вспомнил утренний разговор с Обмановым о двух друзьях-завистниках и спросил:
— В самом деле Берзин его сын?
— Да какое там. Моя мать с его матерью подружки были. Гнала Петьку Обманова нещадно Анюта-то Берзина. Вот он со зла и выдумал тогда, будто от него у нее сын. Опозорить ее хотел. Ну а сейчас, конечно, о себе хлопочет… Так мы думаем.
Виталий Осипович поднялся, неопределенно заметив:
— Да. Вот какие дела.
И пошел к двери. Она спросила вдогонку:
— Домой-то когда придете?
Ответив, что придет поздно, и не обратив на этот вопрос внимания, Виталий Осипович пошел к реке, где строили бараки. У десятника узнал, что плотники из таежной деревушки Край-бора не явились.
Разговор был прерван шумом, который доносился из крайнего, уже почти готового барака. Оттуда, через дверной проем стремительно выскочил большого роста парень с очень светлыми растрепанными волосами в старой черной рубашке, порванной на плече. И внезапное появление большого парня, и стремительность, с которой он удирал от невидимого врага, невольно вызывали вопрос, каким же чудовищем должен быть этот самый враг, потому что парень был молод и, по-видимому, очень здоров и силен.
Но сам парень без всякого страха ожидал появления своего врага. Ничего, кроме любопытства и ожидания, не было в его светлых глазах. Он даже чуть улыбался, стыдливо и вместе с тем добродушно.
А когда появился его враг, парень перестал улыбаться и громко вздохнул. Шустро, как стриж, из барака выскочил второй парень и упруго, словно не касаясь земли, налетел на беловолосого, но, увидев начальника, остановился. Гортанным, срывающимся голосом яростно закричал, оскаливая ослепительные белые зубы:
— Арестуй его, начальник, сейчас арестуй гада-вредителя!
Был он смуглый, ловкий. На нем надета выгоревшая зеленая майка, не скрывающая его коричневых рук с блестящими от пота буграми мускулов.
— В чем дело, Гизатуллин? — спросил у него десятник.
— Иди сам смотри. Меня не спрашивай: в чем дело. Его спрашивай: в чем дело. Идем смотреть… Пошли, Гошка, покажи свою работу…
И, не оглядываясь, он первый пошел к бараку. Большой парень покорно двинулся за Гизатуллиным. Направляясь вслед за ними, Виталий Осипович спросил у десятника, кто этот Гизатуллин и за что он набросился на Гошку. Оказалось, что Гизатуллин во время войны закончил ремесленное училище, работал в городе и сюда приехал с группой молодежи по комсомольской путевке. Плотником он оказался хорошим, старательным, и его сразу же поставили бригадиром. Про другого плотника, сильного парня, десятник ничего не успел рассказать.
Они вошли в барак. Здесь все блистало новизной: розоватые, только что окоренные бревна стен, желтые, из-под пилы, доски пола и потолка. Остро и свежо пахло смолой и кисловатым духом сохнущего дерева. Таежный ветерок вольно пролетал сквозь просторные оконные проемы, гоняя по полу косяки кудрявеньких стружек.
Гизатуллин, совсем уже остывший, сумрачно приказал:
— Показывай свою работу, Гошка, сам показывай!
Гошка шумно вздохнул и тоже сумрачно ответил:
— Чего казать-то, напортачил, и так видно… Сознаю.
В самом деле, показывать было излишне. На полу лежала дверь. Обычная дверь, сколоченная на скорую руку. Корнев даже не сразу понял, что в ней так возмутило бригадира. И только присмотревшись сообразил, в чем дело. В каждую доску было вбито столько гвоздей, что хватило бы еще на одну дверь.
Виталий Осипович спросил, обращаясь к Гошке:
— Ты знаешь, что гвоздей не хватает? Проволоку на гвозди рубим, а ты пакостишь.
— Дурная голова, — непримиримо добавил Гизатуллин.
— Да сознаю же, — в отчаянии завопил Гошка. — Думал, лучше будет. Крепче. Ну чего ты?
Виталий Осипович подмигнул десятнику и строгим голосом приказал:
— Выгнать. Сегодня же дайте расчет.
— В тишине раздался голос бригадира:
— Неправильно решил начальник. Совсем плохо решил.
— Ты же сам сказал, что он вредитель. Вот рубашку ему порвал.
— Я ошибку делал. Злой был. Пускай он своим зубом все гвозди выдернет. Учить надо, гонять легко, воспитывать надо. У нас дела много, людей мало, плотников совсем мало.
— Ну что же, — подумав, ответил Корнев, — решил ты по-хозяйски. Слово бригадира — закон.
Гизатуллин одобрительно согласился:
— Правильно.
И СНОВА УТРО
Поздно ночью возвращался Виталий Осипович домой. Весенняя ночь раскинула над тайгой свой мерцающий светлый шатер. Наступила пора белых ночей, когда даже в чащобе не остается места для таинственной темноты.
Виталий Осипович стремительно шагал прямиком через тайгу и размышлял о тех невидимых силах, какие движут людьми, толкая их на дела добрые или злые. И, как бы подтверждая его мысль о невидимом, из ельника с неестественной живостью выскочил какой-то человек. С отчаянием, словно бросаясь под машину, он преградил путь. С ходу налетев на него и не отступив, Виталий Осипович спросил:
— Ну еще что?
И тут же узнал Антона Сазонтовича Ощепкова, вожака таежных мужиков. Имя Виталию Осиповичу сообщил Обманов, пояснив, что здесь половина деревни Ощепковы. Тот, как ни в чем не бывало, привычно козырнул:
— Разрешите обратиться!
— Ну давай, — недовольно разрешил Виталий Осипович и, слегка оттеснив его, пошел своей дорогой.
Шагая чуть позади, Ощепков сообщил:
— Мужики наши работать не согласны. Невозможно им соглашаться.
— Ну и черт с ними, — раздраженно ответил Корнев. — А в артели можно?
— Артель это как бы для себя, — деликатно объяснил Ощепков.
— А бумкомбинат для кого?
— Так ведь религия… Нельзя нам на государство работать.
И, словно извиняясь за темноту своих товарищей, он посоветовал:
— Вы им прикажите, чтобы, значит, видимость была не по своей как бы воле. А будто насильно. По принуждению будто бы терпим.
Усмехаясь, Виталий Осипович проговорил:
— Милиционера, что ли, за вами посылать. Так нет у меня власти на это…
Засмеялся и Ощепков:
— Зачем милиционера? Вы нам бригадира дайте. Такого мужика твердого. Командира.
— Бога обманываете?..
Ощепков усмехнулся:
— Бог простит…
— На меня грехи свои вешаете?
— Замолим, — уже откровенно смеясь пообещал Ощепков. — Это у нас запросто.
— Ну что с вами делать. Плотники до зарезу нужны. Есть у нас плотник — парнишка молодой, но старательный. По фамилии Гизатуллин.
— Азият?
— Татарин.
— Это для нас еще лучше.
— Злой на работу, — предупредил Корнев.
— И мы не ленивы.
Некоторое время шли молча. Виталий Осипович, не слыша шагов своего спутника, подумал, что тот так же незаметно отстал, как и появился, но скоро понял, что ошибся. Ощепков, лесной житель, умел бесшумно двигаться по тайге. Он снова заговорил:
— Если что надо, скажите. Доставим. Молока там или овощ какую. За деньги, конечно, — поторопился предупредить он, чтобы начальник, боже упаси, не подумал, что его хотят подкупить. Нет, он предлагает от души. Уважаемому человеку положено удружить, чем богаты. — Вот и ваша квартира. Разрешите идти? Так вы утречком пришлите бригадира. А мы все, как один. Спокойной вам ночи.
И тут он в самом деле бесшумно исчез, словно его и не бывало.
Направляясь к дому, Виталий Осипович подумал, что, собственно говоря, все эти застарелые загадки во взаимоотношениях людей, все эти таежные тайны не стоят того, чтобы над их смыслом кто-то ломал голову. Их надо выкорчевывать, чтобы не мешали. И это может сделать только молодежь, чуждая всех предрассудков прошлого. Он, конечно, правильно поступил, назначив Гизатуллина бригадиром к старым плотникам. Это решение пришло внезапно, и оно еще может оказаться ошибочным. Ну что ж, все ошибаются. Ошибается даже господь бог, думая, что такие, как Ощепков, все еще верят в него. Впрочем, это ошибка всех богов.
Открыв дверь, Виталий Осипович еще в сенях почувствовал новый запах, какой бывает в свежеотремонтированных помещениях: запах известки и свежей влаги от промытых досок пола. При трепетном свете зажигалки он увидел побеленные стены и потолок, выскобленный пол и прибранную кровать, застланную его одеялом. На столе стояла заправленная керосиновая лампа, очевидно, принесенная из конторы.
Он зажег лампу и снова огляделся. Какую работу должна была проделать Ксения Ивановна, чтобы придать этой берлоге вид человеческого жилья! В том, что все это сделала именно она, не могло быть сомнения…
Оказывается, все проще, чем представлялось Виталию Осиповичу в прошлую ночь. Вот она, простая, работящая женщина, не жалея рук, потрудилась, и оказалось: можно в старом доме жить. Надо только, не боясь труда, выбросить из дома всю нечисть, всю грязь. Это урок, чтобы не очень мудрили там, где надо просто приложить руки.
Ночь он проспал спокойно и, проснувшись, как всегда, в седьмом часу, пошел умываться на Весняну.
По реке медленно двигался плот. Слабо различимый в утреннем тумане, он не возбудил особого интереса. Мало ли всяких плотов и плотиков проплывает по таежным рекам. Но в фигуре плотогона, длинным шестом направляющего плот к берегу, было что-то знакомое: так ловко и размашисто мог работать только один человек. Виталий Осипович спросил на всю реку:
— Тарас!.. Это ты?
Тарас еще не успел ответить, как из хвойного вороха настила возник еще один человек. Он и ответил мягким Жениным, хрипловатым от сна, словно туманным голосом:
— Это мы, Виталий Осипович! Это мы!


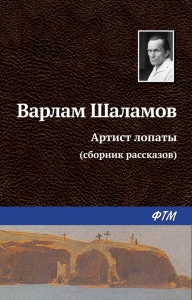


Комментарии к книге «На севере диком», Лев Николаевич Правдин
Всего 0 комментариев