Виктор Петрович Астафьев Тают снега
Часть первая В конце осени
Глава первая
Бегут и бегут с севера тучи. Стелются, клубятся над горами, как дым от пожара — слоистый, лохматый. А земля в самом деле вся в пожаре. В тихом, осеннем пожаре. Деревья объяты пламенем. Листья искрами сыплются на землю. Небо низкое, располневшее, с тяжелой одышкой. Трудно представить, что совсем недавно оно было чистым-чистым и тихим. Лишь кое-где его пятнали беззаботные облака. К осени эти облака сделались грудастыми, раздались в теле и нарождали другие облака, а те оперились в мягкое, но темное перо — и началось. Однажды, как всегда неожиданно, ветер подхватил их, помчал куда-то.
Бегут и бегут они торопливо, молча. Ни грома, ни молнии. Тишина.
Лишь птицы кричат тоскливо, пытаясь угнаться за косматыми тучами. Покидают птицы обжитые края, улетают в теплые дали, замыкая свой ежегодный великий путь. Иной раз в разрыв туч выглядывает солнце, посветит нехотя, мелькнет раз-другой — и снова его нет.
И снова полумрак… Снова трусит неторопливо, с деловитым спокойствием дождь, то мелкий, как пыль, то такой прямой и с такими тугими струями, что по ним, кажется, перебираться можно и наверх влезть. Никнут под дождем перестойные овсы, раскисают дороги. Шоферы, воровато оглядываясь, сворачивают на пашню, газуют по хлебам. Дорога, ведущая из города в Сосновоборскую МТС, становится шире, извилистей. Жидкой ржавчиной заливает она края пашен.
Лежат перестойные хлеба, лежат — причесанные ветром, прибитые дождем прядями в разные стороны. Полоски мелкого березника и осинника широкими ножами врезаются в сочные ломти пашен. Из овсов удивленно выглядывают редкие кусты, словно детишки, забредшие сюда по младенческой глупости.
Тихая, но тревожная пора на земле.
По разъезженной дороге идет женщина с большим чемоданом. За ней бредет мальчик. Женщина выбирает места посуше, а мальчишка шагает напропалую. Она иногда останавливается и усталым голосом говорит:
— Ты, пожалуйста, смотри под ноги. Выпачкался, как поросенок.
— Я смотрю. Я смотрю, — твердит уныло мальчишка в ритм шагов.
— Плохо смотришь.
— Откуда знаешь? — приостанавливается мальчишка. — Ты впереди идешь, видеть меня не можешь.
— Ну, начинается, — с досадой оборачивается женщина, — пожалуйста, не хитри и не зли меня. Умный ты у меня парень, Серьга, но и надоедливый.
Женщине лет под тридцать, а может, и поменьше. Выглядит она явно старше своих лет. Может быть, причиной тому хмурая погода, которая всегда угнетающе действует на людей, а может быть, две глубокие преждевременные складки на лбу и какая-то застоявшаяся усталость в глазах. Но есть в ее внешности и такое, по чему можно судить: если стряхнугь с этой женщины этот угнетенный вид, эту усталость, так не идущую к ее лицу, она непременно помолодеет. Сразу-то и не догадаешься, почему это. Может быть, потому, что голову она держит чуть набок, по-детски, словно прислушивается к чему, может быть, походка ее, то порывистая, то вялая, словно человек то вспоминает, что ему спешить надо, то забывает об этом. Словом, та походка, какая бывает у людей с още неустоявшимся характером.
Мальчик — ее сын, но похож он на мать только глазами. Они большие, серые. На подбородке у него ямочка. У женщины такой ямочки нет. Лоб у него широкий и выпуклый. У женщины лоб чуть покатый. Волосы у него черные, почти жесткие. У нее они русые, заплетенные в две косы, из которых пушицею выбиваются мягкие вьющиеся пряди.
Мальчик отстал от матери, бредет уныло, но не жалуется. Она глядит на полегшие хлеба, от них доносит мертвящим запахом плесени.
— Безобразие! Какое безобразие! — возмущенно качает она головой и, поставив на землю чемодан, со строгим видом поджидает сына. — Чего ты, в самом деле, плетешься, как опоенный. Мужчина ты или нет? Говори, мужчина?
— Мужчина, — уныло отзывается мальчишка и садится на чемодан, — и вовсе но опоенный, а вовсе недопоенный…
— Ты что это, с намеками? Пить, да? В сырую погоду нить! Только тебе это и может взбрести в голову! Терпи. Раз мужчина — терпи! На вот платок, вытри нос и пошли дальше.
— Маленько посидим, мама, а?
— Ох, боже ж ты мой! — поморщилась мать. — Рассидишься ведь ты, Серьга.
— Маленько, мама Тася, — тянет Сережка.
Мальчик называет по имени свою мать в тех случаях, когда надо что-нибудь выпросить. Может быть, на этот раз его прозрачная, детская хитрость не возымела бы действия, но вид у него и в самом деле был очень усталый, и Тася уступила:
— Ладно, посидим немножко.
Мальчик устроился поудобней и смиренно сложил руки на коленях.
— А скоро речка, мама? — спросил он через некоторое время. — Ты давно говорила про речку, пить охота.
— Речка? — Тася помолчала и, думая о чем-то своем, продолжала: Скоро, скоро, и не речка, а целая река.
— Как Кама?
— До Камы ей, положим, далеко, но она, говорят, очень красивая и быстрая. В деревне, может быть, и пруд есть, на нем утки, гусята плавают, крыльями машут, гогочут… Ты ведь никогда не видел пруд?
Мальчик не отозвался. Голова его склонилась на грудь, и сам он раскачивался из стороны в сторону.
— Бедняжка, — нежно промолвила мать и, обняв его, протянула: Сыно-ок, ты чего это?
Открыв замутившиеся глаза и часто моргая, мальчик попытался прилечь на колени матери:
— Как Серега спать хочет, — пробормотал он, — мама, я маленько, маленько подремаю.
— Нет, нет, сынуля, пойдем. Разоспишься, потом тебя хоть на руках неси, — заговорила Тася и упрекнула себя за то, что не позвонила со станции в МТС насчет машины. Они, правда, долго ехали с попутной подводой и у поворота возница, ссаживая их, сказал, что идти пустяк, километра три с гаком, но гак-то уж очень длинный получился.
— А ну, подъем! Раз! Два! Три! — скомандовала Тася. Команда подействовала на мальчика. Он потер кулачишками глаза, подтянул штаны и засеменил впереди матери, надоедая ей расспросами:
— Мама, а почему на небе большая птица стоит на месте и махает крыльями? Это она мыша подкарауливает, да?
Не успевала Тася ответить на один вопрос, как выслушивала десяток новых:
— А почему колоски такие усатые? Чтобы птички не клевали, да? А зачем синие цветочки растут? Их тоже посадили, да?
— Ну тебя, Серега, надоел. Лучше смотри, во-он, на горке, трактор ползает. Видишь?
— Вижу. Как жук.
— Правильно, как жук. Скоро мы подойдем к нему. Дяденька тракторист даст тебе попить, а там уж и до МТС, глядишь, скоро доберемся.
Но долго они еще шли среди желтых хлебов, потом среди свежей пахоты, перепутанной прожилками перерезанных корешков, пока поравнялись с трактором, который с тарахтеньем полз от опушки леса к дороге.
Заглушенная рокотом мотора, до Таси доносилась песня. Когда трактор приблизился, она разобрала слова:
…Шла она, к забору пр-ри-ижи-малася, И спина скользила по гвоздя-ам…Это была старая блатная песня с переиначенными словами. По тому, как пел ее тракторист, с надрывом, по-украински выговаривая букву «г», Тася поняла, что песенник или старый блатяга, или подражатель, каких немало еще среди молодежи. Она насторожилась. Возле дороги тракторист убавил газ, остановил машину и, разминая папироску грязными пальцами, приблизился к ним.
— Приветствую на нашей грешной земле добрых странников, — с улыбкой сказал он и добавил, показывая на ладони: — Руки не подаю, грязна.
Тасе не понравилась и его улыбка одним углом губ, и как держался этот человек: подчеркнуто разухабисто. Но она успела заметить: в то время, когда тракторист улыбался, темные глаза иго оставались пасмурными.
— Мальчик очень пить хочет, — сказала она, — если бы… если у вас есть глоточек воды?
— Воды? Зачем вода? Найдем кое-что поизящней, — отозвался тракторист и, забравшись на трактор, совсем прикрыл газ.
Мотор чихнул, шмыгнул и захлебнулся. Тихонько напевая, тракторист открыл багажник и вытащил две бутылки: одну с молоком, другую с водкой.
— Не желаете? — поболтав бутылку с водкой, обратился он к Тасе.
— Спасибо.
— Тогда ваше здоровье! — Он запрокинул голову и начал пить из горлышка. — Эх, крепка, зараза! — оторвавшись от бутылки, он весь покривился, бросил посудину через плечо, похлопал себя по карману, достал папиросу, закурил и, спрыгнув с трактора, подал бутылку с молоком Сережке.
— На, малый, пользуйся. Дядя такой штуки не употребляет. Берет с собой конспирации для…
Все, что он делал, выглядело как-то неестественно, все с каким-то вывертом. И Тася с едва скрытой неприязнью сказала:
— Пашете вы скверно. Зато пьете эффектно, как на сцене.
— Скажи на милость, — скрывая легкое замешательство, всплеснул руками тракторист, — это же святое совпадение. Вы понимаете, час назад здесь был наш бригадир и говорил то же самое. — Тракторист вдруг смолк и быстро повернулся к Тасе: — Простите… вы, собственно, это о пахоте-то почему?
— Да так, интересуюсь.
— Ой-ой, с вами не шути! — в деланном испуге округлил глаза тракторист. — Я-то с простоты душевной принял вас за странников, а вы, надо полагать, из самого министерства? Но почему же на одиннадцатом номере?
— Надежней по здешним дорогам.
— Тоже верно. Уж вы не агроном ли?
— Он самый.
— Их, пропала моя голова! А этот колорадский жучок, пом. агронома, что ли?
— Я не жучок, — заявил мальчик. — Я — Серега!
— Оч-чень приятно! — приложил руку к сердцу уже заметно захмелевший тракторист. — А меня зовут Василий, Василий Лихачев — это по тугаментам, а так, запросто, Васькой кличут. Иногда филоном еще называют. Ага, филоном. Что на обиходном языке обозначает — лодырь. Ничего себе титул, а? Ты давай, Серега, молоко допивай, а то рот открыл. Меня не переслушаешь, я мужик разговорчивый.
Тася, пропуская мимо ушей болтовню тракториста, внимательно присматривалась к нему. И чем больше она на него глядела, тем сильнее разгорались ее любопытство и удивление.
На вид Лихачеву можно было дать не больше тридцати лет. Но когда он снял кепку и начал вытирать подкладкой лицо, среди смолистых, чуть вьющихся волос Тася заметила полоски седины. Лоб у него бледный, с большими залысинами. Лицо тракториста красиво, с мягкими правильными чертами. Пальцы рук длинные, подвижные. Папироску тракторист держит небрежно, как карандашик, между пальцев. И вообще в его движениях, ленивых, нарочито небрежных, много неестественного, свойственного людям, которые еще в детстве пытаются усваивать «хорошие манеры». Нетрудно было догадаться, что человек этот в деревне — залетная птица.
— Узнаете? Так пристально смотрите? — поинтересовался Лихачев.
Тася немного смешалась.
— Да нет, просто смотрю. Что ж, мне в землю глядеть, что ли?
— Если просто — не взыщу. Серега, что же, ваш сын?
— Сын.
— Тэ-эк-с… — Лихачев хотел еще о чем-то спросить, но, заметив, что Тася сомкнула строго губы и чуть нахмурилась, добавил: — Славный пацан, с характером, должно быть.
— Еще с каким, — облегченно отозвалась Тася и поднялась с чемодана. Ну, мы пойдем. Спасибо вам, спасли человека. Большое спасибо.
— Не стоит спасиба. Человеков спасать — это даже очень приятное занятие. Другой раз вот так бы кого-нибудь и спас, ан нету под руками. Н-да, человек, — потрепал он Сережку по загривку. — Вы вот что, посидите-ка еще маленько, скоро эмтээсовский грузовик из города пойдет — определю.
— Да пет уж, мы доберемся потихоньку.
— Как желаете, дело паше, — угрюмо отозвался Лихачев и направился к трактору. — Я это к тому, что человек-то ваш устал, — обернулся он.
Тася заметила, что чем больше хмелел Василий, тем мрачнее становилось его лицо. Он поставил одну ногу на гусеницу, взялся за скобку дверцы и, не глядя, спросил:
— Что ж, добровольно в деревню, по призыву партии, или как?
— Добровольно.
— Патриот, значит? Оченно это благородно быть патриотом в наше время. А где жили и работали, если не секрет?
— В городе Лысогорске, медсестрой.
— Далеко-о. Н-да, патриот! Жили, наверное, более или менее спокойно, сносно, а здесь всякое может быть. Деревня! Человеку вон вашему, — ткнул он в сторону Сережки, — спать хочется, есть хочется, а вы его… патриот!
— Это не ваше дело.
— Оно так. Оно так, панове, — усмехнулся Лихачев и, снова впадая в игривый тон, помахал рукой: — Ну ладно, будьте здоровы, живите богато и так далее, а я двину вперед, поднимать, так сказать, пласты светлого будущего. Салют, панове!
Лихачев с силой крутнул заводную ручку, трактор хокнул, выбросил дымное кольцо и затрещал прерывисто. Лихачев убавил газ, крикнул:
— Эй вы, как вас там! — Он помахал Тасе, послал воздушный поцелуй. Зубы его сверкнули в улыбке. — Не сердитесь, если можете. Я вообще-то ничего парень, но только с пережитками. Я их в труде искуплю, понятно? — Он хлопнул рукой по кабине и сделал страшные глаза. — Клянусь!
Трактор дернулся, и Василий упал на сиденье. Тася покачала головой.
— Ну и паяц!
Сережка смеялся, весело кричал что-то, подпрыгивал. Тася прикрикнула на него и громко повторила:
— Ну и паяц! И откуда здесь такой взялся?
«Сейчас доедет до леса и завалится спать», — решила Тася. А машина уже вперевалку ползла к лесу, оставляя позади темные валы земли, на которых судорожно извивались перерезанные дождевые черви. Может быть, Лихачев снова затянул какую-нибудь песню, да из-за шума трактора голоса его не было слышно.
Тася с Сережкой успели пройти километра два, когда их догнала автомашина. Мать с сыном посторонились. Машина резко остановилась возле них, и шофер, открыв дверцу кабины, пробасил:
— Лезьте в кузов! — Он поглядел на разбитые ботинки мальчика и переменил распоряжение: — Садитесь в кабину, а чемодан в кузов бросьте. Лихачев насчет вас хлопотал. Довези, говорит, не растряси, чтобы ни мур-мур.
Язык у шофера тоже заплетался, и Тася поняла, что Лихачев не только похлопотал, но и добавил вместе с шофером.
Директора машинно-тракторной станции в кабинете не оказалось. Тася с Сережей долго сидели в приемной. Сережа начал клевать носом. Заметив это, неразговорчивая горбатенькая секретарша положила на железную кассу пузатую папку с бумагами и буркнула:
— Ложите мальчишку, чего мучаете?
— Спасибо, — робко ответила Тася и бросила на кассу свой жакет. Сережа, Сереженька, подремли вот здесь, малыш.
Сережа, не размыкая век, свернулся на старинной огромной, как ларь, кассе, а Тася вышла в коридор.
Откуда-то доносились звуки радио. Из-за двери с разбитым стеклом слышался сердитый голос:
— Ты мне арапа не заправляй! Ясно? Ты мне просто скажи: погасишь задолженность или я тебя в суд поволоку? Ясно?
При каждом слове «ясно» говоривший, словно подбивая итог, щелкал костяшками счетов.
Тася пошла на звуки музыки, летевшие из конца коридора, и очутилась перед раскрытыми дверями красного уголка. Там была хорошая мебель: диваны, полумягкие стулья, имелись небольшой бильярд, приемник, запыленное пианино. Посредине стоял стол, накрытый красным сатином. На нем так и сяк лежали газеты, обтрепанные журналы. Все стояло небрежно, все было захватано грязными руками. Тася постояла у раскрытых дверей, понаблюдала за игрой двух шахматистов, которые сидели в облаках дыма, послушала музыку, доносившуюся из приемника, попыталась угадать, чья она, не угадала и пошла обратно. Секретарша сказала:
— Директор приехал. Я сейчас доложу. А мальчика мне пришлось побеспокоить.
Секретарша с пачкой каких-то бумаг скрылась в кабинете. Тася присела рядом с Сережей на стул и погладила его по ершистым волосам.
— Не дали тебе поспать?
— А я и не хочу спать, — с зевком заявил Сережка и добавил: — А дяденька начальник — высокий такой, сердитый и чудной. Спрашивает меня: «А ты зачем, Митя, сюда пришел?» А я говорю: «Я не Митя, я Серега». Он на меня поглядел, а потом сердитый сделался и ушел. А у него, мама, на правой руке только один палец, смешной такой, как крючок.
— Один палец? — почему-то обеспокоенно спросила Тася и уже обычным голосом заключила: — Мало ли дяденек с одним пальцем, а то и совсем без пальцев. Война ведь, сынок, прошла.
Дверь кабинета полуоткрылась и, отвечая что-то директору, секретарша на ходу, скороговоркой бросила:
— Хорошо-хорошо, я сейчас схожу. Нет-нет, не забуду, — и, выйдя из кабинета, обратилась к Тасе: — Пожалуйста, к директору.
Тася надела жакет, застегнула на пуговицы, торопливо поправила прическу, достала из сумочки документы.
— Будь умницей, Серега, я скоро, — волнуясь, наказала она сыну и пошла к директору.
Кабинет был узенький и длинный. В дальнем его конце, поперек, почти от стены до стены, размещался большой письменный стол. Вдоль стен по обе стороны стояли разномастные стулья.
Директор что-то доставал из правого ящика стола, и Тася вначале увидела только профиль его с хрящеватым носом, с круто вздернугым подбородком. Что-то мучительно знакомое было в этом лице.
— Здравствуйте, — немного постояв, тихо сказала Тася.
— Здравствуйте, здравствуйте, садитесь, пожалуйста, — не поднимая головы, ответил директор и начал с силой задвигать ящик стола. Толкнув его несколько раз, он буркнул: — А, черт! — повернулся к Тасе да так и застыл. К лицу его вначале прилила кровь, потом оно побледнело. Ямка на подбородке, похожая на большую вмятину, сделалась особенно заметной; вздрогнул и заплясал на столе единственный палец правой руки. А Тася отступила на шаг и подняла сумочку так, будто пыталась загородиться ею. Потом спохватилась и медленно, как-то неуверенно села на стул.
— Ты-ы! — протянул директор, и они долго сидели, не говоря ни слова, глядя друг на друга.
— Я, — наконец молвила Тася с какой-то жалкой, вымученной улыбкой и еще более растерянно повторила: — Да, я-а… — Говорила медленно, врястяжку, а в голове металось: «Да что же это такое! Как же это так? Да неужели? Неужели? Да это же самое худшее, что могло случиться!.. Уйти! Убежать от этого наваждения!»
Она быстро вскочила, пошла к дверям.
— Куда ты, погоди! — услышала она и заспешила еще больше, но никак не могла найти ручку двери, а нащупав ее, рванула так, что дверь ударила ее.
Секретарши в приемной не было. Сережа обрадованно встретил мать:
— Ты уже поступила, мама, на работу? Сейчас мы на лошадке поедем, да?
— Пойдем, сынок, пойдем, я поступила на работу, — тянула его Тася из приемной. — Где же сумочка? Мы пешком, недалеко, а потом на поезде… куда же я засунула документы?.. Мы на поезде… сынок… ты не видел?..
— Сумочка осталась на стуле, — сказал появившийся в дверях директор. Ты что, бежать? Погоди… поговорить надо… решить…
— Решить? Чего же решать?. А-а, да-да, решить необходимо. У меня ведь направление обкома, направление… — Она вдруг замолкла, огляделась по сторонам и, до хруста стиснув пальцы, уже спокойнее добавила: — Да, да нужно и в самом деле решать… решать, решать, решать… Сколько же можно решать! — вскрикнула она, и спазма захлестнула ей горло. Но она пересилила себя и тихо, уже упавшим голосом закончила: — Ну что ж, будем решать!…
Сережка смотрел на мать с недоумением, собирался что-то спросить, но в это время вошла секретарша и удивленно приподняла брови.
— Уже? Быстро управились. Надеюсь, все в порядке?
— Маленькая закавыка получилась, — холодно отрубила Тася и снова пошла в кабинет.
Директор ждал, стоя у стола. Он читал ее диплом. При появлении Таси нашарил папироску в портсигаре и закурил. Несколько яростных затяжек окугали лицо его дымом, и, отгородившись этой ненадежной завесой, он заговорил торопливо, словно боялся, что его прервут:
— Вот ведь гора с горой… неожиданно, понимаешь… Мне звонили из обкома, а я думал, совпадение фамилий… да ты сядь… конечно, такое дело оглоушит, но убегать-то зачем?
У Таси была давняя спасительная привычка: в трудные минуты читать что подвернется на глаза и складывать буквы попарно. Пока директор лепетал торопливо и бессвязно, она успела пробежать заголовки газет, лежавших на столе, и несколько справиться с собой.
— Хорошо, если вы так и будете думать, что здесь простое совпадение фамилий, — голос ее начал пресекаться, и директор перебил ее, изо всех сил стараясь убрать с лица натянутую улыбку:
— Я ведь… Все же интересно, как ты в нашу эмтээс попала… я думал… все-таки… ты вот на агронома выучилась? Специальность… Ничего, нужная специальность. Нам вот нужны агрономы…
Было до странности неловко смотреть, как этот немного грузный, по виду степенный человек с открытым лицом заикается, не зная, что говорить. Должно быть, смятение, в котором потонули и его обычное добродушие, и прямота, помогли Тасе совсем преодолеть растерянность. Она заставила себя говорить почти твердо:
— Попрошу скорее проделать все формальности и направить в колхоз, бежать мне действительно не следует. Есть на свете такое, от чего, по-видимому, не убежишь.
Директор сидел не поднимая глаз. Деловой тон Таси подействовал на него. И все-таки по вздрагивающему веку, по этому беспрерывному прыганью изувеченной руки можно было догадаться, что творится в его душе. После продолжительного молчания он прямо взглянул на нее.
— Я конечно, не имею права советовать вам, тем более учить, но это касается в большей мере вас, чем меня. Вы не думаете, что нам будет не совсем… э-э… удобно в одной эмтээс… может быть, стоит подумать о переназначении. Я бы мог в соседнюю…
— Не заботьтесь о моих удобствах, — перебила его Тася и, презрительно усмехнувшись, добавила: — Поскольку назначение сделано, я менять его не собираюсь. Хватит с меня. — Она покусала губу и закончила: — О своем благополучии не беспокойтесь, я не мстительная…
— Да не в этом дело, — поморщился директор. — Ваше право судить обо мне как угодно и поступать со мной как вам заблагорассудится. Но, концы-концов, я сейчас меньше всего думаю о своей персоне.
— Я приехала работать, у меня ребенок, — повышая голос, отрубила Тася, будто не слыша его слов. — Будьте добры определить меня на место, большего я не требую.
— Это ваш мальчик там, в приемной?
— Мой.
— Замуж выходили?
— Где уж нам уж выйти замуж! — нервно, с глухой болью рассмеялась Тася. — Без замужа сумела, своим умом дошла…
— Вы очень изменились, погрубели…
— Разве? Удивительно! Как это я умудрилась огрубеть?! — опять рассмеялась Тася, и в голосе ее зазвенели слезы. И, снова резко перескочив с дурашливого тона на серьезный, точно размышляя вслух, выдохнула: — Да-а, глупенькой, беззаботной девочки на свете уже нет. Она умерла восемь лет назад, восемь лет! — Тася покачала головой и снова закусила губу, чтобы не разреветься.
Директор снова полез за папироской и, громко кашлянув, взял в руки ее диплом.
— В Лысогорске учились?
— Да.
— Каким образом туда попали?
— Долго рассказывать.
— Угу… Ну вот что: завтра поедете в колхоз «Уральский партизан». Колхоз крупный, работы много. Тяжелый колхоз. Но больше никуда направить не могу. Везде агрономы уже есть. — Директор помолчал и прибавил, уткнувшись взглядом в стол: — Не подумайте, будто я нарочно туда спроваживаю.
— Далеко колхоз?
— Нет, в двух километрах.
— Тогда я постараюсь сегодня же уйти туда. Попрошу дать команду, чтобы без задержек оформили. И денег дали, аванс, что ли. Мы поиздержались в пути.
— Сегодня так сегодня, — виновато буркнул директор, — только у нас транспорт в разъездах, подождали бы… — Он замолк на полуслове и больше не заговаривал.
«Это самое подходящее время, чтобы уйти», — подумала Тася и поднялась. Уже от дверей она обернулась:
— Скажите, Николай Дементьевич, вы в партию вступили?
Директора так и передернуло.
— Вступил, — глухо промолвил он и испуганно ждал еще чего-то. «Вот оно, начинается!» — холодея, подумал он, но Тася больше ничего не спросила, а, бросив на ходу что-то похожее на «всего доброго», вышла в приемную.
Сережи там не оказалось. Тася отыскала его в красном уголке, принесла сюда чемодан и достала мальчику бутерброд.
— А ты? — спросил он у матери.
— Я? Я не хочу, Сережик… сыта. — И мальчику показалось, что она вот-вот заревет. Тогда он решительно сунул ей бутерброд обратно и заявил:
— Не буду я один есть.
Пришлось Тасе отломить кусочек и жевать, жевать хлеб, который сразу стал тугим и горьким. В горле стоял твердый, как железо, комок, и она никак не могла проглотить хлеб.
Часа через три Тася Голубева с Сережкой вышли из конторы МТС. Они направились вдоль берега реки Кременной к деревне Корзиновке, где находилось правление колхоза «Уральский партизан».
Стояла все такая же тихая и сырая погода. По реке плыли и покачивались пестрые листья. Местами течение загоняло их табунками в заливчики, и они колыхались у берега, обсыхали на камнях, свертывались, чернели. Мыс острова, который начинался неподалеку от деревни Сосновый Бор, тоже скрывался под настилом листьев. На той стороне протоки маячил стог сена. Из него торчала жердь, и на ней окаменел, подстерегая добычу, ястреб-канюк. Тишина крутом. Даже было слышно, как в заречной деревушке что-то рубили, а может, колотили вальком белье на реке.
Тася с Сережкой спустились к ручейку, запустившемуся в прибрежном кустарнике. Чуть повыше дороги в ручей был вставлен долбленный из осины желоб. Сережка жадно припал к нему, глотнул студеной воды и начал баловаться, дуя на падающую с желоба струю.
— Бур-р-р-ль!
— Довольно, Сережа, не шали, вода холодная. — устало сказала Тася и, легко отстранив сына, напилась сама. Она утерла губы краем белого шерстяного шарфика, накинула его на голову, огляделась по сторонам и села на ворох листьев под старой липой.
Сережа гонялся за вяло порхающей живучей осенней бабочкой, поймал ее, с воплем бросился к матери, держа руку над головой. У ручья он запнулся и шлепнулся животом в воду.
— Так я и знала, что ты натворишь чего-нибудь, — сказала Тася и сердито прикрикнула: — Чего носом шмыгаешь? Иди, я рубашонку отожму.
Сережа медленно приблизился к матери, не выпуская бабочку из руки. Тася закрутила жгутом подол его рубашки, отжала, шлепнула мальчишку по мягкому месту и приказала:
— Сиди и не прыгай!
Сережа покорно сел. Тася расстелила на коленях шарфик, положила на него голову мальчика и, перебирая пальцами жесткие волосы, нежно и грустно вымолвила:
— Полежи немного… Дай покой…
Сережа закрыл глаза и задремал, убаюканный шорохом падающих листьев. А эти последние листья опадали совсем уж лениво. Каждый лист, перед тем как упасть, из последних сил держался за ветку и, когда его все-таки отрывало, долго плавал в воздухе, рисуя прощальные письмена.
Вот качнулся на ольхе бледно-желтый лист величиной с детскую рукавичку, сорвался с ветки, пошел косо к земле, но тут же зацепился за другую. Повисел на ней и, как полураскрывшийся парашют, упал вниз. Вслед за ним посыпалась целая стайка продолговатых листочков с ивы. Эти похожи на мелких рыбешек — и мечутся в воздухе бестолково, как испуганные малявки. Осиновые листья, точно яркие пластики свеклы, уже валяются на земле. День-два — и они утратят свою причудливую окраску.
Но Тася не замечала ничего этого, никакой осенней красы не замечала. Она смотрела поверх кустарников и беззвучно плакала.
Тихо вздыхала стонущая земля, на которой кое-где качались тронутые инеем блеклые цветы.
Еще ниже опустилось небо. Сверху катились и катились мелкие слезы, будто насильно выжимали их из неопрятных, грязных облаков.
По земле брела осень…
Глава вторая
Где-то в горах высекались из камней светлые ключи. Падая вниз со скалы, они превращались в ручей. Студеный, легкий, болтливый, он суетился между камней, кустарников и зеленых папоротников с древним, таинственным запахом. Там, между кочек и густых зарослей, он отыскивал и обвораживал чуть слышным говорком студеные ключи, хлопотливые речушки и соблазнял их в далекий поход, за темные горы.
Так он мчался дальше и дальше, наполнялся водой, становился яростней и круче нравом, превращаясь в реку.
Труден путь реки Кременной. Куда ни повернется она, всюду скалы, скалы. Как только они не именуются! Тут и кряжи, и мысы, и седловины, и столбы, и быки, и просто безымянные. Каждую такую преграду нужно было подточить, обрушить. Иногда Кременной приходится отступать, делать «крендельки» километров по десять. Обозлится она, зашумит, заплещет так, что пена клочьями летит. Ринется бешено на мрачные, невозмутимо спокойные скалы и, удовлетворенно затихнув, потечет дальше.
Возле деревни Корзиновки Кременная ведет себя в межень тихо, подобно рекам средней полосы России. Здесь реже и реже горы купают свое подножье в реке. Отступились они от нее, неуемной и своенравной. По обеим сторонам реки заливные луга; дальше тянутся деревушка за деревушкой, одна выше, другая ниже, одна больше, другая меньше, но все очень схожие. В каждой из них дома из круглого леса, поставленные преимущественно окнами к реке. Под окнами, разукрашенными причудливыми наличниками, — черемухи, изрезанные ножом скамейки у ворот, и неизменная речушка посредине деревни. Возле речушки ютятся ломаные-переломанные, но удивительно живучие кусты тальника, черемушника и пахучего смородинника.
На краю Корзиновки стоит церковь, которую давно уже никто не белил, но она все равно белая. С какой бы стороны ни подходил к Корзиновке человек, он обязательно сначала замечал церковь. В церкви кладовая, а кладовщиком Миша Сыроежкин. Когда он быпал выпивши, затягивал свою любимую песню:
…Я вор-р-р-р, я бандит, Я преступник всего мир-ра…Голос его гудел под высокими сводами церкви так, что мирно дремавшие там воробьи поднимали панику.
Еще до войны за дебош, учиненный в городской пивнушке, Миша побывал в милиции. После того считает себя Миша отчаянным человеком и поет исключительно «каторжанские» песни. Никогда Миша не убивал себя трудами, но кое в чем колхозу помогал. Перед войной он сделался даже бригадиром, и односельчане пророчили: «Скоро ты, Миша, в председатели махнешь!» На это Миша неизменно отвечал: «А что ж, ежели курсы закончить…»
Но этим пророчествам не суждено было осуществиться. Имелась у Миши пагубная привычка — любил он выпить. И это бы ничего, но, напившись, он буянил.
Никто в деревне Миши не боялся. Однако дома он пугал детей и жену Августу. Однажды Миша перебил всю посуду, переломал ухваты и одним из обломков вытянул жену вдоль спины. Ребятишки, спрятавшись на кухне, заревели. Тогда Миша зверским взглядом обвел избу и, заметив висячую лампу, заорал:
— Моя шея горит! — И трахнул по лампе кулаком. — Все пр-приломаю! - неистовствовал он в темноте.
— Небось, кринку с самогоном не ломаешь. Перед носом твоим большущим стоит, — сказала Августа, не находя в печурке коробку со спичками.
— Чего? — зловеще спросил Миша и чертом пошел на огонек, зажженный женой. — Огрызаться?!
И тут эта крепкая, работящая женщина, на которой, по существу, держалось все хозяйство, не выдержала:
— Да что, на самом деле, тебе старый режим, что ли?! — И, схватив его в беремя, потащила к реке. — Хватит, кровь всю мою выпил… уж ни кровиночки не осталось.
Хмель моментом вылетел из Мишиной головы.
— Августа! Ты чего? Пусти! Мужики увидют! Гусанька, жена моя… Слышишь?! Туды твою… Ай-яй! Караул!
Августа бросила его в холодную воду.
С тех пор перестал Миша буйствовать дома, только на стороне он позволял себе иногда встряхнуться, за что и побывал в милиции.
Церковь стояла у дороги. Миша первый увидел женщину и мальчика, одетого в коротенькое пальтишко и обутого в стоптанные ботинки.
Поравнявшись с церковью, женщина остановилась, перехватила чемодан из одной руки в другую и, заметив Мишу, направилась к нему. Туфли ее на массивном каучуковом каблуке чуть запачкались; немного вьющиеся на виске волосы были припорошены дождевой пылью и свисали легкой прядкой на глаза. Тася досадливо подобрала волосы под шарфик, но прядка снова выпала.
— Это что за пассажиры?! — удивленно пробормотал Миша и торопливо поднялся навстречу женщине и мальчику, стряхивая табачные кротки с подола рубахи.
— Скажите, пожалуйста, как найти правление колхоза?
— Правление? Правление покажем, ежели интересуетесь. Вот, стало быть, пойдете прямиком, там будет речка, можно сказать, даже ручеек, Корзиновка называется… А вы кто будете? Я, конечно, в порядке простого любопытства, — немного рисуясь и приосаниваясь, употребляя «городские» слова, торопился Миша.
— Агроном я, в ваш колхоз…
— Агроно-ом?! Я сейчас, сейчас провожу! Агроном! Видишь ты! Стало быть, председателеву бабу под задницу мешалкой, — забыв о деликатных выражениях, наговаривал он, гремя старинным церковным запором из толстой железной полосы и навешивая современный замок с буквами «ЛЗ». — Позвольте чемоданчик, — учтиво предложил Миша. — Насчет похищеньев не беспокойтесь.
— Да что вы, что вы!
Тася отдала чемодан и не сразу смогла поднять оттянутую руку и выровнять плечо.
— Парнишка-то ваш будет? — спросил Миша, посмотрел на поцарапанные коленки Сережи и одобрительно улыбнулся: — Атаман!
— Не говорите.
— Люблю отчаянных… Я сам такой… — Миша чуть не завернул крепкое словцо в подкрепление, но вовремя спохватился и продолжал; — Понравится вам в Корзиновке. Старинное село. Председатель только… — Миша плюнул в сторону и махнул рукой. — Стало быть, агроном? Н-да, хорошие дела. Человек со специальностью, с грамотешкой, а его, значит, пехом? Иди, тащись, а председательша вон по гостям на рысаке ездит. Порядки тут… — Миша закусил язык.
Тася, одуревшая от усталости, вначале невнимательно слушала своего спутника, но по мере того, как он расходился, все больше заинтересовывалась им, и, почувствовав к нему симпатию, с улыбкой разглядывала его. В этом человеке, с рыжими, колючими волосами, с лицом не злым, но хорохористым, было что-то располагающее к нему.
— А с мужиком-то что, расхожденье получилось? Даже на такой вопрос ему было легче ответить, чем другим.
— И не расхожденье даже, а ерунда получилась.
— Есть ноне путаников-то, нашего брата. Заерундят ребенка бабе и лыжи смажут, — сочувственно проговорил Миша и неизвестно почему вздохнул: Ох-хо-хо, житуха! Звать-то вас как? Таисья? Это хорошо, наше имя, простое. А я думал, Клара или Эльвира. Ноне мода на такие культурные имена. Есть у нас тут Клара…
Если бы Миша и не показал, Тася все равно догадалась бы, что правление колхоза располагается в большом бревенчатом доме с полинялыми наличниками, со старинными изувеченными воротами, возле которых преждевременно умирали обломанные черемухи и сухой тополь с одной зеленой веткой.
Тася бывала несколько раз в колхозах Лысогорского района на хлебоуборке, и там правления колхозов размещались в самых добротных и больших домах. Но запущены они, замызганы так, что приезжий человек лишь по вывеске и может отыскать правление. Правда, в одном из лысогорских колхозов Тасе очень понравилось. Там было все крепко, начиная от правления и кончая надворными постройками колхозников. И люди жили степенно, зажиточно, как настоящие хозяева.
Именно в таком колхозе хотелось пожить и поработать молодым специалистам. А если в отстающий попадут, то превратить его с помощью своих трудов в образцовый. Вместе со всеми мечтала об этом и Тася.
И вот она, так сказать, на пороге своей мечты. Как-то начнется ее новая жизнь?
Они приблизились к дому на горе. Земля у ворот правления была плотно притоптана, даже трава не росла, среди грязи, размешанной скотом, лениво текла Корзиновка, разделяя деревню пополам. Течение ее чем дальше, тем медленнее. У самой протоки она набегала на препятствие и падала отвесно в широкую яму, вымытую ее упругой струёй. С правой стороны, почти на самом углу яра, стояла, отдельно от них, севшая на середине изба. Половина окон в ней заколочена крест-накрест досками. Из-за досок пустыми глазницами мрачно глядели окна.
Тася на секунду задержалась взглядом на этой избе и шагнула вслед за Мишей в ворота правления. В крытом дворе валялось много разного хлама. Стоял зачем-то старый плуг, половина телеги, ржавая железная печка, и старый коричневый лапоть валялся тут же. Веника на крыльце не было. Тася оскоблила подошвы о ребро ступеньки и вошла в правление. Прямо перед ней оказалась заборка из нестроевых досок. В щели плыл дымок, пахло махоркой. Слева — створчатая дверь, в которой когда-то имелись стекла. За нею два парня в телогрейках и фуражках, насупившись, играли в шашки, половину которых заменяли пуговицы и обломки спичечных коробков. Дальше — другая дверь, па ней клочок бумаги. На клочке кривые буквы: «Бухгалтерия».
— Вот, значит, наши главные апартаменты, — смущенно, словно извиняясь, проговорил Миша и открыл дверь, ведущую за перегородку.
— Сам Миша свет Сыроежкин! — засмеялся кто-то, увидев входившего кладовщика, но осекся при появлении Таси и мальчика.
— Вот и мы, прямо с Пензы в Корзиновку! — засмеялся Миша. — Привел я агрономшу новую. Во — она, — показал он, — молоденькая дамочка, а это ее помощник, — потрепал Миша по голове Сережку.
— Здравствуйте, — сказала Тася краснея. — Где я могу увидеть председателя?
— Подождать придется. На пашем председателе колокольчика нет, не вдруг сыщешь, — лениво отозвался пожилой мужчина, одетый в пиджак с протертыми локтями. «Бухгалтер», — решила Тася и, отыскав глазами табуретку, присаживаясь, сказала:
— Подождать так подождать. Ух, уморились мы. Далеко, оказывается.
Тася явно старалась завязать разговор, но ее никто не поддержал. Только Миша Сыроежкин через некоторое время протянул:
— Да-а, не близко, — и засобирался. — Ну я пошел.
— Спасибо вам.
— За что спасибо-то? Устроитесь, к нам заходите, рады будем.
Миша ушел. Бухгалтер курил «Ракету», и дым слоился по комнате, временами вовсе скрывая его седую голову с массивным лбом.
В помещении было застойно, душно. В одном конце комнаты, где виднелась дверь с надписью «Председатель», молодая красивая женщина, похожая на разбитную цыганку, читала «Пионерскую правду» и исподтишка разглядывала Тасю. Здесь же стояли еще два стола, но за ними никто не сидел. В углу шкаф, и на нем, подпирая потолок, лежали толстые затрепанные книги. На их корешках выведено: «Тысяча девятьсот…» Среди комнаты в деревянном ящике с песком лежала безногая буржуйка, вокруг которой валялся слой разнообразнейших окурков. От трубы, выведенной в окно, тянулась паутина, цепляясь тончайшими нитями за пухлые книги.
Единственным предметом, на котором задерживался и отдыхал глаз Таси, был горшок с геранью. Из-за того, что ее не поливали и совали в горшок много окурков, герань захирела, но все еще цвела из последних сил каким-то неестественно ярким цветом, похожим на истлевающий уголь. По давно не мытым стеклам ползали мухи и опрокидывались па подоконник кверху лапами. Одна из них набралась сил и полетела по комнате, бестолково кружась. Она скоро угодила в паутину. Из-за шкафа проворно выполз паук. Он сцапал муху и исчез с ней в пыльных дебрях толстых книг.
Долго сидеть так было невмоготу, и Тася робко заговорила, не обращаясь ни к кому, в надежде, что кто-нибудь да ответит:
— Трудитесь, значит, итоги подводите?
Бухгалтер, не отрывая глаз от бумаг, почесал линейкой выразительный кадык и вздохнул:
— Тут неизвестно, кто кого подводит: мы итоги или они нас. — Он записывал какую-то цифру в журнал с рябыми корочками, затянулся последний раз от тощей папироски, натренированным жестом швырнул ее к печке и глянул на Тасю из-под лохматых бровей маленькими, очень проницательными глазами.
— Вы вот что, Таисья, как вас там, Петровна, кажется, идите и определяйтесь на квартиру. Председателя едва ли сегодня изловите. Директор эмтээс звонил насчет вас, председатель знает и велел в случае чего направить вас ко вдове Макарихе. У нее одна половина избы свободна, так что можете оккупировать. Только едва ли понравится. Разрушено там все. Ну, впрочем, сходите, сами увидите.
— Спасибо. А как мне найти эту вдову Макариху?
— О, очень просто. Четвертый дом от правления, в устье Корзиновки, на самом крутояре. Да любого встречного спросите, он вам укажет дом Макарихи. Бабенка популярная.
Тася без расспросов нашла Макарихин дом. Это оказалась та самая изба, что, словно напоказ, выскочила из улицы на крутой яр и одним краем висела над распадком речки Корзиновки, а другим почти касалась края обрыва над Каменной. Она напоминала старый, разбитый барак. Да это, видимо, барак и был, сплавленный по дешевке с верховьев Кременной из заброшенных поселков. Еще до сих пор считается очень выгодным делом покупать дома в верховьях, сплавлять их и собирать на месте. А прежде для бедноты это был единственный способ обзавестись своим углом. Разбираться не приходилось: барак или какая другая халупа. Пятистенок и в верховьях имел цену.
Створка ворот открылась, и Тася с сыном вошли в чисто подметенный крытый двор, в дальнем конце которого виднелась поленница. Рядом стояли козлы для распиловки дров, а в старых опилках копошились куры. На крашеном крылечке лежал веник из пихты, на стене висела, поблескивая острыми зубьями, пила. Все было прибрано, приколочено, сделано не бабьими руками. «Даже не похоже, что вдова здесь живет», — подумала Тася и постучала в дверь.
Открыл подросток лет пятнадцати и удивленно уставился на нее темно-карими глазами.
— Скажите, мальчик, а ввв… ммм… вдова, по фамилии Макарова, здесь живет?
— Н-нет.
— Как же нет? А мне в правлении сказали, что четвертый дом… на яру…
— Так вам как сказали? Макариха или Макарова?
— Сказали: Макариха.
— Так бы и говорили. Макариха — это мама, а Макаровой у нас вовсе в деревне нет. Проходите, пожалуйста. Вы что, новый агроном? Да? А это ваш сын, да?
— Как это вам стало все известно?
— Деревенское радио.
Тася хмыкнула и вошла в избу. Пахло свежим хлебом, известкой и какой-то травой. В избе было чисто, но по-деревенски просто и бедновато. На полу лежали старые половики. На них местами, словно листья кувшинок на озере, виднелись плетенью круги. На окнах висели много раз чиненные тюлевые занавески. В углу, где в прежнее время располагалась божница, висел плакат с нарисованными на нем бидонами и комолой коровой. Угол плаката оборван. Чуть повыше плаката в деревянных рамках несколько похвальных грамот за учебу и, как обычно, множество фотокарточек, маленьких и больших, потускневших от времени, и новых, не утративших свежести.
Из передней виднелся край кровати, заправленной одеялом из лоскутков, и огромный, под потолок, фикус, стол, покрытый вязаной скатертью, зеркало с паутинообразной трещиной. С чисто выбеленной печки, приподняв ситцевую занавеску, на Тасю и Сережку уставились три пары таких же темпо-карих глаз, как у мальчика, открывшего дверь.
Тася улыбнулась, стягивая шарфик:
— Ну, здравствуйте, молодые люди. А где ваша мама?
— Она на ферме, — отозвались голоса с печки.
— Тогда давайте знакомиться, — сказала Тася и подала старшему руку. Меня зовут Таисья Петровна. Можно просто тетя Тася.
— Юрий, — сказал старший и смущенно высвободил руку. — Вы проходите, ставьте чемодан. Скоро мама придет и будем обедать. Сына вашего как зовут? Сережей?
— Ты вот что, Сережа, полезай к малышам, да не бойся, не бойся, чего за маму уцепился? Эй, Галька, Костя, Васюха, приглашайте Сережу к себе.
С печки спустилась лет двенадцати девочка, за ней Костя и толстый, краснощекий бутуз — Васюха. Все они были здоровы, румяны и, видимо, очень озорны. Васюха сунул палец в рот и, раскачиваясь из стороны в сторону, сказал:
— Айда, Сележа, к нам иглать во двол.
— Беги, беги, сынок, — подтолкнула Тася Сережу, — будь смелей. Видишь, какие ребята славные, они тебя не обидят. Минутку, ребята, одну минутку. Тася быстро открыла чемодан и сунула в руки Сереже пакет с конфетами. — На, угощай.
Ребята шумной ватагой выскользнули из дому, а Тася и Юрий некоторое время сидели молча.
— Учишься, Юрий?
— Да, нынче в седьмом.
— Отец погиб?
— Нет, он умер от ранения. Его уже в сорок пятом ранили, в Германии. И, как всегда бывает в таких случаях, они горестно помолчали на этом месте.
— Мама кем работает на ферме?
— Бригадиром. А вот и она, — радостно встрепенулся Юрий, услышав, как звякнула щеколда у ворот. — У нас мама хорошая, — как что-то сокровенное, тихо сообщил Юрий и смутился.
Дверь в избу осталась приоткрытой, и Тася услышала спокойный, немного усталый голос:
— А это чей же такой худышка? Агрономши-и, вон ка-ак! Славный мальчик. Ну, играйте, играйте, потом есть вас позову.
Тася почему-то оробела и вся подобралась, ожидая эту «популярную бабенку». Дверь открылась. Через порог ступила высокая, полногрудая, повязанная полушалком женщина. Она скользнула по Тасе большими, чуть подернутыми усталостью глазами и молча разделась. Затем медленно подошла к Тасе и подала руку.
— Лидия Николаевна, попросту — Макариха. Это моего мужа Макаром звали. — Рука у Лидии Николаевны была теплая, но жесткая, а рукопожатие порывистое и сильное.
Тася тихо назвала себя и робко прибавила:
— Новый агроном, к нам на постой, в ту половину, а она еще заколочена…
— Вот и хорошо, что сюда зашли. Я сегодня скажу Якову, чтобы он там окна уделал, двери, печь в порядок привел. Потом мы вместе все приберем, побелим и будем соседями.
Лидия Николаевна сказала это обыденным голосом, как давно намеченное и само собой разумеющееся, а затем с задумчивой улыбкой прибавила:
— Не робейте и не бойтесь ничего. Правление вас, наверное, напугало, да ведь правление это еще не колхоз. Ох, что это я? — спохватилась она. Соловья баснями не кормят. Давайте собирать на стол.
Она повязалась ситцевым платком, надела передник и сразу сделалась ближе и проще. Доставая из печки объемистый чугун с отбитым краем, усмехнулась:
— Ишь, дома-то у нас сегодня, как праздник, чисто, благодать. А то ведь у меня ребята смирные: придешь иной раз домой, даже русская печка на месте стоит.
Разговаривая так, Лидия Николаевна ловко орудовала ухватом.
Тася молча следила за ее сильными неторопливыми движениями.
— Юрий, ну-ка сбегай в погреб за огурчиками, — сказала Лидия Николаевна и с чисто женской горечью добавила: — Худо жить стали мы, и гостя по-доброму попотчевать нечем. Это уж из-за войны навалилась на нас нужда. Раньше нас рукой было не достать. Соседи мои, в той половине дома, не выдержали, в город сбежали, а семья работящая. И многие так-то. Живут сейчас в городе, тоску по родному углу в сердце носят. — Лидия Николаевна покачала головой и вытерла о передник руки. — Ну, ничего, будет лучше, добьемся. Расшевелило новое постановление людей и в городе, и в деревне. Вот новый специалист к нам прибыл помогать, — улыбнулась Лидия Николаевна, глядя на Тасю, и пригласила: — Подвигайся, Тасюшка, к столу, уж чем богаты.
— Да какой я гость?!
Лидия Николаевна молча посмотрела на нее и вышла во двор.
— Рсбята-а! — услышала ее голос Тася. — Есть ступайте! — Повернувшись, она рассмеялась: — Уже подружились, удочки снаряжают. Берегитесь, пескари!
На стол поставили вареную картошку, огурцы, капусту, свежий ржаной хлеб — и работа началась. Черноглазые ребятишки молотили так, что над столом только ложки мелькали да слышалось шмыганье носами. Сережа старался от ребят не отставать, обжигался горячей картошкой, и, когда она застревала у него в горле, Васюха молча и деловито колотил его по спине кулаком.
Лидия Николаевна поглядывала на них, неторопливо ела и, накладывая из чугуна картошку на тарелку, задумчиво говорила:
— В нашем доме не совсем уютно, но все же за Сережей догляд будет, да и нам, двоим бабам, повеселей.
Тася поглядела на эту статную женщину с кое-где подернутыми сединой волосами, на полное застолье ребятишек с вспотевшими носами и вдруг облегченно вздохнула. Напряжение с души свалилось. Она поняла, что у нес появился друг. Первый и, кажется, большой.
Окна, обращенные к реке, начали темнеть. По стеклам постукивали, как малые птенцы, капли дождя. На деревню спускался дождливый, осенний вечер. А в доме многолюдно и, может быть, оттого тепло.
В этот же непогожий вечер Николай Дементьевич сидел у себя дома и делал вид, что читает. Перед ним лежала раскрытая книга, и он временами, спохватившись, перелистывал страницу-друтую, по мысли его были далеко. В жизнь его, распахнув настежь дверь, ворвалось прошлое.
Все уже почти затушевалось: и вешний яркий День Победы, и наивная сероглазая девушка, и даже та записка в несколько слов с подленькими, хотя и честными, с точки зрения некоторых людей, словами. Николай Дементьевич всегда хотел, чтобы автором этой записки был не он, ну хотя бы в мыслях. Правда, сделать такое не удавалось. Гаденькое чувство настойчиво проникало в сердце, когда он думал о том, как бесцеремонно обманул молоденькую девушку, почти дитя, воспользовавшись ее доверчивостью. Однако время сделало свое дело. Прошлое вспоминалось реже и реже. И вот!
Таисья Голубева — агроном и та — юная, госпитальная сиделка… Что в них общего? Почти ничего. «А я-то думал, что от совести укрыться можно, усмехнулся Чудинов. — Грешок — как соль на губах. Сколько ни остерегайся, все равно в рот попадет. Но как же теперь жить?»
Чудинов еще давеча, при встрече с Тасей, понял, что она не сказала ему самого главного. Он сам догадывался об этом и боялся своей догадки. В тот момент, когда Тася была в красном уголке, Николай Дементьевич попал впросак. Он принял Сережу за своего младшего сынишку. Да и мудрено было не принять. Сходство разительное. Митя, правда, поплотнее и повыше, да глаза у него темные, а в остальном копия. Даже хохолок на крутом затылке у приезжего мальчика так же воинственно торчал, как у Мити.
После того как Тася с сыном отправилась в Корзиновку, Чудинов метался по кабинету так же быстро и поворачивался так же круто, как мысли в голове. Он вспомнил все до подробностей. Ведь она говорила ему тогда, в госпитале, но говорила как-то обиняками, сконфуженно, видимо, сама еще толком не знала, что с ней происходит. И как можно было предположить, что у такого милого, веселого создания может быть ребенок.
«Ах как подло все это! — тряс головой Чудинов. — Мимолетное приключение! Анекдотец военного времени! Ведь были же, были вояки, которые морализировали на эту тему потрясающе просто: „Рви от жизни все, что можно, все равно война!“» Осуждал в глубине души таких людей Чудинов и поступил точно так же, как они.
Когда на деревню вместе с дождем опустилась темнота, Чудинов устало подумал: «А ведь надо идти домой». И в первый раз за послевоенные годы ему не захотелось идти домой. Не то чтобы боязно, а просто очень уж неловко. Надо ведь смотреть в глаза жене, детишкам, что-то говорить, делать. «Ну а до сегодняшнего вечера ходил же домой, не стеснялся, мерзавец! Сколько людей обманывал, еще и еще надо обманывать, и конца этому не видно. Гадко, все гадко! Вот приду сейчас и все расскажу жене, все выложу, а там будь что будет!»
Это решение немножко ободрило его, и он, крепко шлепая сапогами по грязи, отправился домой.
Но как только он ступил на порог своего дома, решительность начала покидать его. Жена готовила на кухне ужин. Пахло тестом и жареным мясом. Очевидно, она стряпала его любимые беляши. Митя играл с сестренкой в пароход. Сестренка была на три года моложе Мити. Она сидела на опрокинутой вверх ножками скамье и отчаянно гудела. «Пароход» поехал прямо на Николая Дементьевича, и маленькая капитанша закричала:
— Папу палоход залежит!
Но отец не подхватил ее на руки, как всегда, не пощекотал под мягким подбородком, а молча разделся и прошел в переднюю комнату. Старший сын еще не пришел из школы.
Николай Дементьевич взял с полки книгу. И вот он сидит за ней часа три. Уж и дочка угомонилась, и Митя уснул, а оп все сидит и сидит. Старший сын выполнил уроки и свалился на диван с книгой. Николаи Дементьевич раздраженно буркнул:
— Экий барон, на диване с книжкой разлегся!
— А что?
— А то! — повысил голос Николай Дементьевич и уже тише закончил: Зрение от этого портится, вот что!
Сын поднялся с дивана, пожал плечами и, выходя из комнаты, хмыкнул:
— И чего тебе вдруг вздумалось о моем зрении беспокоиться?
Николай Дементьевич хотел остановить этого долговязого подростка, который чем старше становился, тем чаще распускал язык, но он лишь нахмурился и сына не остановил. Жена еще не спала и слышала эту короткую перебранку.
— Ты чего огрызаешься? — сердито ворчала она. — Отец с работы пришел, усталый, не в себе, возможно, неприятности по службе. Он ужинать даже отказался, а ты зубы выставляешь…
Она еще долго отчитывала сына, а тот смиренно помалкивал, лишь один раз донесся его недовольный шепот:
— Да ладно, довольно, не мешай читать, не буду больше, сказал.
«Эх, напиться бы сейчас, вдрызг напиться!» — подумал Чудинов и сжал голову руками. В голове шумело, а в ушах завели нудный перезвон тоненькие колокольцы. Старая, тяжелая контузия. Ему запрещено волноваться. Но одно дело выслушать наказ врачей, и совсем другое дело — выполнить его. Ведь на все случаи жизни рецептов не напасешься.
Поздней ночью в комнату вошла жена в дешевеньком, но опрятном халате, забрала у него папиросы и строго приказала:
— Отправляйся спать! Надо не только о работе думать, но и о себе. С твоим ли здоровьем сидеть по ночам и глотать табачище. Ступай, ступай, я тебе там компресс на голову приготовила и лекарство хорошее.
«Добрый, славный человек! Не лечить бы тебе меня, а лупить!» — с болью морщился Чудинов, шагая за женой в спальню. Там он послушно выполнил все процедуры и даже сделал вид, что уснул.
Но, как он ни старался, так ему и не удалось в ту ночь забыться.
Глава третья
Тася проснулась поздно, и ее удивила тишина в доме. Она не торопясь встала и, прихватив рубашку на груди, выглянула на кухню. Ребят не было, и Сережки тоже. Тогда она блаженно потянулась, громко зевнула, прикрыв ладонью рот, и, чему-то улыбаясь, начала одеваться. Сквозь густые заросли кустарника в палисаднике и буйно разросшиеся цветы на окнах в комнату с трудом проникали солнечные лучи. Тася заправила постель, умылась и вышла на улицу.
От дождя все кругом блестело и железную крышу на церковке будто наново оливой смазали. Ветви черемухи и молоденькой яблоньки, опившись влагой, вяло свисали за оградой палисадника. Лес за деревней переливался россыпью искр. Это солнечные лучи зажигали их, но тучи уже надвигались на солнце со всех сторон.
Тася поискала ребятишек в ограде, за воротами. На скамейке у ворот она заметила недоеденные морковки и пошла к яру. В устье Корзиновки вода была почти неподвижной и глубокой. В ней по кругу плавали щепки, мусор. Ребята сидели у этой ямки с удочками. Сережка делал новое черемуховое удилище. Васюха дернул свою удочку, и в воздухе, ощетинившись, мелькнула рыбешка.
Сережка с завистью смотрел на Васюху. Он еще не умел так ловко подсекать рыбу.
— Ребята, посматривайте за избой! — крикнула Тася. — Я ухожу, там не закрыто.
— Идите, идите, — махнула рукой Галька, — мы никуда не убежим.
Сережка даже не оглянулся. Тася взяла комок земли, бросила в воду на Сережкин поплавок. Мальчик схватился за удилище, потом оглянулся, но наверху уже никого не было.
Председатель колхоза Птахин поздоровался с ней и, для формальности задав несколько вопросов, гнусавым голосом сказал:
— Разъяснять вам много нечего, вы — агроном, человек ученый, сами должны понимать что к чему. Идите в бригады, знакомьтесь, а потом, глядишь, и нас уму-разуму научите. Ведь нынче вашему брату почет и доверие.
Уловив ехидство в его голосе, Тася прямо посмотрела ему в глаза и хотела спросить: «Вы, кажется, недовольны, что я назначена на место вашей жены?», — но раздумала и сказала другое:
— Вы, я нижу, недовольны, что вам дали нового агронома, да еще женщину? Но в этом нет моей вины.
Птахин не торопясь подписал бумаги, которые молча листал перед ним бухгалтер, и, завертывая ручку, начал говорить негромко, как бы жалея слова, о том, что свято место не бывает пусто. И если бы не ее, так кого-то другого прислали бы. Потом Птахин разговорился, вялость из его голоса постепенно исчезла. Он рассказал Тасе о том, как сам начинал здесь работать, какие времена тогда трудные были. Он все время подчеркивал в разговоре, что ему было легче начинать. Он — мужчина, да и народ колхозный тогда еще не относился наплевательски к труду, верил в свое хозяйство.
— Учтите! Я сюда прибыл, — продолжал разговор председатель, — когда люди не чесались до обеда на печке и не уходили с поля после обеда. Кроме того, я был в штате колхоза, а не в штате эмтээс. Меня считали своим человеком. Понимаете, своим! За это и ярмо председательское на меня одели. Я лично не одобряю того, что агрономов передали в эмтээс, не одобряю на основании своего опыта. Туг агроном получается как представитель или наблюдатель организации, заинтересованный в том, чтобы соблюдать ее интересы. А агроном должен быть хозяином в колхозе наравне с председателем и блюсти прежде всего интересы артельного хозяйства. Впрочем, чего это я? У вас и так небось кошки скребут? Походите, посмотрите, поработайте. На вас ведь еще обязанности зоотехника возлагаются, пока его нет. Пожалуй, с этого и начните, с животноводства. А вообще работы тут столько, что, как говорится, невпроворот.
— И это все, что вы можете мне сказать?
— Пока да, — ответил председатель и, увидев, что она нахмурилась, смешался. Что-то виноватое мелькнуло на его лице, и он уже мягче закончил: — Побывайте в бригадах, может, возникнут вопросы — милости прошу. С супругой моей можете не советоваться, она в агрономии понимает столько же, сколько я в портняжном деле, — он кивнул головой на висевший плащ, у которого карман был подхвачен через край суровыми нитками.
«Зачем же вы тогда работали с таким агрономом?» — хотела спросить Тася, но сдержалась и проговорила:
— Хорошо, побываю в бригадах, но я все-таки надеюсь на вашу помощь.
Председатель пробурчал что-то невнятное в ответ, а потом, провожая ее, вздохнул:
— По совести, скажу вам, Таисья Петровна, очень вам будет трудно здесь, очень. Не мне бы хулу наводить на свое хозяйство, но… лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так, кажется, говорится? Здесь, уважаемая Таисья Петровна, есть поля, на которых по двадцати лет навоза не бывало, а без навоза, сами знаете, что получается на подзолистых почвах. — Птахин, виновато усмехаясь, развел руками. — Вот опять пугать вас начал. Я сейчас могу вам дать один старый, но нужный совет: постарайтесь сделать так, чтобы люди приняли вас как своего человека, иначе вам нечего здесь делать. — Он прошел с ней до двери и опять вздохнул: — Трудно здесь, страшно трудно.
«Ему надо хозяйство поднимать, в народ уверенность вселять, а он руки опустил, — раздраженно думала Тася. — И в самом деле с таким будет трудно».
Птахин хотел было проводить Тасю до свинарника, но его снова задержал бухгалтер. Откровенно говоря, Тася еще не знала, как будет выглядеть при первой встрече с колхозниками, и поэтому даже порадовалась тому, что Птахин не пошел с ней.
Только бы смешной не выглядеть. Страсть ненавидит она снисходительные улыбочки людей. Этих улыбочек она достаточно видела и в прошлые годы. Быть бы ей такой, как Лидия Николаевна, высокой и сильной, властной и обаятельной, доброй и простой. Глянули бы люди — и сразу догадались, что этот человек достоин уважения. Ну, а раз ростом не вышла, видом не взяла, значит, надо добывать уважение трудом.
От свинофермы за полкилометра доносился поросячий визг. Тася открыла ворота свинарника. Ее обдало зловонием, разноголосыми воплями, визгом, хрюканьем. Она даже оробела вначале. За загородками волновались и требовали к себе внимания волосатые и грязные свиньи. Особенно голосисто напоминал о себе молодняк. Корыто мало походило на посудину, предназначенную для корма. Истерзанные зубами, грязные, бесформенные чурки вместо корыт, и свиньи такие, что оплошай, так сожрут.
Заметив человека, свиньи прибавили голосу, высунули головы из-за перегородок. Тася, пугливо шарахаясь из стороны в сторону, кое-как добралась до ворот, открыла их и очутилась в служебном помещении. Три свинарки — две молодые и одна пожилая — о чем-то увлеченно судачили, наваливая в баки картошку. Из баков вонючими клубами валил пар, и Тасю заметили не сразу. Лишь когда она поздоровалась вторично, свинарки обернулись.
Тасе не пришлось объяснять, кто она. Свинарки уже знали о ее приезде. Они с любопытством оглядели ее и начали дружно жаловаться на колхозные порядки. Вот в прошлые годы свиней держали меньше, а людей на свинарнике было больше, но потом ввели механизацию, оставили трех человек, а механизм-то ни один не работает. Только кормозапарники на ходу, да и то воду приходится таскать на себе.
Тася внимательно осмотрела станки. Это были хорошие вещи, предназначенные для того, чтобы облегчить труд свинарок. Тут и механическая мойка картофеля, овощей, тут и картофелерезка, тут и насос для накачивания воды и многое другое, за что, очевидно, заплачены немалые деньги из колхозной кассы. Но к каждому станку чего-нибудь не хватало: у насоса не было ремня, от ножа утеряна какая-то деталь, клубнемойка не работала из-за отсутствия электромотора.
Тася выслушала жалобы колхозниц с большим вниманием и, хотя не знала еще, чем она сможет помочь им, радовалась тому, что они вот доверяют ей, рассказывают обо всем. Откуда ей было знать, что свинарки жаловались каждому встречному и поперечному на такую работу и каждый день грозились наплевать на все, податься куда глаза глядят. Тася пообещала свинаркам что-нибудь «придумать», и женщины немножко успокоились. Тася нагнулась к широкому ящику, взяла было двумя пальцами грязную картофелину, но тут же опомнилась и запустила всю руку в ослизлую картошку.
— А картофель уже гнилой, — удивленно сказала она. — Неужели всю зиму таким кормите?
— Всю как есть. Еще заморозят картошку-то, мерзлую даем, — отозвалась старшая свинарка, которую напарницы называли теткой Марьей.
— А дома-то как, тоже мерзлой кормите? — поинтересовалась Тася, задетая за живое спокойным тоном свинарки. «Как о таком можно говорить равнодушно?» Молодые свинарки прыснули в рукава. Тетка Марья сердито глянула на них.
— Какой же хозяин пустой картофелью скотину кормить станет? Ему, хозяину-то, интересней побольше мяса заиметь да сальца. Губа-то у него не дура, знает, что щи с мясом вкуснее пустых. Он и обиходит корм-то, холит свою свинью, потому как она своя. А у нас, матушка, покамест свое и колхозное до-олгая верста отделяет.
— Тетка Марья… вы извините, что и я так называю.
— Да ничего, ничего, попросту-то лучше.
— Тетка Марья, вот вы так правильно рассуждаете и все понимаете, так что же вы не требуете с правления, с председателя, чтобы они позаботились о свинарнике?
— И-и, милая, я уж требовала, требовала и дотребовалась до того, что от меня, как от трясучей лихоманки, начальство-то прячется. Скажу тебе, матушка, без хвастовства, что если наши свиньи еще живы, так потому, что я здесь. Давно бы им карачун пришел.
Все помолчали некоторое время. Потом Тася поднялась, сбросила с себя новую телогрейку, попросила халат и обратилась к свинаркам:
— Тетка Марья, девушки, давайте вымоем хоть этот картофель. Ведь нельзя же грязный давать, правда?
— С грязной только понос у скотины, да ведь, матушка, воды много надо. У нас уж плечи в коростах, и у меня вот ноженьки от сырости болят, пожаловалась тетка Марья.
— Ну, вы тут распоряжайтесь, а мы с девушками по воду. Вы согласны, девушки?
— Да мы что, мы не против. Только лучше насосом-то. Похлопотать бы.
— И похлопочем. Вместе будем хлопотать. Договорились?
— Ладно уж, пойдемте.
Они натаскали воды, перемыли картошку, запарили ее, измяли. Тетка Марья предостерегала Тасю:
— Ты, матушка, не суетись, не суетись. Платьице-то побереги, чай, не дюжина у тебя их.
А когда они закончили работу, накормили свиней, тетка Марья потеплевшим голосом произнесла:
— Ты, видать, из простых, не боишься руки замарать. Была у нас тут одна зоотехником, мы ее столетней звали. Придет, вон там в сторонке встанет и молчит, молчит, а если разговаривает с нами, нос в сторому держит вонько ей, видишь, в свинарнике-то.
Они разговорились. Тася немножко рассказала о себе. Потом решали, что можно сделать для улучшения работы на свиноферме.
— Добиться бы, чтобы кормили свиней картошкой вперемежку с отрубями, комбикормов бы достать. Это уж надо председателя и правление трясти.
На прощанье тетка Марья еще раз сказала:
— Особенно, матушка, за подвалами посмотри. У нас ведь так заведено: сначала заморозить овощ, а потом скотине отдать. С некоторых полей картошку даже не увозят, так в буртах и оставляют. Пешнями долбят зимой. Срамота, бесхозяйность!
Тася отправилась на молочную ферму, к Лидии Николаевне. Настроение ее поднялось. «Нет, жить и работать все-таки можно будет. Второй день живу в колхозе, и уже двух хороших людей встретила. Это немало», — размышляла Тася, настраивая себя на бодрый лад.
На молочной ферме все было иначе. Порядок, чистота, спокойная, размеренная жизнь. Скот справный, солидный. Во всем чувствуется крепкая рука. Молочные бидоны начищены до блеска; коровы мирно дремлют, переваливая во рту жвачку. Лидия Николаевна сидит за столом, накрытым беленькой больничной клеенкой, и что-то записывает в толстую тетрадь.
— Хорошо у вас, уютно, — сказала Тася, обойдя всю ферму. — Так бы и не уходила отсюда, даже коровы какие-то ласковые.
— Корова, Тасюшка, вообще животное очень уж, как бы это тебе сказать, душевное, что ли. Люди считают собаку самым близким другом человека, но это неправильно. Корова и вскармливает нас своим молоком, как мать, а потому и человек должен относиться к ней с любовью, как относятся к близкому, родному существу. Вот она ему за заботу и ласку добром ответит. Да ты поговори как-нибудь об этом с нашим пастухом Осмоловым. — Лидия Николаевна положила тетрадь в деревянный шкафчик, висевший над столом, и повернулась снова к Тасе. — А что понравилось тебе у нас — лестно нам. Однако осенью ферма всегда выглядит лучше. Вот весной…
Лидия Николаевна не договорила, пошла зачем-то в коровник и, возвратившись оттуда, записала цифры какие-то в график, висевший на стене, и, как бы продолжая разговор, протянула:
— Да, а весной, о весне мы уж привыкли думать как о бедствии. Бескормица, бескормица… — Лидия Николаевна разговорилась.
Было время, когда колхозное начальство без зазрения совести пользовалось всем, что только можно было взять с фермы. Выпишут, к примеру, пять литров молока через контору, а выносят пятьдесят. О кормах же заботиться никому неохота. Скотина требует к себе внимания каждый день. Внимание же это уделялось полеводству. Дело дошло до того, что Корзиновская ферма стала самой захудалой в районе. Коровы в ней телились поздно. Осталась на ферме одна-единственная племенная корова. В это время выбрали председателем Птахина, и первое, что он сделал, так направил бригадиром на ферму Лидию Николаевну. До того времени она овощеводом в Корзиновской бригаде работала.
Лидия Николаевна круто развернулась на ферме. Набрала себе новых доярок; ходить за даровым молоком народ отвадила, настояла на том, чтобы молоко с фермы давалось большесемейным колхозникам. Пролазы нашли другой ход и стали появляться с записками от Птахина. Раз отпустила Лидия Николаевна молоко по записке, другой, а потом пришла к председателю и заявила, что ферма не хитрая лавочка и доить ее довольно. Перестал писать записки председатель, но и на ферму махнул рукой. Работайте, мол, как знаете, раз вы сами большие и маленькие.
— А самая главная беда, Таисыошка, в том, что Птахин не один во главе колхоза. Крутится возле него разное отребье, жужжат ему на ухо, подхалимничают, навеличивают его, а он и нос задрал. Исподтишка мстят они мне, через коров мстят: то силос сгноят, то сено увезут на рынок, то еще чего придумают. Хитрые, ловкие барышнички у нас появились. Так что я здесь, на ферме вроде милиционера, — улыбнулась Лидия Николаевна и, надевая чистый халат, закончила: — Ну, наговорила я тебе семь верст до небес и все лесом. Трудно, конечно, да теперь полегче станет, после постановления поприжмем кое-кому хвосты. Пора, давно пора.
Лидия Николаевна сказала, что у них еще будет время наговориться обо всем и решить кое-что, а пока велела ей пойти домой, поесть да ребят попроведать.
Перед вечером пришел Яков Григорьевич. Он поздоровался с Тасей, вышел во двор, взял там топор, ножовку, доски и понес все в другую половину избы. Был он могуч, без единого седого волоса, краснощекий, со спокойным взглядом голубоватых глаз.
— Он что, вам родной? — спросила Тася у Юрия. Юрий смутился и долго не отвечал.
— Он папин товарищ, — наконец выдавил Юрий и, повременив, торопливо заговорил: — Вам, тетя Тася, будут говорить разные сплетни насчет дяди Якова и мамы, так вы не верьте, неправда это.
Яков Григорьевич работал неторопливо, но очень ладно. Синяя сатиновая косоворотка была ему коротка и узка. Когда он отрывал доски, Тасе показалось, что сейчас эта рубашка треснет по всем швам.
Изба осела от времени, и оконные подушки почти касались земли. Яков Григорьевич рванул доски топором. Заскрипели ржавые гвозди, рассыпались доски. Он шагнул в темное окно, огляделся в избе, тихонько побурчал и, выглянув, распорядился:
— Юрий, а ну мобилизуй всю армию уборку делать.
Армия, в числе которой был и Сережка, пришла со старыми ведрами, корзинами, и работа началась.
Уже стемнело, когда прекратился стук в нежилой половине.
Возле умывальника получилась давка. Кто-то брызнул Сережке за воротник холодной воды, он завизжал; Васюхе начало есть мылом глаза, он вначале кряхтел, промывал, а потом взвыл.
Смех и шум прекратились только за столом. Лидия Николаевна не успевала разливать щи и резать хлеб. Яков Григорьевич с доброй задумчивостью посматривал на всех. После ужина он еще посидел на пороге, покурил и нехотя начал собираться. Уже открыв дверь, бросил:
— Я завтра печку-то подремонтирую, и можно белить. Дело за стеклом. Ты, Лида, попроси у председателя.
— Ладно. Чего ребята перестали ходить?
— А-а, — досадливо махнул рукой Яков Григорьевич и вышел.
Лидия Николаевна посидела и вздохнула:
— Ну, труженики, давайте на боковую. Ты, Сережа, с мамой ляжешь?
— Нет, с ребятами.
— Вот тебе и раз! Маму-то что, в отставку?
— В отставку.
— Ишь, прыткий какой, — со смехом проговорила Лидия Николаевна и щекотнула Сережку за живот.
Он взвизгнул, началась возня.
Тася в этот вечер не спускала глаз с Лидии Николаевны. Раздеваясь в передней комнате, Лидия Николаевна спросила:
— Устала, Тасюшка?
— Лидия Николаевна, вы меня извините, конечно, а Яков Григорьевич, кто он?
Лидия Николаевна на секунду смешалась и уткнулась взглядом в эмалированный таз, в котором перемывала посуду. Тася поняла, что вопрос ее — неладный вопрос, и выругала себя за оплошность.
— Яков-то Григорьевич, — заговорила Лидия Николаевна, — для нас самая близкая родня. Ты ложись, Тасюшка, я потом тебе как-нибудь все расскажу. Не ломай зря голову.
Лидия Николаевна вытерла руки, потрепала ее по волосам, помогла расплести косы. Руки у нее были быстрые и ласковые. Пахло от них парным молоком, мылом и еще чем-то родным, до боли близким.
— Вы, как моя бабушка, — прошептала Тася.
— Хорошая у тебя была бабушка?
— Замечательная. Хотите, я вам расскажу про нее?
Говорила Тася долго и рассказала все не только о бабушке, но и о себе.
Бабушка умерла без слов и стонов. Она лежала на столе с поджатыми губами, худенькая, тихая. Деревяшку, которая долго служила ей вместо правой ноги, отвязали, и бабушка под белой простыныо казалась совсем маленькой. Тасин отец, Петр Захарович, повертел старую, отлакированную в вырезе деревяшку и сунул ее в печку.
— Отходила нога свой век! — И со вздохом прибавил:
— Да, жизнь у старухи была не совсем чтобы очень.
— Сама виновата, — скептически заметила мачеха. — Больно горда была. Умерла и Бога ни разу не помянула: не причастилась, не перекрестилась. Так и отошла.
— С Богом у нее, видно, счеты какие-то были, — вымолвил Петр Захарович. — Она в молодости веровала, в церкву ходила, а потом, стало быть, дружба врозь.
Да, у бабушки Ефросиньи были кое-какие расхожденья с Богом. Расхожденья эти получились потому, что Бог часто наказывал бабушку Ефросинью ни за что ни про что. Первый раз Он ее наказал будто бы и нечаянно — она родилась последней в огромной крестьянской семье, да еще к тому же не выговаривала букву «р». А «заскребыш», да еще картавый — это уж беда. Но Бог делал кое-какие снисхождения для бабушки Ефросиньи: по Его милости она стала очень красивой девушкой. Впрочем, это не пошло ей на пользу. Из-за красоты она попала в богатый дом, где ее превратили в батрачку. А от красоты ее после того, как родила троих ребятишек, не осталось ничего. Казалось бы, чего еще надо было Богу — немножко дал и то отобрал.
Нет! Он нашел у нее еще кое-какие излишки. Властелин-свекрушко жаден был. В работе не щадил никого. На покосе он обычно косцов пускал впереди себя, наступал на пятки тому, кто отставал. Как-то свекор резким взмахом косы пересек затаившуюся в траве гадюку. Он взял ее за хвост и, глядя на онемевших от ужаса брезгливых невесток, хмыкнул:
— Раз-зява! Эдак всякому может доспеть, кто под косу попадет. Шевелиться надо! — свекор отшвырнул безголовую змею в сторону, и она еще долго извивалась, шурша скошенной травой. А он вытер руку о штаны и криво усмехнулся: — Не брезгуйте: ко мне зараза не пристанет. Я на святой пятнице причастился, а в молодости попадью обнимал. Святой почти. Х-хы!
— Кобель старый! — буркнула младшая невестка, которой не раз уже приходилось спасатася от свекра. Руки хоть бы помыл, из одной ведь посудины едим.
— Поговори! — окрысился свекор и снова оголил желтые крепкие зубы. Вон, говорят, азияты змей варят, а вам, толстоляхим, баранину да говядину подавай.
Однажды свекор наступил на пятки невестке Ефросинье, а она на сносях была четвертым ребенком, и «нечаянно» подкосил ее. Молодую женщину долго не везли в больницу, прятали от людей, и у нее получилось заражение крови.
Угрюмый, забитый Захар решился на отчаянный поступок: выкрал жену из дому, тайком доставил в уездную больницу, и там успели спасти ей жизнь, но ногу отняли.
Свекор отделил их. Пришла в дом к Захару большая нужда, но настала и относительно спокойная жизнь. Захар жалел супругу, Не обижал ребят, и Ефросинья нежданно-негаданно полюбила его. Но поняла она это не сразу, поняла, когда получила затрепанное письмо, в котором окопные страдальцы сообщили, что муж: ее «пал за веру, царя и отечество, бьясь с германским врагом».
И тогда бабушка взбунтовалась. Она приковыляла к углу, где на деревянной божнице под потолком стояли иконы с закопченными ликами, и, не разжимая зубов, спросила:
— Куда смотрели? Чего шары-то свои на меня выпялили? А? Мало вам одной души?! Возьмите мою! Карайте! Нате! Кровь выпейте! — Ефросинья рванула ворот старой кофты. Обнажились ее дряблые, полузасохшие груди с оттянутыми сосками и кресг на засаленном шнурке. Она рванула этот крест и швырнула в иконы.
Боги все так же невозмутимо таращили на нее свои невинные голубые глаза.
— А-а, молчите?
Ефросинья вскочила и дернула угловик. На пол вместе с досками повалились иконы, за которыми в паутине копошились пауки. По стене врассыпную кинулись тараканы. На печи в один голос завыли ребятишки.
Четверо ребятишек, а на них всего две рабочие руки и одна нога. Нищенствовать бы Ефросинье вместе с ребятами, да революция подоспела. Нелегкой была жизнь у Ефросиньи и при Советской власти, но она все-таки сумела воспитать детей, «определить» их.
Жить на старости лет она осталась с сыном Петром. Стала нянчить лупоглазую внучку Тасю. В жизни бабушки Ефросиньи наступили хорошие дни, да мало их было.
Умерла мать Таси. Отец сосватал другую, женщину с тонкими бесцветными губами и сказал, что это новая мама. Новая мама оказалась набожной, скупой женщиной. Отца она скрутила, спеленала так, что он пикнуть боялся, Тасю невзлюбила, а вместе с ней и бабушку Ефросинью.
Бабушка отказалась от общего стола и зарабатывала кусок хлеба вязаньем. У нее были проворные руки и зоркие глаза, до смерти не знавшие очков. Когда Тася удивлялась, глядя на ее руки, бабушка раздумчиво говорила:
— Как же, Тасюшка, иначе-то? Волка ноги кормят, а меня руки да глаза. Учись вот, ремесло без пользы не пропадет.
Мачеха не выносила нахлебников вообще, а когда началась война — и подавно. Потребность в кружевах и красивых шарфиках, которые искусно плела мастерица-бабушка, исчезла. На бабушкину долю выдали карточку и на Тасю тоже.
Мачеха поступила на работу. Ей дали пятисотграммовую карточку, то есть столько, сколько давали бабушке и Тасе вместе. Мачеха стала делить хлеб по пайкам. Тасе было пятнадцать лет, она росла, пайка ей не хватало. Хорошо, что была бабушка. Она где-то брала куски хлеба и подкармливала внучку. А потом бабушка умерла, ее схоронили. Мачеха перерыла все в бабушкином сундуке и зло сказала:
— Все проела безногая кикимора, да тебе скормила, — сверкнула он глазами на Тасю. — Грешница она была, карал ее Бог за это. Голодом себя морила ради внученьки, пигалицы такой…
— Не смейте так говорить о бабушке! Она была добрая! Она самая лучшая была! Она лучше вас, вот!
— Ой-ей-ей, расходилась как! — покачала головой мачеха. — Вся в покойницу, гордяка да зубастая. Ласковый теленок две матки сосет, а грубый — ни одной! Попомнишь ты эти слова!
— И попомню, и что?
— Погоди, отец придет! Он тебе задаст баню с предбанником!
Вечером отец отстегал Тасю ремнем.
Горек корявый хлеб. Не зря так не любила его бабушка Ефросинья.
Как только Тасе исполнилось шестнадцать лет, она поступила на работу. Пыталась устроиться раньше — не принимали. В ту пору школьники считали своим долгом заботиться о раненых, помогать им. Они шефствовали над палатами и, конечно, если удавалось, поступали на работу в госпиталь.
Тасю приняли санитаркой.
Должность самая тяжелая, беспокойная. Никто за войну не получил столько благодарностей и матюков, сколько их получили санитарки да сестры.
Удивительным, а подчас и непонятным был тот мир, в который вошла Тася. Вначале она с ужасом смотрела на окровавленные бинты, закрывала глаза во время перевязок. Но время шло. Раны на человеческом теле зарастали, вместо них оставались рубцы самых разных форм и размеров; лица раненых округлялись; в глазах появлялось озорство.
Некоторые солдатики начинали мимоходом пощипывать сестер и санитарок. Разговоры велись преимущественно на любовные темы. По вечерам выздоравливающие, переодевшись в уборной в заранее припрятанное обмундирование, а то и прямо в госпитальных халатах, исчезали куда-то. Возвращались они подвыпившие, довольные. Лежачие больные с жадностью слушали их рассказы о «хождениях в народ».
Нравились эти люди Тасе. Все они были для нее — герои. Она только делила их на тяжелых и выздоравливающих. Тяжелые — это беспомощные и капризные, как дети. С ними надо быть аккуратной, вежливой, и если обругают — не обижаться, стерпеть. Может быть, и она, Тася, взвыла и облаялась бы, если бы неловко повернули раненую ногу или тряхнули забинтованную голову.
А выздоравливающие — те чудаки. Будь они молодые или пожилые, все равно говорят: «не женаты». Многие из них «заводят любовь», сидят с какими-то дамочками в скверике, пишут записки, ухмыляются, держат грудь колесом. А когда их выпишут — трогательно прощаются со всеми. Тасе жмут руку так, что косточки трещат, но она терпит, улыбается и желает повоевать им до победы. Есть и такие, которые просят, чтобы она им писала. Адреса своего не знают, а просят. Смешные и хорошие вояки!
Тася из подростка превращалась в девушку. Пополнела и округлилась ее фигура, темно-русые косы отяжелели, глаза ее, большие, серые, бабушкины глаза, смотрели на всех чуть удивленно.
Потом в госпитале появился Николай Дементьевич Чудинов. Он был тяжело контужен, правая рука у него оказалась разбитой. Сиротливо торчал среди темного месива какой-то палец, должно быть безымянный.
Пока в палате было много тяжелых, Тася обращала внимания на Чудинова столько же, сколько и на остальных. Но потом в палате остался из тяжелых только он один, и каждый считал своим долгом прислужить ему, выполнить любое его желание.
Медленно возвращались к Чудинову слух и дар речи. Вначале он сильно заикался. К весне несколько оправился. Рука у пего зажила, говорил он почти правильно, только когда волновался, речь его немного спотыкалась. Он оказался общительным, но в то же время сдержанным человеком. О своих боевых делах Чудинов распространяться не любил. Когда ему было тяжело — страдания переносил мужественно.
Тасе всегда казалось, что у этого человека есть на уме такое, что он не всякому расскажет. Она уважала его за сдержанность, за трезвость суждений, за то, что он ничем не кичился и не гордился. Тасю называл он не дочкой, а Тасюшкой, так же, как называла ее бабушка, и это невольно располагало к нему.
Однажды Чудинову привезли в госпиталь два ордена — Красного Знамени и Отечественной войны. Тася была в палате, когда ему их вручали. Ей очень понравилось, как он вел себя. Он не сунул небрежно ордена под подушку, как это делали некоторые: дескать, у меня их уже полпуда. Но и не растерялся, не залепетал разную чепуху. Он принял в левую руку коробочки, положил их на тумбочку, крепко пожал генералу руку, и только когда заговорил, Тася поняла, как Чудинов волновался.
— Сп-пппп-паси-б-бо з-за н-н-награ-аду! — с трудом выговорил он.
Когда все разошлись, Тася со слезами умиления сказала:
— Поздравляю тебя, Николай Дементьевич!
— Спасибо, Тасюшка, сп-пасибо, — взволнованно ответил он и, крепко сжав ее руку в запястье, добавил: — А меня, Тасюшка, не обязательно величать. Мне ведь только двадцать восемь.
Чудинов стал ухаживать за Тасей. А так как за ней еще никто никогда не ухаживал, то Тасе это понравилось. Да и Николай Дементьевич тихий, обходительный, глупостей никогда не позволял.
Потом был яркий, весенний день. День Победы! Все смешалось, закипело, забушевало. Тася и Чудинов уехали на загородную прогулку, выпили за победу, потом еще и еще. В этот день пили все и отказываться было нельзя. И тогда-то между ними возникла связь, которую они пытались скрыть от зорких солдатских глаз. Кончилось все это коротким письмом, посланным Чудиновым с дороги: «Таисья! То, что произошло между нами, конечно, глупость. Я не сумел сдержаться и каюсь в этом. Мне непростительно это еще и потому, что я многое скрыл от тебя. Я ведь женат и ребенка имею. Так что, видишь, дело-то какое. Нехорошо я поступил, но, как говорил какой-то философ: „Чувство побеждает разум!“»
Вот и все. Чувство побеждает разум. К ужасу своему, Тася обнаружила, что никаких чувств у нее к Чудинову и нет. Тайное любопытство, игра в любовь, желание иметь кавалера — вот что было. Кроме того, время с Чудиновым шло интересней, жизнь текла веселей. Дома ей все опостылело — и ехидная мачеха, и угнетенный отец. Да и откуда ей было знать, что именно в эти годы, когда душа жаждет необыкновенного, романтики, молодые люди совершают большинство ошибок.
Через три месяца после отъезда Чудинова мачеха с сарказмом бросила отцу:
— С прибылью тебя, Петр Захарыч!
— С какой?
— Внука скоро Бог даст.
— Вну-ука!? Откуда?
— Все оттуда же. Неужели шары-то у тебя заволокло и ты не видишь ничего?
— Айда-ко с худого-то места, — испуганно отрубил отец.
— Придет, приглядись. Не от пайки же она так раздобрела.
Вечером отец избил Тасю и выгнал из дому. Мачеха, выбрасывая ее пожитки на улицу, кричала:
— Срам! Стыд! Опузатела с бабушкиных-то кусков!
А отец гремел поленом по столу и кричал на мачеху:
— Ты хотела этого, стер-рва! Радуешься! Уходите обе с глаз моих! Зашибу!
— Тише, тише ори-то. Тронь попробуй, в тюрьме сгною.
Разбитая, уничтоженная Тася брела на станцию. Она ничего не понимала и не чувствовала. У переезда она прислонилась к телеграфному столбу и стала ждать поезда. Когда электровоз загремел совсем близко, она выбежала вперед и легла на рельсу.
Поезд пшикнул, судорожно дернулся, загрохотал и начал наезжать на Тасю. В это время какой-то молодой парень, рискуя жизнью, выдернул Тасю почти из-под самых колес. Она была без сознания.
Через три дня Тася вышла на работу, но ее точно подменили. Она таила свою беременность, боялась смотреть больным в глаза, сделалась замкнутой, пугливой.
Мучительными были роды, но еще мучительнее оказались взгляды женщин, их едкие реплики:
— Такая молоденькая…
— Сладок был грех, да горько похмелье…
— И ведь паразит какой-то и глаз не кажет…
— Сделал свое дело и в сторону. Все они сейчас такие, разбаловались за войну. Вот я тоже…
— Куда она такая с ребенком? Родных-то, видно, нету. Никто не приходит…
Слушала Тася эти разговоры и жалела, что ее вытащили из-под поезда.
Она решила уехать из областного центра. Здесь хоть и не часто, но встречались знакомые, а главное — есть те, которым она прислуживала в госпитале. Как-то шла она по городу, а навстречу ей, будто из-под земли, парень, чубатый, веселый, руку трясет. «Не узнали, значит?» — спрашивает. Оказывается, один из бывших больных. В кино приглашает. Спрашивает. «Может, дров надо подбросить?»
Стоял февраль. Начались первые оттепели. Над карнизами госпитального здания повисли первые, хиленькие сосульки. Крыша была шиферная, и плаксивые сосульки свисали из желобков через равные промежутки, словно их аккуратно начертили.
Тася сидела на скамейке в скверике и смотрела на окно своей палаты. Раненых осталось мало. Госпиталь скоро должен расформироваться. Но Тася не думала об этом. Она смотрела туда, где впервые увидела огромные человеческие страдания и радость возвращения к жизни. Туда, где заработала спой первый, трудный хлеб. Жаль было расставаться с этим старым кирпичным домом. Жаль, несмотря на ту беду, которую она здесь нажила.
По палате, в которой она еще так недавно хозяйничала, приковылял на привязанных костылях раненый. Он отвязал костыли, установил их возле кровати, подпрыгал на одной ноге к окну, поглядел на городские огни. Глаза его задумчивы и печальны. Тася знала, о чем думает, о чем грустит раненый сержант. Думы его самые прозаические: как начинать жизнь без руки и без ноги? Как примет жена? Сможет быть полезным семье и колхозу?
Ей хотелось подойти успокоить сержанта, сказать что-нибудь такое, отчего лицо его стало бы веселым, усы затопорщились бы от смеха, как прежде. Но больной для нее сейчас далек и недоступен. Точно давая ей это понять, он понурился и медленно задернул марлевые занавески, на уголках которых Тасиными руками были вышиты две кошачьи мордочки.
Тася встала со скамейки и только теперь почувствовала, как у нее зашлись ноги в низких резиновых ботиках. Она удобней подхватила Сережку, наглухо завернутого в старое байковое одеяло, и засеменила с госпитального двора.
— Ну что, дочка, попрощалась со всеми? — спросил ее старик, дежуривший и проходной.
— Попрощалась, дедушка, — ответила Тася, и в груди у нее стало больно-больно, — прощайте и вы, дедушка, — торопливо бросила она уже на ходу.
Всю ночь Тася просидела на вокзале. Устала от шума, сутолоки. К утру у нее разболелась голова, ее стало знобить. Она взяла билет на первый попавшийся поезд и, ни о чем не думая, поехала куда глаза глядят.
В Лысогорске ее сняли с поезда. У нее оказалось двустороннее воспаление легких. Сережу от нее изолировали. Щупая рядом с собой похудевшей рукой, Тася звала его, плакала в беспамятстве до тех пор, пока сердобольная санитарка не подсунула ей сверток из простыни. Тася крепко прижала к себе сверток и в жарком бреду металась по кровати, то вскрикивая, то чуть слышно шепча невнятным голосом ласковые слова. Даже к беспамятной не приходило успокоение.
Выздоравливала Тася медленно. Только через месяц она стала подниматься. На улице уже была весна. Когда молодая женщина первый раз вышла на крыльцо, у нее захватило дух и она заплакала, порадовавшись тому, что осталась жива. Сережка уже улыбался, ворковал сам с собой и решительно не желал ее признавать.
Или из ее бредового говора работники больницы что-то узнали, или умели угадывать сердцем чужое горе, или просто так, из хорошего человеческого чувства проявили необидную заботу о ней и о Сереже. У нее всегда ломилась тумбочка от разной снеди, ей приносили интересные книги, достали нитки и кусочки материала: Тася вышивала на память добрым людям разные безделушки. Особенно нравился Тасе старенький, полный и так же, как бабушка, не выговаривавший букву «р» главный врач Федор Федорович.
Федор Федорович и его жена, Агния Владимировна, принадлежали к числу тех супругов, которые всю жизнь мечтали иметь детей, но им не повезло. Бездетные супруги очень привязались к Тасе и ее сынишке. Когда Тася выздоровела, ее устроили на работу здесь же, в больнице. Навык у нее уже был, и с помощью главврача она выучилась на медсестру. Зарплата прибавилась, жить стало легче. Вскоре Сережка начал делать первые шаги.
В Лысогорске одпо-единственное учебное заведение сельскохозяйственный техникум. Сережка подрастал, и сама Тася возмужала: стала повыше ростом, голос ее уже не щебетал, как прежде, игриво, а на лбу навечно поселились две морщинки. Она была очень довольна тем, что все как-то устроилось. Долго не замечала Тася того, что люди всячески старались, чтобы у нее было меньше свободного времени. Особенную изобретательность проявляли супруги — Федор Федорович с Агнией Владимировной. Это они сделали так, что Тася очутилась на вечернем отделении техникума. Начала учиться на агронома. Вначале неуверенно, в полсилы, потом втянулась.
Тася уже закапчивала второй курс, когда Федор Федорович с женой переехали в областной город. Она только тогда до конца осознала, как много делали для нее эти люди.
В техникуме сразу Тася не сказала о Сережке, а позднее уже сказать стеснялась. Ей казалось, что она не будет ровней студентам, что они не станут с ней обходиться запросто, если узнают о Сережке.
Утром она вела его в детский сад и мчалась в больницу. Под вечер, наскоро поев, она спешила в техникум.
Поздно вечером забирала Сережку из садика и, уже не торопясь, шла домой.
Она совсем мало видела сына, а он рос, декламировал стихи про Деда Мороза, рисовал дома с кривой трубой и с дымом, вырастал шалуном.
Учиться становилось невмоготу: зарплаты не хватало, одежонка доизносилась, Сережке требовалось все больше и больше. Пришлось хлопотать о пособии — как матери-одиночке.
Мать-одиночка. Всю горечь двух этих совершенно разных слов, соединенных вместе нелепостями жизни, Тасе предстояло испытать. Еще много впереди унижений, оскорблений, мытарств. Еще неизбежно когда-то надо встретиться с настойчивым взглядом подростка-сына и ответить, почему он уже в день своего рождения был полусиротой и кто повинен в том, что его с детства зачислили в «самоделки».
Пока еще Тасе некогда было задуматься о судьбе своего ребенка, пока еще добрые люди оберегали ее и Сережку от лишних ушибов. Но Тася уже научилась смотреть на жизнь открытыми глазами, знала — рано или поздно ее окатят грязью, и хотела только одного: чтобы грязь окатила ее, чтобы ни одна капля не упала на Сережку. Он-то ведь ни в чем не повинен. Да, она готовилась, всегда была настороже, а все произошло неожиданно, не там, где она предполагала.
Пришла она на почту за пособием. Стала в очередь с необщительными, нахмуренными женщинами. «Это все такие же, как я», — подумала Тася, покраснев.
К соседнему окошку подплыла пышная дама в беличьей дохе, с картинно приподнятой левой бровью. Она выбрала взглядом женщину, одетую поприличней, и обратилась к ней:
— Вы не скажете, где можно получить перевод?
— Нет.
— А это куда же очередь?
— Пособие получают матери-одиночки.
— Ах, это на инкубаторских ребятишек? Глядите, и среди них такая молоденькая, симпатичная…
— Да, они погуливают, а государство раскошеливайся.
Тася вспыхнула, опустила голову, затем осторожно выбралась из очереди и почти бегом кинулась из почты. Больше за пособием она не ходила. Бросила занятия в техникуме и начала прирабатывать вышивкой и вязаньем. Бабушкино ремесло пригодилось.
Лысогорск — маленький городишко. Тут много знают друг о друге. Но Тася по наивности полагала, что ее никто нe знает, кроме тех людей, с которыми она встречается на работе.
Каково же было ее удивление, когда в комнатушку, отведенную ей в старом доме на территории больницы, ввалилась целая компания студентов.
Студенты сконфуженно потоптались у двери. Она пригласила их пройти. Они начали несмело передвигаться к столу, чтобы чего-нибудь не уронить.
— Мы пришли узнать, что с вами? — после неловких взаимных шуток и малозначительных реплик заговорил один из студентов в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. — Узнать, почему вы занятия забросили? Может, вам помочь надо? Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, — говорил парень, а сам пытался перебороть смущение, и ничего у него не получалось.
Тася сразу не нашлась, что ответить. Как бы давая ей передышку, девчата-студентки окружили Сережкину кроватку, Тася побледнела.
— У тебя ребенок! — обрадовались девушки, как будто для них это было неожиданностью.
— Ага, — чуть слышно подтвердила Тася.
— Трудно тебе, Тася?
— Трудно, ребята.
— А мы ведь давно знаем, что у тебя сын и что Сережкой его зовут, заговорил все тот же парень в ковбойке. Девушки сделали страшные глаза, приложили пальцы к губам. Парень замолк на мгновение и отмахнулся от них: Конечно, давно знаем. Только ты ничего не говорила, и мы думали, неудобно об этом, а теперь вот решили. Ты уж извиняй, что вломились.
— Да что вы, ребята! — забормотала Тася и, услышав, что на плите закипел чайник, всполошилась: — Ой, чайник убежал! — Она кинулась, обожгла руку, по-детски сунула палец в рот, но тут же спохватилась, затрясла рукой в воздухе и, будто оправдываясь, проговорила: — Такой чайник психопаточный. Давайте, ребята, чай пить. — И вдруг отважно предложила: — У меня даже печенье есть, Сережкино, правда, но ничего, ради гостей жертвуем. Он у меня парень не прижимистый…
И Тася вернулась в техникум. У нее появилось много друзей. Как-то незаметно на день рождения и еще по поводу разных событий Сережке надарили одежонки, самой ей нет-нет да и подбрасывали немного денег.
Техникум Тася закончила в 1952 году, но сразу у нее не хватило смелости покинуть обжитое место, привычную работу: «Как же я с ребенком, в деревню? Ни знакомых, ни родных».
Правда, ей очень часто становилось не по себе оттого, что она чувствовала себя не на месте. Ведь люди так много сделали для нес и для сына. Они ео поста пили па ноги, помогли получить образование, специальность, вырастить в трудные годы ребенка…
А что она сделала? Очень мало. Ей казалось, если она горы своротит, то и этого не хватит расплатиться за доброту людскую. И когда после сентябрьского Пленума ее вызвали в горком комсомола и заговорили о долге молодого специалиста, она не дослушала до конца и спросила:
— Где можно получить путевку?
Она собрала свои пожитки. В больнице, кроме зарплаты, получила подъемные. В горкоме комсомола ей подарили красивые настольные часы. Она приехала в областной центр, быстро получила назначение в Чагинский район и пошла ночевать к Федору Федоровичу.
Вечером выпили немножко за ее «блестящее будущее», как выразился Федор Федорович.
Назавтра Федор Федорович и Агния Владимировна отвезли Тасю и Сережку на вокзал в легковой машине. После того как Тася дала обещание останавливаться только у них, привезти летом Сережку на месяц и непременно писать каждый день, добрые супруги распрощались с ней. А когда она зашла в вагон и выглянула в окно, Федор Федорович сказал:
— В жизни, Тасенька, случается всякое, так вот, если вам будет очень трудно, знайте, есть люди, которые о вас помнят и всегда готовы помочь.
— Спасибо, спасибо, дорогие мои, — дрогнувшим голосом ответила Тася.
Только дорогой она вспомнила, что не побывала у отца, но не пожалела об этом.
…В палисаднике шумел ветер, из кухни доносилось сонное бормотанье ребятишек и слабое тиканье ходиков. Под одеялом было тепло и уютно. Лидия Николаевна прижимала Тасю к себе, как девочку.
— Рановато взяла тебя жизнь в оборот, рановато, — спустя немного времени заговорила Лидия Николаевна. Да ведь не одну тебя. Весь народ наш пережил такое тяжкое время, а уж о ребятишках, что в войну возмужали, и говорить нечего.
— Ой, тетя Лида, я сама не смогла бы ничего, меня люди, как слепую, в жизнь-то ввели, все время за руку. Вот теперь и не знаю, как я здесь сумею в деревне, одна…
— Как это одна? Здесь ведь те же люди, что и всюду. Они тоже по труду ценят человека. И я по труду ценю. Смотрю вот иногда в городе на расфуфыренных бездельниц и не зло, а жалость меня разбирает. Ведь они несчастные, они не ели своего хлеба, не держали в руках самой ценной вещи, что сделана своими руками, не познали тяжести и счастья материнства. Живут тряпичными радостями. А тебе бояться нечего. Будешь работать, и люди тебя душой примут. — Лидия Николаевна погладила в темноте Тасю, как маленькую, и закончила: — А сейчас давай спать. Завтра побывай в бригадах. О избе не заботься и о сыне тоже. Сколько надо, столько и пробудь там. Приедешь, я тебе еще кое-что расскажу и покажу, и Яков тоже расскажет. Он бригадир-полевод, да еще коммунист к тому же. Он тебе во многом поможет. Завтра в первую очередь в Дымную, там у нас лучший бригадир-овощевод, на весь район известный. В колхозе он с первого дня. Мужик умный, грамотный. Хватил горя человек через край. Ну, спи, спи, и мне спать пора. Утром рано вставать.
Они обе закрыли глаза. Тася плотнее прижалась к Лидии Николаевне. Совсем близко, ровно и спокойно стучало ее сердце.
Глава четвертая
Дымная — небольшая, дворов на тридцать, деревушка. Когда-то на месте полей и перелесков, раскинувшихся по горам вокруг Дымной, был труднопроходимый лес. Лес этот заводчики приспособили к делу — начали выжигать из него уголь в земляных кучах, которые местные жители называют буртами или печами. Вначале здесь появились землянки углежогов, а потом и избы хлебопашцев. Еще и поныне в Дымной говорят: «Ягоды брала у печей», «На горе, возле печек, покос никудышный», «Опят возле печек уйма бывает…»
Павел Степанович родился и крестился в Дымной. За спою, пятидесятилетнюю жизнь он дважды удалялся из родной деревни: первый раз на полуторагодичные курсы овощеводов, второй раз — на войну.
Букреев небольшого роста. У него тихий голос, который он, насколько помнят дымнопцы, никогда не повышал. С войны Павел Степанович вернулся без ноги и без руки. Остро очерченные лопатки под гимнастеркой, тонкая шея с глубоким желобком посредине, пустой рукав, заткнутый за пояс. Поглядишь на него, и жалость возьмет — до чего изувечили человека… Но это первое впечатление бесследно исчезает, как только ближе узнаешь Павла Степановича. Односельчане рассказывают о нем много такого, что никак не вяжется с его малоприметной наружностью.
В первые годы коллективизации кулаки убили двух председателей. На их место никто идти не согласился, кроме молодого парня Павла Букреева. В него тоже стреляли, повредили левую руку, ту самую, что потом оторвало на войне. Павел Степанович шутил: «Все улики против кулаков фашисты аннулировали, заодно работали».
По сей день помнит Павел Степанович, да и до конца жизни не забудет, как он явился домой из госпиталя, а потом на поле. Женщины, пригорюнившись, глядели на него, расспрашивали про войну.
Он пошутил:
— Сначала ничего. Потом — батюшки мои, родители родные! Потом опять ничего…
Женщины вымученно улыбнулись этой шутке. Чтобы не сбиться с бодрого тона, Павел Степанович как можно веселей продолжал:
— Ну, примете, бабы, в свою компанию?
Женщины прятали глаза от него, с обидной сострадательностью вздыхали.
— Вы, может, думаете, обузой буду, не справлюсь?
— Да мы-то что, мы и вовсе ничего такого, сам-то, сам-то как ты будешь?
— Передохнул бы, оклемался. Насчет харчишек подсобим уж кто чем…
— Словом, договорились, — прервал разговоры Букреев и сквозь стиснутые зубы цедил, идя к конным граблям: — Харчишками помогут! Покруче! Бабье! Я еще покажу, что меня в утиль рано списывать!
Он хотел быстро, по-молодецки вскочить на круглое сиденье граблей, но деревяшка задела оглоблю, и он чуть было не свалился под ноги лошади. Женщины, наученные горем уважать чужую беду, сделали вид, будто ничего не заметили. Павел Степанович погнал лошадь, испуганно думая о том, как он будет одной рукой сбрасывать с граблей вал сена и в то же время править лошадью.
Но все обошлось. Сначала вожжи брал в зубы, а потом приспособился их между колен зажимать, благо колено у ампутированной ноги осталось.
Так вот с этого дня, с конных граблей, на которых обычно мальчишки управляются, и началась его послевоенная жизнь. Женщины признали его за мужика и стали обращаться к нему за помощью и советом. А он незаметно для себя сделался в деревне вроде бригадира. Так что, когда правление предложило ему занять эту должность в Дымной, он только рассмеялся:
— Да мои бабы давно уж меня утвердили…
Дымная в трех километрах от Корзиновки. Тася шла сюда по дороге, обозначенной, как вехами, телеграфными столбами. На полях третьей бригады много неубранного картофеля и почти совсем не тронута капуста. Было сыро и холодно. Ветер все гнал и гнал тучи.
Тася плотнее закуталась в шаль, которую ей дала Лидия Николаевна, и прибавила шагу.
— Где мне найти бригадира? — спросила Тася у женщины, ехавшей на телеге ей навстречу.
Женщина натянула вожжи, поправила мокрый платок, сползший почти на брови, и внимательно посмотрела на Тасю. У нее было скуластое лицо, открытый взгляд и крепкие, мужицкие руки.
— Бригадира? — переспросила она и чему-то усмехнулась. — Найти его не так просто, да вам повезло, он аккурат сейчас обедает. Мужик ведь это мой. Беда, девонька, когда мужик в начальниках ходит. — По тону женщины нельзя было понять: осуждает она своего мужа или довольна им. — Завернула бы я с вами домой, да боюсь, достанется от начальника. Послал меня за землей к речке Корзиновке, горшки собирается зимой лепить для рассады. А найти нашу избу просто. Во-он, видите, большая изба в синий цвет выкрашена? В ней никто не живет. Так три дома отсчитайте и напротив колодца увидите старую избу, у ворот еще большущая липа растет, вот туда и ступайте. Женщина стегнула лошадь вожжами и, обернувшись, крикнула: — Слух был про нового агронома, знать то вы?
Тася кивнула головой и пошла разыскивать дом Букреева. В большой избе, выкрашенной в синий цвет, оказался временный овощной склад. Тася завернула туда.
А в это время Павел Степанович хлебал горячие щи со сметаной. Теща его, Глафира Тимофеевна, хлопотала в кухне и жаловалась на внуков, выглядывавших с печки из-за трубы.
— Со старшим, Пашенька, я уж не в силах совладать. Проворный больно и плут. Кол ему, значит, вкатили по письму, а он его резинкой цирк-цирк — и нету кола. А я спрашиваю, пошто дыра на тетрадке? А он говорит: «Клякса была». И в кого такой мошенник? У нас таких не бывало, и у вас вроде бы не примечалось. С младшим-то, Пашенька, тоже беда: он все норовит крутить у радева разные колесики. Оно как заревет, матушки мои! А то как в воду канет и начнет разными голосами: и по-кошачьи, и по-всякому выть. Чисто леший на болоте. Лупила я уж его — неймется. Как выйду, так он к радиве к этой, проклятой. Ты ешь, ешь, Пашенька, отощал вовсе. Шутка ли, эстоль не евши. Тебя тоже лупить бы, да некому.
Павел Степанович слушал Глафиру Тимофеевну, ел и тихонько посмеивался. Теща наконец-то дождалась человека, который терпеливо слушал ее. Заодно она жаловалась и на жену, то есть на свою дочь:
— А та, потатчица, нет чтобы малых приструнить, сама зубы скалит. Ты уж. Пашенька, батюшко, побудь сегодня дома, натрудил ноженьку-то увечную.
Голос у Глафиры Тимофеевны становился жалобным и нежным. Она очень любит жалеть людей. Павел Степанович морщился.
— Эй, ударники! Где вы там? А ну, слазь с печки отчет держать!
Сначала младший, Валерка, а за ним и старший, Афонька, медленно спускаются с печки и предстают перед отцом. У старшего до пупа разорвана рубаха. «Опять за голубями по крышам лазал», — подумал Павел Степанович и спросил:
— Как же ты, Афонька, кол-то добыл?
— По письму.
— Да мне бабушка уж сообщила, что по письму. Год только начался, а ты с кольями являешься. Может, попросить учительницу, чтобы она тебя обратно в первый класс перевела, не может, мол, слабак оказался.
— У-у, слабак! Если захочу, так…
— Значит, осталось только захотеть? Тогда не беда. Хотенье — это, брат, дело наживное. А ну, давай сюда тетрадки, посмотрим, что там у тебя.
Афонька потупился.
— Чего, совестно глазищам-то стало? Тащи, тащи давай дырявые тетрадки, — заворчала Глафира Тимофеевна.
— И притащу!
— И притащи! Ы-ы, лихорадка, зубастый какой. Вот с ним и совладай, с пролетарьей!
Афонька глянул на бабушку исподлобья и пошел за тетрадками. Глафира Тимофеевна принялась убирать со стола. Скрипнула дверь, и от порога послышалось:
— Здравствуйте. Где я могу увидеть бригадира?
Павел Степанович использовал каждую свободную минуту, чтобы дать отдохнуть культе, и при всяком удобном случае отвязывал деревяшку. Сейчас он, опершись рукой о стол, привстал, начал глазами отыскивать деревяшку. Заметив это, Глафира Тимофеевна сказала:
— Да я сушить ее положила.
— Ну вот, подхватит тебя не вовремя. Проходите, пожалуйста, проходите. Сейчас я ногу прилажу. Вы откуда будете?
— Я — новый агроном.
Павел Степанович быстро вскинул голову, внимательно и долго разглядывал Тасю, пристраивая в то же время деревяшку.
— Ну, здравствуйте, товарищ новый агроном! — Он ковыльнул ей навстречу. — К столу милости просим.
Букреев подождал, пока Тася снимет телогрейку, сам пристроил ее на вешалку и провел гостью в переднюю.
Здесь Павел Степанович заметил наконец, что теща скептически поджала губы и подозрительно наблюдает за ними.
— Мама! А ну, что у тебя есть в печи и в погребе — все подавай на стол! Вы уж располагайтесь сами, как дома. Мы гостям всегда рады, обернулся он к Тасе и тут же распорядился: — Афонька, айда к Чащихе и скажи, чтобы она вместо меня там покомандовала!
Тася несколько оправилась от смущения и сказала:
— Вы знаете, в госпитале, где я работала, лежал сержант. Очень вы его напоминаете.
— Вы работали и госпитале? — быстро спросил Павел Степанович. А Глафира Тимофеевна всплеснула руками и затараторила:
— И-и, голубушка ты милая. Да куда нам тебя посадить, сердешную, и чем же тебя попотчевать за труды твои святые и тяжкие. Вон ведь каких выхаживала, — кивнула она головой на Букреева, — легко ли это?
— Не я, бабушка, таких спасала, а врачи.
— Знамо, не одна ты, знамо. А все-таки велик труд воскрешать людей, не всякому под силу.
— Мама! — напомнил ей Павел Степанович.
— Иду, Пашенька, бегу, милушка…
— Да вы напрасно беспокоитесь, я ничего не хочу, — смущенно запротестовала Тася. — Я просто пришла познакомиться с вами и с вашими делами.
— Вот и хорошо, что сразу в бригады пошли, правильно сделали. А от обеда отказываться нельзя. В нашей деревне обычаи уральские: человек пришел — обогрей, накорми его. А обычаи, как вам известно, уважать надо. — Павел Степанович чуть заметно улыбнулся, глядя на Тасю небольшими, цепкими глазами. — если они не дикие, конечно…
Минуг через двадцать все сидели за столом. Откуда-то из подполья Глафира Тимофеевна вытащила бутылку настойки, которую, по ее словам, она хранила «на всякий случай» еще с Троицы. Она вытерла бутылку передником и с видом щедрого человека пристукнула ею по столу: знай, мол, наших!
Как Тася ни упиралась, ее все-таки заставили «пригубить» полрюмочки. Хотела Глафира Тимофеевна еще «приневолить» гостеньку, но Павел Степанович заступился, сказав, что человек находится при исполнении служебных обязанностей. Такой довод подействовал на старуху, и она унесла свою бутылку в подполье.
Разговор шел сам собой, без всяких понуждений. Тася чувствовала себя здесь просто. «И чего только в городе не болтали мне насчет того, что не найду общего языка с деревенскими жителями. Да до иного деревенского, как я погляжу, еще тянугься да и тянуться надо», — думала Тася, слушая Павла Степановича.
А он детально, с толком рассказывал ей о делах бригады, о людях колхоза, о том, почему у них так плохо дело с уборкой овощей.
Несмотря на засушливое лето, бригада Букреева вырастила хороший урожай. Но людей на уборке очень мало. Председатель же, как всегда, надеется, что Букреев как-нибудь выкругится, урожай уберет, а не уберет — с него спросить проще — он коммунист, поэтому Птахин и отправляет людей, прибывших на уборку, в другие бригады.
— А правление куда же смотрит? — возмутилась Тася.
— Правление — это Птахин, его жена да заместитель председателя Карасев. Что они скажут — так и будет. Вокруг них кумовья, сваты, тести и зятья. Прикормились возле руководства, им не выгодно с начальством спорить. Осмолов, пастух наш, спорит, да один в поле не воин. Вы с пастухом нашим познакомились?
— Слышала о нем, но познакомиться еще не успела.
— Обязательно познакомьтесь. Умный старик. Да, нас Бог не обидел умными-то людьми. Разбрелись только они, махнули на все рукой.
— А вы, Павел Степанович, как с семьей живете? Пенсию получаете?
— Получаю, и приличную. На скромное житье моей семье хватило бы. Но я работаю не за один кусок хлеба.
Получилось это немножко громко, и Павел Степанович зарделся.
— Вот сказанул тоже, как на собрании. Ну, что ж, товарищ агроном, поднялся Павел Степанович, — пойдемте поглядим кое-что, а потом и на поле завернем.
Павел Степанович провел ее в переднюю комнату. Жена бригадира была любительница цветов: на окошках, на столе, на полу — всюду стояли горшки, ящики, банки с разнообразными цветами. На одном окне, между цветами, лежали горкой красные сморщенные помидоры.
— Вот, — взяв в руку один, сказал Павел Степанович, и в голосе послышались нотки гордости, — моя работа!
Тася с недоумением посмотрела на помидор. Особенного в нем ничего не было. Чем тут хвастаться?
— Обыкновенный, правда?
— Самый обыкновенный.
— Кому как. Рассада этого помидора нынешней весной выдержала шестиградусный заморозок.
— Да что вы? Шесть градусов?! Даже не верится.
— Эх, мать моя! Поволновался я из-за них. Да и не я один. Мне помогают, — Павел Степанович положил помидор и достал с полочки, на которой рядками стояли книги, пачку писем, — из научно-исследовательского института. Там у них имеется специальная семеноводческая лаборатория. Они меня наставили на путь истинный. По их советам и принялся делать закалку семян. Когда заморозки начались, так в институте, кажется, еще больше меня переживали. Я им каждый день письма писал. И несколько помидор послал на разживу. — Павел Степанович махнул рукой и кинул письма на полку. — Опять расхвастался, рад свежему человеку. А хвалиться-то рано еще, мало кустов устояло в мороз. Однако сдвиги есть. В нашем колхозе да и во всем районе с помощью закалки сейчас помидоры уже выдерживают четыре градуса, а иней им и вовсе нипочем.
Они отправились на поля. На завалинках под навесами домов, нахохлившись, дремали куры и петух не хорохорился, как в былые времена, а тоже сидел тихо и мирно. На дороге в протертых колеях холодно поблескивала грязная вода. Во многих местах глубокие ржавые выбоины были завалены осклизлой ботвой и соломой. Березовые листья, плавающие в лужах, были похожи на старинные, потускневшие медяки. В поле, прихваченные первыми заморозками, темными тряпками повисли картофельные кусты. Только брюхатые капустные кочаны вольно развалились в темно-зеленой распахнутой одежде.
— Вот, — вздохнул Павел Степанович, — если так будем убирать, многое уйдет под снег. В прошлом году больше семи гектар картошки не выкопали, да и ту, что убирали, только считается — убрали. Половина осталась в земле, половину в овощехранилище заморозили. Весной на семена картошку занимали по всему району.
— А как у вас нынче с овощехранилищами?
— Нынче? — Павел Степанович прошел несколько шагов молча. — Нынче я плюнул на распоряжения нашего руководства и решил хранить картофель в бригадном овощехранилище. Будет мне за это.
— Почему?
— Велено свозить картофель, как и в прошлом году, в общеколхозное овощехранилище, а мы не решаемся. Как бы снова не зареветь весной.
Впереди, на картофельном поле, работали люди. Было их человек пятнадцать: ребятишки и женщины.
— Вот мои кадры, — проговорил Павел Степанович, — есть еще на свиноферме, на птицеферме и вон там, у реки, морковь убирают человек десять. А когда-то народу было полно. Все потихоньку разъехались.
Тася невесело покачала головой и поздоровалась с женщинами, гревшими озябшие руки у огонька, разведенного на меже.
— Это наш новый агроном, — представил Букреев Тасю.
Женщины, особенно девчата-подростки, с любопытством уставились на нее.
— Выходит, председательшу-то турнули? — спросила женщина, обутая в глубокие шахтерские галоши.
— Да, убрали.
— Самого бы еще выдворить, — сказала другая колхозница, выкатывая печеную картошку из золы. — Это что же, Павел Степанович, опять овощ зимовать останется? Ходили, ходили, чугь не дышали на каждый кустик — и все замерзнет?
— Ничего, не волнуйтесь. Я угром сегодня по леспромхозовскому телефону звонил в райисполком и к шефам нашим. Обещали помочь. Завтра как раз воскресенье, нагрянет много народу. Картошку, свеклу, морковь помогут убрать. А капусту мы и сами как-нибудь вырубим.
— Дал бы Бог. Душа ноет, столь добра пропадет, — заговорили женщины разом уже повеселее.
— Нет, нынче прошлогодняя картина не повторится. Правительство постановление выпустило, подшевелило кой-кого. Будем просить, стучать, кричать. Неправда, добьемся своего.
— Ой, спасибо тебе, Павел Степанович, ты прямо как душеспаситель. Поговоришь, и вроде на сердце легче сделается.
— А ну вас, — смутился бригадир и махнул рукой, — идите копайте. Вон, кажется, Карасев едет.
От леса, по дороге, разбрасывая комья грязи, быстро мчалась сытая и красивая лошадь, запряженная во франтоватую рессорную двуколку.
— Чисто представитель какой раскатывает, — мрачно обронил Павел Степанович.
Двуколка, поравнявшись, остановилась. Из нее, помахивая витым хлыстом, вылез упитанный мужчина со свежим лицом, на котором резко выделялся большой мясистый рот. Не здороваясь, он сказал Букрееву:
— Ты чего туг самоуправничаешь, а? Ты чего тут свои порядки наводишь? Кто тебе разрешил подвал ремонтировать?
— Моя теща. Говорит, чтоб не получилось, как в прошлом году. Понадеешься на Карасева и сложишь зубы на полку, а весной караул будешь кричать без семян.
— Вон ты как?! Придется тебе, дорогой товарищ, на собрании отчет держать за разбазаривание трудодней и за самоуправство. Было постановление правления свозить картофель и овощи в колхозное овощехранилище?
Неожиданно для всех Букреев вспылил:
— Филькина грамота — это ваше постановление. Вы хранилище-то подготовили? Людей на вывозку дали? Хотите, чтобы я снова, как в прошлом году, ждал вас? Спасибо! На собрании вопрос поставят! Я сам думаю этот вопрос давно поставить. И поставлю. И посмотрю, какое выражение на лицах начальства будет.
Видимо, много накипело на душе у бригадира. Карасев растерянно моргал, ошарашенный этой вспышкой всегда уравновешенного человека. Но он был не из таких, чтобы уступить.
— Та-ак. Хвост начал поднимать, — прищурился он на Букреева. Услышал, наверное, что в райисполкоме новые люди появились? И они поддержат, так? Воин, бригадир, новатор! Помидорки на морозе вырастил, арбузы принялся садить… Как не поддержать такого? Авторитет! А про овощи забыл, да? Гляди, что у тебя в поле! Заморозишь — под суд пойдешь! Вот и весь сказ.
Павел Степанович уже успел овладеть собой и спокойно произнес:
— Слушай, уматывай ты отсюда. Бренчишь языком, как балалайкой. Судить людей у тебя еще нос не дорос. — И заковылял на своей деревяшке к огню, помахивая рукавом, выдернувшимся из-за пояса.
Женщины, сгрудившиеся вокруг двуколки, ругаясь и шумя, тоже стали расходиться. Осталась одна Тася. Карасев повернулся к ней. И выражение его лица, и взгляд как будто говорили: «Вот и поработай с такими вот… И руководи соответственно…» Возмущение, постепенно нараставшее в Тасе, внезапно прорвалось:
— Нечего сказать, распорядились! Задали трезвону! Да как у вас язык поворачивается кричать на такого человека? — Чувствуя, что в ней все дрожит от негодования и что сейчас она окончательно выйдет из себя, Тася повернулась, пошла следом за Букреевым.
— Это еще что за чин? — послышался ей вслед голос Карасева. — А-а, агрономша Голубева. Н-ну, подожди, поганка!
— Вот это руководитель! Вот это деятель! — негодовала Тася, догнав Павла Степановича.
Букреев сумрачным взглядом проводил двуколку Карасева и, словно продолжая начатый разговор, произнес:
— Крепко засел он в нашем колхозе. А нынче все! Он это чувствует, вот и шеборшит. Пусть пошеборшит, а потом копытами оземь стукнет — свалим.
Весь остаток дня Тася ходила по владениям бригады. Когда осмотрела конный двор, фермы, познакомилась со всеми работниками, призналась:
— Я ожидала увидеть худшее.
— За такой отзыв я вас, товарищ агроном, угощу собственноручно выращенными арбузами. Идемте, — полушутя сказал Букреев и уже серьезно добавил: — Было лучше. Я здесь с первого дня в колхозе-то. Капелька по капельке собирали добро, хозяйство ладили. Государству в карман не залезали. Но недоглядели — и заскрипело хозяйство. Виноваты в этом не только наши липовые руководители. Но и мы. И я тоже. Вот он орет, глаза таращит, как налим, Карасев-то, А кто его сюда звал? Кто ему колхоз доверил? Мы. Начальство прислало, мы голосуем — и делу конец. Провернули мероприятие. И я тоже, видел ведь по морде, по ухваткам видел, что это за фрукт, но руку поднял. Безразличие какое-то, что ли, появилось, червяк этот, душеед…
— Вы наговариваете на себя.
— Наговариваю? Кабы не наговаривал! — Букреев замолчал, призадумался. Лицо сделалось грустным, у губ легли складки, которые еще больше отгоняли худобу ввалившихся щек. Потом он медленно заговорил и тихим своим голосом поведал о том, что не давало ему покоя, томило и тревожило.
Себя он винил во многих колхозных бедах. Избавился вот от обязанностей члена правления и окопался в своей бригаде. Нашлось немало таких, как он. Отошли в сторонку от ответственности, позволили хапугам прибрать колхоз к рукам. Год от года меньше и меньше стали выдавать на трудодень хлеба и денег, а о таких вещах, как сено, мясо, мед и прочее, — даже и говорить перестали. Будто так и полагается: жить колхознику в деревне и покупать молоко для ребятишек. Не всегда так было. Пока не началась война, колхозники «Уральского партизана» жили как полагается. Дома у них не валились, и никто не прятался за минимум, который очень удобен для лодырей. Двести трудодней — вот она, эта шаблонная цифра, одинаковая для старухи и для здорового мужчины. Выработал человек минимум трудодней и считает — он свое дело сделал, можно ехать на базар в горячую пору, работать на своем огороде. А на колхозных полях трудятся городские люди, зачастую ничего не разумеющие в сельском хозяйстве, а иной раз и равнодушные к тому, что им поручено делать.
Во время уборки овощей наезжает в колхозы много школьников, студентов, ремесленников. Народ веселый, любит работать с песнями, но обрывает только те картофелины, которые вытаскиваются на корнях. Нет того чтобы поглубже копнугь. Все, что есть в земле, их не интересует. Они поехали в колхоз на одно воскресенье, лишились законного выходного. Они возмущаются, глядя, как в это же время колхозники копаются иа своих огородах или просто бездельничают, справляют именины.
— Вот взять вояк-фронтовиков, — говорил Павел Степанович. — Они ведь сначала горячо взялись за дело. А толку что? Человек ведь должен за что-то работать. Не одним воздухом он сыт. А туг, глядишь, была пара солдатского обмундирования и та развалилась. Помочь бы фронтовику на первых порах закрепиться в деревне, деньжонок вырешить, дом подремонтировать, а кому и коровенку выделить, лишний раз лошадь дать на рынок съездить. Ведь пообносились, шибко пообносились мы за войну. Сплошь и рядом у нас и ребятишки, и бабы ходят в перешитых гимнастерках, и мужики еще в солдатском, в латаных галифе. В городе уж давно списали эту одежду, а у нас ходят. А ведь люди-то не слепые, видят. Воевал, к примеру, я вместе с Ванькой Зарубиным. Он вернулся, на завод устроился. Сначала чернорабочим, а сейчас уже машинист крана, мостового. Я как-то зашел к нему, гляжу: у него и радиола, и ребятишки в панамках, и жена в шелковом платье, в театры хоть не часто, да ходят. Почему? Может, он больше меня работает? Может, ума у него больше, сноровки?
Букреев вдруг замолк и, помолчав, сказал:
— Я про себя вот так думаю: если мы народ не соберем в кучу, не заинтересуем его трудоднями, не создадим ему возможностей жить по-человечески — пропадут такие колхозы, как наш, уйдут из него люди, вовсе уйдут.
Павел Степанович с трудом выдергивал деревяшку из грязи и начал сильно припадать на увечную ногу.
— Хватит, Павел Степанович, со мной прогуливаться, идите домой, вам надо отдохнугь, — осторожно предложила Тася.
— Я привычен, — махнул рукой Павел Степанович. — Значит, у нас в бригаде, говоришь, еще терпимо?
— По-моему, вы прибедняетесь. Скоро вот новые машины будут созданы и для наших гористых мест. — Тася поймала себя на том, что уже колхозные поля называет нашими. Отметил это про себя и Букреев.
— Да кабы дело в одной моей бригаде было — это бы поправили, — сказал он. — За все душа болит, за все. В умиление приходили наши большие и маленькие начальники от успехов передовых колхозов, упивались. Их напоказ вытаскивали. Я вот был с делегацией передовиков в знаменитом колхозе в Кировской области. Что тебе сказать? Там почти коммунизм. Труд культурный, отдых — тоже. Есть свой санаторий, Дворец культуры, гостиница, столовые, баня похлеще городской и все такое. Женщины даже обед дома не готовят, огородов своих и в помине нет. Песня, не жизнь! Там одних экскурсантов, может, сотни каждый день бывает, а что писателей, артистов наезжает — и не перечесть. Однако я человек любопытный и по дороге на станцию попросил завезти нас в другие колхозы. И что вы думаете? Я там увидел заколоченные избы, а с тех, что не заколочены, солома скоту скормлена. — Павел Степанович сердито сдернул фуражку, хлопнул по деревяшке и, сворачивая в проулок, закончил:
— Вот и смотри. Земля одна и та же, а работают и живут по-разному. Можно, значит, своими руками поднять колхоз. Ведь такие же люди это сделали, как и мы с тобой. Только хозяин нужен. Чтобы каждый себя чувствовал хозяином. А мы?..
— Вам хорошо, Павел Степанович, вы знаете, что и как делать. А вот с чего начинать мне? — неожиданно высказала Тася мучившие ее мысли. Она нагнулась, сорвала прихваченную инеем кисть пырея и принялась теребить ее, соря семенами. — Сложно здесь все! Мне представлялось проще.
— Э-э, товарищ агроном, я, кажется, вас запугал, — засмеялся Павел Степанович и, прикуривая, спросил: - А может, Карасев холоду напустил? Погодите горевать. Мы еще поработаем. — И он легонько похлопал единственной рукой по ее намокшему рукаву.
В избах зажигали огни, и свет тускло пробивался сквозь сырой, тягучий мрак. На улице фыркнула лошадь, таща телегу с картофелем. В дальнем конце Дымной, у пруда, лаяли собаки. Сверху из темноты сыпала мелкая пыльца. Сколь ни гляди вокруг, ничего не увидишь, только звуки, приглушенные дождем, доносятся до слуха, и по ним можно угадать, что деревенская жизнь только замерла, притаилась до поры до времени. Ненастье бывает затяжное, но оно все равно сменяется ведром. Это уж так. Это было и будет.
На острове покосы. Павел Степанович собрался плыть туда, проверить, не разломал ли скот изгороди возле стогов. На острове располагалась четвертая бригада. И если коровы колхозников заберутся в остожья, хозяйки могут сделать вид, что и не заметили этого.
Хозяйки эти вообще народ дотошный — из ничего делают чего. Держат коров, свиней, кур, некоторые — коз. Заберутся козы на колхозную капусту, они часа два их оттуда прогоняют; такие у них козы непослушные, такие прыткие. Капусту колхозную любят до страсти. Все вилки на поле погрызли, а вот в своих огородах ничего, все цело. Козы тоже понимают, где капуста слаще.
Коровы же толкутся осенями у стогов колхозных, обдергивают их, сено топчут. Не поставишь же у каждого стога сторожа. Коровы это понимают и пользуются, несознательные.
А куры — те глупее, те лезут куда попало, особенно к веялкам. Клюют зерно, проклятые. Особенно нравится им семенное зерно. Глупая вроде птица, а тоже знает, что сытнее.
Интересная скотина пошла, непослушная, никакого сладу с ней нет. Вот и рвут они колхозное добро, где сена клок, где капусты вилок, а где и зернышко, а хозяйкам доходишко от этого какой ни на есть. Хозяйки своему скоту не чужие, хозяйки шибко дотошные.
Тася слушала о хозяйках с грустной улыбкой и, проводив Букреева, шла на леспромхозовский склад и все думала об этих хозяйках, думала и сокрушенно покачивала головой.
Склад ниже по реке, километрах в двух от Дымной. Здесь заканчивался остров и в устье протоки резко шумел перекат. Вдоль берега высились штабеля леса. На узкоколейной дороге, что подходила к самой реке, стояли платформочки с лесом. Автокраны быстро их разгружали. Где-то в лесу голосисто покрикивал паровозик.
Тася дозвонилась до МТС, попросила к телефону Чудинова.
— Слушаю, — спокойно откликнулся Чудинов и с кем-то заговорил там вполголоса. Тася медлила, и Чудинов уже нетерпеливо повторил: — Ну, слушаю, кто там? Чудинов у телефона.
Узнав голос Таси, он сначала что-то промычал, потом прокашлялся и с готовностью заговорил:
— Да, да, я слушаю. Что вы хотели?
Тася как можно спокойнее объяснила ему положение в третьей бригаде и попросила прислать на выходной день если не два, то хотя бы один трактор с картофелекопалкой, так как ожидается приезд большой группы людей и нужно подналечь на уборку картошки, иначе замерзнет.
Чудинов на секунду задумался.
— Один трактор мы пришлем обязательно, — через минуту сказал он, — а второго пока обещать не могу, посоветуемся, подумаем и, если сумеем выкроить, обязательно пришлем. Пусть Букреев сильно не убивается. На днях загоним к нему еще два трактора. Картошку уберем обязательно. Я, откровенно говоря, думал, что у него дела с уборкой обстоят лучше. Меня насчет его бригады успокоили колхозные начальники.
— Напрасно вы их послушали, это брехня.
— Разберемся. А вы как, осваиваетесь, вижу, за дело беретесь? Позванивайте сюда из других бригад, информируйте о ходе уборки. — Чудинов старался говорить просто, как всегда, но получалось у него как-то все неестественно, полуофициально.
Тася поспешила закончить разговор, повесила трубку.
Несколько минут она стояла неподвижно, безжизненно опустив руки. Потом побрела в деревню, думая о том, что вот так все время придется играть в прятки, обманывать себя и окружающих, быть взаимно вежливой. Остается одно средство — избегать Чудинова, как можно реже встречаться и разговаривать с ним.
Однако Тася отлично сознавала, что избегать Чудинова будет трудно. Работа есть работа.
Так размышляла Тася, шагая к Дымной. Было тоскливо брести по безлюдной деревенской улице. Почему-то Тасе вспомнился тракторист Лихачев с темными и печальными глазами. Захотелось увидеть его и поговорить.
В тот раз, на поле, разговор получился мимолетный, бестолковый какой-то и она почти ничего толком не узнала о трактористе.
Ему, возможно, тоже одиноко в этот вечер? Но тут же Тася забыла о Лихачеве. Слишком уж много мыслей нахлынуло на нее. Мыслей о будущем житье, о работе.
А кругом шуршал и шуршал дождь. Хоть бы к утру перестал. Истомил он уже и землю, и людей.
Глава пятая
Рано утром Букреев с Тасей позавтракали и отправились на ноля. Дождь ночью действительно перестал, и ударил небольшой заморозок. Тася, утянув голову в плечи, поеживалась. Вчера они очень поздно легли спать проговорили почти до двух часов. Тася не выспалась. Вид у нее был вялый. А Павел Степанович выглядел бодро. Он, очевидно, уже привык спать по два-три часа в сутки. Еще более приободрился бригадир, когда из МТС пришли два трактора с картофелекопалками.
— Теперь дело за народом. — довольно потирая рукой щеку, проговорил он и тут же сделался мрачным. — Будь вот свои люди — и сразу дело пошло бы, а то жди, гадай: приедут или нет? И приедут, так мороки с ними целый воз. Значит, ты мне, Петровна, сегодня поможешь. Я, пожалуй, тебя отправлю с нашими, а сам с приезжими останусь.
— Может быть, надо встретить людей?
— На этот счет мне беспокоиться не приходится. Наш председатель обычно сам встречает и распределяет приезжих по полям, — усмехнулся Букреев и, приложив руку козырьком к глазам, посмотрел в сторону Корзиновки.
— Сам? Странно. Он что, бригадирам не доверяет?
— Кто его знает?! У него, видишь ли, политика своего рода. Целую неделю не показывается на полях, зудит по телефону в райком: жалуется, ноет, людей выпрашивает, а потом сам их встретит, всячески выкорит тем, что мы, мол, тут за всех ковыряемся, ну и городские-то со злом работают. Знай подводы подавай. Словом, хитрит. И до того дохитрился, что садить и убирать овощи стали в основном люди приезжие, а в колхозе народу — пшик один остался. И собаки его знают, где он набрался этой мудрости, из каких таких отраслей науки? Да я уж тебе говорил обо всем этом и снова принялся. Больное-то место, как ни остерегайся, все равно заденешь. Так вот, Петровна, ты, значит, валяй с одним трактором и прямо от реки начинайте заезжать. Там картошка добрая и ее убирать лучше своими силами. Глядишь, с нашими работницами ближе сойдешься.
Тася начала понимать, почему так настойчиво бригадир отправляет ее работать с колхозниками, хотя она выразила желание поработать с приезжими. Она благодарно посмотрела на бригадира и заторопилась:
— Так я побежала, Павел Степанович!
— Про себя не забывай!
— Ничего. Мы картошки напечем, — уже на ходу отозвалась Тася. Она вынула руки из карманов, приподняла шаль со лба, чтобы выглядеть бодрой. Как-никак ей сегодня нужно будет руководить людьми, руководить впервые. Это что-нибудь да значило!
За рекой лениво вставало солнце. Кругом начинало парить, и диск соллца проглядывал сквозь пелену тумана тусклым пятном.
День обещал быть погожим. Впрочем, осенью угадать погоду очень трудно. Она может измениться несколько раз в течение дня.
«Необходимо сегодня убрать как можно больше, теперь уж трудно рассчитывать на добрую погоду». — Тася бежала, перепрыгивая через лужи, замерзшие по краям.
Птахин приехал в Дымную с первой машиной. Он выскочил из кабины прямо в грязь и подал руку Букрееву:
— Здорово живем, бригадир!
— Здравствуй, председатель!
— Вот привез к тебе на прорыв металлургов, — кивнул он головой на машину, где тесно сидели мужчины и женщины. — Пусть покланяются родной землице, вспомнят, как она пахнет, забыли, наверное.
— Мы не забыли, — ворчали приезжие, соскакивая с машины. — Вот вы тут, пожалуй, забудете вовсе, как картошку копают. Зато на базаре мастера торговать, втридорога с нас драть.
— Сдерешь с вас! — огрызнулся председатель. — Вы в магазин явитесь: подай вам горбушку, и никаких гвоздей. А в колхозе раз в неделю появитесь и то шумите: «Ох, тяжело! Ох, мокро! Ox, пропади она пропадом!» Небось не в Питерах выросли, а из деревни умотали. А у меня народу раз-два — и обчелся, потрудитесь с ним, соберите хороший урожай.
— Плохо руководишь, вот и разбежались люди. От добра добра не ищут, из путных колхозов не уезжают. А нас ты не кори. Мы свое дело делаем первосортную сталь даем.
— И мы свое делаем, как умеем.
— То-то что не умеете.
— Поменяемся! Я к мартену пойду, а вы сюда!
— Жарко там, начальник, а ты с прохладцей работать привык.
Птахин хлебнул воздух, не зная, что ответить, щеки его порозовели.
— Брось комедию представлять, — тихо сказал председателю Букреев и добавил: — Распределять надо людей на работу, время идет.
— Вот правильно, Павел Степанович, давно за дело пора, — сказала пожилая женщина в клетчатом платке…
— А этого не переслушаешь, — взглянула она на Птахина. — он уж совсем отвык без горла обходиться. Каркает, каркает, как ворона перед непогодой, и думает, что людям приятно слушать его.
— Мастера критиковать-то, — зло отозвался Птахин. — Увидим, каковы на деле.
— Не беспокойся! Металлурги не подкачают, они привыкли живо работать.
— Погляжу.
— Вот-вот, глядеть-то ты и годен только. Погодите, Иван Андреевич сгонит с вас дремоту.
— Какой еще Иван Андреевич?
— Уланов. Наш парторг. Его секретарем по зоне эмтээс назначили. Скоро познакомитесь!
В это время с другой стороны деревни подошла еще машина с людьми. На ней было шумно и весело. Вместе со всеми пел и пытался дирижировать одной рукой директор леспромхоза, белобрысый и удивительно подвижный человек с узенькими лукавыми глазками. Он легко, как мячик, прыгнул через борт машины на дорогу, поздоровался со всеми и потребовал:
— Фронт работы моим лесорубам обеспечить!
— Да хоть три фронта, милый человек! — весело отозвался Павел Степанович.
Птахин сумрачно стоял в стороне. Потоптавшись для порядка, приказал:
— Ну, ты тут, Букреев, жми, чтобы сегодня картошку выкопали. А я пошел к Разумееву.
— Давай иди, — облегченно выдохнул Букреев и начал распределять людей по полям.
С леспромхозовскими он послал высокую и сердитую старуху Чащиху в качестве своего заместителя. Директор леспромхоза любезно подхватил ее под руку и, что-то живо наговаривая, пошел впереди рабочих в поле. К удивлению Павла Степановича, Чащиха не выдернула у директора руку, а шагала рядом и сквозь смех наговаривала:
— Ох, леший! Не одной же девке ты смолоду мозги вывихнул.
Птахин не пошел к Разумееву, овощеводу из шестой бригады. Он вышел на берег протоки.
Совсем недалеко от пего тарахтел трактор. Он полз от реки на косогор, осгавляя за собой переворошенную землю, на которой выводками и вразброс валялись картофелины. Следом за трактором шагали женщины с ведрами, корзинами и лопатами. Они то и дело сворачивали на межу, опрокидывали ведра. Куча картофеля росла.
До Птахина донеслась песня. Он удивился. Давно люди не работали с песнями, тем более осенью. Весной — другое дело. Песня была старая, здешняя, про разлюбленную девушку, которая уезжает в далекие края, не вынеся душевных мук.
Вот тронулся поезд В далекую сторонку, Кондуктор, нажми на тормоза! С последним поклоном Я маменьке родной Хочу показаться на глаза…Вместе со всеми пела и Тася. Слов она не знала, но к мелодии быстро привыкла и подтягивала. Птахин заметил ее, заметил, что она поет. «Пожалуй, сойдется со здешними, гляди, работой не пренебрегает, не то, что моя преподобная супруга. А может быть, для вида, приспособиться к людям охота, в доверие втереться?»
Птахин поймал себя на том, что он обо всех стал думать как-то нехорошо, с желчью. Вот совершенно новый человек, ничего ему худого не сделал, а он уж поносит его про себя. «И что это сделалось с тобой, Зиновий Константинович, чего ты злишься и зло ехидством да чванством прикрываешь?» — невесело подумал он.
Был колхоз «Уральский партизан» средним в районе. Люди захотели, чтобы он стал первым, выбрали председателем Птахина — агронома. С его помощью колхоз сделался худшим. На словах, в отчетах председатель может придумать множество причин, свалить вину на кого угодно, а себя-то не обманешь. Не сумел быть председателем, плохим оказался хозяином. Надо было вовремя признаться — не сделал этого, теперь казнись.
Может быть, поступил бы Птахин честно, ушел бы обратно в агрономы, загладил бы свою вину перед колхозниками, но «опекуны» из райсельхозотдела не давали ему об этом даже и заикнуться.
Хлопотное дело — менять председателя в полуразваленном колхозе. Надо подбирать в такое хозяйство человека крепкого и с образованием. А ну как из обкома дадут указание: «Вот вы, уважаемый начальник райсельхозотдела Матанин, и принимайте „Партизана“. Развалить хозяйство сумели, сумейте его и на ноги поставить».
Матанин из молодых, а ранний. Уберечь себя от лишних беспокойств умеет. Ветер только в обкомовском скверике тополя зашевелит, а он уже здесь, в районе, этот шорох слышит. С таким нюхом человек сумел за несколько лет добраться до поста второго секретаря райкома.
После сентябрьского Пленума Матанин стал частенько наведываться в колхозы, околачиваться днями в МТС, распоряжаться, показывать. По слухам, на него были возложены обязанности секретаря райкома по зоне МТС. Он скромно уклонялся от разговоров на эту тему, присматривался, слегка шумел и, видимо, окончательно убедился, что должность зонального секретаря ничего доброго не сулит. Результат его глубокой разведки налицо. Секретарем по зоне МТС избран парторг мартеновского цеха Уланов, который, по всей вероятности, хлеб видел в основном печеный, а картошку вареную.
Злило Птахина, что люди, повинные в отставании сельского хозяйства, занимавшиеся болтовней, потихоньку увиливают от ответственности, предпочитают оставаться в тени. В глубине души Птахин был доволен, что вместо разных Матаниных появятся другие люди. Они по-иному будут работать, перетрясут все — новая метла чисто метет. Вполне может быть, что и его выметут.
«Да и черт с ними. Скорее бы уж!» — думал председатель, с остервенением жуя погасшую папироску. И тут же в нем заговорило противоречивое чувство: «Рад избавиться! Нагадил — и в сторону, как Матанин. Пусть, мол, другие вляпаются да уберут. Совесть-то есть еще или нет?»
Видно, совесть у Птахина еще была. Он чуть не полдня просидел на стволе старого осокоря, и от тревожных дум осунулось его лицо, начали нервно подрагивать веки над тоскливыми глазами.
На следующий день Тася перекочевала в четвертую бригаду. Павел Степанович переправил ее в лодке через протоку на остров. Погода была не дождливая, но промозглая, сырость брала до самых костей. Тася сидела на скамейке посредине лодки, куталась в большой дождевик, который на нее почти насильно надела сердобольная Глафира Тимофеевна. Ворчливая и мягкосердечная старуха долго не отпускала ее, лишь только ссылками на неотложные дела в других бригадах Тася и Павел Степанович воздействовали на нее. В карманы плаща Глафира Тимофеевна натолкала капустных пирогов, вареных яиц. Провожала она Тасю до самого берега, что-то по привычке наказывала ей, и, когда лодка отчалила, долго стояла, пригорюнившись, на берегу.
Тасю до глубины души растрогала неподдельная, чистосердечная ласка Глафиры Тимофеевны. Старушка пыталась хоть в малой доле отблагодарить за спасение от верной смерти любимого зятя всех сряду, кто хоть какое-нибудь отношение имел к госпиталю. Она, как старая мать, лучше других знала, что родить человека — святое дело, а вернуть его к жизни — величайший подвиг.
По обмелевшей за лето протоке густо плыла пена — верный признак затяжного ненастья. Стояла тишина, плотная, тяжелая. Шест, которым ловко орудовал, хотя и одной рукой, Павел Степанович, лязгал кованым наконечником о камни. Дальний лес и горы закрывал серый мрак. В воду роняли свои продолговатые листья прибрежные тальники. Птичьих голосов не слышалось.
Перелетные птицы уже миновали Урал, а те, что остались зимовать, сидели где-то в сухих местах, дремали чутко, затянув глаза тонкими пленками. Покой нарушался только однообразным треском высоковольтной линии. Костлявые опоры шагали через старицу на остров, через заречную деревню по прямой широкой просеке к городу.
Разговаривать не было желания, Плыли молча. Когда лодка ткнулась в берег, Тася нехотя поднялась.
— Вот мы и прибыли, — с трудом сдерживая зевок, сказала она. — Ты, Павел Степанович, не провожай меня, я сама тут все сыщу.
Букреев оттолкнул лодку, отплыл на некоторое расстояние и, приподняв шест, крикнул:
— Так ты посмекай насчет расширения овощных полей на острове…
— Плыви, плыви, Павел Степанович, я все помню! — откликнулась Тася и начала пробираться сквозь придорожные заросли к полям четвертой бригады.
С кустов тальника и черемушника на Тасю посыпались капли воды. Дождевик намок и задубел. Тася приподняла полы дождевика, чтобы легче было идти. С протоки доносилось размеренное пощелкивание шеста о каменное дно.
«Вот и еще одного хорошего человека встретила, — прислушиваясь к замирающему стуку шеста, подумала Тася. — И одного ли?»
Тасе вспомнилось, как она вчера шла по полю с ведром, собирая картофель. Приходилось часто кланяться. Уже к обеду начала отниматься поясница. Но она изо всех сил старалась, чтобы ее усталости не заметили женщины и девушки. И напрасно старалась.
Женщины сначала убирали картофель молча, сердитые оттого, что недоспали. Они с нескрываемой иронией поглядывали на городскую дамочку, прытко бегавшую по полю с ведерком. Но вот солнце поднялось выше, обогрело немножко. Колхозницы сняли с себя лишнюю одежду, рукам сделалось теплей, начались разговоры, а затем и песни.
Прошел час, второй, третий. И вот уже у приезжей дамочки руки по локоть в земле и под носом вымазано. И волосы она убирает, как все, тыльной сгороной руки, и вовсе не гордая она.
В полдень обедали на меже. Выкатывали из золы картошку, мяли ее на жухлой траве и, обжигаясь, уписывали за обе щеки.
Тася раскраснелась у огня. Картошка с солью казалась ей очень вкусной. Правда, Тася не догадалась прихватить с собой хлеба. Одна из колхозниц разломила пополам свою горбушку и, положив кусок рядом с Тасей, грубовато сказала:
— С хлебом ешьте печенки, иначе тошнить будет.
Девушка в мужицкой кожаной шапке потянула Тасю за рукав и поставила рядом с ней бутылку.
— Давайте вместе припивать молоком, — зардевшись, предложила она. И Тася поняла, что дымновские женщины принимают ее за своего человека, иначе они никогда не стали бы пить молоко с ней из одной посудины…
После обеда она уже совсем освоилась: шутила, смеялась. Женщины покрикивали на нее:
— Да ты не больно прыгай. Знаем ведь, каково с непривычки. Спина не своя будет.
Поясница действительно побаливала. Но что это могло значить в сравнении с необычайным подъемом, который охватил Тасю после вчерашнего дня. Да, вчера она окончательно поняла: место ее здесь, среди этих суровых, но простых и добрых людей. С такими можно сработаться, а их в деревне большинство. Надо отшвырнуть в сторону все эти так называемые сердечные муки, Чудинова этого, всю эту историю. Ничто не должно заслонять собой главное — ту дорогу, по которой она идет. Сильнее всех страдают бездельники.
Вдруг из-под ноги Таси что-то метнулось. Она вскрикнула и бросилась в сторону. А через секунду уже смеялась, провожая взглядом зайца. Шкурка у него уже почти вся белая. Спит он крепко, вот и подпустил человека так близко. Долго еще белое пятно мелькало среди кустов. Видно, снова залег под колодину косой. Залег и не дышит, думая, должно быть, о том, суждено ему дожить в такой заметной шубе до снега или нет.
— Доживем, длинноухий, доживем обязательно до снега. И до весны доживем! — прошептала Тася, прибавляя шагу.
На ходу она сломила ивовый прут и, как мальчишка, сшибала им последние листочки с кустов. Дорога вывела ее на широкую поляну. Среди поля стоял огороженный жердями стог сена.
Под ногами у Таси похрустывала густая щетина отавы. Даже при беглом взгляде было видно, что поле это когда-то пахали, а потом его превратили в покос. «Половину земельных угодий на острове запустили. А это самые лучшие земли в нашем колхозе. На них нужно прежде всего ориентироваться при планировании будущих посадок овощей», — вспомнила Тася слова Букреева и обошла поле кругом.
Возвышаясь над кустарниками, дальше виднелся еще стог сена, за ним еще и еще. Словно сказочные избушки без окон и дверей возникли и утвердились на острове. Стоят они среди полян сиротливо, полные пряных запахов и затаившегося шума. Только изредка посетит остожье коршун или ворона. Посидят молчком на вершине, подумают о чем-то своем, почистят клюв о жердь и улетят куда хочется.
Часа через два добралась Тася и до овощных полей четвертой бригады. Поля были пустынны и унылы. Сиротливо торчали из земли капустные кочерыжки, где с одним листом, где с двумя. То там, то тут среди поля возвышались кучи из тугих капустных вилков. Дальше виднелись кучи пониже, кое-как забросанные картофельной ботвой или соломой. Возле одной кучи стояла лошадь с телегой. Несколько женщин грузили лопатами картофель в ящик, который стоял на телеге. Одна женщина о чем-то рассказывала, и остальные громко смеялись. Тася поздоровалась.
— Здравствуйте, коль не шутите, — отозвалась за всех женщина, которая рассказывала что-то веселое.
Тася спросила, где бригадир.
Женщины начали расспрашивать, зачем он ей понадобился.
Пришлось объяснить. Женщины искренне удивились, что новый агроном уже добрался до них. Обступили, стали спрашивать: откуда прибыла, здешняя ли? Задавали немало вопросов, интересных с женской точки зрения. Они объявили, что бригадир у них болеет, а замещает ее молодой паренек, Осип Ральников. Паренек обходительный, но дошлый и настойчивый до невозможности.
Женщины на острове оказались болтливей, чем в Дымной. Позднее Тася и причину тому отыскала. На острове всего восемь домов. Колхозники живут одной семьей, отлично знают друг Друга. Посторонние заглядывают сюда редко. Вот и рады женщины с острова поговорить со свежим человеком. А мужиков тут почти нет.
Как потом выяснилось, и жили «островитяне» зажиточней других колхозников. Не потому, что они работали лучше. Были они дружны, умели попользоваться без шума колхозным добром.
Бригадиром здесь много лет бессменно работала Федосья Ральникова женщина крепкая, работящая, но и хитроватая. Вырастив без мужа троих детей и «определив» их, она младшего, Осипа, оставила при себе. Когда Осип полностью вошел в курс бригадных дел, Федосья вce чаще и чаще стала «болеть». Она сделалась большой любительницей погулять, попеть, и отсюда все ее «болезни». Она, по ее выражению, свое сделала, ребят подняла и имела полное право на отдых. Почти все соседки называли ее кумой, называли не напрасно. В редком доме у Федосьи не было крестников.
Тася нашла Осипа в теплице. Там он мастерил водопровод. Осип семнадцатилетний застенчивый парень. У него румяное и чуть рябоватое лицо. С виду неуклюж, из одежонки заметно вырос. Рукава пиджака ему чуть не по локоть, верхние пуговицы у рубашки не застегнуты, брюки узенькими трубочками спускаются в голенища сапог. Но у него удивительно проворные и ловкие руки, глаза умные, но какие-то отсутствующие. «Определенно, этого парня в младших классах называли девчонкой, а в старших — профессором кислых щей», — подумала Тася, здороваясь за руку со смутившимся парнем.
Не надо было обладать проницательностью, чтобы догадаться, с чего начинать разговор. Тася сразу спросила Осипа насчет водопровода: как он устроен и откуда пойдет вода? Обстоятельно, с увлечением Осип рассказывал о своей работе, которую он, как потом Тася выяснила, делал из любви к мастерству, без всякого расчета на оплату.
Выяснилось, что Осип выполняет множество других работ, абсолютно не интересуясь, начислит ему мать за это трудодни или нет. Заботами Осипа давно уже держится небольшая теплица, введена механизация на свиноферме и в коровнике. Кроме того, каждую зиму все свободное время Осип убивает на ремонт и остекление парниковых рам. Это был тот парень-универсал, которому все интересно и которому все хочется знать, сделать своими руками.
«Нет, не на острове надо жить этому пареньку. Ему простор нужен и учиться необходимо», — решила про себя Тася. Точно подслушав ее мысли, Осип со вздохом заявил:
— Не нравится мне здесь. Мне учиться хотелось. Я бы все равно сюда же вернулся после учебы. — Он надолго замолк и опустил глаза. А Тася напряженно соображала: «Будет здорово, если вот такой парень попадет в штат МТС. Для начала хотя бы на должность ученика механизатора. Такой быстро выучится. Говорят, что в МТС есть человек, обязанный заниматься артельной механизацией, но он пьянствует и в колхозы глаз не показывает». Тася поглядела на Осипа, подумала еще и заговорила:
— А что, если тебе, Осип, попробовать в эмтээс поступить? Ты бы смог без отрыва от производства в институте учиться.
— Думал я об этом, да знаю, что мать взбеленится. «Для того, что ли, я вас выкормила, чтобы на старости одинокие годы мыкать?» Вот чего она говорит все время.
— Есть должность в эмтээс — разъездной механик. — Тася нарочно употребила это слово, более звучное, вместо неопределенного «механизатор». — Он может жить у себя дома, но разъезжать по колхозам, что там нужно отремонтировать, установить, наладить.
Глаза у Осина загорелись. Он схватил Тасю за руку и тут же, опомнившись, отдернул руку.
— Поговорите с мамой, а? Поговорите. Вас она послушает. Я бы вот все делал, хорошо бы делал, на совесть.
— Обязательно поговорю. А сейчас вот что, Осип. Не сможешь ли ты часиков на несколько отлучиться в Корзиновку и наладить механизмы в свинарнике? Главное — насос пустить, но у него нет ремня.
— Это мы запросто, — успокоил ее Осип. — У меня есть кусок пожарного рукава, пока его поставлю, а потом, глядишь, и ремень добудем. Только вы поговорите с мамой, Таисья Петровна. Скучно мне здесь, спасу нет. — Он помялся и выложил ей все, что камнем лежало на душе:
— Брагу тут пьют, не пьют, а хлещут, можно сказать. Мать женить меня хочет, чтобы к себе привязать, а я комсомолец, привык к коллективу в школе, а здесь же все один.
«Как-то у меня там Сережка один? — озабоченно подумала Тася. Устроили его ребята в школу, как обещали, или нет? Сумеет ли он догнать остальных учеников? Сумеет. Он уже бойко читает и пишет, научили в детском саду. Только он парень бедовый, трудно учительнице будет. Как вернусь в деревню, обязательно в школу схожу».
Она отправила с Осипом записку, в которой наказывала Сереже не шалить, а ребят Макарихиных просила следить за ним лучше и одергивать при случае.
Разговор с Федосьей Ральниковой закончился не скоро. Федосья себе на уме, поддакивает, соглашается, а сама свою линию гнет.
— Боюсь я отпустить от себя младшего, боюсь. Смиренный он у меня, доверчивый. Обойдут его без меня, окрутят.
Легли спать поздно вечером, переговорили о многом, а вопрос об Осипе так и не решили. Парень вернулся из Корзиновки, послушал, послушал и сумрачный залез на печь. Долго ворочался, вздыхал он там. Федосья не выдержала и среди ночи сердито закричала из другой комнаты:
— Перестань кряхтеть, как домовой. Пойдешь завтра куда надо. Эк тебе мать-то надоела. Враг она тебе, враг?!
— Федосья всхлипнула и высморкалась.
Осип обрадовался, затих. Утром он проводил Тасю в шестую бригаду, а сам с ее запиской убежал в МТС к главному механику.
В шестой бригаде агронома встретили неприветливо. Бригадир — бывший председатель, человек ущемленный и потому злой на всякое начальство. Особенно на то начальство, которое докучает расспросами и пытается что-то советовать или, еще тошнее того, берется приказывать.
Первая стычка у Таси была с овощеводом шестой бригады Разумеевым. Она осмотрела подвал, куда ссыпали картофель, и от негодования у нее дух занялся. Сруб подвала сгнил, во многих местах обвалился, сверху протекало. Сусеки были отгорожены на скорую руку. В дальнем углу подвала лежала куча прошлогоднего картофеля с болезненно-бледными ростками, напоминающими водоросли. Ссыпать сюда картофель можно было только на гибель. Тася остановила женщин, таскавших неотсортированный картофель, мокрый и грязный.
— Товарищи, что вы делаете? Здесь картошка замерзнет. Здесь она не сохранится.
— Пропадет, — подтвердили женщины и, опрокинув носилки с картофелем, пошли из подвала. Тася догнала их, стала сбивчиво убеждать в том, что этот труд бессмысленный и даже вредный.
Возле телеги столпились другие женщины. Слушали, слушали, и одна сочувственно сказала:
— Шли бы вы, милая бабонька, к начальству да ему бы все эти речи обсказывали. А мы что, люди малые…
Тася хотела сказать, что все в их руках, они хозяева и могут добиться чего захотят, но присмотрелась к унылым, равнодушным лицам колхозниц и поняла: ее разговоры — пустые разговоры. Обескураженная равнодушием колхозниц, она шла и от бессилия кусала губы.
Разумеев — высокий, костлявый мужчина с огромной цигаркой во рту, выслушав ее, согласно покачал головой.
— Безобразие, конечно. Я бы сказал, даже головотяпство. Однако яму ремонтировать некому да и средств не выделяют.
— При желании все можно сделать.
Разумеев смерил ее насмешливым взглядом:
— Вот ежели имеете желание, возьмитесь отремонтируйте, а нам покудова недосуг. — Он выплюнул цигарку в лужу и пошел от Таси прочь, покачиваясь из стороны в сторону, будто под той и другой ногой у него прогибались доски.
Тася догнала его и сказала, что она запрещает засыпку картофеля. Разумеев подумал и согласился:
— Ладно, я баб отпущу. Только отвечать за это вы будете.
— Хорошо, отвечу.
После этого она схватилась с бригадиром. Если до сих пор все, кого она встречала в шестой бригаде, говорили с ней вяло, нехотя, то бригадир кричал, бесновался, бегал по избе:
— Много вас туг указчиков! Поработали бы, не поспали бы… — И все в таком роде. Слушать его было не интересно.
— Почему вы не возите картофель в Корзиновку? Ведь было же решение правления? — Перебила она визгливого бригадира.
— Какое постановление? Пятый год постанавливают подвал отремонтировать, да до сих пор ремонтируют. Нам велено здесь засыпать, вот и засыпаем. Начальства много, ему видней.
«Любопытно, почему же тогда они так пристают к Павлу Степановичу? У него овощехранилища подготовлены, и ему приказывают возить картофель, а здесь все развалено и велят засыпать? — недоумевала Тася. — Надо будет завтра в Корзиновку возвращаться и выяснить. В заречные бригады позднее поеду».
Встреча Таси с бригадиром закончилась более мирно, чем можно было ожидать. Тася заявила, что, если завтра не приступят к ремонту подвала, она немедленно вызовет комиссию из МТС.
Утром рано визгливый голос бригадира уже разносился на краю деревни возле овощехранилища. Он пушил все начальство, которого, по его мнению, больше, чем картошек в подвале, грозил кулаком мужикам и женщинам, ремонтировавшим подвал. Залатают дыры, выбросят гнилье, и только. Настоящим ремонтом заниматься поздно. Это Тася отлично понимала. Но хорошо, что она хоть в малом добилась своего, не уступила.
Поздно вечером Тася с попутной машиной возвратилась домой.
На следующий день Тася пошла в правление. Там ее поджидала жена председателя. Та самая красивая женщина, похожая на цыганку, которая читала «Пионерскую правду» при первом появлении Таси. Она поздоровалась с Тасей за руку, прощупала ее через полуопущенные ресницы своими темно-карими глазами с лукавинкой.
— Что же это вы не изволите принять агрохозяйство? Обходите своего предшественника? Нехорошо так, нехорошо. Опытом старших товарищей пренебрегать нельзя.
— Каким? — спросила Тася, оглядывая женщину, о которой уже успела наслышаться. Не понравилась она Тасе и деланным радушием, и жеманством, скрывавшим что-то, должно быть, презрение ко всем на свете.
— Практическим, — насмешливо ответила Клара. — Теория без практики, как вам известно…
— Позвольте ключи от лаборатории, — попросила Тася, пытаясь скорее закончить колкий разговор.
— Ключ? Пожалуйста. Между прочим, там единственная ценность — замок на дверях. Остальное все растащено и перебито еще до меня.
— Так что мне опыт перенимать не на чем? — так же насмешливо поинтересовалась Тася.
— Рутина осталась, попробуйте ее. — задумчиво предложила Клара.
— Спасибо за совет.
— Не стоит благодарности. — Клара Птахина послюнявила мизинец, разгладила им брови, глядясь в кругленькое зеркальце, и полюбопытствовала: — Вас проводить до лаборатории?
— Я знаю, где она. Лучше объясните мне, пожалуйста, такую вещь: почему правление настаивает на том, чтобы из бригад свозить картофель и овощи в Корзиновку. Овощехранилища здесь, как я убедилась, далеко не лучше бригадных.
Клара стрельнула глазами по сторонам. Во взгляде ее отразилось мгновенное замешательство, но уже через секунду на этом красивом лице снова застыла ироническая усмешка.
— О, милая моя, вы делаете успехи! Уже познакомились с бригадами? Похвально, похвально! Однако со всеми претензиями советую обращаться к товарищу Птахину. Надеюсь, он вас выслушает внимательней, нежели меня. За сим разрешите откланяться.
На какую-то долю секунды глаза Клары блеснули изпод густых ресниц, и Тася увидела в них застывшую ненависть. «О-о, эта кошка когтистая. Не напрасно о ней так много слухов в селе», — отметила про себя Тася.
Лаборатория и в самом деле имела убогий вид. Большая комната, пристроенная к клубу. В комнате о двух окнах стояли стол, железная печка и скамья. Под скамьей и в печке порожние бутылки, на полу — конфетные бумажки, на столе пол-литровая банка из-под консервов. В ней на донышке остатки красного вина. Лабораторию кто-то посещал совсем недавно. Все «лабораторные» приборы, к которым относились стеклянные консервные банки, маленькие аптечные весы да несколько пробирок с отбитыми краями, уместились на окне.
Тася покачала головой, сходила домой, переоделась и взялась за дело. Сначала она затопила печку, потом принесла воды, согрела ее и принялась мыть пол. Стол и половицы она отскабливала старым ржавым ножом. Привлеченные шумом, в заброшенную лабораторию стали заглядывать люди.
— Охота тебе возиться, руки пачкать, — ворчала какая-то женщина, остановившись в дверях. — Ее, как построили, с тех пор не мыли. Сломать этот притон надо, а не обихаживать. Сколько тут грязных дел содеяно, сколько блуду сотворено…
Тася слушала и продолжала заниматься своим делом.
Пришел Осип, довольный, улыбающийся, и заявил, что он «с ног до головы оборудует лабораторию», поскольку это сейчас входит в его прямые обязанности. Парень летал как на крыльях и все старался чем-нибудь отблагодарить Тасю за то, что она освободила его от материнского гнева.
После Осипа прибежали девушки. Эти сразу зашумели, принесли воды, показали, куда что поставить, и единодушно постановили не пускать в лабораторию парней.
Рая Кудымова, Тася Стрельцова, Зина Головатских и еще девчата, имена которых Тася не успела узнать, сидели вокруг гудящей печки, строили планы на будущее.
Почти все они комсомолки, но их комсомольская организация существует только формально, вся их деятельность комсомольская закончилась, как только они закончили школу. Некоторые даже взносов не платили. Собрать их в кучу, привлечь к какому-нибудь общему делу, пробудить молодой задор — и получится коллектив.
Тася была из числа тех, кого всегда привлекают в коллектив, а не из тех, кто привлекает. Но сейчас положение менялось. С ней разговаривали как со старшим товарищем. Да и как могло быть иначе? Она — молодой специалист, грамотный человек. Кому, как не ей, возглавить деревенскую молодежь?
Девушки так прямо и говорили, что они уже давно ждут, чтобы прислали человека, который расшевелил бы молодой народ. Хотела Тася возражать и не решилась. Она понимала, что ехала сюда не для того, чтобы вести уединенный образ жизни. Ее здесь ждали как организатора. А учить — это, прежде всего, работать, работать вместе со всеми и больше всех.
На Тасю нахлынуло чувство радости от сознания, что она необходима, нужна вот этим девчатам. Тася тут же развила перед ними планы будущей работы: агрозоотехнические курсы, практическая подготовка на снегу к посадке картофеля и кукурузы квадратно-гнездовым способом и так далее.
Девушки заскучали. Рая Кудымова разочарованно протянула:
— А мы думали, вы насчет самодеятельности поможете.
Тася осеклась, посмотрела на пригорюнившихся девушек и обняла их.
— Напугала я вас. Конечно, прежде всего нам нужно организовать молодежь, из углов вытащить, а потом уж о деле. У нас еще ничего нет. Даже секретарь не выбран, а мы уж размечтались. Впрочем, наши мечты не так уж несбыточны. Стоит только пожелать. Правда, девчата?
До самых сумерек судачили девушки в лаборатории о делах колхозных, потом пели песни. Народу в лабораторию набралось много. Заявились и парни. Несмотря на «постановление», их не изгнали. Пол снова затоптали. Девушки решили мыть его поочередно и собираться здесь чаще. Рая Кудымова попросила Тасю прийти завтра на ток, в бригаду Якова Григорьевича. В этой бригаде работало несколько «механически» выбывших из комсомола. С ними нужно было поговорить, да и со всей бригадой Якова Григорьевича Качалова новому агроному не вредно было познакомиться.
Есгь в крестьянстве трудная, но увлекательная работа — молотьба. Даже в старые времена, когда молотили цепами, молотьба была самой радостной работой хлебопашца. Да и как ему не радоваться, когда хлеб, собранный с пашни, вот он, льется струёй из заскорузлых, натруженных рук.
И хотя молотьба на корзиновском току была не совсем своевременной, работа все равно шла дружно. На молотьбе, как на конвейере, любая заминка влечет за собой простой всей бригады.
Снопы в молотилку подавал Яков Григорьевич. В очках, в рукавицах-верхонках и расстегнутой косоворотке стоял он у молотилки, широкоплечий, сильный. С обеих сторон женщины подавали снопы на стол, или, как чаще говорят, на шесток. Яков Григорьевич единым движением раскатывал на шестке сноп и плавно подавал его в молотилку. Скоп за снопом исчезали в утробе машины. Случались моменты, когда подавальщицы не успевали за Яковом Григорьевичем, и тогда молотилка стучала громче, а Яков Григорьевич, положив руки на шесток, терпеливо ждал. Он ни разу никого не укорил, но по всей его напряженной позе, по нахмуренным бровям было видно, что он недоволен. Подавальщицы начинали бегать проворней. Яков Григорьевич, подвигая вперед снопы, иногда чуть заметно улыбался, глядя на них. Если попадал сырой сноп, молотилка взвизгивала и ремень, идущий от движка к молотилке, начинал пробуксовывать. Тогда переносье бригадира пронзала морщина, словно не молотилке, а ему было тяжело.
Тасе вначале непонятно было, как это Яков Григорьевич не мерзнет в одной рубашке, а теперь она и сама сбросила с себя телогрейку. Пока сбрасывала, куча соломы прибыла. Быстро ее граблями в сторону, к скирде. Только отгребли, а там уже опять ворох. Тася вначале глядела на работу со стороны, но Райка Кудымова сунула ей грабли в руки и оголила белые зубы:
— На молотьбе лишних не бывает.
И верно.
Прошел час, другой. Солома струилась непрерывным потоком, и не было ему конца.
Тася отгоняла мысли про обед, но они неотвязны, как эта самая солома, что волнами катилась из молотилки. Хлеб ты, хлеб, как тяжело достаешься людям! Наконец молотилка перестала взвывать, пошла вхолостую.
Яков Григорьевич поднял очки на лоб, смел рукавицей сор с шестка.
Тишина. Такая удивительная тишина — в ушах звенит.
Тася упала на шуршащую шелковистую солому. Лежала, не способная двинуть ни рукой, ни ногой. Девчата тоже свалились на солому, но они тотчас же начали хихикать и возиться. Одна из подавальщиц сняла платок с потной головы, хлопнула его о бедро и заявила:
— Ну, Яков, давала я закаину не ходить с тобой на молотьбу, и вот мое последнее слово: больше — ни боже мой, золотом осыпь, замуж выдать пообещай, не пойду…
Другая подавальщица поддержала свою напарницу:
— Ему что? Он чисто конь здоровущий, валит и валит, язви его, без передыху…
Яков Григорьевич не обращал на них внимания. Он сидел на чурбаке, неподалеку от молотилки и медленно свертывал цигарку. Пальцы у него дрожали, и крошки табака сыпались на подол рубахи. Одна из подавальщиц набросила ому на плечи телогрейку.
— Остынешь ведь, оглашенный. Последнего мужика решимся…
Яков Григорьевич прикурил и сердито пробубнил двум парням, которые дымили, лежа на соломе:
— Охота вовсе без хлеба народ оставить? И так не лишка получим.
Парни спрятали папироски в рукава и исчезли с глаз. Яков Григорьевич объявил:
— Болтать кончайте. Шагом марш по домам. На обед час, ждать никого не стану.
На этом все распоряжения окончены. Яков Григорьевич показал мехнику пальцем на ток. Это значило: механик должен поглядывать за всем, а сам бригадир пошел в деревню позади шумливых молотильщиков.
Кажется, никогда еще Тася не обедала с таким аппетитом, как сегодня. Две тарелки супу, тарелка тыквенной каши с молоком, чуть не полбулки хлеба и кружка чаю.
Куда только влезло? Удивительно! Блаженно растянувшись на скамейке, Тася тут же задремала. Ребята подсунули ей под голову подушку. Пришла Лидия Николаевна, глянула на нее и захохотала.
— Утешил тебя Яков-то!
Тася потянулась так, что захрустели суставы.
— Он и не таких, как я, способен утешить. Это он от труда такой, от работы. Здоровый у вас труд, тетя Лида. Тяжелый, но здоровый.
— Труд вполовину легче, когда он в радость. Мы за такой труд и боремся. Слышала новость?
— Какую?
— При райкоме создана группа по зоне эмтээс, и возглавлять ее будет Уланов, парторг мартеновского цеха.
— Мельком слышала в третьей бригаде. Это ведь хорошо по-моему, тетя Лида, если непосредственно райком будет руководить эмтээс и колхозами.
— Если по-деловому, то хорошо. А пустоплясы, вроде Матанина, нам уже надоели. Настоящие бы люди за колхозные дела взялись. А ты вот что, голубушка, не рассиживайся. Яков аккуратность во всем любит.
— Ой, правда! — ахнула Тася, взглянула на часы и заторопилась.
— К людям, к людям лучше присматривайся, — наказывала Лидия Николаевна, — тебе с ними не только солому отгребать придется. Солома что…
Часть вторая На крутоярье
Глава первая
Будто ощупью пробираясь в потемках, над городом вначале неуверенно, потом громко проплыл заводской гудок. Час ночи.
Уланов возвращался из райкома. Там его только что «сватали», как выразился замещающий первого секретаря Матанин. Иными словами, Уланову предложили возглавить зональную группу МТС. Предложение это ошеломило Уланова. Можно ли посылать для руководства сельским хозяйством человека, который имеет весьма и весьма смутное понятие о нем! Оказалось — можно. Матанин, поминутно вскакивая с кожаного кресла первого секретаря, бегал по кабинету, заложив руку за борт пиджака и, точно диктуя на машинку, громко говорил:
— Тут дело такое, Уланов. Партия требует, чтобы в село были посланы самые лучшие, самые боеспособные товарищи…
Хотя Уланов старше Матанина на несколько лет, тот разговаривал с ним по-отечески снисходительно. Чем больше он ораторствовал, тем сильнее вскипало в Уланове чувство протеста и гнева. «От имени партии говорит, словами такими сыплет — и не вслушивается в них. Машина какая-то говорящая!» Между Матаниным и Улановым стол. Но не только стол разделяет их.
Уланов — член Пленума. Уланов известен не только на заводе, но и во всем городе. К его голосу прислушиваются, его слова ценят. И не было еще ни одного выступления, в котором он не зацепил бы Матанина. Сколько неприятностей перенес из-за этого тихого с виду человека Матанин. Не будь у Матанина покровителя в области, прогнали бы его, пожалуй, давно из райкома. Он притих было после сентябрьского Пленума, а потом увидел, что вообще-то для него лично это событие даже выгодно. Расчищая дорогу себе, Матанин почти никогда не снимал никого и тем более не съедал начисто. Он содействовал всячески выдвижению таких людей даже на более высокие посты. Вот он сделал все, что от него зависело, чтобы Уланова назначили секретарем по зоне МТС. Уланов в сельском хозяйство ни шиша не понимает, авось в здешних колхозах лоб себе расшибет. Если не расшибет, наладит дело, в чем Матанин не без оснований сомневался, — значит, не ошиблись товарищи из райкома, выдвигая его на эту должность. Допускал Матанин и такую мысль, что Улапов не согласится, начнет отказываться. Тоже не худо: «Уклонился товарищ Уланов от ответственного партийного поручения!» А если этим аргументом с толком воспользоваться, потом шум будет, и немалый. Хочется Матанипу «сосватать» Уланова, очень хочется, и он плетет словесную паутину, колесит, как лошадь с бельмами на глазах по полю кругами.
Чувствует Уланов фальшь в словах Матанина, но ему даже в голову не приходит, что такое огромное государственное дело можно превратить в интрижку. У него уже зреет решение. Уланов понимает, что доказывать Матаинну свою непригодность к новой ответственной должности бесполезно, убеждать в чем-то бессмысленно. А потому, когда Матанин наговорился, Уланов поднялся и твердо произнес:
— Хорошо, я подумаю. Только я желал бы предварительно согласовать этот вопрос с обкомом. Хочется мне побывать там самому.
— Да, пожалуйста, сделай милость, поезжай хоть завтра. Кстати, кое-кто в обкоме уже поставлен в известность, я сам советовался в отношении тебя. Одобряют. Не скрою. Да и как не одобрить? Лучшую кандидатуру нам трудно сыскать. — В голосе Матанина сквозила явная двусмысленность.
Уланов чуть заметно усмехнулся и начал прощаться. Матанин проводил его до дверей.
— Поезжай, согласуй, но помни при этом: речь идет о твоем росте и о партийном долге, — давал он на ходу наставление. — Так, теперь вот что: не задерживайся там, надо, чтобы до отчетно-выборных собраний ты сумел ознакомиться с положением дел.
«А он разговаривает со мной, как о деле решенном, — отметил про себя Уланов. — Н-ну и хват!»
Пока Уланов шел по спокойным улицам города, раздражение несколько поулеглось и в душе стала зарождаться смутная тревога: правильно ли он делает, намереваясь отказаться от нового назначения?
Иван Андреевич задумался, глядя с пригорка на раскинувшийся внизу город.
Завод отсюда виден лучше, чем с главной улицы. На фоне неподвижного облачного неба растопыренными перстами маячили трубы, а ниже их — громады домен. За рекой вспыхнуло зарево, заняло полнеба. Это опрокинули ковши с жидким шлаком на отвале. На корпусах домен обозначилось множество разных лестниц, площадок, труб. В мартеновском цехе, где окон было особенно много, стекла блестели неостывшими кусками окалины. Зарево за рекой медленно угасало. Город снова погружался в сонную темноту. Город мирно спал. Не спал лишь завод.
«И конечно же, правильно я поступлю, если откажусь от новой должности. Моя жизнь — завод», — размышлял Уланов.
Молодым парнем попал он на строительство Магнитогорского комбината. На всю жизнь запомнились ему тяжелые и кипучие дни строительства. Потом в цехах, которые ему довелось воздвигать, Уланов трудился у мартеновских печей. А после с такими же, как он, парнями поступил в институт. Вечерами со своими товарищами бегал на станцию, сгружал уголь, руду, лес, что попадет, чтобы приработать к стипендии.
Во время учебы он познакомился с белокурой смешливой девушкой Надей, которая училась в медицинском институте. После окончания учебы они решили пожениться. Но ничего не получилось. Любовь Нади оказалась недолговечной, и она вышла замуж за другого человека. Потом началась война. Большие события заслонили свое, личное, вытеснили обиду и боль из его души. Но до сих пор в нем таилось сожаление о прошедшей любви, о том, что его обобрали в дни молодости, унесли самое дорогое, светлое из жизни. Из-за этого и по сей день настороженно относился Иван Андреевич к женщинам. Но холостяцкая жизнь все больше и больше тяготила его.
С великим трудом перетащил он к себе на жительство отца, который работал в Сибири и не желал ни от кого зависеть. Отец его, Андрей Семенович — старый большевик. За участие в революции девятьсот пятого года был выслан в Сибирь. Там, в ссылке, он занимался самообразованием, не прекращал подпольной работы. После революции Андрей Семенович осел в Сибири. Трудился на ноностройках плотником. Из детей у него сохранился один Иван, остальные умирали маленькими. А недавно он схоронил и жену свою. Андрей Семенович человек горячий, ершистый. Жизнь в пустой квартире сына ему скоро надоела.
Иван Андреевич нажал кнопку звонка. За дверями послышался стук — это отец идет, опираясь на сучковатую палку, привезенную из Сибири. Палку эту он не без юмора называет тростью. У отца больные ноги, без палки он плохой ходок.
Иван Андреевич переоделся, вымыл руки. Тем временем отец собирал на кухне ужин. Кухня общая, на три квартиры. Отец старался не особенно греметь посудой, но это ему не удавалось. Иван Андреевич принялся за ужин, а отец пристроился у дверки плиты со своей стародавней трубкой. Он пальцем выгреб уголь, положил его в трубку. Спички лежали рядом, но он ими пренебрег. По его заверениям выходит, что раскуривать трубку от угля лучше — вкус у табака совсем другой.
Когда трубка разгорелась и начала уютно посвистывать, отец поднамерился сплюнуть, не сходя с места, но вспомнил, что тут не строительная площадка, проглотил горькую слюну. Руки отца лежали на коленях. Небольшие эти руки, но необыкновенные, быстрые, с крючковатыми пальцами. Они не привыкли быть без дела и поэтому долго на коленях не задержались, а начали искать что-то. Вот они наткнулись на трость и на время успокоились. Тоскливо отцу.
Иван Андреевич жевал жесткое, пережаренное мясо с хрустящей картошкой и не торопясь выкладывал отцу новости. Старик слушал его внимательно. Лицо его по-прежнему задумчиво.
— Засохло мясо-то? Я давно его поставил в духовку, думал, ты раньше придешь. — Старик с кряхтеньем поднялся со стула, выколотил трубку в консервную банку и как бы мимоходом спросил:
— Ты в обком-то решил поехать не только затем, чтобы того пройдоху вывернуть наизнанку?
— Нет. Я попытаюсь доказать, что посылать меня на село более чем неразумно.
— Та-ак, значит, более чем неразумно. Красиво сказано. Красиво, да неумно. Ты видел, как строят у нас некоторые мудрецы дома? Красоты и них много, а жить негде.
Иван Андреевич ничего не ответил. Губы его тронула чугь заметная усмешка. Раз отец упомянул про строительство, да еще про плохое, значит, будет сыну головомойка.
— Да ты не спеши улыбаться. Я тебе сейчас испорчу веселое настроение.
— Не очень-то оно у меня веселое, папа.
Но отец не принял эту реплику во внимание. Он сначала спокойно, а потом с горячностью стал говорить о том, что присматривался к жизни своего сына, а также к жизни его друзой, и ему горько делалось. Больно уж много людей развелось, которые ищут спокойной жизни. Многие даже так и считают: получили, мол, высшее образование, чтобы осесть на месте, зажить сытно, без волнений и тревог.
— Вот, к примеру, ты, — старик махнул в сторону сына мундштуком трубки, — инженер, коммунист. За хорошую работу, за душевное отношение к людям они тебя выбрали парторгом. Цех ваш работает хорошо. Люди у вас крепкие, дела партийные налажены. Ты уже всего добился. И можно благодушествовать, так, что лн? Значит, тебе безразлично, что люди еще нуждаются в твоей помощи. И вот если вдруг вместо тебя поедет какой-нибудь деляга на манер Матанина, насолит деревенским людям, которым и без того солоно, — это тебя не тревожит? То ж сельское хозяйство — не твой участок!. Нет, любезный мой. Старые коммунисты считали и считают — их участок там, где они всего нужней.
Иван Андреевич сначала еще пытался улыбаться. Потом он все ниже и ниже опускал голову. Отец снова набил свою трубку, пошарил уголек в плите, но его там не оказалось; он, так и не закурив, продолжал разносить сына, даже назвал его «барином-коммунистом». Старик разошелся до того, что заявил:
— Если ты откажешься поехать на село, поеду я. Ничего, рядовым рабочим в эмтээс возьмут. У меня еще никакой инструмент из рук не выпадет. Буду строительному делу людей учить: там профессия строительная сейчас очень необходима.
Зная, что отец попусту словами разбрасываться не любит, Иван Андреевич понял: отец уже давно все обдумал и решение уехать в деревню у него созрело не сейчас.
— Не живется тебе в тепле и покое! — с досадой уронил Иван Андреевич.
— Да на черта мне твой покой сдался! — вскипел старик. — Мне он как рыбья кость в горле. — Отец вспомнил про трубку, раскурил ее от спички и нервно застучал своей тростью, расхаживая по кухне. — Кисни здесь!
— Ты напрасно горячишься. Лучше подумай, как бы вместо пользы вреда не вышло. Ведь ничего я не смыслю в сельском хозяйстве.
— А в людях смыслишь? — горячо перебил отец. — Тебя посылают людьми руководить. Ты людям поможешь, они тебе. Запомни, что ты прежде всего коммунист, а потом уж инженер. И еще запомни, коли народу нужно, коли партия требует, ты сделаешься воином, землекопом, золотарем, секретарем по зоне, ком угодно, и при этом постоянно обязан заботиться о том, чтобы людям жилось лучше! Словом, делать то, ради чего ты назвался коммунистом. Только после того, как людям жизнь наладишь, можешь о себе думать, а пока.. — Отец помолчал и сердито закончил: — Может быть, мои суждения устарели? Но мы в молодости покоя не искали и думали всегда наперед о людях, о тех, кому взялись служить. Мы — добровольные слуги народа! — Он стряхнул искру со штанов и насупился, сомкнул брови. — И чего я слова трачу? Как это у Короленко-то? «Толкуй больной с подлекарем!» Наседки, черт вас задери! Пошли спать!
Молча прошли в комнату. Молча разделись. Старик покряхтел в постели и уже другим тоном добавил:
— Живешь, дьявол тебя задери, бобылем. Может, в деревне хоть женишься!
— Ну да, я женюсь, ты дом срубишь. Будет свое теплое гнездышко, а ты и не любишь, значит, снова переезжать, — усмехнулся Иван Андреевич.
— Экий ведь говорун. На слове ловит! Будто не понял, о чем я толковал. Я за уют, да не за такой, как в этой комнате. Мне еще в ссылке неживое жилье надоело. А что касается дома, так с полным моим удовольствием. Срублю пятистенок, женись только да насчет внука позаботься.
— Отдыхай давай, агитатор! — проговорил Иван Андреевич, щелкая выключателем. Он положил очки на тумбочку, лег на диван, закинул руки за голову и после продолжительного молчания вздохнул: — Задал ты мне задачу, батя.
Старик не откликнулся, сделал вид, что заснул. Пусть сын подумает наедине. Старик не сомневался, что сын найдет верное решение, иначе какой же он Уланов, чему же он тогда научился? А жизнь-то у него шла не по бархатной дорожке с узорчиками. Это старик знает.
Через два дня Уланов уехал в обком партии. Когда вернулся, сразу домой не зашел, а позвонил отцу с завода. Андрей Семенович помрачнел, сердито сомкнул губы. Сына встретил молча, испытующе поглядывал на него, но ни о чем не спрашивал. Иван Андреевич смотрел, смотрел на отца и наконец заговорил:
— Ты прав, отец! Наше место там, где мы нужнее. Собирайся, переезжать будем.
— Голому собраться — только подпоясаться. — не скрывая удовлетворения, пошутил отец.
Тася спешила из Корзиновки в МТС. Шла в резиновых полусапожках. Лидия Николаевна велела ей надеть валенки Юрия, но Тася отказалась. Очень уж эти валенки старые, неуклюжие. «Дрожи, а фасон держи!» — вспомнила она поговорку и прибавила шагу. Лидия Николаевна и Тася успели сильно привязаться друг к другу. Тася ничего не таила от Лидии Николаевны. А Сережка, тот вовсе обжился у хозяйки.
Тася улыбнулась застывшими губами, вспомнив про Сережку, и упрятала лицо в шаль. Ноги закоченели, пальцы пощипывало, дышать было трудно.
Со дня приезда в колхоз Тася всего несколько раз побывала в МТС, познакомилась с главным агрономом, получила зарплату, брошюры и учебники. В колхоз эмтээсовские приезжали часто. Только Чудинов избегал заезжать в Корзиновку. «От совести своей спрятаться хочет», — подумала Тася.
А вчера Чудинов неожиданно вызвал ее к телефону и официально сказал:
— Почему вы не являетесь на собрания и совещания? Они что, для вас необязательны? Завтра в шесть чтобы были в эмтээс. Приедет зональный секретарь.
Последние полкилометра Тася бежала и пулей влетела на второй этаж, громко стуча по ступенькам закостеневшими полусапожками.
— Ух, морозище! — запыхавшись, сказала она горбатенькой секретарше, прижимая руки к стенке печки-голландки.
— Да-а, нажимает, — посмотрев на улицу, ответила секретарша и, перелистывая какие-то документы, посоветовала: — Разуйся и погрей ноги, зашлись ведь.
Тася придвинула стул, разулась и приставила ноги ступнями к печке. Минуты через две она по-детски запричитала:
— У-ю-юй как щиплет!
— Тогда убирай скорее от горячего. Совещание позже начнется, займись чем-нибудь.
— Пойду в красный уголок, почитаю. Там тепло?
— Топили сегодня.
Она вышла в коридор. Из красного уголка доносилась задумчивая музыка. Кто-то играл на пианино. Тася, боясь потревожить музыканта, на цыпочках подошла к двери, тихонько ее открыла и застыла в изумлении: на пианино играл Васька Лихачев. Лицо Лихачева было грустное, глаза полузакрыты. Тонкие и гибкие пальцы его с черными заусеницами, осторожно скользили по клавишам. Тасе подумалось, что она ошиблась. Это был совсем другой человек. Не тот чумазый, разухабистый тракторист, которого она повстречала тогда в поле.
Будто почувствовав на себе пристальный взгляд, Лихачев повернулся. На лицо его медленно наползала усмешка.
— А-а, агрономша! Ну как, поднимаете сельское хозяйство?
— Как вы хорошо играли. Это что? «Соловьи-соловьи»? Седого, да?
— Прелюд Рахманинова, — ответил Лихачев и, подняв левую бровь, улыбнулся уголками губ: — Они очень схожи, спугать легко.
«Какой противный, — подумала Тася, — воображает, ломается. Такие вот любят балаболить где-нибудь в компании: „Музыки нынче нет, пьесы нет, на экране — белиберда! Порядочной оперы нашим не написать! Авторы вымирают. В прошлые времена было настоящее искусство!“»
Тася с иронией протянула:
— Ну, разумеется… Нашему брату лишь частушки под силу.
Лихачев уставился на нее и неожиданно громко рассмеялся.
— О-о, у вас язычок — бритва!
— Какой есть. Не обрежьтесь…
Теперь Лихачев смотрел на нее с нескрываемым интересом.
— Слушайте, — сказал он, все еще не меняя насмешливого тона. Несдержанность характерна для женщины, но она вредит. Так-то. — И уже просто, без усмешки добавил: — А вы тогда, в нашу первую встречу, поспокойней были. Нервность в вас появилась. Это от чистого сельского воздуха, да?
— Какая была, такая и есть. Это вы умеете на глазах меняться. И в тот раз вы были, мягко выражаясь, приподнято настроены.
— Ха-ха-ха! Занятно! Сошлись люди и спешат наговорить друг другу дерзостей. Пардон, пардон, Таисья Петровна. Я сегодня лирически настроен и не хочу ни с кем ссориться.
— А я и не собиралась ссориться. Откуда вы это взяли? — пожала плечами Тася и направилась к столу. — Я хочу почитать. Если не надоело, играйте эти самые прелюды или как их там.
Тася досадовала на себя. Взяла схватилась с человеком. Зачем? К чему? Откуда это ребяческое раздражение? Ну, увидела тогда в поле веселого забулдыгу. Почему-то появлялось желание встретиться с ним, словно со старым знакомым. Вот встретила, а он совсем другой: жеманный, красивый, похожий на тех, избалованных жизнью и талантами, молодых людей, которые живут под крылышком богатеньких пап и мам. Ну и хорошо, а ей-то какое до этого дело? Пусть ломается. «А в общем, я дура из дур. Нечего сказать, выдержка!..» Чтобы нарушить неловкое Молчание, она оторвалась от журнала:
— Играйте, играйте. Надо — я уйду!
— Нет, нет, вы мне не мешаете, да и не хочется больше играть. — Он помолчал и улыбнулся. — Между прочим, Таисья Петровна, я не советую вам портить со мной отношения. Меня ведь на зиму посылают в ваш колхоз — возить удобрения и корма. — Он хитро прищурился. — И, кажется, по настоянию агронома, а?
Тася в первый момент смешалась, но тут же овладела собой и откровенно заявила:
— Да, я просила, чтобы нам прислали трактор, и буду просить, но не имела вас в виду. Можете мне поверить, я всегда стараюсь говорить только правду. Лучше будет, если нам пришлют доброго тракториста.
По лицу Лихачева пробежала тень, но он продолжал говорить так же непринужденно:
— Добрый работник — это я! И мы с вами поладим. Мы, по-моему, сродни: помнится, ваша бабушка и моя — были женщины.
— Если вы трактором так же владеете, как языком, работник из вас в самом деле получится добрый, — ответила Тася и, отложив журнал, направилась к двери.
— А я что говорил! — крикнул ей вслед Лихачев и бросил пальцы на клавиши пианино.
Загремело пианино, а потом, словно сбывающая вода, музыка становилась тише, ясней и только время от времени в нее врывались какие-то буйные приливы. Тася послушала музыку, прежде чем открыть дверь в приемную. «А он все же ничего играет, неплохо, — подумала она. — Впрочем, мне до него нет никакого дела…»
В приемной уже было много народу. Из кабинета директора слышался говор и плыл табачный дым. С бумагами и папками в обнимку бегала туда и сюда секретарша.
Тася незаметно проскользнула в угол кабинета. Там она устроилась на старом гнутом стуле с круглым сиденьем. Стул стоял возле печки. Спину пригревало. Тася незаметно придвинулась еще ближе к печи и подумала: «Повезло!»
Чтобы не встретиться глазами с Чудиновым, который побагровел, заметив ее, она воспользовалась испытанным средством. Еще в детстве, на скучных уроках, она привыкла читать все, что попадало на глаза, и составлять буквы в пары. Если на вывеске или лозунге в конце оставалась непарная, она, махнув рукой на все правила грамматики, приставляла к одинокой букве восклицательный знак или точку.
В кабинете директора висели два портрета и два плаката. Тася не любила читать надписи под портретами. У нее было такое чувство, словно эти, в упор глядящие на нее, серьезные люди, могли изобличить ее в легкомыслии. Плакаты же висели в простенках, дальше за столом, и на них надо было смотреть через голову Чудинова и другого, худощавого, в очках, очевидно, нового зонального секретаря.
Оставалось одно: читать малоавторитетные слова, выведенные чернилами на пожелтевшей от времени бумаге: «Не курить», «Не сорить». Да и знала Тася заранее, что буквы в этих словах парные. Она высоко пронесла взгляд над Чудиновым, коснулась им лысины нового агронома и опустила глаза на секретаря. Точно почувствовав ее взгляд, новый секретарь порывисто повернул голову, на мгновение задержал глаза на Тасе, затем снял очки, еще раз посмотрел в ее сторону и начал развинчивать авторучку.
— Ну что ж, пожалуй, начнем. Командуйте, Николай Дементьевич, произнес он, перелистывая откидной блокнот.
Улыбка, с какой говорил зональный секретарь, понравилась Тасе. За этой улыбкой скрывалось смущение нового человека и некоторая неловкость.
«Интересно, знакомился он с моей докладной запиской или нет?» подумала Тася. Эту докладную она написала после того, как вошла в курс колхозных дел, разобралась в нуждах хозяйства. Сначала это была обыкновенная записка в виде отчета. Но после того, как Тася прочла ее Букрееву, Лидии Николаевне и Якову Григорьевичу, они сделали дополнения к записке — и получился целый доклад о колхозной жизни.
Там говорилось и об изменении планирования посевов, о перебазировке овощных площадей на остров, о пересмотре размеров личных приусадебных участков, об изменении минимума трудодней, о плохом руководстве колхозом и о многом другом, что тревожило умы и сердца честных колхозников, мешало им жить.
В этой же записке Тася просила, чтобы в нынешнюю зиму в колхоз «Уральский партизан» были выделены механизмы и трактора. Пока никакого ответа из МТС она не получила, и удобрения на поля вывозились только колхозными лошадьми.
Николай Дементьевич подождал, пока утихнет шум, обвел глазами комнату и кивнул головой:
— Откройте дверь, а то накурили, хоть топор вешай. Так вот, товарищи, концы-концов, появился у нас новый секретарь…
Тася невольно улыбнулась, услышав эти слова. Чудинова в госпитале так и звали; «Концы-концов». Она даже дразнила его слышанной в детстве песенкой:
Я послал туда батальон бойцов И победил, концы-концов…«Так, кажется, или нет? Боже мой, когда это было? Давно-давно. Слушать же надо».
— …О задачах толковать нечего. И так много переливали из пустого в порожнее. Задачи ясны, а кому нет, пусть лишний раз прочтут постановление Пленума, — говорил Чудинов.
— Сегодня будет или, наверное, должен быть разговор о том, как мы думаем вести посевную. Да, да, не смотрите на меня во все глаза. О посевной! Это я говорю своим старым соратникам. Мы тут привыкли о посевной говорить весной, вот некоторым и удивительно. Концы-концов, нас заставили и правильно сделали, готовить сани летом, а телегу зимой. Хотелось бы послушать агрономов в первую очередь. Начнем хотя бы… ну, с кого начнем? — глаза Чудинова прошлись по сидящим и остановились на Тасе, хитроватые, упрямые глаза.
— Ну хотя бы с товарищ Голубевой. — Чудинов кашлянул, зацепил крючком правой руки стул, пододвинул его и сел, приготовившись слушать.
Тася вспыхнула и уставилась поверх головы Чудинова на плакат: «Новый заем…», «Но-вый за-ем…» Но тут же спохватилась, выругала себя за легкомыслие. «С чего же начать? А скажу о том же, что и в докладной писала», — решила она. Но начать было не так просто. Все, что она увидела в колхозе и передумала, вдруг смешалось в голове. Да, высказать свои мысли сложнее, чем разложить чужие слова по слогам. А люди ждут, смотрят на нее, кто выжидательно, кто с интересом, кто сочувственно…
— Мое знакомство с колхозом «Уральский партизан» началось с лучшей, третьей бригады…
— Это где Букреев бригадиром? — заглянул в блокнот секретарь.
— Да, Букреев. — Тася замолчала. Ощущение у нее сейчас было такое, будто она сдавала экзамен. — Так вот, о третьей бригаде. Она, как известно, вырастила нынче, да и в прошлые годы выращивала, неплохой урожай… — Тася принялась крутить кончики шали, накинутой на хрупкие плечи.
Чудинов бегло посмотрел на нее, как бы ободряя взглядом, а новый секретарь поднял свои светлые брови.
— Ну, что ж вы, продолжайте.
— Сейчас я, — не переставая крутить шаль, тихо отозвалась Тася и смущенно улыбнулась. — Так много я увидела и услышала, что, право, не знаю, о чем и сказать.
— А обо всем, — сказал секретарь. — Мы специально вас собрали, чтобы познакомиться не только с вами, но и с вашими заключениями, а может быть, с планами.
— Хорошо, хорошо, — кивнула головой Тася, — я скажу тогда, все скажу, может быть, долго только.
И, поначалу сбиваясь, на ходу приводя в порядок свои мысли, Тася начала рассказывать. Постепенно она справилась с собой.
Перед глазами ее один за другим проходили те люди, которых она узнала в колхозе. Приходили со своими нуждами, бедами и надеждами.
Тася говорила долго, и, когда остановилась, на нее смотрели с нескрываемым интересом. Молодой парень в сером грубошерстном свитере, тоже новый агроном — из соседнего с «Уральским партизаном» колхоза, — задумчиво произнес:
— Да-а, оказывается, и и вашем колхозе те же болезни, что и у нас…
— А у нас, думаете, другие? — заговорила пожилая женщина в меховой шайке, из-под которой выбились прямые, коротко подстриженные волосы. — Те же земельные пятаки, та же неразбериха в планировании, семенное хозяйство запущено, колхозники в основном надеются на свои огороды и на колхозный рынок, благо, что на него съезжаются покупатели со всего горнозаводского направления, и цены, по моим подсчетам, на рынке почти в пять раз выше государственных. Безобразие!
— Скажите, а вы давно в колхозе? — обратился к ней Уланов.
Женщина сказала, что всего третий год, до этого работала в райсельхозотделе.
— Выдавил меня оттуда Матанин, неуживчивой сделалась, — усмехнулась она. — И хорошо сделал. Я бы вплоть до сентябрьского Пленума сидела в кабинете и липовые сводки собирала.
— Руководство, руководство во многих колхозах окостенело, — заговорил главный агроном МТС. — И нашим агрономам приходится больше усилий тратить на борьбу с рутиной, чем прямым делом заниматься.
— Ну, не везде уж так, — сказал Чудинов. — Всех под одну гребенку не стригите.
— Не знаю, как где, — вмешалась в разговор Тася, — а у нас темная контора в колхозе. Так я скажу. Перестали там жить нуждами колхоза, свои интересы ставят выше народных. Это мнение не только мое, но и всех честных колхозников.
— Что вы предлагаете, Таисья Петровна? — в первый раз обратился к ней Чудинов. — Я так и не понял, при чем тут, концы-концов, эмтээс?
— А при том, концы-концов, — осеклась Тася, вспыхнула и заторопилась: — На глазах у эмтээсовских руководителей творилась бесхозяйственность, а их это не касалось. А надо, надо вплотную заняться нашим колхозом и постараться обосновать овощеводство на острове. Там поля ровные и хорошо удобренные. В то же время нельзя сокращать посевов овощей и в третьей бригаде. Сразу остров не одолеть, особенно при нынешнем правлении.
— А как же быть с зерновыми? Ведь площади посева зерновых нам не сокращают. — вставил секретарь.
— Под зерновые можно разработать новые земли. Их много раскорчеванных, готовых.
— Вы имеете в виду покосы?
— Да.
— А вы знаете, что кормов в вашем колхозе ежегодно не хватает? - усмехнулся Чудинов. — Уже сейчас, небось, коровы с голоду орут?
— Пока не орут, но скоро начнут, — с запальчивостью отозвалась Тася. По причинам, вам хорошо известным. Покосов много, даже слишком много для колхоза, но покосы запущены, розданы на сторону, трава на них скверно растет. Многие луга вообще остаются нескошенными. Кроме того, пастбища организуются плохо. Не знаю, как это называется. Головотяпство или еще что? Но в колхозе «Уральский партизан» трудится пастух Осмолов, опыт которого распространяется во многих районах нашей области и других областей, зато а Чагинском районе, даже в самом колхозе, об его опыте и понятия не имеют. Пасет, мол, он, пасет — дело немудрое. Дай кнут любому мальчишке, назови его пастухом, и все. Я считаю, что за счет улучшения лугов, вырубки кустарников можно намного увеличить сбор кормов и часть новых земель использовать под посевы. Для этого, конечно, нужны машины и большая, не такая, как прежде, помощь эмтээс.
— Та-ак. Это надо обмозговать, — задумчиво проговорил Чудинов и рассмеялся: — Можно подумать, что вы не представитель эмтээс в колхозе, а наоборот!
— Да-а, вижу, нелегко начинать? — сочувственно сказал секретарь, обводя взглядом собравшихся.
Заговорили снова все разом, и, когда поутихли, секретарь снова обратился к Тасе:
— А как относятся к перемещению овощной базы остальные колхозники?
— Предложение старое, одобренное правлением, да война помешала осуществить его. После войны не те люди в правление попали, чтобы думать о будущем артели. Совещание затянулось далеко за полночь. Уланов попросил Тасго остаться после совещания, и она сидела ждала, когда он освободится.
— Давайте знакомиться, — предложил он, когда все вышли из кабинета, и подал руку. — Моя фамилия — Уланов, а имя — Иван, очень распространенное в России. Отчество — Андреевич. Не боитесь? — вдруг спросил он.
— Кого?
— Ну, тех руководителей колхоза, которых вы тут чесали во все веники.
— Почему я их должна бояться? Во-первых, там, в правлении, не все такие, а, во-вторых, есть очень сильный, правда — разрозненный, актив. После постановления люди воспрянули духом. Им сейчас надо помочь, во-время помочь, делом помочь.
— Вот что, Таисья Петровна, я обязательно на днях побываю у вас, хочется мне вникнуть во все эти дела. Видите ли, для меня это все совершенно ново. Я ведь прямо с завода и в эмтээс. Осматриваюсь, вживаюсь. Между прочим, я тут познакомился с вашей докладной запиской. Думаю, что кое-чем мы вам поможем. Все, что вы тут затребовали, дать трудно, пришлось бы эмтээсу переезжать в ваш колхоз. — Уланов глянул в сторону. — Но вы, видимо, действовали по принципу: проси больше, глядишь, хоть немного отвалят. И вот немного дадим: трактор на вывозку удобрений конструируется, точнее, уже находится в производстве — наш завод делает. Станки для изготовления торфоперегнойных горшочков тоже делает наш завод. Думаю, недельки через две станки будут в колхозе. Вот пока и все.
— И на том спасибо, Иван Андреевич. Вот только тракториста к нам назначили…
— Плохого?
— Не то чтобы… но со странностями. Будет ли из него толк?
— Я знаю, о ком вы говорите. Он в самом деле со странностями парень. Его посылали работать заведующим районным Домом культуры — он ведь образованный, музыкант, — отказался. Я уже беседовал с ним. Есть у него что-то на душе. Да ведь туда не вдруг заглянешь. Кстати, он сам просился в ваш колхоз, и очень настойчиво.
— Са-ам?
Иван Андреевич пристально посмотрел на нее и ничего не сказал. В кабинет возвратился Чудинов. Тася поспешила распрощаться с Уланоным. Переборов себя, подала руку Чудинову. Новый секретарь заметил какую-то перемену в Тасе, заметил, как она с усилием подала руку Чудинову и тут же выдернула ее. Немного даже удивился, но не придал этому значения. Не до того было. Слишком много и сразу свалились забот на нового зонального секретаря.
Глава вторая
Когда Тася вернулась из бригад, половина избы, предназначенная для нее, была уже побелена, печка истоплена. Яков Григорьевич сделал две скамейки, принес откуда-то старый стул, отремонтировал стол. На окна, на дверь, у шестка Тася повесила занавески, а на стены — две репродукции с шишкинских картин и плакат со спортсменами, который раздобыл Юрий. Он же вбил гвозди для одежды и надел на них катушки из-под ниток, чтобы не рвались вешалки. Потом она сама приколотила угловую полочку, поставила на нее часы, подаренные Лысогорским горкомом комсомола, складное зеркало, фотокарточки, бросила вышитые салфетки, дорожку, и в избе запахло «живым духом», как сказала Августа, жена Миши Сыроежкина, притащившая на новоселье цветок в деревянной кадушке. Спали Тася и Сережа на печке. Яков Григорьевич хотел сделать им топчан, но Тася запротестовала, надеясь, что в скором времени купит кровать. От первой получки на кровать не сошлось. И они так и спали на просторной, как палуба баржи, русской печи.
Поздравить новоселов приходили многие, и все приносили подарки, ибо с пустыми руками по старому русскому обычаю к новоселам не ходят. Многие приносили цветы, как бы дарили новым жильцам кусочек утвердившейся жизни. Появился даже редкий житель в здешних местах — кактус, который корзиновцы просто именовали «тещиным языком». На полу появились дорожка и плетенные из разноцветных тряпок деревенские круги.
Пожаловал на новоселье и еще один, совершенно нежданный гость. Пришел он поздно вечером. Сережка уже спал. Тася тоже намеревалась юркнугь к нему под нагретое одеяло, но дверь со скрипом отворилась, и из облаков морозного пара возник Карасев. Был он навеселе. Глаза его лучились довольством и удалью.
— Приветствую с поселением новых жителей села Корзиновки, провозгласил он и, не обметая феpoвыx бурок, прошел к столу. На ходу он вытаскивал из кармана бутылку.
— Ну, что-что, а пара стаканчиков, думаю, найдется? — подмигнул он Тасе и неизвестно чему ухмыльнулся.
Деревенские понятия о гостеприимстве несколько отличались от городских. Это Тася уже успела усвоить и потому не решилась прогонять Карассва. «Посидит и уберется», — подумала она, доставая стаканы.
Карасев снял меховую полудошку, шапку и уже мучился перед зеркалом, силясь жиденьким пучком волос замаскировать пятачок на затылке.
— Н-да-а, женщина — якорь семейного быта, — возгласил он и вытер расческу о штаны. Потом дунул на нее и, пихая в кармашек, продолжал рассуждать, приподнимая руку, закидывая вбок голову. — Вот вам, пожалуйста, еще один фактик. В запущенном, как говорится, Богом и людьми углу появилась женщина и вдохнула в него искру печного очага и уюта.
Тася вначале недоумевала, а потом на нее напало озорство.
— И где это вы выучились деликатному разговору, Аверьян Горасимович!? — восхитилась она.
— Прокатываетесь? — огорченно приподнял подбритые бровки Карасев. — А я ведь от чистого сердца к вам, как к городской, развитой женщине. К кому же идти? К нашим корзиновским аржанушкам? Мы с вами не совсем культурно поговорили тогда, в поле. Вы уж не обижайтесь… При общественном деле случаются всякие там нездоровые словечки.
Карасев захмелел, придвинулся поближе к Тасе и начал жалеть себя, холостого человека, поносить свою жизнь холостяцкую. Тася все еще с интересом и нарастающим чувством брезгливости слушала его, думая, когда его прогнать лучше — сейчас или немного погодя? А между тем Карасев сокрушался и намек даже сделал, что не прочь бы жениться, да вот подходящей пары нет, в деревне сплошные «аржанушки», а годы-то идут.
— И так хочется иной раз жить по-людски, и детишек своих иметь, и свой угол… Я ведь всю жизнь но чужим углам, Таисья Петровна, всю жизнь с какими-то непутными людьми… от грубости устал, от нечисти устал, от всего устал… Жизни хочется, обыкновенной, почитаемой. — И вдруг вскинулся, поглядел на нее просяще. — Скажите, смогу я еще, ну, как все… честно… культурно…
— Шли бы вы, Аверьян Герасимовнч, спать, — сказала с какой-то пробуждающейся жалостью Тася. — Выпили и ступайте. Разговоры ваши серьезные, и не сейчас надо об этом: поздно уже да и нетрезвы вы.
Карасев слушал, слушал ее, и выражение его глаз начало меняться, появилось в них что-то хитренькое.
— Холодно одной-то спать? — подмигнул он.
— Мы вдвоем, — сдерживая себя, ответила Тася, как будто не заметив перемены в его голосе и взгляде.
— Так то дите, еще смысла не знает.
— Вы, по-моему, сейчас насчет смысла тоже не совсем, — усмехнулась Тася. — Начали вроде бы со смыслом, а кончаете чепухой.
— Я-то? Я — чепухой? Скажешь тоже. Я все знаю, все понимаю. Твое вдовье дело тоже понимаю. Мышь соломку точит, и то… хе-хе… — Он вдруг торопливо облапил ее и, ища мясистыми губами ее губы, невнятно бормотал: Я знаю… мышь и то хочет… дело вдовье…
— Постой-ка! — сказала Тася таким деловым тоном, что Карасев ослабил объятия. Она встала, оттолкнула его руки и ударила его по щеке изо всей силы. Затем так же деловито сняла с вешалки его доху и шапку. — И быстрей! — приказала она, — а то я еще и поленом обогрею. Культуры… Обыкновенной жизни ему надо! Слизняк! Износился, истаскался… — Говоря так, Тася наступала на Карасева, а он ошарашенно пятился от нее к двери. Только на пороге он опомнился и начал матерно ругаться:
— Н-ну, погоди! — рычал он, натягивая доху, — погоди! Меня-а по морде!.. Я те… Ишь, недотрогу из себя строит! Знаем мы вас, недотрог…
Тася погасила свет и, прижав к себе Сережку, тихонько всхлипнула. Обидно! Случалось и раньше, пробовали ухаживать за ней мужчины, женатые обычно, но делали это не так бесцеремонно. Всегда становилось до того тяжко на душе, хоть волком вой. И почему это так считается, что раз оступившаяся женщина потом только и делает, что без конца оступается и привечает каждого встречного и поперечного. Гадко! Ох как гадко! Сама, сама виновата! Терпи теперь. Еще не все оскорбления и обиды испытала, еще не все.
Спать не хотелось. Она вышла на улицу, прислонилась к дверному косяку спиной и, засунув руки в рукава телогрейки, долго глядела в хмурое зимнее небо. Ни одной звездочки на небе, ни одного огонька в деревне. Тихо вокруг и холодно. Как, в сущности, иногда человек бывает одиноким!
Утром Лидия Николаевна между делом спросила:
— Зачем это Карасев завернул к тебе вечор?
Тася ответила сердито:
— Переночевать.
— И как?
— Постель жесткой показалась.
— А-а, подался, значит, на остров, там лучше принимают. Блудит он тут, как кот. Раздолье ему — мужиков мало, а нашего брата много. И потому не женится, стервец! — Лидия Николаевна вынесла ведро на улицу и, вернувшись, добавила: — А он не впервые уходит отсюда не солоно хлебавши. Ко мне тоже как-то на огонек завертывал.
— Да ну? — поразилась Тася. — Неужели и к вам осмелился?
— А что ж, я ведь тоже вдова, тоже баба, а не мерин, вот и желают иногда мужички, вроде Карасева, выручить!
Тася знала, что хозяйничает в колхозе в основном Карасев, а не правление и не председатель колхоза Зиновий Птахин. Безвольный он какой-то, этот Зиновий, будто мухами засиженный. Говорят, жена крутит им, как захочет, а Карасев, видимо, чем-то и в руках своих зажал. Поди-ка их разбери, что у них там?
Птахину было тридцать два года, а выглядел он, как старая, заезженная лошадь. Голос вялый, походка расслабленная. Делает он все нехотя, словно принудиловку отбывает. Последнее время даже на ругань колхозников перестал обращать внимание, хотя раньше он всякое выступление против себя помнил — и мстил. А еще раньше, когда прибыл в колхоз, был он хорошим парнем и дельным агрономом. Пока не женился на Кларе Заухиной.
Вначале все шло хорошо. Ну, женился человек, взял городскую девушку. В этом ничего уж такого вроде бы и не было: человек с образованием, агроном, гнет березу по себе. Но потом пошло. Супруга его раздобыла справку, что училась и только из-за нездоровья недоучилась в сельскохозяйственном техникуме, а потому, когда Птахина избрали председателем, она перешла на должность агронома.
Но наступили другие времена. В МТС после сентябрьского Пленума появились новые люди, началась проверка агрономов, и Клару вежливо попросили освободить место.
И надо же было Тасе угодить именно на это место, в этот колхоз! А тут целый узел какой-то, крепко стянутый. Кто его развяжет, когда, как?
А пока в работе и заботах незаметно проходили дни. Все дольше и дольше задерживались парии и девушки в жарко натопленной комнате, которую по старой памяти все называли лабораторией, но которая сделалась скорее красным уголком. Тася читала здесь брошюры и книги, рассказывала о том, что знала сама. Переговорив и поспорив о многом, ребята и девушки пели голосистые деревенские песни.
Начались занятия в агрозоотехническом кружке. Нужно было непременно, еще зимой, начинать подготовку к посадке картофеля и кукурузы квадратногнездовым способом. Тренировки решили проводить прямо на снежном поле. Хватились, проволоки нет. И, как всегда, в затруднительную минуту на помощь Тасе пришел Осип.
— Таисья Петровна, я знаю, где достать проволоку.
— Расскажи, если знаешь.
Осип сообщил ей: в лесу есть старая телефонная линия. Она связывала раньше дальний лесоучасток с леспромхозом. Лес там вырубили еще в войну, а линию не сняли. Ближние столбы спилили на дрова. Дальше линия почти вся висит на столбах и деревьях. Осип уже несколько лет пользуется алюминиевой проволокой от этой линии.
Тася посоветовалась с Яковом Григорьевичем. Он махнул рукой: дескать, все равно добро пропадает, пользуйтесь без всяких разговоров.
В воскресенье ребята и девушки направились в лес. Почти все были на лыжах. Вдоволь нахохотались ребята, пока немножко научили ее ходить по ровному месту, а с гор она и сама катилась, лихо, с хохотом и — в сугроб головой. Из леса возвращались усталые, но довольные.
— А ведь нам, ребята, пора создавать свою комсомольскую организацию, сказала Тася, сбросив на остановке с плеча круг проволоки.
— Конечно, пора, — откликнулось сразу несколько голосов. — Что мы, хуже людей?!
— Давайте сначала так сделаем. Соберемся в клубе, всех комсомольцев созовем из бригад, поговорим, с чего начинать, выберем секретаря, а потом в райком комсомола заявимся, вот, мол, пожалуйста, сами пришли, помогайте.
— Правильно. А то они пока соберутся к нам, вся молодежь состарится.
— Нужно, Тансья Петровна, из бригад собирать пе только комсомольцев, а всю молодежь. Встряхнуть надо наш народ, скучно ребятам и девушкам в бригадах живется, еще скучней, чем нам.
Эту поправку Тася приняла с большой охотой. Она предложила каждому корзиновскому комсомольцу выбрать себе бригаду, в которой он мог бы провести подготовку к собранию.
В колхоз прибыл трактор. Бойко развернув машину возле правления, Лихачев своротил санями старый телеграфный столб и, напевая «Три танкиста выпили по триста, а начальник целых восемьсот…», вошел в дом. Его встретили приветливыми возгласами и рукопожатиями. Люди, подобные Лихачеву, обычно бывают почти со всеми знакомы.
Сморщившись от дыма, Лихачев обвел глазами запущенное помещение и покачал головой.
— Ну и учреждение! Чайную восточного стиля напоминает, бандуру бы еще. А ты чего, председатель, уныл, как банная скамейка? — осведомился Васька, здороваясь с Птахиным.
— Здесь доведут, — буркнул Зиновий и, любезно протянув открытый портсигар, поинтересовался: — Надолго к нам?
Васька от папирос отказался и, не переставая греть руки у раскаленной буржуйки, сообщил:
— На зимний сезон. Имеем приказ навозец возить на поля, создать, так сказать, базу будущего урожая.
— Не Петровна ли потребовала трактор-то?
— Она, кажется.
— Та-ак. Значит, она самоуправничает. Интересно, куда ты думаешь ставить трактор на ночь?
— Право думать я предоставляю вам. Мое дело махонькое — лучше каши не доложь, но от печки не тревожь, — хохотнул Лихачев и повернулся к печке задом. — А вот и агроном Голубева, — кивнул он головой, увидев вошедшую Тасю. — Долгонько вы, товарищ агроном, спите. Так можно проспать всех женихов.
— Вы трактор не проспите, — огрызнулась Тася и повернулась к Птахину. — Я не успела вам вчера сказать насчет трактора. Нам его из эмтээс выделили на вывозку удобрений. Надо стоянку ему отвести. Заправляться трактор будет на складе эмтээс.
— С Карасевым говорите насчет стоянки, а мне не до нее. Вон с годовым отчетом замучился. То не бьет, другое не бьет, третьего не достает…
Тася сердито нахмурилась, хотела посоветовать, чтобы он не спал на ходу, тогда сойдется, но сдержалась.
— Нет уж, будьте добры, сами решите этот вопрос, — спокойно отрезала она, — а я к Карасеву не пойду. У меня своих хлопот достаточно. — И вышла из правления.
— Ну, как? — спросил Лихачев. — Я вижу, вы тут ладите!
— Ладим. Мы все тут ладим, да сладу мало, — угрюмо отозвался председатель и, поднимаясь, сказал: — Ты не скаль, Васька, зубы, а давай гони трактор в кузню, там в пристройке тоже когда-то трактор зимовал.
— Вот и решена задача. Действовать надо, мозгой шевелить, и поднимем мы на небывалую высочу вверенное нам хозяйство! — заключил Лихачев, натянул рукавицы и спросил: — Баян жив? Клуб топлен? Сегодня на танцы прошу, а то вы, я вижу, совсем осатанели от общественных дел и позабыли даже о том, что, кроме труда, существует еще искусство. Так-то!
В конторе захохотали. Даже бухгалтер поднял голову и, взглянув из-под навеса бровей, с улыбкой сказал:
— Ты, Васька, все такой же баламут!
Но Лихачев его уже не слышал, скатываясь по затоптанному крыльцу в новых валенках.
Вечером в клубе гремел баян. Со всех концов деревни тянулся народ к клубу.
Шли, поплясывая от мороза, в капроновых чулках девчата из дальних бригад, неизвестно откуда узнавшие о танцах. Появились даже заречные. У клуба толпились молодые парни, и, когда вышел па перекур Лихачев в коричневом, ловко сидевшем на нем костюме и шелковой рубашке, ребята наперебой начали предлагать ему папиросы.
Девчата танцевали не совсем правильно, но самозабвенно, с душой, наступая друг другу в тесноте на ноги. Из ребят танцевали немногие. То ли не умели, то ли делали вид, будто танцы — это занятие, недостойное мужчин.
Лихачев широко растянул баян, поглядывая на дверь. Показалась Тася, подвязанная белой шалью, в старой, но опрятной полудошке, и Лихачев радостно кивнул ей головой. Она проскользнула на сцену и вышла оттуда в нарядном шерстяном платье. Она немного смущалась тем, что впервые появилась на людях в праздничной одежде, и тем, видимо, что где-то внутри лишила себя права наряжаться и появляться на танцах. Это смущение и неловкость проскальзывали в ее улыбке, в торопливых движениях.
Радостное, теплое чувство подкатило к самому сердцу Василия. Он еще сильнее нажал на кнопки баяна и начал подпевать:
У меня есть сердце, А у сердца песня…Потом он громко спросил:
— Хлопцы! Может, кто-нибудь подменит меня? Изнемогаю.
На сцену поднялся смущенный паренек и заиграл единственный в его репертуаре вальс «Дунайские волны». Лихачев соскочил со сцены, приблизился к Тасе, которая все еще стояла, прижавшись к стене, и неожиданно робко попросил:
— Разрешите, Таисья Петровна, пригласить вас на вальс.
— С условием, что вы не будете паясничать. Хорошо?
Он покраснел, заторопился, забормотал:
— Конечно, конечно.
И они закружились по старым, щелястым половицам. У Таси немножко перехватило дух. Она танцевала напряженно, боясь выбиться из ритма. Она так давно не танцевала, так давно не танцевала! Пожалуй, с выпускного вечера. Потом не до танцев было. И светлые огоньки загорелись вдали, и едва слышались звуки музыки, сладкой, волнующей, теплой струйкой проникающей в сердце! Будили эти звуки полузабытые воспоминания, и виделась Тасе лупоглазая девочка с острым: и плечиками, в светлом школьном зале. На спине у нее напряженная рука подростка, который изо всех сил старался не наступить ей на ноги и смотрел, смотрел на нее. Они, кажется, сидели на одной парте, обещали вечно дружить друг с другом, а она вот даже не помнит сейчас, как его звали — Коля? Толя? Ваня? Да не все ли равно? Главное, что был он, этот мальчик с пушком на верхней губе, был школьный зал с яркими огнями, была музыка, и купалась в ее мягких волнах лупоглазая девочка, и было ей так же славно, как сейчас Тасе. И пусть всегда будет так, пусть никогда не затухает ощущение молодости и сладкой грусти, пусть звучит музыка.
…И звучала музыка до поздней ночи, а на улице потрескивали от мороза примолкшие избы и сквозь стынущий туман кое-где мигали огоньки.
Глава третья
Спустя несколько дней после совещания в МТС в Корзиновку приехал Уланов.
Птахин с интересом присматривался к секретарю, оценивал его, взвешивал. Секретарь не произвел на него нужного впечатления. «Мелковат, нравом застенчив, а тут сейчас надо бы генерала-рубаку, чтобы цыкнул так, что у колхозников дух бы захватило».
Так думал Птахин и докладывал о положении дел в колхозе. Говорил он о колхозе как о безнадежном хозяйстве, явно давая понять: послужил он на посту председателя — и с него довольно. Уланов все больше и больше хмурился. Птахин спохватился и начал сдабривать свой унылый рассказ поправками:
— Конечно, не все у нас так уж плохо. Вот, к примеру, молочные фермы образцовые, ничего не скажешь. Там Макариха орудует. Бабенка хозяйственная и настырная: из горла вырвет для своих коров.
— Как это для своих?
— Ну, я имею в виду форменных. Для нее все равно, что свои. Может, с фермы и начнем осмотр нашего хозяйства? Я вам в экскурсоводы агрономшу дам.
— Я не на экскурсию приехал, товарищ Птахин. Агроному и без нас дела хватает.
Птахин нахлобучил шапку и, снимая с вешалки полушубок, пробурчал:
— Как же, дел много! Молодняк в кучу собирает, вечером песняка дерут на всю деревню, книжечки им почитывает агрономша, шутейные квадраты на снегу делает. Развлекаются, словом, как умеет, сглаживает серые деревенские будни.
— Сама не спит и другим не дает, да? — скосив глаз на Птахина, сказал Иван Андреевич.
— Пустозвонов да тех, кто спектакли умеет представлять, у нас и без нее хватало. Вот только работать некому. Пойдемте, я вас сам провожу.
На улице он открыл портсигар с двумя легавыми собаками на крышке, протянул его Уланову.
— Курите?
— Спасибо, я свои. — Прикуривая из лодочкой сложенных ладоней, Уланов искоса рассматривал лицо Птахина, на котором застыли равнодушие и сонливость.
— Вы что же, Зиновий Константинович, махнули, значит, на хозяйство рукой? — заговорил Уланов, шагая по усыпанной сенной трухой дорожке.
Птахип затянулся, выпустил клуб дыма и проводил его взглядом в небеса.
— Это что же, на совещании меня так аттестовали?
— Нет, я сам нижу.
— Ах, сами! Тогда другое дело. Только первые впечатления часто обманывают.
— Разумеется, разумеется. Я конечных выводов не делаю.
— Когда человек с чинами делает конечные выводы, то у нашего брата жизнь печальная получается. Не дай Бог дожить до конечных выводов.
— Да-а, пожалуй, — заметил Уланов. — Не советую.
Дальше шли молча. Крутила поземка. Ветер в куделю растеребливал дым над домиком, стоящим перед двумя длинными помещениями молочных ферм. Пока шли по открытому месту, от деревни до фермы, снег успел насыпаться за воротник и щекотно там покалывал.
Вошли в помещение. После несильного, но пронзительного ветра ферма показалась тихим, сонным царством. Секретарь ничего не видел сквозь затуманенные очки, но уже уловил давно забытые запахи перепревшего сена, резко бьющий в нос аммиачный дух. Слышались сопенье и вздохи коров, слышалось, как они лениво переваливали во рту жвачку.
Уланова охватила какая-то тихая грусть, и, пока он вытирал очки, перед ним промелькнули давно забытые картины: изба на краю старинного сибирского села, крытая не то тесом, не то дранкой. Дранкой, наверное: где было достать тесу ссыльному отцу? Сзади избы стайка с подслеповатым окном. И в этой стайке был точно такой же запах, такие же задумчивые коровьи вздохи. В окошко железными вилами выбрасывал навоз удивительно знакомый мальчишка. Корова сторонилась, наблюдая за его торопливыми, не всегда удачными бросками. Мальчишка побаивался добродушной коровенки и, держа наготове черенок вил, покрикивал: «Бодни попробуй! Я те бодну!..»
Очки уже протерты, водворены на место. Вот на табличке написано: «Зойка». Из стойла выглядывала чернявая шустрая коровенка и норовила кривым рогом смахнуть жердь-затвор. «А как же ту тихую корову звали? Чалухой? Ну да, Чалухой». Помнится, отец партизанил, корову забрали белые и, когда ее уводили со двора, мать, глядя в замерзшее окно, на котором ребята отдышали пятнышко, по-деревенски, громко завыла: «Кормилица ты наша, Чалушонька… Теленочком, ведь теленочком я тебя, милую, взяла… Как жить-то без тебя, родная?..»
Иван Андреевич без надобности поправил очки, и видения исчезли. На него уставилась Зойка фиолетовым, как слива, глазом.
— Ну что, Зойка, как жизнь твоя молодая протекает? — с улыбкой спросил Уланов и погладил ее между рогами. Зойка доверчиво потянулась к нему, шумно дохнула в лицо. — Угощения требуешь? А я недогадлив. Плохо, видно, кормят тебя тут? Плохо, да? Считают, что ты корова сознательная, без корму выдашь цистерну молока…
— Насчет кормов, оно, действительно, у нас полная прореха, — услышал Уланов и оглянулся.
За ним в подшитых валенках, в старинной барашковой папахе стоял старик с маленьким сморщенным лицом, на котором резко выделялись кругленькие светлые глаза.
— Пастух Осмолов, — представил его Птахин, — между прочим, лучший пастух в области. На разные совещания ездит и все такое.
— Слышал, слышал о вас, товарищ Осмолов. Рад познакомиться.
Осмолов ответил на рукопожатие своей сухой, цепкой рукой и пошел впереди.
— Так вот, — говорил он на ходу, — оно, конечно, неудобно при председателе критику наводить, но я скажу, пусгь хоть разобидится, потому что хозяйство вести — не штанами трясти. Я летом холю коров, кормлю каждую чуть ли не с руки, а зимой их в могилу сгоняют, березовой да осиновой кашей кормят. Сами бы березу-то без ничего погрызли, а после этого их за дойки потягать. Какое выражение на лице будет?..
— Ладно, довольно, — насупился Птахин, — слышали все это не раз. Побереги запал до отчетного.
— А я и на собрании скажу, не заробею, и сейчас скажу, не только для тебя, а может, и для нового человека, товарища секретаря. Ну, чего, Туалета, глядишь на меня? Дочку ждешь? Милая, дочку! Эх ты! Жалко, язык у тебя мычать только умеет, а то бы ты сказала словечко, хоть и волк недалечко. На-ко вот, разговейся маленько, — и старик сунул ей в губы черную корочку хлеба.
Корочками и кусочками у него были набиты все карманы. Каждую корову он оделял этими корочками, с каждой вел разговоры, и в дальнем конце фермы коровы, высунувшись, поджидали его, некоторые жалобно мычали, словно жаловались.
— Иду, иду! — крикнул Осмолов и, повернувшись к Уланову, сказал: — Вот Туалета — гордость нашей фермы, умница наипервейшая. Мои разговоры до тонкости понимает. Словом, королева. Я ей и имя дал заграничной королевы.
— Это какой же?
— А бес ее знает. Внук читал книжку вслух, и больно мне приглянулось имя той Марьи Туалеты.
— Стой, дедушка, ты, очевидно, разговор ведешь про Марию Антуанетту, французскую королеву?
— Може, и хранцузскую. Слышь, Туалета? Хранцузское имя-то у тебя, оказывается. — И старик подмигнул белой корове с черными пятнами над усталыми глазами, с округло раздувшимся животом. — Ну, побереги себя, ложись, ложись. Я еще приду к тебе, приду.
Корова отступила назад, грузно потопталась и начала осторожно ложиться.
— Во-во, так, умница, не ушиби его, не ушиби теленочка-то.
Прибежала Лидия Николаевна, раскрасневшаяся от мороза. Птахин представил ее. Иван Андреевич протянул руку. Лидия Николаевна, прежде чем поздороваться, вытерла свою руку о передник, чем немало смутила секретаря, и проговорила:
— Вы уж извините, что не могла вас встретить. В поле ходили за соломой. Сено кончается, так теперь уже наполовину даем, а что будет к весне — уму непостижимо. Чего морщишься, председатель? Неприятно слушать?
— Привык уж ко всяким разговорам.
— Оно и видно. Только от твоих привычек колхозу пользы никакой.
— Вон как! С каких это пор?
— Тебе это лучше знать, подумай, если забыл, времени у тебя свободного много. А сейчас вот что объясни: почему не разрешаешь силосные ямы открывать? Почему кормозапарники до сих пор не подготовлены?
— У меня, кроме фермы, есть над чем голову ломать. Это раз! - обозлился Птахин. — И если по вашему разуменью, стравить сейчас коровам сено, силос, солому — весной повезем скот на живодерню? Это два!
— С осени надо о зиме-то думать, с осени. — ввернул Осмолов, — а когда промотаешь ворохами, трудно собирать крохами. Нечего на коровьем брюхе экономить. Скоро отел начнется. Не маленький, понимаешь, что это такое.
— Ладно, отложите критику до отчетного, еще раз говорю.
— Конечно, и там потолкуем, — сдвинула брови Лидия Николаевна. — Но и сейчас слушай, да не вороти нос-то, не вороти. Хвастать фермой вы с Карасевым любите, а у нас на плечах уже коросты от вязанок. Ветку на себе таскаем, солому тоже. Замучились от тяжелой работы. Ладно, еще девчата не разбегаются. Твою бы Клару сюда!
— Клара не по своей воле дома сидит, — вспыхнул Птахин и торопливо добавил: — Что-нибудь придумаем насчет подвозки кормов. Чего это Карасев делает? Кругом завал!
— Карасев твой по бабам таскается. Ему некогда о колхозе думать.
Уланов не проронил ни слова. Его, производственника, коробили такие разговоры. В цехе так никогда не получалось, чтобы люди работали, старались, а начальники не знали, что у них и как у них. Ходили бы себе где-то, выпивали, блудили, а потом пот так, явившись перед этой женщиной с усталым лицом, огрызались потихоньку. Все закипело у него внутри, и, едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос, Уланов сурово сказал:
— Вот что, товарищ Птахин, не что-нибудь придумаем, а немедленно организуйте подвозку соломы и сена трактором, который вам прислан. Так? Прикажите открыть силосную яму и организуйте подвозку силоса прямо к ферме. Когда будет создан запас кормов у фермы, поставьте на постоянную подвозку веток и корма двух лошадей, в их числе и ту, на которой катается ваш заместитель Карасев. Это обязательно! Все! А вам, товарищ бригадир, я не рекомендую таскать вязанки и тем более заставлять это делать девушек. Как я понял, ваши непосильные труды лишь расхолаживают руководителей колхоза.
Лидия Николаевна вся подобралась, заслышав такие, непривычные в колхозе, категорические приказания. Ответила она строго, с достоинством:
— Мы ведь не ради удовольствия вязанки таскаем. Конечно, это не спасение. Надолго ли нас хватит? Хорошо, если вы свои указания потом проверите. — Лидия Николаевна покосилась на Птахипа. — А то ведь у нашего начальства память короткая.
— Я — производственник и привык, чтобы мои приказы выполнялись без проволочек. Я людям доверяю всегда и проверять их на каждом шагу не считаю нужным.
— Слышал, председатель?
— Слышал. Постараюсь оправдать доверие, — с кривой улыбкой ответил Птахин. Но в голосе его иронии не было.
— А ферму в самом деле можно сделать неплохой, — как бы сглаживая резкость, произнес Уланов. — Люди здесь хорошие, настоящие хозяева, и вы, Зиновий Константинович, напрасно руки опустили. Кто меня сегодня ночевать пустит, товарищи?
— Милости прошу к нам, Иван Андреевич, в тесноте, да не в обиде, пригласила Лидия Николаевна.
— К нам, пожалуйста, — неуверенно промямлил председатель.
Осмолов тоже позвал к себе, но Уланов отказался:
— Пойду я к бригадиру. Мне нужно о многом с Таисьей Петровной поговорить. Кстати, где она?
— Угнала Ваську Лихачева с трактором в заречные бригады и сама с ним уехала, удобрения повезли.
— Как у них дела?
— Покусывают друг друга, острозубы.
— Только у агрономши-то зубки вроде поострее, — улыбнулся пастух Осмолов.
— Это так, — мрачно подтвердил Птахин.
Уланов посмотрел на него и снова нахмурился.
В деревне уже зажигались огни. Лидия Николаевна и Осмолов больше не донимали председателя разговорами, а сам он в драку не лез. Птахин шел, попыхивая папироской. Чувствовал он себя отвратительно. Ждал нового секретаря, хотел с ним о многом переговорить, выложить все, что лежит грузом на душе, а получилось нескладно: улыбочки, усмешечки и все такое. «Откуда и лезет все это? Да и секретарь тоже силен. Появился первый раз в колхозе, а уж командует, как взводный. Впрочем, у нас сейчас так и надо. Распустились мы, рассолодели. Трясти всех следует, покрепче, чтобы дремоту согнать».
Птахин обернулся, увидел, что Лидия Николаевна, Осмолов и Уланов о чем-то оживленно разговаривают. Одиноко ему сделалось, он свернул в переулок, бросив на ходу:
— До свидания. Спешу. Завтра увидимся.
— Всего доброго, — отозвался Уланов. Осмолов с Лидией Николаевной не сказали ничего.
Осмолов семенил, поспевая за широко шагающей Лидией Николаевной, и что-то тихонько наговаривал. Как только поравнялись со старым насупившимся домиком, стоящим чуть на отшибе, пастух начал прощаться:
— Вот и хибара моя. Прощевайте, товарищ новый секретарь. Может, скоро уедете, так прошу вас любезно, походатайствуйте насчет наших коровушек. Не пришлось бы шкуры с них снимать. Подсобите сенцом. Вам сподручней просить. Вы все ходы и выходы знаете, товарищ новый секретарь.
Старик усиленно нажимал на слова: «Товарищ новый секретарь». Уланов сразу уловил его хитрость — хочет сыграть на честолюбии и пронять этим. Иван Андреевич про себя улыбнулся и промолвил:
— Хорошо, дедушка, ты уж извини, что я тебя так.
— Ничего, ничего, так лучше, попросту-то, мы не хранцузского происхождения. — В голосе старика явно сквозило: хоть, мол, горшком назови, только уважь.
И Уланов, погасив улыбку, серьезно ответил, сознавая, что слова его должны стать делом и что завтра же, если не сегодня, они стануг известны всему селу:
— Так вот, дедушка, обещать быстро обеспечить ваш колхоз кормами я не могу, но падежа скота — не допустим, за это будь спокоен.
— И на добром слове спасибо. Нам бы только до травушки весенней их, сердешных, дотянуть, а там уж я выхожу… Ну, пропревайте, заболтался я на морозе-то. И уже вдогонку крикнул: — Так, значит, Лидия, обскажи, как следует быть все, не забудь.
— Ладно, сват, не забуду. Ступай, ступай, холодно ведь.
Калитка хлопнула, и в ограде раза два тявкнула собачонка, видимо, для того, чтобы напомнить о своем присутствии.
Ветер стих. Кругом потрескивало и что-то все время скрипело, словно шло по деревне множество лошадей с санями. Где-то пилили дрова. Вот пила попала на сучок и раздались такие звуки, которых зубы боятся. От реки, нарастая, доносился рокот трактора.
— Таисья едет. — кивнула головой Лидия Николаевна, — заколела, наверно? Валенок-то нет, а Юркины не надевает — страшны кажутся.
Уланов прислушался к шуму трактора и, засунув руки вместе с перчатками в боковые карманы полупальто, казавшегося сейчас тонковатым и коротковатым, спросил:
— Лидия Николаевна, а почему Осмолов живет в такой плохой избе? Неужели он лучшую не заработал?
— И не одну, — подтвердила Макариха. — Но в пустые избы не идет он, своя, говорит, ближе к сердцу, а новую выстроить не на что. Здесь деньги водятся у тех, кто в колхозе не работает, но колхозным добром умеет попользоваться. Вообще-то в жилье нужды у нас нет, хоть и не строим. Домов пустых сколько угодно: побросали люди, в город подались. Там в комнатушке ютятся, на квартирах, а назад придуг, когда им калачей напекут.
— Неправда, начали возвращаться. Некоторые уже в своих деревнях работают.
— Но не наши. И рады бы иные, да при таком руководстве не вернутся.
— Хорошо, Лидия Николаевна, мы еще поговорим. А Осмолов заинтересовал меня очень.
— Вот наша с Таисьей изба. Вот вам веник.
Пока Иван Андреевич обметал валенки, а обметал он их очень тщательно, Лидия Николаевна рассказывала:
— Осмолов и фамилии своей не знает. Сирота он пришлый. Кто-то дал ему прозвище, по-видимому, кулак тот, у которого он в детстве коров пас. Видели, у него верхняя губа ровно пчелой укушена, вот по ней и прозвище Губка — получил. С прозвищем дожил до колхоза. Вступать стал — мы ему фамилию всем колхозом придумали, нашу, уральскую. Больше двадцати лет он наших колхозных коров пасет. Из-за него, можно сказать, и стадо у нас было лучшее в районе. Хороший старик. Только Карасева да председателеву жену ненавидит, а те его. К слову, правильно он делает: они только и норовят что-нибудь выбраковать для районного начальства… Вот сюда идите и пригнитесь, а то шишку посадите, тут низко.
Уланов шагнул в сенки, нашарил холодную, скользкую скобу и открыл дверь, обитую тряпками, обмерзшую и оттого тяжелую. Сначала он ничего не мог разглядеть, а когда протер очки, первое, что ему бросилось в глаза, это множество ребят, и все черноглазые.
— Здравствуйте, народ честной! — сняв перчатки, с улыбкой сказал Уланов.
Недружный хор отозвался в ответ.
— У нас тут семейно! — рассмеялась Лидия Николаевна. — А ну, ребята, быстро наводите порядок в избе, и за дровами. Печку топить будем. Иван Андреевич, вы проходите, в ногах правды нет. Перешагивайте тут через которых.
Наговаривая так, Лидия Николаевна развязывала шаль, ногой поправила половик. Затем она поставила трубу на самовар, замела стружки в угол к печке.
«Честной народ» толкался возле нее. Юрий принес с улицы охапку дров и, сбросив галоши, тоже шмыгнул на печь.
— Стоп, старшой! — скомандовала Лидия Николаевна. — Натягивай валенки и шагом марш к Августе, сам знаешь зачем.
— Откуда у вас целая рота и которые ваши? — оглядевшись и попривыкнув к обстановке, спросил Уланов.
— Трое моих-то. Четвертый убежал только что. Его Юрием зовут. А эти вот Якова Качалина. Эти вот трое Августы Сыроежкиной. Та девочка доярки нашей — не с кем оставить дома. А этот вот, большеглазенький — Таисьин. Лидия Николаевна мимоходом прижала к себе упиравшегося Сережку и на ходу продолжала: — И не болеет он, а все тощий. Вот она, интеллигентская-то кровь. Мои вон картошку с солью наворачивают, а кожи на них не хватает, коротка.
— Серьезно, ребята у вас здоровые, особенно этот вот, солидный человек. Тебя как звать?
— Васюхой. А твое как фамиль?
— Моя? Дядя Ваня.
— Это не фамиль, — пробасил Васюха и, заметив какие-то знаки с печки, спросил: — А раз ты начальник, то почему не на «победе» приехал и почему медалев нет?
— Матушки мои родимые! — всплеснула руками Лидия Николаевна. — Вот так грамотей стал! Медалев нет! Медали только такие, как Карасев, цепляют на что попало, а другие хранят до поры до времени. Понятно тебе?
Васюха закивал головой, подтянул штаны и еще что-то хотел спросить, по в это время в избу молнией влетела Тася и, стукая ногой об ногу, начала раздеваться.
— Ой, тетя Лида, как я замерзла, вы бы знали… мочи нет…
Лидия Николаевна обернулась к Уланову, чуть заметно подмигнула и, неся самовар на стол, проговорила:
— На тракторе, да с таким трактористом, да в таких резиновых ботах мерзнуть?! Стыдилась бы говорить. Кто тебе поверит?
— Вы еще измываетесь надо мной? — запричитала Тася и, шагнув из-за печки на свет, вскрикнула: — Ой, Иван Андреевич, он… извините. Не заметила. И Макариха помалкивает. Хоть бы шикнула…
— Да я уж нашикалась.
— А ну вас, тетя Лида, вы всегда меня разыгрываете. Здравствуйте, Иван Андреевич, извините, что я босиком, правда, ноги очень замерзли.
— Да ничего, ничего, грейтесь вон у нечки железной. Ребята крепко ее расшевелили. Бушует, как мартен.
— Ох, благодать какая! — став близко к печке, выдохнула Тася и сморщилась. — Только пальчики щиплет очень.
— Вы их снегом, Таисья Петровна!
— Что Bы, Иван Андреевич, подумать боязно о чем-нибудь холодном. Тетя Лида, у меня топлено или нет?
— Я днем прибегала, затопляла, да сейчас, поди, выстыло. Ночуйте здесь, а чтобы картошка не замерзла в подполье, я вон ребят наряжу еще раз протопить. Сама-то не ходи: небось, все селезенки с мороза дрожат? Много удобрений перевезли?
— Одни сани извести, а навоз целый день развозили. Дорог нет, навоз смерзся. Васька Лихачев, оказывается, сообразительный. Видит, что женщинам тяжело долбить навоз, зацепит тросом кучу, ка-ак попрет! А то гусеницей мерзлое продавит, и скорее получается. Но мало народу, ой мало, а работы, работы… Тетя Лида, не томи, налей чайку.
— Гостя-то постыдись. Кто же вперед гостя угощения просит?
— Он ничего, гость сознательный.
— Эх ты, хохлушка моя, — проходя мимо, ласково теребнула ее за завиток Лидия Николаевна и проворно исчезла в подполье. Ребята с печки единодушно проводили ее взглядом, и среди них началось оживление. Они видели, что Лидия Николаевна спустилась в подполье с вазой. Пустив клуб пара, в избе появился запыхавшийся Юрий.
— В подполье не упади! — предостерегли его с печки. Он вытащил бумажный сверток, из которого торчали мокрые хвосты селедок.
— Вы такие хлопоты развели, — смутился Уланов. — Знал бы, в эмтээс ночевать убрался, неудобно.
Вылезая из подполья, Лидия Николаевна певуче заговорила:
— Стесняться, Иван Андреевич, не следует. Таисья вон тоже пробовала сначала стесняться, да поняла, что это ни к чему. Если хотите знать, в деревне душевные-то разговоры за столом и начинаются. Пришел человек чужой, сел за один стол — и уже свой. У нас говорят: «Не дорого угощение, дорого приглашение». Так что уж чем богаты, милости прошу к столу.
— Что же, покоряюсь, — поднялся Уланов. — Только ребятишки куда уместятся?
— Об этом не горюйте. Ребята обижены не будут.
Но Лидия Николаевна говорила это только так, для проформы. Ребята ее были воспитаны в строгости и за один стол со взрослыми не лезли. Им накрыли на кухне.
Прибежала Августа Сыроежкина и, увидев, как ребятишки работают ложками за кухонным столом, принялась браниться:
— Лидия, зачем моих-то кормишь? Дома ничего не едят, а у тебя мнут, ровно мельницы. Картошка, что ли, тут слаще? Гляди-ко, чего делается! Им ведро на всех-то надо, объедят они тебя.
Тут Августа шагнула в горницу, увидела гостя, сконфузилась, стала извиняться. Поотказывавшись для приличия, она тоже села за стол.
— Наша беда и выручка! — отрекомендовала ее Лидия Николаевна и с оттенком гордости прибавила: — Единственный в райпотребсоюзе продавец, проработавший двадцать лет за прилавком.
— Ну уж ты скажешь, — отмахнулась от нее Августа.
Двадцать лет назад появилась она в «потребиловке» робкой, неповоротливой девкой и, стараясь что-нибудь не уронить, прибирала за прилавком и в помещении. Миша Сыроежкин орудовал за прилавком, с карандашом за ухом, довольный, подвыпивший. Когда не было народу, он посвящал ее в мудросги торгового дела:
— Гляди, Гуска! — поучал ее он и виртуозно бегал пальцами по костяшкам счетов, словно баянист, играющий «барыню». — Примерно шикаладная конфетка стоит двадцать копеек. Ты взяла шикаладку за двадцать, так? Гляди теперь сюда! Двадцать по двадцать! Рупь двадцать! Папиросы брала? Нет. Сорок копеек, — прибавлял он четыре косточки на счетах. — Чай брала? Нет. Пятьдесят копеек и плюс червонец. Что у тебя в кармане лежит? Итого двадцать рублей с гривенником! — подытоживал Миша, довольнехонький тем, что ошарашил ее.
Когда Августа поняла, что своих «отменных» познаний Миша на практике не применяет, пренебрегая теми благами, которые могли сыпаться на него за счет корзиновских жителей, она прониклась к Мише глубокой симпатией, Миша, в свою очередь, почувствовал влечение души к тихой, неиспорченной вниманием со стороны корзиновских парней, уборщице. В один прекрасный момент он сказал, что ей пора замуж. Дальнейшие объяснения были очень отрывисты, невнятны и за давностью лет забылись.
Августа скоро уяснила, что иметь мужа-продавца такого, как Миша Сыроежкин, нет никакого смысла. Свой заработок он расходовал без отрыва от производства, и иногда еще и ей приходилось расходовать свои маленькие сбережения, чтобы покрыть Мишины долги. Было целесообразнее удалить Мишу из магазина и самой занять эту столь искусительную для него должность.
И сколько в Корзиновке с тех пор произошло всяческих событий, сколько людей перебывало на неспокойных должностях, Августа неизменно несла торговую службу.
Всегда эта женщина умела узнать о чужой нужде, помочь людям. Другой раз помощь ее и не велика, да оттого, что ко времени, особенно ценная. Одному она из продуктов что-нибудь в долг отпустит, у другого гость нечаянный, а попотчевать нечем. Поможет человеку, свои деньжонки вложит, но выручит односельчанина. В любое время дня и ночи Августу можно разбудить и попросить товару. Если случался Миша дома, то он клял такого человека и свою жену, ссылался на законы, которые-де попирались в Корзиновке самым беззастенчивым образом.
Люди за добро умели платить добром. Когда в войну случилась недостача, Августу не оставили в беде. При получении на базе товаров какой-то проходимец надул Августу. Правление колхоза, колхозники, все жители близлежащих деревень написали письмо прокурору, сами съездили и просили за нее, а когда прокурор разрешил покрыть недостачу без суда, всем миром собрали деньги, кто сколько мог.
К удивлению своему, Уланов чувствовал себя за столом, среди женщин, как дома. Простота, неподдельная искренность его собеседниц невольно располагали к ним. До сегодняшнего вечера он чувствовал себя стесненно в обществе женищн. Он умел легко и свободно держаться на производстве, с горожанами, особенно с мужчинами. Уланову казалось, что он не вдруг сможет найти общий язык с деревенскими жителями. Такое ощущение порождало отчуждение, и с болью в душе воспринимались намеки на то, что-де в селе он — залетная птица. А вот сейчас Иван Андреевич совсем ясно осознал, что его роднит с деревенскими жителями общность интересов, единое дело. И когда он понял, что работа его в селе — дело не временное, что от него многого ждуг, от него многое зависит, когда он почувствовал себя частицей большого коллектива, земля под ногами стала казаться ему тверже.
Да, здесь не тот коллектив, который собирается в цехе. Колхозный народ разбросан по деревням, мало общается между собой, по все-таки коллектив есть. Его нужно собрать, заново сколотить. Народ здешний мало похож на цеховой. Есть люди, с которыми ему предстоит воевать, которых не сразу поймешь, проймешь и раскусишь. Но Уланову было уже и то отрадно, что вот эти три женщины готовы всегда прийти на помощь, взяться за любое дело, пусть даже самое трудное. «Если такому народу вручить колхозные дела, можно будет работать и корчевать всякую нечисть, успевшую пустить корни в деревенскую жизнь», — размышлял Иван Андреевич.
За столом о многом переговорили. Уланов теперь почти ясно представлял себе положение, в котором находился корзиновский колхоз. Тася больше слушала. Она лишь изредка вставляла свои замечания, иногда поддакивала Лидии Николаевне. Уланов ел с аппетитом и поглядывал на нее, как бы приглашая принять участие в разговоре.
— Я времени попусту не теряю, — сказала Тася и кивнула на чашку с картофелем, — и вам не советую особенно в рассуждения пускаться, тут народ проворный.
Разогревшись, она беспрестанно шмыгала носом, часто доставала из-за рукава платок. Поужинали. Августа одела своих ребятишек и ушла. Уланов закурил.
— Что же это вы не бережете себя, Таисья Петровна? — с укором сказал он. — Если не можете из зарплаты выкроить денег на валенки, попросили бы ссуду. Нельзя же в морозы работать в этих скороходах.
— Я закаленная, — отшугилась Тася.
— Напрасно храбритесь, — упрекнул ее Уланов и в силу давней привычки зашагал по избе от стола до порога и обратно. — Ну, а как живется, работается? Вижу, мира у вас с председателем нет.
— Не говорите, — махнула рукой Тася. — Я начинаю у себя обнаруживать дурные черты в характере. Раньше как-то не приглядывалась к себе, а теперь приходится. Вот испортила отношения с колхозным начальством.
— Если только с начальством, то для агронома это еще полбеды. Может, я неправ?
— Если бы только с начальством, я бы и не чихала сейчас.
— Признаться, я всегда думал, что вы принадлежите к числу тех счастливых людей, которые могут вызвать сочувствие, возможно, снисходительность, но не злобливость.
— Именно снисходительность! Это сильней всего за живое берет. Да и не это больше, а глухая стена какая-то. Хорошо имегь такого противника, которого сразу раскусишь и уже можно с ним побороться. А вот ехидная улыбочка, подковырка… и противника-то будто бы нет. Вон иные слушают меня, соглашаются, даже в гости приглашают, а делают все по-своему. В глаза называют: «Товарищ агрономша», а за глаза — «Кнопка».
— Трудно обживаться в деревне, трудно, — заключил Уланов, и Тася поняла, что он это не только о ней.
— Самое скверное, что чувствую я себя здесь между небом и землей, продолжала она. — Я не колхозная — эмтээсовская. Поэтому ко мне относятся, как к разным докучливым уполномоченным. Агроном тогда агроном, когда правление с ним считается и через него осуществляет все полевые работы, согласует будущие планы. Чтобы он не был, как слепой котенок. Если председатель правления не самодур, подменяющий собой и правление, и агронома, тогда так и будет. А попробуйте с нашим договориться. Он все выслушает, внимательно выслушает, а у самого вид такой, будто он говорит: «Цыпа! Чего ты мельтешишь перед глазами? Получаешь зарплату — и ладно». Заговорила я с ним об укрупнении полей. Хочется к песне хоть частично ликвидировать эту лоскутную сетку, навести хотя бы относительный порядок в севооборотах. А он мне в ответ намеки бросает. Мол, все мы так горячились и мечтали произвести революцию в земледелии!
— Да, так и в самом деле можно себя лишним человеком почувствовать.
— Нет, не то чтобы лишним, а не необходимым. Вы понимаете, вот я работаю, бегаю, выискиваю себе дело и все кажется: это только мне и нужно. Понимаете? Очень уж больно сознавать, что и без меня при нужде могут обойтись. Я ведь мечтала, много возлагала надежд на эту мою первую, большую работу.
— Наговаривай на себя, наговаривай, — зашумела из горницы Лидия Николаевна. Она взбивала подушки и, очевидно, не пропускала ни одного слова. — Не слушайте вы ее, Иван Андреевич. Чисто девичья привычка прибедняться. Это она оттого, что гриппует. Ну немного пусть, да уже успела сделать: сумела познакомиться с людьми, занятия с молодыми наладила, вывозку удобрения тоже, шефство леспромхоза над бригадами организовала. Разве же это не дело? Чего ты, в самом деле, хотела сразу переворот в Корзиновке произвести?
— Да нет, куда мне? Я просто нe могу удовлетвориться тем, что делаю. Мало этого, очень мало.
— А ну тебя. Не хочу слушать и ругаться при госте. Эй, ребята, долой с печки на свое место, пусть там агрономша погреется, а то у нее эта, как ее, мигрень от насморка.
Уланов рассмеялся;
— В самом деле, Таисья Петровна, вид у вас усталый. Кстати, раз уж вы были в леспромхозе, у меня к вам предложение.
— Пожалуйста.
— Директор леспромхоза — мой старый знакомый. Видел я его недавно, и он очень просил меня прислать Лихачева, чтобы тот помог организовать кружок художественной самодеятельности, и человека, который бы прочитал лекцию о выращивании овощей в уральских условиях. У них там много переселенцев приехало, они желают поучиться. Может быть, вы согласитесь?
— Что вы? Что вы, я никаких лекций не читала!
— Вот вам первая возможность. Подготовитесь и прочтете. Людей поучите и сами в аудитории держаться приучитесь. Агроному это тоже необходимо. Договорились?
Тася ответила не сразу. Она приложила пальцы к горящему виску, потерла его.
— Знаете что, Иван Андреевич, я, пожалуй, поеду, но только дня через три-четыре. Надумали мы тут провести молодежное собрание. Мне на нем быть необходимо.
— Отлично. Такие вещи я от всей души приветствую и постараюсь обязательно на этом собрании быть. Тася задумалась, потом подняла на Уланова глаза:
— Вы меня извините, Иван Андреевич, но на это собрание я попрошу вас не приезжать. Нам надо собраться одним, поговорить обо всем неофициально. Это даже не собрание будет, а скорее молодежный вечер. Наша задача создать коллектив, сгрудиться. Потом уж милости просим, а сейчас, извините, ребята засмущаются, будут чинно держаться…
— Хорошо, хорошо, соглашаюсь и на это. — Иван Андреевич прошелся по комнате, остановился против Таси. — Но, знаете, не удержусь, чтобы дать совет. Уж такая у меня нынче должность, — развел он руками. — Так вот, коллектив создается в труде, по своему опыту знаю. И вы поменьше заседайте, а побольше работайте, веселитесь. С вывозкой удобрений у вас дела обстоят неважно. Вот вам случай. Бросьте клич: на воскресник!
Иван Андреевич зашагал по комнате, увлекся и заявил, что свяжется с секретарем комсомольской организации завода, чтобы заводская молодежь тоже приехала на воскресник. Таким образом начнется содружество сельской и городской молодежи, а это сейчас очень важно.
— Да, это было бы просто здорово, если бы нам удалось сдружиться с городскими комсомольцами, — обрадовалась Тася.
— К следующему воскресенью готовьтесь. А пока проводите собрание — и в леспромхоз. Долго там не задерживайтесь. Кстати, я выкупаю своему другу подписные издания и новинки приобретаю. Вы не откажетесь их передать?
— Сделайте одолжение, присылайте. Передам с радостью. А сейчас спокойной ночи, Иван Андреевич.
— Спокойной ночи.
Тася забралась на печь. Лидия Николаевна дала ей какой-то порошок в пожелтевшей от времени бумажке.
Тася проглотила его и очумело замотала головой.
Порошок был до одури горький. Лидия Николаевна заботливо укутала ее одеялом, набросила полушубок.
— Не расхворайся, хохлушка моя, — потрепала она по голове Тасю, грейся как следует и спи.
Лидия Николаевна осторожно спустилась с приступков, ушла в горницу. Тася слышала, как там еще долго разговаривали вполголоса. В разгоряченной голове ее быстро или медленно, как на тормозах, проплывали разные события и люди. Можно было подумать, что кто-то без разбора склеил разнообразные кадры в одну ленту и она разматывалась, показывая в хаотическом нагромождении немые и бессмысленные картины.
Тася открывала глаза, и видения исчезали. Но все чаще и чаще возникало перед ней одно и то же лицо с тонкими чертами, в которых таилась молчаливая печаль. Лихачев? Да, да, это он. Вот и папироска у него картинно торчит в уголке рта, и зубы сверкают на чумазом лице, и балагурит он беспрестанно. Бесшабашный парень! А глаза у него невеселые. Никак не распознаешь: что затаилось в этих глазах?
Уже много дней проработала Тася вместе с Лихачевым. Они по-прежнему острословят, будто находят в этом удовлетворение. А у Таси вовсе нет желания донимать его колкостями. Ей спросить хочется, что у него на душе, отчего он вдруг то озорной сделается, то злой, то молчаливый и замкнугый.
И странное дело. При всей своей неуравновешенности, Лихачев ни разу не позволил по отношению к Тасе какой-нибудь гадости. Наоборот, он с шутками и прибаутками умел незаметно услужить, вовремя прийти на помощь. С каждым днем Тася все больше проникалась к нему уважением и доверием. А то плохое, что говорилось при ней о Лихачеве, она уже не могла принимать безоговорочно. Она ведь иной раз, пусть не всегда, уже различала за его поступками что-то скрытое от других. А скрывает он как раз то, что иные люди стремятся выложить напоказ, и щедро разбрасывается тем, чего другие не только показывать, но и признавать в себе не желают. «Интересные люди живут на свете, — уже в полусне размышляла Тася. — Они, как огромная тайга, в которой все деревья издали похожи друг на друга, а на самом деле разные, со своими корневищами, со своей сердцевиной».
И вот уже перед Тасей возникла тайга, огромная, неоглядная, зеленая. Качалось, ходило зеленое море тайги, ходили из стороны в сторону вершины елей и пихт, скрипели старые, окостенелые сухостоины.
А у ног Таси прилегли тихие сумерки. Хвоя рыжая и особенно заметная в этих сумерках, ох и горячая же она! Колет хвоя и жжет, кругом колет, всю колет. Надо бы подняться, перелечь на другое место, но хвоя горячая, а Тасе велели хорошо прогреться, она немного простыла. Сверху к ней с тихим шорохом склоняется суковатая елка. Но туг же елка расползается, и на ее месте уже Васька Лихачев. На голове у него венок из хвойных веток. Он снимает его, церемонно раскланивается, прикладывая к груди уже не венок, а затрепанную кепчонку. Отовсюду у него торчат сучки. Тася тянется, хочет их обломать, но Лихачев болезненно морщится, а потом с хохотом убегает и, прислонившись к большому дереву, прячется за ним. Тася беззвучно зовет его: «Вася, Вася, не смейся, я ведь вижу, по глазам вижу — тебе не хочется смеяться». И тут же на Тасю с шумом и треском начинает валиться та самая ель, за которой спрятался Лихачев. Тася вздрагивает, пытается вскочить и просыпается.
Полушубок и одеяло, зацепив ворох лучины, свалились с печки. Тася бесшумно спустилась, подняла одежду и снова улеглась. В горнице все еще горел свет. «О чем это они так долго судачат?» — погружаясь в горячечный сон, подумала Тася.
А Лидия Николаевна и Уланов переговорили о многом. Уланов больше слушал. Сегодня он узнал о том, как создавался колхоз «Уральский партизан» и как он захудал. И, пожалуй, только сейчас Уланов начал сознавать со всей полнотой, какая огромная работа предстоит в сельском хозяйстве. И вспомнил он отца, который почему-то лучше сына знал, как здесь трудно.
Лидия Николаевна просила подсоблять и сама давала совет, с чего начать, как подсоблять. Прежде всего надо было привести в порядок то, что имелось в хозяйстве, заставить трудиться всех, кто числится в колхозе, рассчитаться с долгами и создать фонд, из которого можно было бы авансировать колхозников хотя бы раз в квартал, сделать так, чтобы члены артели были заинтересованы в трудодне, надеялись на него. До весны необходимо провести проверку приусадебных участков, забрать их у тех, кто не работает в колхозе, отрезать излишки у лодырей, изъять незаконно захваченные сенокосные угодья.
— Но самое главное сейчас — это сохранить скот, семена, вывезти удобрения на поля, распланировать как следует посевы и как-то людей в колхоз вернуть. Без людей ничего не сделать. Корма у нас уже кончаются. Если не принять срочные меры, падеж скота начнется раньше, чем в прошлом соду.
— Что же вы подразумеваете, Лидия Николаевна, под срочными мерами?
Лидия Николаевна опустила глаза, помедлила:
— Я предлагаю замер сена во дворах колхозников и изъять в пользу колхоза излишки.
— Это как?
— А очень просто. Полагается человеку на трудодень семьсот граммов сена, а трудодней у него всего сто, вот и оставить ему семьдесят килограммов, а остальное с повети забрать.
— Х-м, вы уж слишком круто.
— Иначе нельзя, Иван Андреевич. Коров у добросовестных колхозников почти нет. Из-за налогов, из-за бескормицы и колхозных беспорядков лишились мы их. Смешно сказать — деревенские ребятишки ныне едят молока меньше городских. Честные люди от реквизиции не пострадают. Мы будем забирать корма у тех, кто их украл у нас же, кто за спиной колхоза спрятался. Мне таких не жалко.
— Да-а, единоличников в колхозах развелось, как опят на гнилом пне. Приспособились как-то, на глазах у всех приспособились!
— Сорняк, он приспособится, для него рыхлить почву не надо. Так вот этой мерой мы сможем обойтись пока и продержать скот. А дальше уж надежда на власти. Помогайте хлопотать нам надежную ссуду и закупать корма в Сибири. — Лидия Николаевна усмехнулась, подперла лицо рукой. — Немыслимые вещи в колхозе начались — начальство ни мычит, ни телится, а нам приходится обо всем заботиться. Поделом! Не надо было руки опускать, поглядывать нужно было, вести как следует хозяйство. Понадеялись на Птахина, а он узнавать нас перестал. Ой, Иван Андреевич, — спохватилась Лидия Николаевна, — петухи ведь скоро запоют. Отдыхайте ложитесь.
Оставшись один, Уланов лег на кровать, но уснуть долго не мог. «Ох и трудно же будет в этом колхозе весной. Лидия Николаевна не все сказала. Старается поменьше меня запугивать». Иван Андреевич спохватился, что по привычке холостяцкой лег на кровать в одежде, и начал раздеваться. Снимая блузу, к которой он так привык на заводе, темный галстук, Уланов продолжал размышлять:
«А отец-то не напрасно горячился. Здесь в самом деле сейчас передний край или вроде того. Держись, Андреевич! Это тебе не завод. Там все было ясно, вся жизнь цеха Проходила перед глазами. Здесь же идет подспудная борьба двух сил: новое и старое схватились насмерть».
Иван Андреевич сложил одежду на спинку стула, снял было очки, но тут же снова надел их и посмотрел на фотографию мужа Лидии Николаевны. С потрескавшейся фотографии на него глядел ясными, бесхитростными глазами сухощавый человек в буденовке со звездой и в кожаной тужурке. Чувство большого уважения, смешанного с неловкостью, испытывал Иван Андреевич, глядя в глаза этого незнакомого и чем-то близкого человека. Этот отдал людям все: молодость, здоровье, жизнь.
Иван Андреевич медленно засунул очки в футляр, повернул выключатель, и комната сразу же погрузилась во тьму, а окно посветлело. Уланов отодвинул шторку. За окном туманной полосой расстилался серебрящийся снег. Дальний край полосы пропадал в темной заречной стороне. Где-то в мутной дали мерцала звездочка-зарница, а может быть, и огонь в заречной деревушке. Иван Андреевич облокотился на подоконник и услышал, как гулко кашляет на печи Тася. «Простыла агрономша. Трудно живется ей. Хорошо хоть, не раскисает пока, рук не опускает, сердитая». Ему очень хотелось, чтобы Тася закрепилась в колхозе, чтобы сделалась близкой, необходимой людям. Уланов поймал себя на мысли: размышляет о Тасе и относится он к ней без того постоянного недоверия, которое испытывал по отношению к другим женщинам. И еще он заподозрил себя в том, что вот она в деревне, он в деревне, так сказать, приезжие люди и уже этим родственные. И что Таисья Петровна не похожа на тех, кого он прежде встречал. Притворства в ней нет, но и полной открытости тоже. «Пережила немало, оттого и доверяется не каждому, — решил Уланов. — Сегодня вот все о работе да о работе говорила. А впрочем, что это я? О чем же она может еще со мной говорить?» — спохватился Иван Андреевич. И, как бы уличив себя в чем-то постыдном, он поспешно лег в кровать.
Было слышно, как в закутке захлопал крыльями петух и, видимо настроившись на рабочий лад, подал хрипловатый спросонья голос.
Глава четвертая
Дежурный конюх, долговязый заспанный парень, прилаживал оглоблю к саням. Несколько раз он менял завертку, но сыромятина новая, грубая, и оглобля в завертке не держалась. Надо бы сыромятину размочить, но парню не хотелось тратить время. Он вынул оглоблю, углубил вырез на конце, убавил завертку, приладил и, критически оглядев свою работу, плюнул с досады. Оглобля, как зенитка, торчала в небо. Тогда парень рассердился и рубанул оглоблю с такой силой, что надтесанный конец ее с треском обломился, а комель, за который была привязана завертка, разлетелся в щепки.
Конюх швырнул топор, хотел крепко выругаться, но обомлел, завидев старика Осмолова. Тот молча прошел мимо дежурного конюха под навес, где стояли телеги, сани и разный инвентарь. Там он впрягся в оглобли кошевки, вытащил ее из-под навеса, поставил посреди двора. После этого он поднял топор и сунул его в руки конюха, который все еще был в столбняке.
— На, рушь и кошевку.
— Зачем? — жалко улыбнулся долговязый парень.
— Не своя ведь, колхозная, рушь, а я после починю.
Осмолов говорил спокойным, даже каким-то скучным голосом, и вид у него был при этом смиренный, простоватый.
Конюх отбросил в сторону топор, свирепо ухватился за оглобли кошевки.
— Люди умирают, а этот живет и живет! — чуть не плача, вопил конюх, убирая кошевку на место.
Старик удовлетворенно крякнул и засеменил в конюшню. Долговязый парень поспешил за ним с неожиданным проворством. На ходу он бубнил страдающим голосом:
— Да убрано там, убрано, почти что языком вылизал!
Вид у парня был злой и робкий. Он ревниво следил за Осмоловым, каждую секунду ожидая или подвоха с его стороны, или другой какой неприятности.
Пастух прошелся по конюшне, поговорил с лошадьми и мимоходом бросил парню:
— В стойлах порядок, по-хозяйски, ничего не скажешь.
Не успел еще парень облегченно передохнуть, как старик снова вверг его в смятение. Он обнаружил в кормушках для лошадей объедки сена.
— Ай-я-яй, — сокрушался старик, обращаясь к лошади. — Вот ежели бы конюху-то по вчерашние щи проквашенные сегодняшних палить, поглянулось бы или нет? Как ты думаешь?
Лошадь тихонько ржала в отпет на воркование старика, который выгребал из кормушки прикрытую сеном труху, а молодой парень стоял с раскрытым ртом в проходе, разбитый, уничтоженный. Бессильный гнев раздирал его, и он шепотом сыпал проклятья на голову въедливого старика.
Без животных Осмолов не мыслил жизни. Как только заканчивался пастбищный сезон, он пристраивался на конный двор. Дошлый старичонка не по нутру приходился некоторым молодым конюхам, потому что нюхом чувствовал разные непорядки и, сделав скорбную мину, сам брался их устранять. Неловко, конечно, чтобы старик работал, а молодые стояли в сторонке. Ругали они его вслух и втихомолку, обзывали старым прозвищем — Губка. Но все-таки брались за дело: чинили вместе с ним до поздней ночи сбрую, сани, телеги, наводили блеск в стойлах, добывали корм.
Осмолов умел отыскать работу. Может быть, поэтому и кони в Корзиновке были справные, несмотря на частую бескормицу. Раньше Осмолов был привязан к животным еще больше, чем к людям. Однажды, еще в молодости, хозяин сказал ему об этом. Пастух с явным намеком вымолвил:
— У животной душа тихая, добрая. Животное кормит человека, возит его, в беде выручает, в холоде обогревает.
Настоящий хозяин, ежели у него, конечно, не кирпич заместо сердца подвешен, должен любить скотину — своего лучшего друга, а не забижать.
Хозяин Осмолова был человек ехидный, к философии склонный. Зная, что пастух его тоже поразмыслить и порассуждать любит, он злил парня своими расспросами, вызывал на резкие откровения и, когда пастух в горячности доходил до крамолы, стращал его.
— А вот скажи, крокодил или тигра, по-твоему, тоже добрая животная? - спрашивал он у насупившегося пастуха.
Парень задумывался, кусал прут, а хозяин не отставал, допытывался:
— Тоже добрая?
— Крокодилов я не видел, но, говорят, эта животная хищная. Стало быть, вроде тебя…
За такие ответы доставалось ему, пастуху, но он рос упрямцем и, когда выпадал случай, снова подъедал хозяина.
С годами неприязнь к роду людскому, рожденная тяжелой жизнью и скотским обращением хозяина, прошла. Осмолов стал ближе сходиться с людьми и глубоко привязывался к тем, кто приходился ему по душе. А по душе ему приходились чаще те люди, которые нуждались в помощи или сочувствии. Особенной симпатией проникся старик к новому агроному. — Тасе Голубевой.
— Маленькая, да удаленькая! — говорил он про нее как-то раз в шорной, когда от нечего делать разомлевшие в тепле конюхи перемывали косточки односельчанам. — Глядите, как трудно ей. Ребенок на руках, в кармане блоха на аркане, а нюни не распускает. Работает, ругается с начальством, ежели надо правду сказать — не побоится. Поддержи пать таких надо, подсоблять им, а вы вот, послушаю, зубы скалите насчет се: дескать, брошенка и все такое. Кабы жизнь-то была как зеркало, чтобы глянул и наперед увидел, какие там кочки, тогда бы люди не спотыкались.
Парни, хоть и с ухмылками, слушали речи старика, и кое-что все же застревало в их беспутных головах.
Тася попросила Осмолова снарядить назавтра лошадь. Старик приготовил кошевку, вычистил лошадь и приветливо встретил Тасю.
— Сейчас, сейчас, мигом рысака заложим, — певуче наговаривал он, вытаскивая из-под навеса кошевку со связанными оглоблями. — Ты с кем в лоспромхоз-то налаживаешься?
— С Лихачевым.
— Г-м, — промычал Осмолов.
Он вывел на улицу серую кобылицу с темной гривой, надел хомут и, заводя лошадь в оглобли, недовольно пробормотал:
— Не советовал бы я тебе ехать с этим ухарем.
— Почему?
— Да как бы глупостей не вышло. — И, заметив, что ломаные брони Таси поползли вверх, пояснил: — Нахальный он парень, а вы дамочка молодая.
Тася вспыхнула и резко ответила:
— Я, дедушка, научена по части глупостей.
— Оно так-то так, — неопределенно поддакнул старик и, обернувшись на скрип валенок, сказал: — А вот и он, легок на помине.
В стеганом зеленом ватнике и новых валенках, чуть опустив плечо, на котором висел чехол с баяном, Лихачев быстро шагал к конному двору. Бледное обычно лицо его на морозе разрумянилось, черные волнистые волосы, выбившиеся из-под шапки, заиндевели.
— Приветствую вас, добрые люди! — поднял руку в перчатке Лихачев. Не глядя на Тасю и явно стараясь загладить какую-то неловкость, он небрежно бросил: — А ты, старик, трудишься? На печке не сидится? Хочешь все работы переработать? Мой дед тоже, как ты, старался всю жизнь, да всех дел не одолел, так и околел.
— Пустомеля ты, пустомеля, — покачал головой Осмолов. — Гляди за лошадью как следует. Чтобы там парную ее не напоили. Да тебе ведь наказывать-то бесполезно. Тебе только бы на гармошке пилить да людей просмеивать.
— Брось, дед, брось критиковать, холодно. Критику надо в тепле и на сытый желудок, как десерт.
— Поезжай уж, звонарь!
Лихачев взял вожжи, шагнул в кошевку и, сделав широкий ямщицкий жест с насмешливым поклоном, пропел, делая ударение па «о»:
— Прошу пани агрономшу!
— Раньше бы вам надо родиться и не в России, — сердито фыркнула Тася, пристраивая впереди себя связку книг, которые просил передать директору леспромхоза Уланов. — Трогайте, пане ямщик!
Застоявшаяся кобыленка ходко взяла с места. Спустились на реку. Мимо промелькнула прорубь, вокруг которой стенкой стояли пихты и елки. Постепенно снижаясь, исчез за крутым заснеженным яром Макарихин дом. Лихачев шевельнул вожжами, удобней устроился на сиденье, покосился на Тасю.
— Так, значит, родиться мне следовало раньше и не в России?
— Ага. В Италии, лет сто тому назад. Из нас бы удивительный паяццо вышел.
Лихачев начал краснеть. Его так и подмывало на дерзость ответить дерзостью, но на сей раз он поборол соблазн, справился с собой и шутливо запел:
Смейся, паяц, над разбитой любовью…У него был чуть застуженный, но приятный голос. Петь Лихачев умел. Это чувствовалось, несмотря на то, что он дурачился.
— Между прочим, це любимая ария моей матери, — заметил Лихачев, оборвав пение. Он подумал и прибавил: — Любила она очень еще арию герцога из «Риголетто». Вы что-то все молчите и молчите?
— Природой любуюсь, слушаю.
— Меня? Что ж, послушайте. У меня сегодня ясное, почти лирическое настроение. Со мной это редко бывает за последнее время. А природа в самом деле куда с добром! Снег искрится, елки задумались, в кустах заячьи тропы, на той стороне деревушка дымом исходит — бани народ топит, сегодня суббота. Париться колхозники пойдут после трудов великих. Картина.
Тася улыбнулась и пошевелила пальцами ног. Лидия Николаевна не отпустила ее в резиновых полусапожках, и она вынуждена была надеть валенки Юрия с затертыми глазками кожи на пятках и толстыми войлочными подошвами.
Ехали молча. Мягкий снег скрадывал звуки. Довольно пофыркивала заиндевевшая кобылка, скрипели полозья кошевки. Тася покосилась на Василия и долго следила за его лицом из-под полуопущенных ресниц. И снова Лихачев показался ей непонятным. Лицо его задумчиво, и видно, что мысли где-то далеко.
«Что он за человек? — уже в который раз спрашивала себя Тася. Сколько в нем этого, игрушечного? А дальше-то что? Неужто одни побрякушки?»
До позавчерашнего вечера она относилась к нему с любопытством и безобидной снисходительностью. А позавчера произошла между ними стычка в клубе, после которой Тасю стали злить усмешки Лихачева. Его ужимочки, шуточки. «За дурака хочет сойти, с которого спрос малый, — с раздражением подумала Тася. — А может, считает себя умнее, тоньше всех и насмехается над всем и всеми».
Тася, как бы пытаясь подтвердить все эти мысли, еще раз глянула на Лихачева и прикрыла лицо рукавичкой — не хотелось, чтобы Лихачев видел, как она усмехнулась. А усмехнулась она невольно, вспомнив, как «усмирили» этого «Лихача-Васю».
Было так. Тася пошла по воду. Внезапно к ней, не разбирая дороги, скатился с горы Сережка, а потом Костя и Васюха.
— Ой, мам, мам, — захлебываясь, начал Сережка. И, не в состоянии вымолвить слово, показывал на гору. — Там дяденька пьяный всех из клуба вышиб… Колька Зарубин хотел его уговорить… а он как даст Кольке. Колька брык и в сугроб! Все побе-е-жа-али…
Тася с недоверием слушала Сережку. Она знала, что он большой сочинитель. Заметив, что мать не особенно взволновало его сообщение, Сережка обиделся и сказал, показывая на друзей:
— У них спроси, не веришь так.
— Пра, пра, тетя Тася. Сейчас, грит, я один буду, — подтвердил Васюха, — в клубе, грит, один буду, наслаждаться, грит, буду и представлять.
Тася поставила ведра на дорогу и, чтобы ребята не увязались за ней, приказала:
— Возьмите дома санки и на них отвезете ведра в гору.
На лицах ребят выразилось разочарование.
— Я говорил — посмотрим, — проворчал Костя, так нет, маме сказать надо, маме сказать надо, — передразнил он Сережку. — Теперь ведра везти, а там, может, драка будет.
Тася быстро бежала в гору. Из-под шали у нее выбились волосы. Она сжимала запотевшие в варежках руки и думала: «Кто это там опять фокусничает?! Что за народ, ей-богу! Стоит вместе собраться — сцепятся. Ну сейчас я их отчитаю… скажу… скажу… я прямо скажу, что закостенели они по своим углам. Раз в год на собрание пришли и то не умеете себя вести. В общем, там соображу, что сказать… И подхватило меня по воду идти, надо было уж самой пораньше в клуб».
На это собрание она возлагала большие надежды. Комсомольцев в Корзиновке и других бригадах насчитывалось немного, всего двадцать человек. Из них половина уже по году не платила членских взносов. Были и такие комсомольцы, которые не пожелали объявиться.
Из своей небольшой житейской практики Тася знала, что в важном деле чаще всего нужно полагаться на молодежь. И вот часть этой молодежи удалось собрать в кучу и собрать прежде всего потому, что вместе было веселей. Немалую роль сыграл тут Лихачев со своим баяном. Он, хотя и с улыбкой поглядывал па этих «птенцов», однако играл охотно и не мешал народу развлекаться.
Каково же было удивление Таси, когда, распахнув двери клуба, она увидела стоявшего посреди зала пьяного Лихачева в расстегнутой телогрейке, в шапке набекрень.
Тася прижала руки к груди и, чтобы успокоиться, начала глазами отыскивать плакат.
— Ты подойди и дай ей в харю, раз она не желает, — донесся до Таси голос Лихачева. — И не стесняйся! В госпитале солдат один судно стеснялся просить, так и помер… Понял, нет!
Тася стиснула зубы и пошла мимо притихших ребят и девушек, прижавшихся к стенкам, навстречу Лихачеву, который держал за лацкан пиджака паренька и давал ему наставления.
— Отпустите человека! — резко сказала Тася.
Лихачев от неожиданности выпустил паренька, и тот поспешно исчез. Они остались посреди зала вдвоем.
— Сейчас он ей преподнесет, — раздался чей-то злорадный шепот.
— А-а, мадам агрономша, рад вас приветствовать в очаге культуры, протягивая Тасе руку, заулыбался Лихачев.
— Я не даю руку таким вот оболтусам, — ответила Тася, вложив в эти слова всю обиду и бешенство, кипевшие в ней, и, сверкнув глазами на дверь, выпалила одним духом: — Здесь будет собрание, идите выспитесь. Возможно, потом поймете, что были свиньей.
Говорила Тася так, а самой хотелось зареветь от обиды. Ведь она понимала: Лихачев хулиганит не потому, что ему это правится. Что-то угнетает его, и он ищет средство забыться. А может быть, просто пооригинальничать желает, выделиться! Все может быть.
— Я прошу вас прекратить представление и уйти, — настойчиво повторила Тася.
— Никуда я не пойду!
— Мы выведем!
— Меня?
— Да.
— Сколько вас на фунт сушеных надо? И хотел бы я знать, кто посмеет дотронуться до меня рукой?
— Не ребята, конечно. Корзиновские ребята робкие, — усмехнулась Тася. — А девчата не побоятся. Вот будет здорово, когда вас выволокут девчата и спустят под гору. А ну, девчата, взяли дружно! — скомандовала Тася, и, раззадоренные ее храбростью, со всех сторон к ним двинулись сердитые девушки. Совсем неожиданно Тася заметила рядом с собой вспетушившегося Осипа. За ним, неловко подшучивая, потянулись парни.
Лихачев вдруг закрыл глаза, постоял секунду так, потом потер ладонью висок и, отстранив Тасго, направился к выходу. Он оттолкнул какого-то парня, зазевавшегося на полпути, и рявкнул:
— Изыдь! А то я из тебя двух сделаю!
И кто его знает отчего, может быть, именно оттого, что все это произошло перед самым собранием, оно было бурным: много ругались, спорили, разоблачали самих себя и не щадили друзей. Ребята весь вечер виновато выслуживались перед Тасей и перед девчатами.
Нашлись желающие вступить в комсомол. Осипа Ральникова выбрали секретарем комсомольской организации. Он растерянно смотрел на всех, порывался заговорить с Тасей. Но она делала вид, будто не замечает его. Поздней ночью со смехом и песнями провожали Тасю домой ребята и девушки.
Очутившись одна в сенях, она долго стояла, прислушиваясь к удаляющимся голосам. Сосало под самой ложечкой, тоненько, больно посасывало, и было жаль чего-то. Прошла ее молодость, закатилась, не успев проясниться. Обидно. Быть бы ей такой же вольной, как эти девушки, и идти бы сейчас но селу, спуститься к реке и петь так звонко, как поется только беззаботному человеку, а главное — молодому. Петь так, чтобы голос летел до самых звезд, чтобы песню услышало то сердце, для которого она поется. Но ничего не будет. Надо идти в выстывшую за день избу с неоштукатуренными стенами, стирать и мыть, думать о том, что завтра оставить Сережке на обед, как быть с дровами. У Лидии Николаевны их уже мало, а у Птахина просить не хочется, не даст он подводы.
А голоса все удалялись и удалялись в ту сторону, где МТС. Может быть, Чудинов тоже слышит их? Может быть, они тоже растревожат его?
…Вспомнилось все это, и под скрип полозьев, среди зачарованного зимней спячкой леса, взгрустнулось, печально сделалось. Тася туже затянула шаль, приподняла воротник и закрыла глаза. Отчего-то подумалось: смотрит на нее Лихачев или нет? А впрочем, это ей решительно все равно.
Тася приоткрыла глаза. Лихачев на нее не смотрел. Дорога повернула с реки в гору. Дальше по льду ехать нельзя. У подиожья лобастых каменных быков лед словно источен червями. Вода в темных провалах отливала студеным, безжизненным блеском. От извилистых полыней поднимался легкий парок.
— По-видимому, теплые источники имеются, — не то спросил, не то объяснил Лихачев.
Тася хотела что-то сказать, но в это время кошевка накренилась при спуске с очередного каменного бычка ударилась полозьями о пенек, скрытый под снегом, и Тася упала на Лихачева. Рукам сразу сделалось холодно. Глаза и нос залепило снегом. Она выпростала руки, начала протирать глаза, засмеялась и вдруг тревожно крикнула:
— Книги-то!
Пачка книг прокатилась дальше и, очевидно, свалилась бы с утеса в воду, но ее задержали заросли шиповника. Тася осторожно поползла. Лихачев отряхнулся, поставил на полозья лежавшую на боку кошевку. Кобылка стояла смирно, мелко вздрагивая заиндевелой кожей, и опасливо косилась вниз, на темные извилины на льду.
— Да помогите же! — послышался нетерпеливый голос Таси.
Лихачев обернулся и увидел, что лежит она, перевалившись через мысок, на глыбе снега и тянется руками к книгам.
— С ума сошла! — обмер Лихачев. — Что вы делаете? Сейчас в воду бухнетесь и под лед!..
— Да держите за ногу, не бойтесь!
Василий шагнул в снег, поймал ее за валенок.
— Крепче держите, а то валенок большой, сползет, — сказала Тася. Она потянулась вперед, пошарила нервными пальцами — рука не доставала. Она подалась еще чуточку вперед, и Василий тоже. Левой рукой Тася придерживалась за хрупкие от мороза кустики шиповника.
«Обвалится снег — и загремим мы, как милые, к Богу в рай!» — мелькнуло в голове Василия, и он еще крепче уперся ногами в снег. Тася все-таки дотянулась до связки с книгами.
— Вот и все, — выдохнула она, недовольно отряхнула рукавичкой книги и поправила юбку. На переносье и на лбу у нее блестели капельки растаявшего снега. Вид был сердитый. Это, наверное, потому, что она переживала страх и думала, что Василий видел, как она трусила.
— Чудной вы человек, Таисья Петровна! — покачал он головой и с хитрецой добавил: — Из-за каких-то книжек под лед готовы нырнуть.
— Не из-за каких-то книг. Тут «Овод», «Американская трагедия», третий том Короленко, седьмой том Бальзака. Люди на каторгах за книги гибли, в том числе и за эти. — Тася размашисто закинула ногу в кошевку, села и, поставив связку книг на колени, повелительно бросила: — Трогайте!
Василий нахмурился, перебирая в руках вожжи. Тася отвернулась от него и, когда дорога снова спустилась на реку, проворчала:
— Есть люди, которым ничего не стоит снять с человека последнее платье, учинить скандал в общественном месте, ножом размахивать. Что им книга?! Бросовый товар…
— Слушайте, Таисья Петровна! — перебил ее Лихачев. — Есть такие вещи, которые даже меня оскорбляют.
— Не спорю. А разве это вас касается? — не поворачивая головы, поинтересовалась Тася.
— Знаете что, Таисья Петровна. Вы не злой человек. Это вы притворяегесь злой и поддразниваете меня. А мне почему-то хочется, чтобы вы думали обо мне немножко лучше. Уж не знаю почему. Хотя я и на самом деле несколько шумно повеселился в клубе, но не считаю себя уж вовсе свиньей. Мало ли кто как веселится, — ухмыльнулся Лихачев. — А знаете что, дорога длинная и погода хорошая, природа тоже. Все к разговору располагает. Расскажу-ка я вам историю одну, не очень веселую, но зело поучительную.
— О, какое многозначительное предисловие!
Лихачев серьезно, без обычной улыбки и как-то слишком уж грустно глянул на нее, и она осеклась. У нее пропала охота злословить. Она неловко подобралась, чувствуя, что в душе Василия происходит какая-то борьба.
А Лихачев молчал. Он как бы в нерешительности стоял перед дверью, за которой скрыты только ему известные вещи. Казалось бы, забыл совсем о Тасс, о кобылке, о вожжах, зажатых между коленями, обо всем на свете. Тася, затаив дыхание, следила за лицом Василия. Глаза его глядели куда-то в даль, подернутую колеблющейся паутиной, и видели что-то такое, чего ей было не отгадать.
— Представь себе очень молодого человека, нет, представь себе мальчика, — безо всякого предупреждения заговорил Лихачев и сразу перешел на «ты», видимо, давая этим понять, что он будет рассказывать ей не как простой попутчице, а скорее как товарищу. — Да, мальчика, кудрявенького, бледного, в шикарном костюмчике, пошитом по последним моделям из журналов мод. У этого мальчика не то чтобы кислый, а такой томный вид. Он плохо кушает, а если кушает, например, яблоки или овощи, то обязательно перемытые в трех водах. Мальчик этот, между прочим, не по возрасту развит. Он перечитал множество книг, смотрел почти все спектакли оперные и драматические. Учился он хорошо. Все его считали очень способным, а мама гением. Да кто, по-вашему, была его мама? — Лихачев замолчал и с интересом уставился на Тасю. Вопрос застал врасплох.
Тася глубоко засунула руки в рукава, упрятала лицо в шаль.
— Н-ну кто? Очевидно, какая-нибудь нынешняя барынька, раз она мальчика так нежила.
— Почти так, но не совсем. Мать у этого мальчика в молодости не была барынькой. Ее скорее можно было считать странным человеком. Хотя есть более точное определение. Здесь, в деревне, о такой бы сказали — порченая. Когда-то мама этого мальчика была еще не мамой, а простой красивой девушкой. Она работала в морском порту кассиршей и училась на рабфаке. Потом поступила в медицинский институт. Говорят, в те времена студенты увлекались поэзией. Пристрастилась и она с стихоплетству. К несчастью, на стихи или на нее самое, этого я не знаю, обратил внимание какой-то поэт с именем и сумел пристроить стихи в одном из журналов. Несколько стихотворений она напечатала в газете. Это был зенит. Поэт охладел к ней, и после того она получала только ответы из редакций.
Но надежды не теряла. Ждала, когда муза повернется к ней зрячим местом. А пока суть да дело, она завела соответствующую прическу, ходила с полуопущенными глазами и обязательно с томиком стихов Сергея Есенина.
— Слушай, Лихачев, — тоже переходя на ты, перебила его Тася и с откровенным любопытством посмотрела на него. — Начал серьезно, так не озорничай.
— Да ты, оказывается, проницательный человек, — отшутился Лихачев и заторопился: — М-да, поэтический ли вид, молодость ли, красота ли помогли той девице обворожить одного из научных сотрудников медицинского института. Начал тот сотрудник сохнуть по ней, писать записки, даже в стихах пытался, да оказался по этой части не мастак. Словом, все это кончилось тем, что научный сотрудник предложил руку и сердце молодой поэтессе и та соблаговолила не отвергнуть ее. Так в Москве появилась еще одна супружеская чета. А у этой четы появился затем тот самый худенький, кудрявенький мальчик. Мама сама взялась за его воспитание, и когда отец пытался вмешиваться, получал сокрушительный отпор. «Хватит! — заявила она, — ты загубил мое дарование, так будь этим доволен! Мальчика я тебе не отдам! Я сама буду следить за развитием его таланта!» — «Какого?» — спрашивал отец, привыкший к чудачествам жены. «Музыкального, — отрезала мать. — Что ты, не понимаешь? Разве ты не замечал, как мальчик тонко улавливает любую мелодию, даже рахманиновскую! Где тебе заметить это? Ты даже до сих пор не позаботился, чтобы у ребенка был свой инструмент!»
Мальчик к той поре уже был водворен в музыкальную школу. В квартире скоро появился инструмент, причем в квартире уже не научного сотрудника, а кандидата, который все реже заглядывал домой, потому что встречи с женой каждый раз заканчивались истерикой. Она потрясала перед ним пожелтевшими вырезками: «Ты видишь, это не мираж, не сон! Я печаталась! Печаталась! Понимаешь ты? Я была на большой дороге, но ты сгубил мой талант, сгубил, сломал, срубил, как деревенский мужик срубает березку для обыкновенной оглобли!»
Время шло. Мальчик вырастал, становился умнее, пристрастился к машинам и возненавидел «инструмент».
Музыка для него сделалась бременем, мать — навязчивым существом, из-за которого он стеснялся приводить к себе товарищей. Все чаще и чаще долговязый подросток пропадал из дому. Мыл на Москве-реке машины ради того, чтобы ему позволили ручку крутить. Он лез на краны, экскаваторы. Однажды пытался уплыть на пароходе в дальние страны. Это между прочим, многие мальчишки пытаются сделать, и по этому я сужу, что и он был мальчишкой, как и все. Но характер у него с годами становился резким, заносчивым. Ребята его били. Он сопротивлялся, сбивал нарочно пальцы, чем огорчал маму. Между прочим, мать дала ему звучное имя оперного персонажа — Роберто, и мальчик мирился, пока его звали Робкой, но когда подрос, имя это сгало для него мукой.
…Лошадь шла в гору. Василий выскочил из кошевки и, держа в руках вожжи, посоветовал:
— Разомнись немножко, ноги-то, пожалуй, затекут.
Тася выпрыгнула, почувствовала, как мелкими иголками пронзило подошвы ног.
— В самом деле, засиделась. — И, помолчав немного, тихо сказала: Ей-богу, даже не верится. Ты, наверное, насочинял?
— Насочинял! Кабы насочинял. Вы не поверите, например, что к маме Роберто приходили дамы и приводили на шелковых ленточках каких-то плюгавеньких мопсов, стоивших бешеные деньги, что дамы эти два-три месяца в год лечатся на курортах и, как в старину, считают модным завести болванчика.
— Это еще что за чудо?
— Любовник. Помните, в романе «Демидовы» описан такой? Ну да, еще один из Демидовых спустил его с лестницы?
— А-а, помню. Неужели ты серьезно?
— Я сегодня все говорю серьезно. Здесь вот многие не поверят этому. Дескать, в книжках такие и остались только. Погляди, какая красота! - неожиданно прервал себя Лихачев и показал Тасе на взгорок, покрытый снегом. У подножья взгорка к огромной березе был приметан стог сена. На березе грузно висели черные тетерева. Вытянув шеи, они подозрительно вглядывались в приближающуюся подводу и на всякий случай предупреждали друг друга коротким кокотаньем, как это делают петухи, подзывая кур к корму. — Эх, ружьишко бы! — вздохнул Лихачев. — Было бы нам варево знатное! И ведь не взлетают, точно чувствуют, что без ружья.
Подпустив их совсем близко, косачи дружно снялись с березы и вскоре растаяли вдали, в морозном тумане.
— Так чем же все-таки заканчивается история кудрявенького мальчика? - заглядывая сбоку, спросила Тася. — Хочется дослушать. Леспромхоз уж недалеко.
— Что ж, буду краток, а то слишком жидко развел. Когда началась война, Роберто учился в консерватории. Матушка настояла на своем. Отец отправился па фронт, а сына и жену эвакуировали. Можно было, конечно, обойтись и без эвакуации, но мама так боялась за жизнь драгоценного сыночка! На отца она топала ногой: «Не смей возражать! Ты хочешь нашей гибели?» Она, по наивности своей, полагала, что переезд в Сибирь не будет ничем отличаться от ежегодных поездок на южный берег Крыма. Вот мама и сынок с несессером и еще какими-то пустяками в руках очутились в Кемерово, ни к чему не приспособленные, никуда не пригодные. Пока была одежда — меняли ее на картошку. Потом люди помогали им просто так, как эвакуированным. Но в те времена в помощи нуждались многие. Мать не выдержала лишений, не сумела найти дела, перестала следить за собой, опустилась. И хотя парень из всех сил старался поддерживать ее: выполнял мелкие работы на станции, пытался даже спекулировать ради того, чтобы добыть пропитание, — ничего сделать не мог. Слишком долго мать просидела в своей дурацкой скорлупе. На тяжелый военный мир она глядела с испугом и умерла, так и не поняв ничего.
Голос Лихачева упал до шепота, у губ легли горестные складки. Помолчав, он со вздохом добавил:
— Страшно это и тяжело, когда мать только жалко. Только жалко, и ничего больше.
Василий смолк. Совсем недалеко прокуковал паровозик, донесся лай собаки и то нарастающее, то затихающее тарахтенье электростанции, мешающееся с визгом электропил.
— Леспромхоз, — кивнул головой Василий и быстро заговорил: — Туго пришлось тому пареньку. Если бы не добрые люди, протянул бы он ноги. Взяли его в армию, в офицерскую школу. Да какой из него офицер? В школе-то не миндальничали с курсантами, делали из них настоящих офицеров. По десять часов в сутки гоняли. Не выдержал такой нагрузки, заболел, а после болезни попал в танковую школу. Ну, рассказывать о том, как помяли бока тому парню на фронте, как воспитывали в нем чувство товарищества, как дошло до его сознания, что на свете куда больше нужных людей, чем таких, как он, и жизнь делают не праздные дамы, а простые люди — долго все это рассказывать. Хорошо было, когда он нашел настоящих друзей. Плохо сделалось, когда ему вручили документы, дали на дорогу продовольственные талоны и велели ехать домой. Какой дом? Он знал лишь тот дом, где стоял инструмент, глупые фигурки из фарфора и бронзы. В этот дом он уж теперь не мог вернуться. Надо было искать другой.
В тот послевоенный год все ехали домой, устраивались, брались за дело, только Роберто болтался, как полосатый шарик по биллиарду, от борта к борту, не попадая в лузу. — Василий на секунду прервал свой рассказ и с выдохом заключил: — Впрочем, в лузу он все-таки попал — в Тулкухинскую исправительно-трудовую колонию.
— Как это он умудрился?
— А повстречал однажды своего двойника, какого-то «гения» с полными карманами папиных денег, кутили, разъезжали на легковой машине и однажды сбили на деревенской улице девочку. «Гений» прибавил газу, а Роберто запротестовал. «Гений» корячиться начал, был бит, и его отвезли в больницу. Ну а Роберто сюда, на Урал. Когда он отбыл срок, первое, что сделал, сменил имя и сделался Василием, Василием Лихачевым. — Он невесело улыбнулся. — Ваш покорный слуга.
— А я поняла это с самого начала.
— Я уже отметил твою жуткую проницательность! — сощурился Лихачев. Впрочем, извини, я опять паясничать начинаю. Нехорошо, взрослый человек вроде уже, а так и подмывает пооригинальничать.
— Ты все рассказал?
— Пожалуй, все, остается только добавить, что, выйдя из колонии, новоявленный Василий пропился до нитки и пошел работать в первую попавшуюся организацию. Первой и самой ближней оказалась эмтээс. Как танкист-водитель я стал трактористом. Еще вопросы есть? — попытался свернуть дело на шутку Василий, но Тася не приняла его шутливого тона.
— Нет, но, очевидно, будут, — задумчиво ответила Тася. «Мы, по-моему, сродни», — вспомнила она давние слова Лихачева. Тася перебрала быстро, как нитку с узелками, свою жизнь в памяти: мачеха, госпиталь, Лысогорск. Нет, не родня они. Ее жизнь не баловала. Еще в раннем возрасте пришлось добывать свой хлеб. А от своего хлеба человек делается костью прочней и рассудок у него трезвеет. «И все-таки есть, есть что-то общее, — размышляла Тася. Предположим, наша несостоявшаяся молодость, паша, не утвердившаяся до сих пор, жизнь. А впрочем, все это пустяки! Ему нужно говорить суровую правду в глаза и не искать оправданий, или еще хуже — жизненного сходства с ним».
Василий сидел грустный, упрятав подбородок в шарф.
— Замерз я, однако. — Он встряхнулся и выпрыгнул из кошевки.
Тася занесла ногу за борт кошевки.
— Много у тебя было в жизни дрянного, но были ведь и порядочные друзья, и хорошие встречи? — Жизнь без порядочных людей и хороших встреч была бы никчемной штукой. Однако я коченею.
— Слушай, Василий, мне, разумеется, еще рано читать людям наставления, как говорят, мелко плаваю я для этого. — Она взглянула на шагавшего рядом с вожжами в руках Лихачева и закончила жестко: — Живи ты, как все. Шутовство-то ведь признак маленькой души, а у тебя она, кажется, не такая уж мелкая.
— Спасибо за доброту, — буркнул Василий, закусив губу, пробежал вперед и стегнул лошадь, бросив на ходу: — Не получается у меня, как у всех.
Полозья саней срезались, кошевка накренилась. Он наступил на отводины и, когда сани выправились, продолжал:
— Порченый я тоже, должно быть, с детства порченый.
— Да будет тебе чепуху-то городить, — поморщилась Тася, — возомнил о себе черт-те что и куролесишь.
Василий смахнул перчаткой клочок сена в ветки елки и, глядя в сторону, опять сердито буркнул:
— Ладно, хватит меня воспитывать, у меня уж волосы седые.
Получилось это очень резко, и, как бы испрашивая извинения, он осторожно взял за руку Тасю.
— Пройдись, закоченела ведь. — В голосе Василия уже была мягкость.
Тася соскочила в снег, высвободила руку и, поправляя шаль, взволнованно произнесла:
— Как хорошо в лесу! Все-таки жизнь лучше всякой выдумки. Не умеем мы замечать то, что нас окружает. Умели бы, так все выглядело бы ясней и красочней. Правду я говорю, пане ямщик? — хитровато и многозначительно спросила Тася, повернувшись с улыбкой к Василию.
Дорога поднималась в гору. Крепчал мороз, и светило солнце. Снег, как толченое стекло, переливался искорками. Все крутом притихло, смолкло, упряталось. Было трудно представить, что под снежным покровом, под остекленевшими следами полозьев и в маленькой норке, вырытой в снегу у подножья пихты, затаилась жизнь, которая терпеливо и настойчиво ждет тепла, весны. Лихачев огляделся вокруг, прислушался к чему-то и тихо ответил:
— Правду…
Поздней ночью Тася и Лихачев вернулись из леспромхоза, продрогшие и усталые. Лидия Николаевна напоила их горячим чаем. Василия уложила спать в горнице. Тася ушла к себе.
Рано угром Лидия Николаевна с трудом разбудила Тасю, отправляясь на ферму. Тася долго ежилась в выстывшей комнате, одеваясь, клевала носом. Она только согрелась, разоспалась, и уже надо было вставать. Сегодня воскресник и необходимо сделать как можно больше. Зима, воскресенье, свободный день. Когда еще такой случай подвернется. Тася умылась холодной водой, затопила печку, начистила картофеля, поставила его варить. Затем сбегала на ферму, принесла молока, вскипятила для Сережки. Мальчик крепко спал, похрапывая под одеялом. Тася осторожно разбудила его:
— Ну ты, Сережик, домовничай, а я пойду. Меня не будет целый день. Не перевертывайте тут все вверх дном.
— Ой, мам, и в воскресенье ты все работаешь, а я все один, потягиваясь, недовольно пробурчал заспавшийся мальчик. У Сережки давно выпали передние зубы и до сих пор еще не выросли. Он говорил смешно, со свистом. Тася прижала его к себе, заправила в трусики выбившуюся майку.
— Идти надо, хороший мой. Воскресник сегодня.
— А-а, — понимающе протянул Сережа и запрыгал к умывальнику на одной ноге, — тогда ты иди, мам, только поскорее домой ворочайся, ну?
Возле конного двора собралось много молодежи. Райка Кудымова уже успела вываляться в снегу. Завидев Тасю, она стала убирать растрепанные волосы, отряхиваться.
— Обижают меня парни, — жаловалась она, хоть бы вы помогли, Тансья Петровна. — И тут же, улучив момент, Райка дала подножку зазевавшемуся пареньку. Тот свалился в снег и, выбираясь из сугроба, гудел:
— Обидишь тебя…
Наконец появилась машина с горожанами. Тася заметила среди приехавших Уланова. Ей понравилось, что Иван Андреевич приехал сам и не на своей машине, а вместе со всеми. Решено было разбиться на группы. На долю Таси выпало хлопотливое дело — она должна следить за работой во всех бригадах.
В этот день в Корзинове было шумно. Вот в переулке показалась подвода, нагруженная навозом. Лошадью управляла Райка Кудымова. Она крутила вожжами и озорно кричала:
— Но-но, милый, вези меня туда, где женихи похрабрей корзиновских.
Приподняв занавеску, в окно выглянул Птахин в одном белье. Заметив Тасю, он задернул занавеску. Конечно, не по себе человеку. Колхозные дела идут своим чередом, а он ведь все же голова хозяйства. Нехорошо, когда жизнь проходит мимо.
Многие колхозники отвыкли работать не только в воскресенье, но и в будние дни. Все они оповещены, что сегодня воскресник, но делают вид, будто их это не касается. Своей, дескать, работы по горло. Вот и шмыгают они воровато в двери при появлении агронома. Некоторые, наоборот, смотрят на нее вызывающе, ждут, что она начнет ругаться. Тут-то уж ее и положат на обе лопатки. Чего-чего, а огрызаться колхозные лодыри умеют.
Но Тася проходит, не замечая их. Достаточно того, что многим стыдно делается. По лицам видно. Железную бы руку в колхоз, чтобы она тряхнула лодырей. Привыкли чужими руками жар загребать. Все-то им стали делать приезжие люди, отучили их заботиться о колхозном хозяйстве. Вот даже навоз и тот городские возят. Приехали за десятки километров, лишив себя отдыха. В деревне же к вечеру запиликают гармошки, заревут пьяные голоса, появятся два-три отъявленных нахала на улице, пойдут в обнимку и, завидев работающих горожан, закричат:
— А-а, комсомолия! Робь, ребята, поднимай наше социалистическое хозяйство! Ха-ха-ха!..
Успела Тася насмотреться за это время на деревенских бездельников, присосавшихся к артельному хозяйству, и возненавидела их. «Ничего, заставим мы вас жить и работать как нужно, народ заставит».
Но на воскресник, кроме молодежи, пришли все-таки несколько пожилых колхозников, а доярки с Лидией Николаевной явились все. Они накладывали вилами навоз на подводы. Лидия Николаевна, разрумянившись на морозе, работала молча, сильно. Ее ухватка в работе очень напоминала Тасе Якова Григорьевича — спокойные, рассчитанные, ловкие движения.
Тася высказала свои горькие размышления Лидии Николаевне. Та оперлась на черенок вил, постояла немного и, когда возле нее остановилась подвода, заговорила, орудуя вилами:
— Скребут кошки нутро не у одного Птахина. За бортом остаются все правленцы. Думали, что без них мы шагнугь шагу нe сумеем. В Корзиновке мало народу вышло на воскресник, с оглядкой люди живут. Но в других бригадах, я уверена, половина людей на работе, а в третьей — все. Ты вот в бригады и спеши. Здесь мы управимся.
В третьей бригаде, в самом деле, вышли на воскресник все от мала до велика.
— Народ-то, гляди, рвет и мечет, — говорил довольный Букреев, поздоровавшись с Тасей. — Наши перед городскими не желают пасовать!
— Остыть трактору не дают, — деланно сокрушался Лихачев. — Только заглушу — «Заводи! — кричат, — поехали!»
Работа и в самом деле шла дружно, весело. Некоторые из городских девчат никогда еще не держали в руках вил. Деревенские, безобидно подшучивая, обучали их нехитрому делу.
В шестой бригаде Тася задержалась до вечера. Здесь работа шла вяло. Бригадир уехал в город. Заместитель бригадира, Разумеев, не явился, и работой никто не руководил. Тася сама разыскала бригадный инвентарь, заставила конюха запрячь лошадей и накладывать на сани навоз. Он поворчал маленько, но за вилы взялся.
К полудню сюда нагрянули ученики старших классов из корзиновской школы вместе с учителями. Не хватало подвод. Тася поехала в МТС просить трактор с санями. Чудинова в конторе не оказалось. Тася подумала и все-таки решилась попросить уборщицу позвать директора.
Чудинов, встретив Тасю, неловко полез за папиросами. Она коротко сообщила ему о положении дел в шестой бригаде. Тут же, ни о чем больше ее не спрашивая, Чудинов распорядился снять трактор с вывозки леса и направить его в шестую бригаду.
Тася поспешила уехать из МТС. Каждая встреча с Чудиновым камнем ложилась на сердце. Она чувствовала: и Чудинову нелегко. Огтого он так торопится выполнить ее любую просьбу.
В заречных бригадах работа шла тоже хорошо. Здесь две деревни. Расположены они недалеко друг от друга. В одну деревню с комсомольцами поехал Иван Андреевич, а в другой оставили инструктора горкома комсомола. Часа через три Уланов пришел проверить, как идут дела у соседей, и видит: стоит инструктор возле огонька, руки греет. Тонколицый, щупленький паренек. Приехал он на воскресник в легоньком шарфике, в кожаных перчатках. Oн уже сумел найти для себя легкую работу: ставил карандашом палочки в блокноте, учитывая количество возов.
— Вы что же, на прогулку приехали? — неприязненно спросил Иван Андреевич. — А ну, берите кайлу в руки. Берите, берите, она не кусается!
Сам Уланов тоже взял из рук одной девушки кайлу и подошел к куче смерзшегося навоза.
— Делайте все следом за мной.
Иван Андреевич широко расставил ноги и начал со всего плеча долбить кайлой мерзлую кучу.
— Быстрей, сильней бейте — и через десяток минут вам будет жарко.
Колхозники, не скрывая улыбок, следили за их работой. Торопливо и бестолково тюкал кайлой инструктор. Кайла гуляла из стороны в сторону, один раз попала в ногу. А Уланов, ахая в лад с ударами, бил кайлой так, что далеко в стороны отлетали глыбы смерзшегося навоза.
— Секретарь-то хоть и плюгавый с виду, а должно, бывала кайла у него в руках, — говорили колхозники. — Не то что этот хлюпик.
— Рабочий! Кайла ему не в диковинку.
Вечером участники воскресника собрались в жарко натопленном клубе. Пока Иван Андреевич вместе с Тасей подводили итоги работы, заводские комсомольцы орудовали на сцене, готовились к концерту. Многие разошлись по домам — ужинать. Той еды, что захватили из дому, не хватило. Но почти каждый горожанин завел сегодня знакомых. Новые друзья вместе поужинали, девушки даже переодеться сумели.
Первое место и сегодняшнем воскреснике заняла группа комсомольцев, работавшая в третьей бригаде.
— Иначе и быть не могло, — небрежно заявил Лихачев. — Кто там трактористом был?!
Кругом засмеялись, захлопали. Кто-то крикнул:
— Качать Лихачева!
— Братцы! Я только что поужинал, осторожно!..
Концерт понравился. Всем много аплодировали. Одна девушка, читая стихотворение, наполовину забыла его. Ей тоже хлопали, да еще сильнее, чем другим. Девушка вдохновилась и без запинки прочла до конца. После концерта начались танцы. Иван Андреевич пригласил Тасю на вальс. Он несколько раз наступил ей на ногу, но она и виду не показала.
Шум и смех царили в клубе до поздней ночи, потом горожане поехали домой. Их провожали с песнями, просили приезжать еще.
Из-за снежных сугробов настороженно, с отчуждением глядел темными окнами дом председателя. В некоторых домах еще слышались увядающие голоса опившихся брагой бездельников. Когда по улицам с шумом проносились машины, песни в избах как-то сами собой угасали.
Новое шло по деревне своей трудной дорогой.
Глава пятая
Перед каждым отчетно-выборным собранием Карасев недели по две не показывался в Корзиновке. А нынче ему предстояли еще более длительные отлучки. В кошевке, наполненной душистым сеном, он перекочевывал из бригады в бригаду, проверял работу и жизнь колхозников. Возле некоторых изб он под разными предлогами задерживался, толковал с хозяевами по душам, пил чай, а иногда и оставался ночевать. Разговор чаще всего начинался односложно, примерно так, как он начался у овощевода шестой бригады Кузьмы Разумеева.
— Ну и жмет морозище-то, беда! — крякнул, потирая руки, Карасев.
— Не говори, Аверьян Герасимович, так ведь и пробирает разные места и дыхало ровно паклей затыкает. А ты в этакой-то холодище мотаешься! - соболезнующе качал головой Разумеев, помогая Карасеву стянуть тулуп.
— Служба! Знаешь, как в армии: солдат при любом удобном моменте — на боковую, а начальник без команды свыше сделать этого не моги. — Говорил он таким тоном, будто в армии он полжизни провел. И, разматывая шарф, озабоченно закончил: — Отчетное скоро, подготовиться надо, посмотреть, где, что и как. Руководитель, он только заботами и силен.
— Что и говорить! Ты, Аверьян Герасимович, проходи вот сюда, к печке, а мы сейчас чего-нито сморокуем, — угодливо приговаривал хозяин, придвигая к шестку русской печки табуретку. — Манька! Эй, Манька! Куда ты запропастилась? А ну, мигом в лавку!
Карасев проворно поворотился и сделал страшные глаза:
— Не смей! Капли в рот не возьму. Видишь, я при службе и подготовку провожу.
Белобрысая Манька в валенках на босую ногу и с пустой пол-литрой в руке нерешительно затопталась у порога, заслышав такой энергичный протест со стороны гостя. Но отец свирепо и незаметно от гостя мотнул рукой у бедра, и она, сверкая голыми коленями, выскочила за дверь. Хозяин начал хлопотать вокруг стола.
— Самой-то нету, — пояснил он, — на рынок уехала, поторговать маленько.
— Лошадей бригадир не отказывает? — деловито осведомился Карасев.
— Пока Бог милостив. Суперечит кой-когда, да я уж на тебя, Аверьян Герасимович, уповаю. Зам, мол, председателя велел.
— Правильно. Ты же знаешь, что я для труженика-колхозника душу не пожалею.
— Как не знать. Твоей милостью и тянемся, а то б завязывай глаза и тикай отсюдова.
— Тут, брат, моей милости нету. Я тоже человек маленький. А вот председатель дни и ночи хлопочет о вас, как бы помочь, чем бы помочь. Сам знаешь, какие урожаи наши: колосок от колоска не слыхать голоска. А Птахин отдувайся, голову ломай, как колхоз удержать, чем людей и скот кормить. Быть председателем — не трень-брень! Им наш колхоз держится.
— Известно дело…
— А ведь нашлясь сукины дети, живьем готовы слопать его.
— Нашли-ись… Агрономшу новую знаешь?
— Была как-то, видел, — отозвался Разумеев и, уловив в тоне Карасева неприязнь к агроному, ввернул, чтобы угодить гостю: — Плюгавенькая такая с виду, недоносок вроде.
— Во-во, недоносок! — обрадованно засмеялся Карасев. — Метко ты ее. Недоносок! Этот недоносок и мутит воду. Под Птахина яму роет, на его место норовит. Что тогда с колхозом будет, а? Понимаешь? — Голос Карасева упал до злобного шепота. — После Пленума брожение сделалось. Люди сами не ведают, что творят. Жили, жили, как следует быть, одной семьей, а теперь на Птахина волками смотрят. Темнота! Беспонятливость! Ну, сбросят Птахнна, а дальше… дальше что?
— Не допустим! — грохнул кулаком по столу хозяин так, что из тарелки лягушатами прыгнули соленые грибы и зашлепались о клеенку. — Где это Манька запропастилась? — Собрав вилки, Разумеев заглянул под занавеску. — Бежит, удовлетворенно молвил он и со скрежетом почесал поясницу. — Давай, Аверьян Герасимович, подвигайся. Уж извини, чем богаты… самой-то нету.
Карасев некоторое время боролся с самим собой, а потом встал, одернул толстовку.
— Только одну, и только ради тебя. Должен уважить хорошему человеку. У тебя как с покосишком-то?
— Сшибаю кое-где.
— Я с Птахиным потолкую насчет тебя, там, на острове, можно найти еще кусок. Не сто же гектаров тебе требуется.
— Аверьян Герасимович, да за такое дело! Ведь замучались. Ночами уж, грех сказать, украдкой, клочок по клочку собирали…
— Сделаем! Ты вот что, втолкуй туг насчет Птахина — поддержать человека надо. Сам знаешь, какая перспектива без него.
— Все исполню, не сумлевайтесь. Только народишко-то наш всякие разные мысли обсказывает. Как пропечатали это постановление, так и началось. Теперь, мол, пойдем в гору и тому подобное.
— В гору, — фыркнул Карасев, — в гору! Надо с кем-то в гору идти? — Он наклонился ближе к хозяину и понизил голос: — Ты на себя надейся, не плошай, понял?
— Как не понять?
— Вот и здешним людям втолкуй.
— Постараюсь все сделать. Ты, Аверьян Герасимович, насчет наших не сумлевайся…
— Поможешь, забыт не будешь! У тебя бригадир-то вроде родня?
— Дальняя. Седьмая вода на киселе…
— Это ничего, пусть хоть девятая. Поближе к нему держись. Ему доверия больше. В такое время надо кучней держаться.
И пока все это говорил Карасев, лицо Разумеева вязалось в тугие узлы, челюсти его затвердели, на висках набрякли жилы, вспыхнули и уже не гасли отсутствующие, недобрые глаза.
— Не береди душу! — решительно хлопнул он по столу и тут же заторопился, залисил: — Может, переночуешь, Аверьян Герасимович? Я еще за одной пошлю! Эй, Манька! Где ты там? Поди сюда!
Карасев полез за бумажником, намереваясь достать свои деньги, но хозяин выдернул у него бумажник, сердито сунул обратно в карман гостю.
— Не обижай, Герасимович. Ты — гость мой дорогой и не смей кошельком трясти. Деньжонки у меня, брат, имеются, без капиталу не живу оттого, что на Бога больше надеюсь.
— Ты мужик башковитый, люблю таких — хозяйственных, — уже чуть заплетающимся языком хитровато молвил Карасев. — А благодаря чему имеешь капитал?
— Ясно дело почему! Благодаря руководству. Знаешь, как ты еще в войну втолковал мне насчет картошки?
— Чего-то не помню.
— Да ты говорил, чем, мол, меньше картошки на рынке, тем она дороже…
— Это факт, тут догадливости не надо!
— Как не надо? Надо! Выходит, следует иметь больше своей картошки, да поменьше колхозной. Только на картошке далеко нынче не уедешь. Я сейчас сажу больше лучишку, чесночишку. Вот еще, говорят, редиска — доходная штука. А картошка что, лишь весной да летом цену имеет. Я выкармливаю двух свиней на той самой картошке, мясо загоняю — и живу.
Карасев одобрительно посмотрел и подмигнул.
— Вот я и говорю — ты мужик с понятием!
— До тебя далеко, Аверьян Герасимович. Тебе бы в старое время жить, в большую бы птицу ты оформился!
Карасев насупился, откусил конец папиросы, изжевал его и замотал головой.
— Не-е, ты, Кузьма, политически близорукий. Хозяин ты толковый, а вот с политическим развитием того, приотстал.
— Ты меня с собой не путай, — отодвинулся Разумеев от гостя. — Ты пролетарья по всем статьям, а я извечный труженик — хозяин.
Карасев недобро скосился на хозяина и скривил губы:
— Ври, ври, может, и правду скажешь. Что, думаешь, я не знаю, за счет чего ты жил? — Карасев явно напрашивался на спор. Разумеев смекнул, что в пререкания ему вступать не следует. Будто не поняв последнего вопроса, он слезливо начал:
— Эй, Герасимович, как жили?! А? — Разумеев скосоротился. — Я рази б клянчил покос, когда у мово отца было двадцать десятин? Двадцать! Это понимать надо!..
Выпьем лучше! — Они чокнулись, выпили, мокро поцеловались.
— Червяк ты, Кузьма, червяк-короед. Скырк-скурк дерево-то под корень, а? — с вызывающей насмешкой глядя на хозяина, тянул Карасев. В его пьяном сознании все больше вскипало ненавистное чувство к Разумееву оттого, что он подлаживался под него, Разумеева, улещал, вместо того, чтобы дать ему раз в мясистую надбровницу. Рядом с Разумеевым Карасев чувствовал себя совсем отщепенцем и как бы яснее видел, до чего дошел, до каких подлостей и низостей. Кипит в нем глухая злоба, кипит, и потому разит он хозяина словами, злобно наслаждаясь своей откровенностью и его бессилием:
— Зло в тебе ужом свернулось! Короед — червь сурьезный, маленький, а рощу свести может! Это я про тебя, про тебя, а… Ну да хрен с тобой, живи! Докуда доживешь — дело не мое. Давай еще одну, а? Хрен с ней и со службой тоже. Служба не жена, разводиться не побежит! Ха-ха-ха, — раскатился Карасев, довольный тем, что ловко сострил.
Разумеев пьяненько подхихикнул ему…
Снова Манька, сердито нахмурив светлые бровки, проворно побежала за водкой. Разумеев тоненьким голоском завел песню про злую долю. Карасев мигом накрыл беззубый рот собутыльника ладонью.
— Т-тс-с, ша! Припухни, пока меня здесь не засекли. Я ведь все-таки пролетарья! — передразнил он Разумеева.
Утром Карасев уехал. Не везде его встречали так же радушно, как у Разумеева, не везде он и откровенничал.
Однако Карасев не упускал случая чего-нибудь пообещать, похвалить Птахина, похаять кого-нибудь, а если надо — и припугнуть.
Карасев при этом ничего не добивался для себя и всю свою агитацию сводил к тому, чтобы защитить Птахина. Это обезоруживало людей, заставляло их удивленно настораживаться. «Мудрит что-то Карасев, мудрит, — думали колхозники и чесали затылки, — а бес его знает, может, он и прав. Птахин, конечно, разболтался, но он хоть дело знает. Его припереть к стенке, так он потянет колхоз. Агрономом работал вон как ретиво. А вдруг вместо него и в самом деле дадут кого-нибудь приезжего, возьмут и поставят? Вот и беспокоится Карасик. Но ведь в случае чего он и сам может стать председателем. Чудно! Ладно, до собрания доживем, увидим, что к чему».
Карасев мучился. Было время, он, как и все, учился в школе, потом работал в пассажирском пакгаузе весовщиком.
Здесь и началось. С пустяков началось. Проели как-то крысы мешок с семечками. Весовщик и грузчики через эту дыру ополовинили мешок. На утрату составили акт. Сошло: крысы остались виноваты. Потом уж и вовсе распоясались, заворовались, стали вскрывать багаж, даже вагоны.
Смекнув, что дело это может кончиться худо, Карасев уехал в другой город. Там он поработал немного в сапожной мастерской — нe понравилось: на седухе не много добудешь.
Перешел Карасев в другую артель, где вырабатывали столярные, мочальные, скорняжные и другие изделия. Довольно быстро Карасев продвинулся по служебной лестнице, завел знакомства в горсовете и промсовете. Года два он был председателем артели, но одна крупная махинация сорвалась. Лично Карасев отделался испугом, пострадали начальник снабжения, кладовщик и еще кто-то, а Карасева перебросили в деревню на должность заместителя председателя. Он и здесь быстро смекнул, что замом-то и лучше, пожалуй. «Кто ставит печать, тот и будет отвечать», — эту поговорку Карасев после работы в артели запомнил крепко.
Так вот и прижился Карасев в Корзиновке. Постепенно прибрал он к рукам Птахина, сблизился с его женой. Думал, что и с корзиновцами полный контакт у него, — не вышло. Зашевелились люди после постановления. Пожалуй, не настрой их на определенную линию — сомнут Птахина. А Птахин — надежный щит для Карасева. Его жена — откровенный сообщник. Она свои интересы соблюдает. Ей бы только побольше урвать, всласть пожить. Сколько вина на пару с ней выпито в лаборатории… Лопоухий у нее муженек, лопоухий. Такого и надо! При таком и жить только. Мысли Карасева мечутся, громоздятся одна на другую, будто в чехарду играют. Нет покоя. Одно зло, на себя зло, на людей, даже на лошаденку.
На раскате он вывалился из кошевки, но ухватился за вожжи, встал и чугь не по пояс увяз в снегу. Он оглянулся кругом, будто проснулся. Вдали ковыляли лошади с возами сена. Отсюда обоз казался игрушечным бесколесным поездом, двигающимся по невидимым рельсам. На той стороне, у выскочивших на бугор изб, буксовала машина, упрямо, как таракан, одолевала крутой подъем. Возле машины суетились люди, что-то сыпали лопатами. От крайнего дома, по самому крутику, друг за другом летели санки. Крайний дом — это школа; ребятишки, видимо, с пользой проводили перемену. Далеко отсюда, в леспромхозе, осипшими от мороза голосами перекликивались паровозики. Даже в оцепеневшем от мороза лесу ощущалось движение. Вот откуда-то появились две маленькие белощекие синички и так бойко принялись потрошить гнилой пень, что снег вокруг него моментально стал веснушчатым. Вон из-за деревни вылетела стая ворон и, накаркивая непогоду, закружилась над дорогой. Жизнь шла своим чередом, не обращая внимания на провалившегося в снег человека. А он тоскливо думал:
«Как же это я живу? Почему всю жизнь по щелям, как таракан? Почему? Почему? Почему все так? Годы ведь идут. А-а, к чертям, поздно раздумывать, поздно каяться. Сам запутал свою жизнь, сам и распутывай!»
Карасев прыгнул в кошевку и, ругаясь, начал стегать лошаденку. Срывавшиеся с ее копыт крошки льда до крови секли лицо. Он этого не замечал. Опомнился после того, как лошаденка, на глазах у восхищенных ребятишек, в несколько прыжков вынесла кошевку на гору.
Карасев остановился возле массивных ворот колхозника Варегина, постучал в окно избы. На лице его снова появилось приветливое, деловое выражение, но смятение и тоска в глазах остались.
За несколько дней до собрания в Корзиновку начал стекаться народ. Ожила деревня. То в одном, то в другом доме Корзиновки вспыхивали переборы гармошки. Кумовья, зятья, шурины, братья, сестры, тещи, свекрови и прочая родня, расселившаяся по разным деревням, съехалась в кучу, справляла свой ежегодный, никем не узаконенный праздник. На всякие уговоры, укоры и доводы подвыпившие родичи — а родичами оказывались почти все колхозники доказывали, что и свинье бывает раз в году праздник, и на том основании работать не выходили.
По улице, захватив могучей рукой своего супруга под локоть, шла Августа Сыроежкина. Она сердито хмурилась. А Миша вовсе повис на ее руке. Мотнув плечом так, что Мишины ноги отделились от дороги, Августа приказала:
— Да переставляй ты хоть маленько ноги-то, ирод большеносый!
Миша, не поднимая головы, тянул: «Я вор, я бандит…» Был он настолько пьян, что слова произносил неразборчиво. Слышалось только свирепое рычание.
— Все люди как люди, — бранилась Августа, — песни поют, как следует быть, а ты рычишь, ровно тигра лютая, да хвастаешься, от компании срамно. Ты рыжий, так не видно, чтоб краснел, — а мне каково?
Миша пытался изобразить что-то свирепое на лице, но брови его расползались в стороны, нижняя челюсть отвисла, и вообще вид у него был глуповатый.
— Р-р-разорву тебя, разор-р-рву, всех р-разоррву! — тянул он.
— Молчи уж, — мотнула еще раз Мишу Августа, и он вовсе сник и успокоился.
Наконец-то собрание началось. Зал колхозного клуба оказался заполненным до отказа.
Уланов сидел в президиуме. По застарелой привычке чертил геометрические фигурки в блокноте, соединяя их одну с другой. С трудом сдерживая раздражение, он слушал доклад Птахина. У председателя был прирожденный недостаток — он гнусавил. Когда Птахин злился, шумел, говорил на высокой ноте, гнусавость почти не улавливалась. Но стоило ему понизить голос, заговорить вяло, как сразу к голосу примешивалось осиное гудение.
Вот и сейчас оса гудела монотонно, надоедливо, сливая в отчете все в кучу: цифры, факты, плохое и хорошее.
Уланов видел, как сидевшие в зале колхозники с трудом сдерживали дремоту.
— Товарищ Птахин, — не выдержал Уланов, — можно немножко повеселей да погромче?
Когда смешок, прокатившийся волной по залу, смолк, Птахин, не оборачиваясь к президиуму, буркнул:
— Как умею, так и читаю. В ораторах никогда не числился, — но доклад стал читать все же чуть погромче.
— Громче! Громче! — потребовали с задних рядов. — Ишь, бубнит себе под нос, ровно не ел. Не для тебя одного писано.
Птахин, не прерывая чтения, еще повысил голос, почти заорал. Впечатление было такое, точно у приемника неожиданно подкрутили усилитель.
Как ни усыплял своим голосом Птахин колхозников, они упорно и чутко улавливали все, что говорил председатель. Внешне почти никто не проявлял признаков недовольства, не грозил, не ругался. Но по усмешкам, по сердитым взглядам, по отдельным репликам, даже по тому, как сидели люди, можно было догадаться, что они сегодня молчать не станут.
Точно подтверждая догадки Уланова, умевшего чутьем старого производственника улавливать настроение людей, сидевшая за ним Лидия Николаевна наклонилась и вполголоса сказала:
— Сегодня будет делов.
Смолк Птахин лишь к вечеру, и все сразу облегченно вздохнули. Решено было пообедать.
Шумно разговаривая, размахивая руками, колхозники отправились в буфет или к родным и знакомым подкрепиться.
Карасев во время перерыва успел побывать в нескольких домах и поговорить еще раз со своими штатными ораторами, которые ежегодно начинали прения высказыванием благодарствий руководителям колхоза, в меру их критиковали — и дальше все катилось как по степной дороге.
Но путаница началась с самого начала. Первому почему-то предоставили слово Букрееву, который не выступал уже года три. Пока он ковылял на сцену, вытаскивал из кармана какие-то бумажки, в зале стоял гул недоумения.
— Неправильно! Не он первым выступать записался! — крикнули из зала.
Букреев, покрывая шум, заговорил не свойственным для него громким голосом, снижая его по мере того, как утихал шум:
— Сейчас поздно разбираться, кто первый, кто задний. Раз уж я добрался до трибуны, теперь меня отсюда и краном не вынуть. — В зале засмеялись. Улыбнулся и Букреев, не переставая говорить:
— Я, может, несколько лет до трибуны рвусь. Мне ведь тоже потолковать охота, а главное — есть о чем…
Так начав полушутливым тоном, Букреев завладел вниманием слушателей.
Он рассказал о делах в своей бригаде, похвалил многих женщин, которые даже не были упомянуты в докладе, и постепенно подбирался к самому главному. Было видно, что он дотошно готовился к этому выступлению. Под конец выступления Букреева некоторые из сидевших в зале не выдержали:
— Верно… У нас забрали половину покосов, для кого?
— Усадьбы по гектару «своим» нарезали…
— Картошку опять заморозили!
— В бригады глаз не кажут!
— Скот дохнет!
— Семена где, спрашиваю? Где семена?
— Крой их, Павел Степанович!
— Чьи бабы на базаре торгуют, рабочий люд обирают?
Яков Григорьевич, председатель собрания, стучал по графину карандашом, пытался навести порядок:
— Товарищи! Товарищи! Получите слово и говорите… Товарищи!
— Чего нам слово брать, не надо нам слово. Приспичило и говорим, крикнула пожилая колхозница из третьей бригады и с чувством вытерла губы кончиком цветастого платка.
Букреев щурился, глядя в зал, и довольно улыбался. Лед тронулся! Этого он хотел. Собирая свои бумажки, он сделал вид, будто и половину не сказал. Но надо, мол, совесть знать. Он застучал деревяшкой со сцены.
— Пусть и другие душу отведут, — бросил он, отправляясь на свое место, и уже на ходу добавил: — Говорите, товарищи, хватит в молчанку играть. Домолчались, что захребетники чуть было колхоз вовсе не слопали.
Слова запросили сразу несколько человек. Особенно требовательными были женщины. Не дождавшись разрешения, вперед выскочила старуха Удалова. Она завопила надламывающимся голосом:
— Видите, в чем я?! — тронула старуха холщовую юбку, выкрашенную какой-то серо-черной краской. — Сменки белья не имею. А почему? — Она хотела еще что-то сказать, подняла сухой кулак, словно собиралась им ударить, и, вдруг расплакавшись, пошла на свое место. Ее худая спина, на которой резко обозначились широкие лопатки, судорожно вздрагивала.
Тут Птахин понял: все, участь его решена. Нет, не Букреев своей речью его убил.
Когда-то, еще будучи агрономом, Птахин жил в доме Удалихи. Здесь он и женился. Удалиха была строгая, прямая старуха. Ей сразу не понравилась заносчивая, хитрая жена квартиранта. Старуха сумела чутьем распознать ее нутро. Вскоре молодые супруги переселились в отдельный дом. Одинокая старуха начала терпеть притеснения со стороны своих бывших квартирантов. Удалиха — гордый человек. Она и без пенсии осталась из-за своей гордости. Начала пенсию хлопотать Удалиха, нарвалась на чиновника, который заявил, что при ней имеется кормилец — сын. Она не стала разъяснять этому человеку, что сын ее женился на городской и живет сам как квартирант, а сердито бросила: «Леший с вами, я еще сама себе на кусок зароблю». И больше в собес не ходила, не обращалась.
Птахин поднял глаза, отыскал ими согнувшуюся, все еще вздрагивающую от плача старуху и быстро пошел за сцену, разминая папиросу.
Теперь выступления сделались вовсе непонятными и бурными. Всяк валил свое. Одни высказывали частные обиды, другие ругались просто так и больше махали руками. Часам к двенадцати ночи страсти стали утихать. Ошеломленный Уланов потирал обеими руками виски, словно хотел выдавить из головы боль, начавшуюся от шума и духоты.
Когда весь горластый народ перекипел, на сцену поднялся Разумеев. Он зачем-то надел очки, которых раньше на нем никто не видел, откашлялся и начал мирным, укоризненным тоном:
— Чего шумим, а? К чему такая, я бы сказал, некультурность при исполнении важного дела, каким является наше собрание? Критиковать надо. Критика, я бы сказал, вроде мельничного колеса. Вот почему нельзя ее превращать в балаганное представление, а наш колхозный клуб — в тиятр.
Сделав такое внушительное вступление, Разумеев передохнул и, сдвинув брови, положил на край трибуны руку, словно боялся, что она упадет.
— Кое-чего тут совершенно верно говорилось по адресу товарища Птахина и всего правления, я бы сказал, даже дельно говорилось. Действительно, товарищ Птахин ослабил руль по части управления колхозом, я бы сказал, насовсем выпустил в последнее время. Но мы-то, мы куда смотрели? Сказали мы товарищу Птахину, поправили его своевременно? Нет! Почему? Да потому, что принижаем большевицкий дух. Один человек был забран в тюрьму и напуган по поводу этого. После выпуска из тюрьмы каждую свою речь, каждую резолюцию зачинал со слов: «Стоя на советской платформе, терпеть не могу ненормальностей!» Выписывает, допустим, пуд овса и сверху накладной строчит эти самые слова. А мы вот, стоя на платформе, терпим ненормальности. А давайте посмотрим, один ли Птахин виноват?
Дальше Разумеев доказал, что виновны во всех упущениях и бедах прежде всего сами колхозники, которые не хотели критиковать председателя и правление, не подсказали ему вовремя, не поправили его. Голос Разумеева был умиротворяющим, сладким, доводы казались убедительными, да и сам он выглядел внушительно. Уловив тонким чутьем, что настроение в зале переломлено и что настал самый удобный момент убраться с трибуны, Разумеев заключил:
— Кроме того, ежели вы добьетесь снятия товарища Птахина, вам направят на эту должность такую личность, которая, я бы сказал, не только наяву, а и во сне пашни не видела. Я извиняюсь, конечно, но скажу не в обиду нашей новой товарищ агрономше. Вот она приехала из города, и ей трудно с нами, и нам проку от нее никакого, потому как незнакомое дело. Извиняюсь, конечно, — увидев, как вспыхнула и опустила голову Тася, прибавил Разумеев. — Вот и добьемся, дадут нам липового председателя, да агроном у нас, я бы сказал, аховый, пойдет все нараскоряку…
Разумеев смолк, поджал губы и, выразив сердитое сострадание па лице, отправился на свое место.
— Ах, поганец, — покачала головой Лидия Николаевна, — девку-то за что обидел?!
И все-таки выступление Разумеева сделало свое дело. Ошеломленные было подхалимы начали выползать на сцену, сокрушаться, критиковать правление и председателя, но все они убедительно доказывали, что, если уберут Птахина, колхозу совсем будет худо.
Птахин сидел, опустив голову, багровый, с болезненной гримасой. Он знал цену словам этих людей и с тоской, почти с болью ждал, чтобы сказал о нем доброе слово хоть один человек честный, не зависящий от него и от Карасева. Птахина очень обрадовало, когда осанистый, кряжистый колхозник Варегин из Заречья, крепко поругав его, вспомнил при этом, как работал агрономом в первые годы Птахин, и заявил, что другого председателя им не требуется, а надо этого заставить работать.
Колесо повернулось. Один по одному поднимались люди и расхваливали председателя до тех пор, пока не раздался изумленный и сердитый голос Миши Сыроежкина:
— Во те раз! Сперва вымазали, а теперь облизывать принялись!
В зале грохнули. Миша вышел вперед, говорил о каких-то темных делах, стучал кулаком в грудь. Слушали его с веселым оживлением.
— А ну вас к лешему! — плюнул Миша и направился было на свое место, но его остановил Уланов.
— Товарищ Сыроежкин, минуточку! — Иван Андреевич укоризненно обратился в зал: — Ну, товарищи! Надо же быть посерьезнее!
Его упрек подействовал. Люди смолкли.
Уланов кивнул головой Мише.
— Продолжайте, товарищ Сыроежкин.
— Да чего продолжать-то? Я говорю, что председатель наш ровным счетом ничего не обозначает. Он, как иностранцы говорят, марьянетка у своей бабы и у Карасева…
— Он пьяный! Это же наипервейший пьяница в деревне, — зашипел с места Карасев, и глаза его беспокойно уставились на Якова Григорьевича.
Карасев рассчитывал, что председатель нe даст дальше говорить Мише, но Яков Григорьевич сидел и слушал.
— Нет, на сегодняшний день я не пьяный, товарищ Карасев. Так-то… Миша смолк и с многозначительной улыбкой обвел взглядом зал. — Я уже сколько лет складом ведаю, а пропил хоть одно зернышко? Скажи мне, товарищ Карасев. Пропил?
— Кто тебя знает, — проворчал Карасев, — пьешь ведь на что-то.
— Во! Тут и начинается разговор! — оживился Миша. — Допустим, я худой человек, пьяница! А ты? Кто ты есть? — Миша повернулся к президиуму и уставился на Карасева. — Кто, я спрашиваю. Не отвечаешь? Мошенник! Вот ты кто! Ша! — махнул рукой Миша Сыроежкин на зашевелившихся в зале колхозников. — Молчишь? — снова обернулся Миша к Карасеву. — Ты помнишь, как в прошлом году я тебя отходил лопатой? Забыл?
Миша повернулся к сидящим а зале и подробно рассказал о том, как Карасея в прошлом году приходил к нему с литром водки в кладовую и подбивал отпустить центнера два семенной пшеницы на обмен в город. Миша сразу догадался, что это за «обмен». Водку вместе с Карасевым выпил, а потом отлупил его лопатой! История эта до собрания не была известна никому. В зале, слушая Мишу, стонали и исходили слезами люди. Перекрывая шум, Миша крикнул:
— Пусть молит Бога, что в руки мне не железная лопата попала, а то бы я его стукнул по совести!
— А в каком месте она, совесть-то? — крикнул кто-то из зала.
— Совесть? — переспросил Миша и, подумав, постучал себя перстом в рыжую голову. — У людей — здесь, а у Карасева… — Но из-за хохота так никто в зале и не услыхал, где находится карасевская совесть.
Когда Миша сел на свое место, Августа сердито ткнула его под бок.
— Молчал бы уж, не срамился.
Миша ничего не ответил. Он и сам был недоволен своим выступлением. Ему хотелось рассказать о том, как разбазаривается колхозное добро, о том, что нынче по бумаге из района он вынужден был все-таки отпустить семенное зерно на обмен в райзаготзерно и до сих пор никаких вестей из города нет. Хотел еще сказать Миша, как неправильно распределяется страховой фонд, как начальство поощряет подхалимов, приписывая им трудодни, дотягивая число трудодней до минимума, и о многом, многом другом. Да так уж у него всегда получалось.
Корзиновцы не умели принимать Мишу всерьез, и сегодня ему впервые от этого стало не по себе.
Неизвестно, чем бы кончилось это собрание, если бы не попросил слово колхозный бухгалтер, еще ни разу не выступавший на собраниях.
Люди в недоумении перешептывались и жужжали, пока он сутулясь шел к сцене. Бухгалтер развязал тесемки у толстой синей папки, неторопливо вынул оттуда листы бумаги и поднял голову. Из-под седых, кустистых бровей па людей глянули умные, усталые глаза.
Он говорил тихо. Его спокойный, деловой тон, крупная фигура и умный взгляд подкупали слушателей. Люди невольно поддавались обаянию этого человека, присмирели, сделались серьезными.
Бухгалтер начал с того, чего не сумел сказать Миша. Он так и заявил, что только дополнит выступление предыдущего оратора несколькими данными, не оглашенными в отчетном докладе и, естественно, неизвестными как здесь сидящим, так и только что кончившему говорить оратору. При слове «оратор» по залу пробежал легкий смешок.
Что-то недоброе шевельнулось в груди Карасева, когда слово взял бухгалтер. Карасев даже приподнялся со стула. К безмолвию аккуратного, исполнительного бухгалтера, который имел огромную семью, во многом зависел от начальства, Карасев давно привык. Что может сказать этот сугулый, с белыми волосами человек? И Карасев, холодея, думал: знает бухгалтер гораздо больше, чем председатель колхоза.
Уже после первых слов бухгалтера Карасев понял: всему пришел конец! Он с ненавистью посмотрел на седой затылок бухгалтера, скользнул по воротнику вытертого пиджака и, скрипнув зубами, покинул президиум.
Карасев не ошибся. Бухгалтер разил наповал его, Птахина, Клару, правление. Разил за мошенничество, бесхозяйственность, воровство, ворошил давно забытые крупные и мелкие делишки. Очередь дошла до нынешних семян. Он достал из папки розовую бумажку и прочитал расписку Карасева, данную им в кладовую колхоза.
— Заверяю вас, товарищи, что семена эти не нуждались в обмене, и, пока не поздно, нужно вернуть их в колхоз, ибо потеря своих семян равносильна удару ножом в спину.
После этих слов бухгалтер начал собирать бумаги в папку и чуть вздрагивающими пальцами завязал тесемки.
Птахин сидел бледный, ошарашенный.
— Почему же вы об этом молчали? — с удивлением спросил Уланов бухгалтера.
Бухгалтер поставил перед собой папку на трибуну, подумал и со вздохом ответил:
— Я пытался сигнализировать в райсельхозотдел, но там мне заявили, что я занимаюсь подсиживанием. — Бухгалтер повременил мгновение. — Кроме того, в доме у меня семь ртов… — и торопливо закончил: — Но это, разумеется, вину с меня не снимает. Я готов держать ответ наравне с другими нашими руководителями.
Он также сутулясь пошел со сцены. Люди смотрели на него так, будто видели его впервые.
Собрание прорвало, как плотину в половодье. Снова все зашумели, замахали руками. Никакие призывы осовевшего от усталости Якова Григорьевича не действовали на колхозников. Они бушевали.
— А-а, заступаешься за председателя, подхалим!
— Мошенники!
— Нет, ты рожу мне, рожу свою покажи!
— Разорили колхоз!
— Я-то ее растворожу, — не унимался кто-то на задних рядах.
— Бухгалтер — деляга! Кому верите?!
— Ворье кругом! Крохоборы! Честных людей оклеветали!
— Кто это говорит?
— Баба Птахина пасть дерет!
— О-о, у нее пасть, что у крокодила!
— Чтоб ее сожрал тот крокодил!
— Да крокодил-то, братцы, отравится, съевши ее.
— Ха-ха-ха, она сама крокодила враз сглотнет, как пельмень!
— Эй, довольно ржать! Тут грабительство, а вы хохочете!
— Почему Карасев смылся? Давай его сюда!
— Медвежья болезнь его с перепугу хватила… Го-го-го.
— Пускай председатель выскажется…
— И чего вам смешно? Разъязви-то вас…
— Товарищи, товарищи! Помолчите немного!
— Молчали, хватит.
Уланов смотрел, смотрел на все это, покачал головой, подошел к осипшему от натуги Якову Григорьевичу и сердито крикнул, наклонившись к уху:
— Раз унять не можете, объявите перерыв. Пусть накал остынет.
Сделать перерыв было необходимо не потому, что шум не унимался. Настала необходимость связаться с райкомом. Уланов и Чудинов, который уехал на собрание в другой колхоз, заслышав о том, что на должность председателя колхоза «Уральский партизан» предлагают председателя постройкома, решительно воспротивились этому. Уж лучше было оставить на старой должности Птахина, чем приобрести на его место еще одного летуна и пустозвона, намозолившего глаза райкомовцам в городе. Решили как следует Птахина тряхнуть, взять его деятельность под особый контроль парторганизации, но пока не убирать с занимаемой должности. Теперь же Уланову стало ясно: они поторопились делать выводы — Птахину председателем не быть.
Приехав в МТС на кургузом газике, Уланов сразу же связался с секретарем райкома. В этот ранний утренний час секретарь еще спал. Голос у него был хриплый со сна и недовольный. Пока Уланов рассказывал ему по порядку весь ход событий в корзиновском колхозе, тот невнятно подавал голос: «Так, угу, так-так, крепко…». Когда Уланов смолк, он откашлялся и сказал:
— Вот что, Уланов, подбирайте кандидатуру председателя на месте. Пусть сами колхозники решают этот вопрос. Хватит нарушать колхозную демократию и навязывать им в председатели приглянувшихся кому-то людей. Деревенский коммунист, если он коммунист подлинный, скорее наведет порядок в своем колхозе. Вот тебе мои соображения. Желаю успешно закончить собрание. Бывает хуже. Напрасно ты меня будил, мог самостоятельно решить. Привыкать пора. Такая твоя должность.
Уланов положил трубку. Даже неловко, что потревожил секретаря райкома. Видел он нового секретаря несколько раз, беседовал с ним, но не умел быстро разбираться в людях и не смог вывести о нем своего заключения. Запомнилась черная повязка вместо правого глаза, а больше на лице ничего примечательного не было; нос обыкновенный, целый глаз зеленоватый, волосы седые на висках. Только подбородок у него выдающийся, свидетельствующий о твердом характере. Руки сильные. Чувствовалось, эти руки умеют держать не только ручку с пером, но и лопату, и руль, и винтовку…
Днем Уланов вызвал Чудинова, обсудил с ним обстановку. Чудинов сказал:
— В колхозе три коммуниста: Букреев, Птахин и Качалин. Колхозу надо крепкого руководителя. Я со своей колокольни так смотрю: нужен коммунист, с него покрепче спросить можно.
— Птахин ведь коммунист.
— А гнать его надо в три шеи и меня за холку взять. Я рекомендацию ему давал.
— Так-так, ну об этом потом, — вздохнул Уланов и поднял глаза на Чудинова. — Ты ведь уже наметил кого-то, а виляешь! И вообще, почему ты избегаешь Корзиновки? Может быть, мне это кажется?
Чудинов поперхнулся дымом и, потупившись, пробормотал:
— Но одна Корзиновка у эмтээс. Концы-концов, где-нибудь и не успеешь. Да-а, а наметить в самом деле наметил одного человека. Хочешь, скажу?
— Валяй, если не секрет.
— Качалин. Что скажешь?
Уланов снял очки, отвел в сторону глаза, прищурился, словно старался себе представить Качалина во весь рост.
— Не знаю. Николай Дементьевич, о нем я даже не подумал. Он мужик крупный, а какой-то незаметный. В колхозе нужна сейчас железная рука. Мне кажется… Сумеет ли он?
— Посмотрим. А рука у него ой-ей. Ты обратил внимание?
— Как не обратить — кувалда! Да я ведь о руке не в прямом смысле.
— А хоть в прямом, хоть в кривом. Я руку Якова Григорьевича знаю. За что она возьмется — не выпустит. М-да, концы-концов, мы предложим, а там дело колхозников. Пусть сами решают. Как секретарь сказал…
— А почему бы Букреева не предложить?
— Букреев? — Чудинов собрал бумаги со стола, сунул в ящик, положил ручку в карман пиджака и усмехнулся.
— Ты когда-нибудь пробовал ну хоть какой-нибудь пустяк сделать одной рукой?
— Нет. К чему это?
— А я пробовал и скажу тебе откровенно — плохо получается. Все в жизни приспособлено для двух рук и для двух ног. Все так рассчитано, что, если на человека навалить больше того, что он может нести, его задавит.
— Начинаю понимать.
— То-то и оно. Я бы не задумываясь назвал Букреева, и колхозники бы, знаю, за честь считали иметь его головой, но он нужен в другом месте. Ну так поехали, что ли?
— А ты в Корзиновку?
— Как видишь. Надо ж, концы-концов, рассеять твои предубеждения, — с грустью улыбнулся Чудинов и, застегивая у пальто пуговицы, со вздохом повторил: — Да, надо, от своей тени не скроешься…
— Что-что?
— Да так это я, по старой привычке бормочу.
— Не замечал я у тебя такой привычки.
Чудинов но отозвался. Они пошли в гараж, где их ждал шофер, дремавший за рулем газика.
Ехали, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Уланов заметно устал, а Чудинов был в неразговорчивом настроении. Шофер тоже был угрюм, сердито перекидывал рычаг скорости, бубнил что-то под нос насчет своей неспокойной жизни и в особенности насчет дороги, изуродованной лесозаготовителями, которые недавно начали вывозку хлыстов и выскребли ими снег до самой земли, наделали колдобин.
В Корзиновке они увидели людей, которые торопливо шли в клуб, громко говорили о чем-то, плевались и неохотно уступали дорогу машине.
Люди шли на собрание с сердитым ожиданием и настороженностью: как пойдет дальше дело?
После обеда собрание возобновилось. Отдохнувшие колхозники вели себя мирно. Они ожидали, что последует дальше. Чувствовалось, что они взвинчены до предела, а если что-то сделано будет не по ним — не потерпят.
Когда голосовали за исключение из членов артели Карасева, Птахина и его жены, все, как бы еще не веря в свои силы, поглядывали друг на друга и редко кто решался поднять руку. Но вот вверх взмыла рука с бугорками мозолей на брюшках пальцев и застыла, будто преграждая кому-то путь. За ней другая, третья, еще и еще. Повертел, повертел из стороны в сторону ястребиной головой Разумеев и осторожненько высунул руку из-за спины сидящего впереди колхозника, а сам весь сжался, затаился. Там вон голосует, отвернувшись к окну и почесывая ухо другой рукой, с таким расчетом, чтобы одновременно заслонить лицо, Балаболка — захудалый колхозник.
Птахину сделалось душно, не хватало воздуха. «Ведь тварь, ничтожество! А туда же со своей лапой тянется. Его в правление ввели, передовиком сделали, хоть бы из чувства благодарности воздержался. Нет, поняла мразь, что сейчас выгодней проголосовать. Песня Птахина, мол, спета, а ему, Балаболке, в деревне оставаться, новому начальнику угождать».
Колхозники не сразу ухватились за кандидатуру Якова Григорьевича. Все ждали, да и слух о том прошел, что в председатели привезут какого-то городского. Некоторые даже фамилию называли. И оттого, что многие заранее ощетинились, чтобы дать отпор привозной кандидатуре, предложение Чудинова: «Мы выдвигаем Качалина, но ничего не навязываем» — было встречено гробовым молчанием.
Потом заговорили разом. Один за другим, и снова начался базар.
Когда в деревне зажглись огни и за окнами на небо высыпали колючие звезды, собрание заканчивало свою работу. Растерянно мигавший, оглушенный всем происходившим, Яков Григорьевич все порывался что-то сказать. По всему было видно, что он рвется протестовать. Но Чудинов не обращал внимания на вспотевшего, обескураженного Якова Григорьевича, а Лидия Николаевна сзади шептала:
— Ничего, Яша, ничего, все правильно, не брыкайся ты. Успокойся. На вот платок, оботрись. Вспотел весь, чадушко.
Он и в самом деле успокоился. И когда колхозники потребовали: «Пусгь Качалин говорит!» — он встал и прямо из-за стола ровным и твердым голосом произнес:
— Так вот, мужики, а значит, и женщины. В председатели я не напрашивался. На я член партии, и раз мне народ поручает и доверяет — не отказываюсь, не смею отказываться. Но вот что, мужики и вы, женщины, не думайте, если вы выбрали своего, деревенского, так из него можно веревки вить… — Яков Григорьевич насупился, поискал еще слов, но не нашел их, а протянул руку, сжал в кулак, закончил; — Рука у меня тяжелая, чтобы не обижались…
В зале раздался смех. Кто-то хлопнул в ладоши. Яков Григорьевич с испугом посмотрел на свой кулак, сконфуженно сунул его под стол и сел на место. В зале зааплодировали.
— Ну, а теперь, — расправил грудь Чудинов, — скамейки долой, Лихачев, на кон — веселиться! Довольно заседать, а то я вижу: тут уж некоторые с непривычки поувяли, — он подмигнул в сторону Уланова, который в самом деле имел измочаленный вид.
Молодые парни и девушки начали выносить и раздвигать скамейки. Открыли двери. В душный зал ворвалась свежая, холодная струя. Мужики, втихомолку перемигиваясь между собой, так, чтобы не заметили бдительные жены, потянулись в буфет.
Лихачев предупредительно пробежал пальцами по кнопкам и бросил к ногам колхозников любимую в Корзиновке «Сербиянку». Раздался топот, задрожали в окнах стекла. Озорные парни пытались вытолкать на середину Мишу Сыроежкина. Он упирался, с сердцем обматерил кого-то, порываясь уйти. Августа догнала его у дверей и сунула ему десятку.
— На, опохмелись, оратор!
— Провались! — рыкнул на нее Миша и, хлопнув дверью, ушел из клуба.
Августа растерянно замерла у дверей. Потом бросилась догонять его и уже у дома настигла сгорбившегося, грустного Мишу. Он, не оборачиваясь, тихо заговорил:
— Правду говорил, а меня, как придурка, на смех… Все это вино проклятое! — Больше в эту ночь Миша не сказал ни слова, только ворочался в постели и вздыхал.
Как ни избегал Чудинов Тасю, все-таки столкнулся с него у дверей библиотеки. Она вспыхнула, ответив на его приветствие, и хотела пройти дальше.
— Как живешь? — стараясь скрыть смущение, грубовато спросил Чудинов.
— Живу и живу.
— Я слышал, тут обидели тебя, не обращай внимания.
— Вам-то что за нужда до этого? — сурово спросила Тася, стараясь изо всех сил удержать кипевшие в горле слезы. Все эти дни она почему-то не находила себе места, а тут еще Разумеев взял и хлестнул, да так, что и душу обожгло. Принародно хлестнул. Наверно, бросилась бы Тася на глазах у всех с кулаками на Чудинова — столь велика была в ней потребность разрядиться, но, к счастью, рядом очутилась Лидия Николаевна.
— А-а, начальник с подчиненной встретились, — певуче заговорила она. Чудинов протянул было ей, руку, но, заметив, что Лидия Николаевна не замечает его руки, быстро отдернул. Холодея, он подумал, что Лидия Николаевна неспроста отвернулась от него.
— Ты чего, Тасюшка, не танцуешь? Веселись давай, не вечно же горевать тебе и маяться. — Лидия Николаевна ласково и настойчиво отводила ее от Чудинова.
Он постоял и направился к буфету. И тут у него впервые появилась мысль уехать куда-нибудь, избавиться от этого постоянного беспокойства, освободить человека, которому принес он так много бед, от тягостной обязанности встречаться и разговаривать с ним.
Тасю и Лидию Николаевну в кругу втретили приветливыми возгласами:
— Раздайся народ, Макариха плывет!
— Круг шире! Она первой плясуньей была!
— Я сейчас еще с любым кавалером возьмусь, — озорно блеснув глазами, сказала Лидия Николаевна. Доставая из-за рукава платок, она вышла в круг. Лихачев с хорошей улыбкой посмотрел на нее, склонил набок голову и чуть слышно сказал:
— Ну, тетя Лида, уж для вас-то я рвану! Он прощупал пальцами пуговички и, найдя, по-видимому, самую веселую, начал с нее.
Тем, кто не мог пробиться к кругу, сообщали:
— Макариха вышла. Сколько лет не плясала, а сейчас пошла.
— К тому есть причины! — хмыкнула какая-то женщина.
— Молчи ты, не брякай языком, — оборвал ее рядом стоявший колхозник, должно быть, муж, потому что она сразу смолкла. — Много вы знаете, да мало понимаете…
— Тише там!
— Да и так тихо. Эка важность, Макариха курдюком трясет. Чо мы, баб не видали! — хорохорился маленький мужичок.
К нему обернулся парень, рослый, со спортивным значком на борту пиджака и нахмурился.
— Ты, уважаемый, если выпил, так помалкивай, а то я тебе помогу очистить помещение.
— Все в порядке, все в норме, — испуганно залепетал пьяненький мужичок.
А голоса баяна перекликались между собой, трепетали, то рассыпаясь звонкими переборами, то шли рядом, чуть слышно вздрагивая, набирая темп.
Подхватила веселая мелодия сердца людей, понесла их с собой, наполнив теплотой и удалью.
Глава шестая
Лидия Николаевна шла вначале неуверенно, притопывая, словно прощупывая каблуками крепость половиц, прислушивалась к музыке, примеривалась к кругу. Бывают такие люди, которые хороши в любом наряде. К их числу принадлежала и Лидия Николаевна. В черном шелковом платье, сшитом еще по старой моде, с закрытым стоячим воротничком, в желтых с потертыми носками туфлях, высокая, грудастая, шла она по кругу. Ее темные, всегда задумчивые глаза сияли, и в мягком движении рук, и в чуть закинутой голове с двумя еще красивыми косами, и в полуоткрытых губах ее, и в изломе правой приподнятой брови — во всем этом была та особенная, ненаигранная грация, которая приводит в восторженное изумление людей.
В русских людях, как и в природе, породившей их, нет ничего разящего глаз. В них все скромно. Нужно присмотреться к незатейливым цветам нашим, уловить их скупой, затаенный запах, услышать над головой шорох сосновых ветвей, попить ломящей зубы воды из горных ключей, посмотреть в вешнюю синь после долгой зимы. Вот тогда ближе и понятней станет наш немногословный, наш суровый и душеобильный человек! Русский человек! Дайте вы ему, как лесу нашему, умыться дождем после долгого зноя. А вы видели русский лес, после долгого зноя умытый, спокойный, причесанный? Если видели, никогда уже не забудете его. Не дрогнет ни одной веточки, ни одного листочка. Висят утихомиренные листья, и с каждого из них рыбьим глазом смотрит капля. Солнце пьет из листьев, как из мягких ладоней, настоянную воду. Лес не шевелится, но переливается тенями, цветами. Мягко бродит по нему робкий ветерок и с шорохом осыпает капли наземь. А лес то ярко зазеленеет, то снова замрет, то будто испугается того, что забыл он о скромности и выказал миру свою красоту…
А как красив делается наш русский человек, когда он тоже отряхнет с себя будничный вид, улыбнется и все, что он не успел допеть, все веселье, которое он не успел растратить, выплеснет щедро, одарит людей радостью, напоминая всем, что мир-то создан для нее, для радости человеческой.
Переполненная вот этой редкой и оттого яркой радостью, Лидия Николаевна шла по кругу, и Тася, сама того не замечая, восторженно шептала: «Тетя Лида, милая, красивая, тетя Лида, тетя Лида…». И вдруг, словно услышав ее призывы, будто убедившись в том, что все взгляды теперь прикованы к ней, Лидия Николаевна ударила каблуками, взмахнула платочком, сверкнули молнией еще крепкие белые зубы ее.
Едва поспевая за ней, гнал переборы Лихачев. Кто-то покрикивал:
— Жми, дави, деревня близко!
— Эх, Лида! Завей горе веревочкой, — громко пропела одна из женщин позади Таси, — редко нам, вдовам, веселиться приходится. Плясунья она раньше была, ох, плясунья! Бей, Лида, крой, Лида! За всех за нас, вдов сиротливых!
Когда Лидия Николаевна поравнялась с говорливой женщиной, та не выдержала, бочком, мелким шажком тоже потрусила в круг.
— Потаскуха! — разнесся истошный голос по клубу. — Перед чужими мужиками холкой виляешь!
Тася обмерла. Будто ее окатили из ведра ледяной водой.
Она следила за Лидией Николаевной и хотела только одного, чтобы та не услышала ничего, но по тому, как дрогнула, сломалась у виска бровь Лидии Николаевны, Тася поняла — услышала. Тася оглянулась и заметила у дверей женщину в пуховом платке, с высохшим, болезненным лицом, большеротую, желтую, злую.
— Как вам не стыдно! — задыхаясь, выпалила Тася, и стоявшие кругом люди начали оборачиваться. Стук каблуков прекратился. Баян смолк.
— Ты чего меня стыдишь? От горшка три вершка, а уж ребеночком обзавелась! Тоже какого-нибудь женатого охомутала? — Женщина говорила громко, била наотмашь, уверенно и властно.
Где-то захихикали. Лихачев рванул баян. Появившийся в дверях Чудинов стоял оторопев, с широко раскрытыми глазами.
— Пойдем отсюда, пойдем, — потянула за рукав Тасю Лидия Николаевна. Не слушай ты ее, пойдем…
Голос у Лидии Николаевны был прежним. Только в глубине его угадывалась боль. Она настойчиво тянула Тасю к двери. Откуда-то вывернулся Яков Григорьевич и, нахмурившись, сказал все еще шумевшей женщине:
— Евдокия! Ты зачем здесь? Иди домой.
— А-а, я домой, издыхать, а ты тут будешь любовь крутить! В могилу меня сгоняешь! Специально-о-о!.. — громко закричала Евдокия.
Лидия Николаевна почти силой вытащила Тасю за дверь. Чудинов посторонился, пропуская их мимо себя. Он порывался побежать за ними, что-нибудь сказать им. Но что он мог сказать?
Женщины шли торопливо и молча по пустынной улице от клуба. У Таси спустился чулок, она нагнулась подтянуть его и вдруг разрыдалась. Все, что с таким трудом удерживала она долгое время, неудержимо прорвалось.
— Ой, ой, за что это она нас, а? Тетя Лида? Милочка, за что, а?
Лидия Николаевна обхватила Тасю за голову, прижала к себе и, вытирая ладонью ее глаза, растерянно успокаивала:
— Ты что, ты что, девочка моя? Не надо, не надо… ну брось. Если нашему брату всякую обиду в сердце пускать, так даже наше сердце, каменное, лопнет. Пойдем-ка домой, пойдем.
Она обняла Тасю, повела, как больную, придерживая рукой. Уже у самого дома, когда Тася выплакалась, она, как маленькой, концом шали вытерла ей нос.
— Эх ты, хохлушка моя! Такое ли еще бывает в жизни? Сядем-ка рядком да поговорим ладком. Охота мне сегодня поговорить, ох как охота.
Ребята спали. Пока Лидия Николаевна собирала на стол, Тася ушла в комнату, включила свет и уселась возле кровати, на которой спали Васюха и Сережка. Васюха спал крепко, приоткрыв рот и выпустив слюнки. Сережка спал вниз лицом, у стены, раскинув руки. Он заметно подрос. В желобке его худенькой шеи выросла косичка, которую Тася до сих пор не замечала. Она потрогала эту косичку, грустно улыбнулась, поцеловала Сережку в ухо и накрыла одеялом. Потом выключила свет, ушла на кухню. На столе между тарелками стояла бутылка вина. Тася изумилась.
— Наш праздник, Тасюшка, — молвила Лидия Николаевна, — и выпьем мы с тобой, и душеньку разговором отведем.
В голосе Лидии Николаевны послышалась глубокая тоска. Лицо ее было усталым. Та радость, что согревала его лишь полчаса назад, уже и не угадывалась даже. В клубе плясала какая-то другая Лидия Николаевна, на которую даже смотреть было немножко боязно, настолько она казалась красивой, гордой, недоступной. А сейчас за столом усаживалась та самая, привычная тетя Лида, только вроде бы разбитая, надсаженная. Ее глубокие глаза полуприкрыты ресницами, руки упали па колени.
— Давай пьянствовать, — встряхнулась она, и горькая усмешка тронула ее губы. — Давай пьянствовать, вдова соломенная. Давай заливать угощение Евдокии, жены Якова. Давай присуху размачивать.
— Какую? — с испугом уставилась на Лидию Николаевну Тася.
— Эх, Яков, Яков, золотой мужик! — не слушая Тасю, вздохнула Лидия Николаевна и налила в рюмки вина. Они чокнулись, и Лидия Николаевна с глубокой задумчивостью произнесла: — Нет, хохлушка, моя, не за это мы выпьем, а знаешь за что? За ребятишек! Пусть детишки наши не знают того, не ведают, чего нам досталось.
Они выпили и молча принялись за еду. Лидия Николаевна взялась за бутылку, Тася схватила свою рюмку.
— Ой, что вы, тетя Лида! У меня уж в голове это самое, — она махнула рукой возле своей головы.
— А я выпью еще, не суди меня. — Она покосилась на Тасю. — Небось уж всякое подумала?
— Ничего и не думала, — ответила Тася.
— Ну, ну, да хоть и подумала бы, так ничего в этом особенного нет, успокоила ее Лидия Николаевна. Неожиданно она добавила, как будто совсем не относящееся к разговору: — Чужую беду всяк рассудит, только в своей не разберется.
Лидия Николаевна выпила, поморщилась, сердито отпихнула рюмку. Потом подцепила вилкой кружок огурца и задумалась. Глаза ее сделались неподвижными, глядели куда-то мимо Таси, и она замерла.
— Славная пора у людей в жизни бывает — молодость! Молодость и у меня была хорошей, несмотря на голод и холод, — заговорила Лидия Николаевна, отвалившись ка спинку стула и закрыв глаза. — Я, как тебе молвить? Здоровая была и красотой, должно быть, не обижена. Парни-то приухлястывали за мной, а двое душой прилепились…
…Жили в Корзиновке два парня; Яков да Макар. Один из крепкой семьи, большой, неловкий, хмуроватый. Девчата чурались его, да напрасно. Он сам стеснялся девок, на вечор ках сидел тихо, смирно. Стоило только одной девушке обратить на него внимание, и сердце Якова дрогнуло и распахнулось, впуская ее надолго и бесповоротно.
На лужайке, за поскотиной появилась как-то Лидия Ключева. Застенчивая, связанная в движениях, с лентой в тяжелых косах, она была похожа на впервые распустившуюся в цвету черемуху, у которой мало кистей, но все они светлые и крупные.
Ребята корзиновские вдруг увидели, что эта девка из бедной семьи Степаниды Ключихи — под стать любому парню. А как под гармошку плясать пошла, сомлели ребята, шеи вытянули: «Откуда такая взялась? Да неужели эта наша, деревенская?» И каждый из парней старался хоть чем-нибудь выгородить себя, заметным сделаться.
Завистливо глядели девки на свою новую подругу, особенно Дуська Масленникова. Все у нее было: и наряды дорогие, и приданое. Разбогател отец ее от дикой удачи. Говорят, лучил он рыбу вместе с дочерью в реке и сундук с золотом нашел. По Кременной раньше заводское железо плавили в барках, вот и ухнули в воду с сундуком. А может, отец и пристукнул кого. Сторонились деревенские жители масленниковского дома. И сваты обходили его дочку, к которой, по-видимому, в наказание за темное дело отца, привязалась хворь какая-то, и она сохла на корню.
Злилась Дуська на всех красивых и здоровых. Злилась она и на новую товарку, дочку вдовы Степаниды. А та, краснея от смущения, сплясала и неожиданно раскланялась перед самым никудышним парнем — Яшкой. Захихикали девки, прищурились ребята, а Яшка вскочил и начал смущенно перебирать кисти шелкового пояса.
— Чего же ты? — подбадривала его Лида, чувствуя, что все ребята и девки внимательно смотрят на них и готовы потешиться над Яшкой. — Иди же!
Она еще раз притопнула каблуками, схватила его за руки и потащила в круг. Плясать Яшка не умел, но в угоду ей потоптался по-медвежьи в кругу.
Парни захохотали. Яшка сконфуженно скрылся. И тогда, чуть побледнев от волнения, Лидия подняла голову, поглядела вокруг и крикнула:
— Кто самый храбрый, выходи, спляшем!
Парни смолкли, начали прятаться друг за друга. Только рыжий Мишка Сыроежкин в заплатанных штанах стоял возле гармониста и насвистывал в два пальца, подбадривая заробевших парней. Девки начали откровенно посмеиваться над Лидой. Одна из них церемонно раскланялась.
— Отбыли ваши кавалеры, а наши знать вас не желают!
Лида уже готова была выскочить из крута и бежать домой, но в это время в круг вышел одетый по-городскому голубоглазый сын учителя — Макар. Он кивнул гармонисту, снял суконный пиджак, небрежно бросил его на траву и вдруг лихо пошел навстречу девушке. Где-то в конце лужайки они встретились, разошлись, снова встретились.
Сверкнула радость в их глазах. Ударил Макар в ладоши, подхватил Лиду за талию, и они закружились.
От большого счастья, от девичьей радости захватило дух у девушки. «Вот он какой, этот учителей сын. Веселый, оказывается, а все думают, что он гордый, не хочет с деревенскими знаться…»
Поздней ночью шли они из-за околицы домой. Макар вежливо вел ее под руку. Она впервые шла с парнем, да с каким! От этого было радостно и немного страшно. У поскотины сорвалась с жердей и бесшумно метнулась в темноту сова. В кустах послышались шаги, замерли неподалеку.
— Ой, что это, Макар? — вскрикнула девушка и приникла к нему.
— Где?
— Да в кустах.
— Чудится тебе, — шепотом ответил он и обнял девушку.
Так они стояли долго, обнявшись, не смея потревожить ночную тишину, не решаясь поцеловаться. За кустами чуть слышно шумела Кременная, и по ту ее сторону, путаясь в вершинах темного леса, катилась луна, отражаясь блеклым пятном в реке. Силуэты прибрежных деревьев и кустов дробили это пятно на множество мелких лун, то ярких, то чуть заметных.
В кустах сонно тинькала пичужка, будто роняла из клюва капельки воды в тонкую посудину. Так и не посмев поцеловаться, Макар с Лидой пошли дальше. Луна поднялась, и впереди них закачались большие дружные тени. Макар распахнул перед Лидой ворота поскотины, сделанные из жердей. Ворота скрипнули на немазаных петлях, и снова что-то хрустнуло в кустах. По дороге стлался свет луны, и девушке было боязно ступать на эту тонкую дрожащую полоску, которая напоминала ей подвенечную фату. Возле крайнего дома в палисаднике кто-то выводил под балалайку:
За лесом солнце вы-воссияло, Где черы-най ворон прок-рича-ал, Пы-прошли часы, прошли минуты, Когы-да с девчо-онкой я гуу-уля-ал…Песня шаталась, как на ходулях. Но вот к мужскому голосу присоединился высокий женский, и она зазвучала стройней и печальней:
Прощайте, все мои подруги, Прощайте, все мои друзья…В тоске и отчаянии бился голос молодого новобранца, у которого кончались часы и минуты, счастливые, незабываемые, и вот он уезжает в далекие края, так, может быть, и не поцеловав свою суженую.
— Тихо как, — сказала Лида чуть слышно. Макар ничего не ответил, только сжал ей руку и так, не проронив ни слова больше, они подошли к Лидиному дому. Подошли и оба пожалели, что стоит он не в другом конце деревни.
— Придешь завтра, Лида?
— Приду, — одними губами ответила она и с закрытыми глазами стояла у ворот, прислушиваясь к его шагам.
Вдруг перед ней как из-под земли вырос большой человек. Тяжело дыша, он схватил ее за плечи, руки его вздрагивали.
— Лида, это я… не бойся меня… это я… Яшка… Лида… прости меня… растерялся я давеча… не смел… Лида, иль ты подразнила меня? Я видел тебя с учителевым сыном. Он вон какой! — Яков развел руками, опустил голову. — Холостяковать мне, верно.
— Что ты, Яша, — ласково проговорила Лида, — разве мало девушек в селе? Ты ведь славный. Найдется и твоя суженая.
— Я не хочу другую, — угрюмо ответил он, — я завтра к тебе сватов пришлю!..
— Что ты, что ты! — испугалась девушка. — Мне еще рано замуж, не желаю.
— За меня не желаешь, а за Макарку, если спосватается, пойдешь. Пойдешь ведь?
Она помолчала и честно призналась:
— За Макара пойду. Только он не посватается.
— Посватается. Как он не посватается. Ты вон какая! — Яшка, вероятно, поискал сравнения, но не нашел и, скрипнув зубами, исчез в темноте.
Еще было много вечеров и ночей, с луной и без луны, теплых и ненастных, но одинаково замечательных и всегда коротких. И где бы они ни были, за ними всюду следовал Яшка. Парень мучался, а на селе посмеивались над ним.
Потом настала разлука. Уехал Макар служить в Красную Армию, стал пограничником. Затосковала Лида. Ребята подначивали Якова:
— Ну, Яшка, не теряйсь теперь. Учителишки нет, свернут ему япошки на границе голову…
Яков как умел ухаживал за Лидой. А умел он сидеть возле нее и не мешал ей думать. Думала она о Макаре. Он чувствовал это, вздыхал. Похудела Лида, лицо ее немного побледнело и оттого сделалось строгим и еще более привлекательным. Грусть, поселившаяся в ее больших глазах, придавала им неизмеримую, заманчивую глубину. Сделались они бархатными, мягкими.
Все чаще и чаще в доме Степаниды стали появляться сваты, но уходили они ни с чем. Больная Степанида журила дочь:
— Чего ты, Лидка, выкобениваешъся? На что надеешься? Не нужна ты темная, неученая Макару. Не придет он к тебе. Гляди, подыхаю ведь я, чего одна-то делать будешь? А мне желательно взглянуть на зятя хоть одним глазком, узнать, с кем ты останешься на белом свете. Ради тебя тянула вдовью лямку, как же сиротой бесприютной тебя оставить?..
Не выдержала Лида, сказала Якову:
— Нет моей мочи больше. Изъела меня мама, не дождаться, видно, мне Макара, не судьба, значит. Шли хоть ты сватов…
Яков обрадовался, но, встретившись с се тоскливыми глазами, сел рядом с ней и долго молчал.
— Не надо мне, Лида, из милости. Жди Макара. Но если за кого другого зарублю!
— Яша, Яша, что ты! — Девушка заплакала, прильнула к нему. — Я знала, что ты такой…
Степанида умерла, и девушка осталась одна в большой избе над кругиком. Яков заколотил окна в одной половине избы, и девушка перебралась в ту, где теперь жили Тася с Сережкой. Часто допоздна просиживал у нее Яков. По деревне ползли сплетни. За Лидой укрепилась дурная слава.
Но никакие слухи, никакие сплетни и наговоры не помешали встретиться Макару и Лиде. Когда появился он в буденовке, в потертых кожаных галифе, Лида немного оробела. «Больно уж важный Макар-то. На меня и не взглянет, пожалуй».
Но Макар в первый же вечер пришел к ней да так и остался. На другой день его на улице остановил Яков и сказал:
— Будут тебе всякую нечисть плести насчет Лидии и меня — не верь. Неправда это.
— А я знаю, что неправда, — беспечно ответил Макар.
— Знаешь?.. — глухо переспросил Яков и, опустив свои могучие плечи, побрел прочь.
— Яков, постой! — кинулся за ним Макар. Яков остановился. Широкое, с крупными чертами лицо его осунулось, постарело.
— Я люблю ее, — чуть слышно выдавил Яков, — давно… — Хотел еще что-то сказать, но мотнул головой и, круто повернувшись, ушел.
В Корзиновке почти одновременно были две свадьбы. Первая из них шумная, с лентами, с бубенцами на дугах, с венчанием, с дружками и сватами, с приданным и большой гулянкой. Здесь Евдокию Масленникову выдавали за Якова, беспрекословно подчинившегося воле родителей. А им прежде всего хотелось породниться с богатыми. Масленниковы как-то сумели выкрутиться во время раскулачивания, жили единолично.
Вторая свадьба была тихой, малолюдной, Ни у жениха, ни у невесты уже к той поре не было родителей. На свадьбу к Лидии и Макару пришли две бедные вдовы, девка Августа, которую Макар недавно пристроил в лавку уборщицей, ее непосредственный начальник с ярким чубом — Миша Сыроежкин да пастух Осмолов, который привел в подарок мягкогубого телка, заработанного на летней пастьбе скота.
Нешумная это была свадьба, но какая-то уютная. Посокрушались было две вдовы насчет того, что молодые не обвенчались, но подвыпили, примирились с этим, и пастух изрек;
— Все по-новому, пусть будет и свадьба по-новому.
А когда он опьянел, все лез целоваться к Макару и, роняя на стол слезу, говорил:
— Как же это вы меня, пастуха, на свадьбу, а? Последнего человека! Эх, Макар, люблю я вас… Лида, милушка… Дай тебе Бог ну всего, что ни на есть… Эх вы, детки!
Поздней ночью у ворот зазвенел колоколец, остановилась тройка. Бледный, не в меру пьяный в избу вошел Яков. За ним несколько парней. Пощупав тоскливыми глазами из-под насупленных бровей выжидательно застывшую компанию, Яков ухарски выкрикнул:
— Поздравить приехал! Вот! — Он выхватил у стоявшего сзади парня клубок красной шелковой ленты, и она змеей побежала к ногам Лиды. Принимай от меня!
Макар встал из-за стола, смотал ленту на пальцы.
— За поздравление спасибо, Яков! Лида, — обернулся он к жене.
— Спасибо, Яша, — тихо сказала она и неуверенно кивнула на стол. Может, за наше… счастье…
— За ваше? Что ж, ребята, выпьем! — повернулся он к своим друзьям.
Там кто-то услужливо стукнул по дну бутылки. Пробка шлепнулась в белую печку.
— Пожалста!
— Нет, нет, нет, — запротестовал Макар, — угощаем мы! Милости просим к столу.
Ничего не оставалось делать. Яков выпил рюмку, и вся удаль с него слетела. Он медленно поднялся, ухватился рукой за край стола так, что обозначились косточки на суставах.
— Желаю, значит, желаю… — И вдруг, закрыв лицо рукой, выбежал из избы…
…Лидия Николаевна смолкла. Взяла крошку хлеба, размяла ее, скатала в шарик, снова размяла. Потом поднялась, подошла к часам-ходикам, пристально, долго смотрела на них. Подтянула гирьку, качнула сникший было маятник и вернулась к столу. В бутылке еще оставалось вино.
Лидия Николаевна налила рюмки, приподняла за подбородок притихшую Тасю.
— Э-эй, чего пригорюнилась? Давай, раз уж взялись пить, и спать.
— Как у вас все было интересно, — вздохнула Тася, — а вот у меня: раз — и ничего не стало. Ни молодости, ни любви, ни доброй надежды. Живу — небо копчу. Только и смысла да радости, что Сережка. — Тася смолкла, постукала себя согнутым пальцем по зубам и грустно вымолвила: — Ну а что же потом? Вам не тяжело, тетя Лида, рассказывать? Если тяжело, то лучше не надо.
Лидия Николаевна помолчала и, глянув без улыбки на Тасю, снова заговорила:
— Любовь, знать-то, всегда вспоминать сердцу любо. Но бывает такой момент, когда и тяжелого хочется кому-то отделить. — Лидия Николаевна взяла в руки косу, принялась расплетать. — Потом, Тасюшка, все шло по порядку, как у добрых людей. Жили, работали, ребятами обзавелись. Макар учительствовал и меня грамоте научил. Я до войны-то много читала. Тебе интересно знать, конечно, что Яков? Яков после свадьбы дом срубил. Он ведь, Тасюшка, на все руки, и швец, и жнец, и на дуде игрец! Только у них с самого начала жизнь не склеилась с Евдокией. Другой, может, давно плюнул бы на все, а он не из таких. Да и то сказать, ребят двое появилось, не шуточное дело. Лечил жену Яков-то, помогал, как-никак свой человек, и не виновата она в том, что на нее хвороба навалилась. Однако Евдокия назло делала всякие штуки: то лекарства выльет в поганое ведро, то орет, что со свету ее сживают. Ребята подросли, стали чураться своей матери, у нас днями околачивались. Яков тоже придет, бывало, вон туда у печки сядет, час сидит, два сидит, с Макаром иногда словом перебросится, а то и так уйдет. Евдокия все окна у нас как-то выхлестала. Нервный она человек, нездоровый. Так вот до войны и прожили. На войну Макара и Якова провожали разом. Яков перед отъездом все переминался, покашливал. Вижу, что сказать мне что-то хочет, а не осмелится. Я догадалась и говорю: «Воюй, Яков, и о детях не беспокойся, сколько сил хватит, столько и буду помогать».
Вредничала Евдокия-то, запрещала своим ребятам ходить к нам, лупила их чем попадя. Да ничего, сладила я. Времена трудные были, не до куражу ей стало. Правда, сама она ко мне не ходила и на улице при встрече отворачивалась. «Издохну, говорит, а Макарихе не поклонюсь и куска от нее не приму!» А ребят я, как могла, тянула.
Замордованные они у нее, хлипкие были. Я им, как умела, характер делала. Так вот и дотянулись мы до сорок пятого. А потом в госпиталь меня вызвали. Макару позвоночник изувечило. Лечила я его. Уж чего только ни пробовала. Поправляться он, ходить начал. Видишь, даже Костя с Васюхой на свет появились. Да он ведь беспокойный был. Ему бы дома посидеть с полгода, в корсете походить положенное время. Не послушал. «Дело, — говорит, — не в этой кожаной спецовке, а в силе человека».
Летом сорок пятого вернулся с войны Яков, не узнал ребятишек, а потом пришел к нам, кланяется, благодарит. Я растерялась. «Чего ты, говорю, выдумываешь!» А у него по щеке слезища, как бусина, одну у него видела за всю жизнь…
Лидия Николаевна снова смолкла, опустила руки, и расплетенная коса у нее на груди переливалась искорками седины. Лицо ее будто паутиной подернулось, а глаза прикрылись густыми, Все еще бархатными ресницами. И снова она дошла до такого места и своей жизни, о котором ей было не под силу рассказывать.
Начала Лидия Николаевна хлопотать, чтобы Макара в Москву, в клинику поместили, а он ей сказал: «Не надо, Лида, не стоит. Есть еще во мне сила и дух, что помогает человеку смерть превозмогать. Помнишь, как у Теркина: „Уберите эту бабу, я солдат еще живой…“»
Вот так Макар крепился, Теркина наизусть читал. Но однажды Макар позвал Якова, усадил его рядом. Жене велел выйти. Долго смотрел на старого друга и сказал:
— Только не перебивай меня и не возражай. Знаю я, что всю жизнь ты Лиду любил, и было мне от этого всегда не по себе, точно я обворовал тебя. Скоро, Яша, семья моя останется без меня. Не возражай… Я всегда детей своих и чужих учил смотреть правде в глаза. Моей семье государство будет помогать. Но только наседка умудряется в непогоду укрыть всех своих птенцов под крылышком. Человек не цыпленок, ему больше нужно. В доме много дел, не посильных женщине. Надо их кому-то делать. Но самое главное — вовремя поддержать вдовью семью добрым словом. У нас полно еще людей, скупых на добрые слова. Ты понимаешь, Яша, к чему я?
Яков с обидой взглянул на друга: «Зачем говоришь?» — и стиснул бессильную руку Макара.
— Не надо, не мучайся… нехорошо заживо в могилу оформляться, не надо…
Лидия Николаевна тряхнула головой, провела рукой по глазам.
— Выпьем по последней, Тасюшка, до дна…
Тася взяла рюмку, вышла из-за стола, обняла Лидию Николаевну и с дрожью в голосе произнесла:
— Молиться надо на таких-то людей!
— Ну, ну, ты скажешь! — с удивленной застенчивостью рассмеялась Лидия Николаевна. — У кого сердце есть, душа есть, понимают и без моленья, что осколок германский мог попасть в другого человека и не я бы сделалась вдовой. Но осколок угодил в Макара, и некоторые думают, что мне теперь уж не положено ни попеть, ни повеселиться. Плевать на то, что я тоже человек, а не гнилушка. И я порой хочу, чтоб кто-то пожалел, приласкал меня. Я должна работать и за себя, и за мужа. Я должна меньше спать. Хуже есть, хуже одеваться, и я не смею взглянуть на мужчину, потому что меня тут же потаскухой обзовут.
Закипит иногда в душе, как сера горючая, обида-то, да там и присохнет. Кому скажешь? Да и научилась я чихать на все наветы. Я не разменяла своей вдовьей чести, не испачкала память мужа. Я могу прямо, как мать, глядеть своим ребятишкам в глаза. — Лидия Николаевна приостановилась, взглянула на Тасю и со вздохом закончила: — Давай-ка, хохлушка, поспим маленько, а то уж зорянка в окно светит. Ты тоже голову не опускай. Тебя помоями обливают, а ты не гнись, они и не прилипнут. В жизни нужно гордым быть и плакать не надо, слез не хватит. Мама-покойница говаривала раньше: «Сколько бы березонька вершиной ни качала — росою не залить огня».
На печке поднял голову Костя, сонно поглядел на них, на стол, снова улегся. Сконфуженные женки постелили себе на полу. Тася уснула почти сразу, прильнув к Лидии Николаевне.
Из клуба Евдокия еле волочила ноги. Болезнь, добытая в реке, когда она бродила в ледяной воде с отцом, доставая железный ящик, давала себя знать. Говорят, что ревматизм лижет суставы и гложет сердце. Так получилось и у нее. Много и долго лечили ее врачи и деревенские знахарки, но хворь брала свое. Злится Евдокия и зло свое срывает на ком только доведется. Отчистила вот Макариху, теперь до дому. Постучала. Ей отворил Славка, а Зойка что-то поспешно заметала у печки — видно в приоткрытую дверь.
— Опять строгали? Оставить одних нельзя, — зашипела Евдокия. Ребята прижались к печке и — видно по глазам — ждут, когда она уйдет.
— У-у, змеи! Радуйтесь! Вашего папашу выбрали председателем, начальство теперь! А вы нет чтобы за матерью присмотреть, так чуть чего — к Макарихе своей улизнете. Присушила она вас вместе с отцом.
Не переставая ворчать, Евдокия развязывала шаль и, придерживаясь за стенку худой, дрожащей рукой, шла в горницу.
— Воды принесите! — тихо приказала она. Ребята не пошевелились, пережидая, кто первый пойдет.
— Воды, говорю, принесите. Не слышите, что ли?
Славка нахмурился, взял кружку и, нацедив из самовара воды, исчез в комнате. Евдокия отпила глоток и сердито сказала:
— Оставь кружку-то здесь, а то хоть сдохни, не дозовешься никого.
Она замолчала. Славка постоял и буркнул;
— Уходить, что ли?
— Погоди. На-ко вот, — тихо сказала Евдокия и сунула в руку ему большой пакет. — Яблоки тут, в буфете продавали. Не пробовали ведь нынче яблочков-то, вот я и купила. С Зойкой поделись. Ну, ступай.
Поздно ночью пришел Яков Григорьевич. Подцепив полупальто на деревянную крашеную вешалку, он спросил:
— Как насчет поесть, ребята?
Зоя, ловко орудуя ухватом, вытащила из печки горшок, припудренный золой, и еще посудину, налила отцу щей и наложила гречневой каши.
Всю домашнюю работу Зоя со Славкой тянули одни. Были они не по возрасту рассудительны, умели многое делать, но иногда срывались. Евдокия кляла их за это нещадно. Яков Григорьевич заступался, и ему попадало за компанию. Так в доме образовались два лагеря: с одной стороны отец с ребятами, с другой — больная, рано состарившаяся мать. Всячески старался Яков Григорьевич изжить домашнюю междоусобицу, но ничего не получалось. Евдокия для ребят была обузой. Они подчинялись ей, но с каким-то молчаливым и покорным упрямством. Это больше всего бесило Евдокию. Евдокия понимала, что она чужой человек в семье, но за всю свою жизнь не сделала ни шага, чтобы сблизиться, смягчить свою ожесточенную душу.
— Как там? — кивнул отец на дверь горницы, хлебая щи. — Попало вам?
— Шумела опять, — махнул рукой Славка. — Пап, а что, правда, тебя председателем выбрали?
— Правда, ребята, правда. Ну, матери мы мешать не будем. Здесь потихоньку давайте устраиваться, а то мне рано вставать.
Зоя бросила возле печи тулуп, полупальто и еще какую-то одежду. Направилась было в горницу за подушками, но Яков Григорьевич остановил ее:
— Ладно, Зоя, еще разбудишь.
Выключили свет, улеглись. Яков Григорьевич в темноте ощупал ребят, придвинул их теснее и вздохнул.
Ребята вскоре сладко засопели, а Яков Григорьевич лежал с открытыми глазами и, глядя в искривившееся от лунного света окно, думал — с чего начинать работу?
«Начну с самого необходимого. Завтра же примусь за здание правления. Сам инструмент в руки, всех столяров соберу, и приведем дом в порядок. Дорожки велю купить, чернильницы, столы и все такое. Само правление должно быть авторитетным, и дом колхозный должен содержаться в порядке. Как же быть с кормами? Где их брать? С семенами тоже дело неладно. Картошку в шестой бригаде заморозили. Ну это свиньям на корм, — а садить что? Вот Пташка так Пташка, хозяйство же оставил! Да-а, Птахин и мужик-то вроде путный. Правду говорили на собрании, и вот поди ж ты. Женушка его свихнула…»
Яков Григорьевич не заметил, как заснул и, казалось, через минуту проснулся.
Евдокии сделалось плохо. Шлепая босыми ногами из кухни в горницу со стаканом и мокрым полотенцем, бегали ребята, что-то опрокинули, отец шикнул на них. Он не знал, куда девать свои руки, и виновато бормотал:
— Говорил ведь я ей: не ходи, не психуй, так разве послушает.
Евдокия пришла в сознание. Она долго лежала с открытыми глазами, потом повелительно сказала:
— Уходите! — И мужу тихо: — Ты останься.
Ребята на цыпочках вышли, осторожно прикрыв дверь. Яков Григорьевич избегал встречаться с тоскливым взглядом Евдокии. В старой телогрейке, в трикотажных сиреневых кальсонах и в валенках с загнутыми голенищами выглядел он нелепо и смешно. Но Евдокия не обращала внимания на его вид.
— Ну, Яша, подходит мой час, — трудно выговаривая слова, начала она и зло усмехнулась: — Давно ты его ждешь!
Яков Григорьевич отшатнулся, телогрейка спала с его плеч.
— Евдокия!..
Она оборвала его:
— Молчи! Я ведь чувствую. Знаю, что еще ноженьки мои не остынут, а ты уж к Макарихе уйдешь. Угадала? — Он хотел что-то возразить и, словно защищаясь, поднял свою большую руку, а она рвала, била: — Всю жизнь по ней сохнешь, всю жизнь я тебе постылой была, знаю. Все знаю!
— Чего ты знаешь, отдыхай лучше. Опять хуже сделается.
— Она не чета мне, Макариха-то, — не слушая Якова, продолжала Евдокия. — Пригожа, умна, добра, кругом хороша. Она и на постель-то тебя ни разу не пустила. Не пустила ведь? Так ходил, облизывался.
— Я и не просился, — посуровел Яков Григорьевич.
— А-а, я знаю. Я так, по злости бабьей наговаривала на нее. Болтала, потому что хуже ее была. Завидовала, а кому завидовала, дура! У Макарихи детишки, бедность. Сердцу ее не бабьему завидовала, душе ее доброй, и ненавижу, и тебя ненавижу-у… — вдруг исступленно захрипела Евдокия.
Ребята приоткрыли дверь. Яков Григорьевич махнул на них и поднялся, бледный, пришибленный. Евдокия рыдала:
— Уйди, уйди отсюда!
— Дуся, Дуся, что ты, успокойся. Ну к чему ты… К чему все это?
Она немного стихла.
— Сядь, слушай! Судьба, видно, быть вам вместе. Но ребят не обидь. Они и от меня обид много приняли!
— Ну зачем ты это, зачем?
Всем вам без меня будет лучше, всем… Лишняя я. Известно — больную птицу и в стае клюют. — Голос Евдокии опять задрожал, и по щекам покатилась слеза. — Обидно-о! ох как обидно…
— Да не изводись ты, Дуся. Что за блажь на тебя…
— Ох, Яша, почему это так бывает: кому в жизни счастье коробом валит, а кому и в спичечную коробку нечего положить?
Яков не ответил. Она шевельнулась, спросила:
— Чего молчишь-то?
— Добиваться надо счастья-то, — осторожно промолвил он. — А добыть его — не сундук из реки вынуть…
— А-а, про погибель мою опять вспомнил… С Макарихой сравниваешь?..
— Насчет ее счастья лучше помолчать. Да и не жалуется она на свою долю. Не слышал ни разу.
Евдокию передернуло от этих слов. Она прикрыла глаза, долго молчала и выдавила:
— Попить.
Яков Григорьевич подал ей стакан и обмер, коснувшись жены. Рука была холодная.
— Завтра я отвезу тебя в больницу.
— Не надо. Сколько можно меня по больницам возить? Довольно. Мне не такое лекарство от тебя нужно было.
С полчаса она молчала, казалось, уснула. Он выключил свет и хотел было выйти, она что-то забормотала. Яков Григорьевич наклонился к ней, услышал глубокий вздох и почувствовал, что она больше не дышит.
При бледном утреннем свете, проникавшем в окно, было видно непривычное спокойствие на лице Евдокии, какого ни разу не было при жизни. Только в складке около рта еще дрожала сиротливая слеза. Яков Григорьевич смахнул ее, сложил уже начавшие костенеть руки на груди Евдокии и медленно побрел в кухню.
Детишки прикорнули на тулупе. Яков Григорьевич разбудил их и срывающимся голосом сообщил:
— Ребята… мать… скончалась…
Славка и Зоя переглянулись между собой. Якова Григорьевича покоробило — на лицах ребят промелькнула радость. Тогда он взял и втолкнул их в горницу. Устало волоча ноги, вышли они оттуда. Подбородки у обоих судорожно вздрагивали. Они уткнулись в широкую грудь отца, покаянно заплакали.
У Якова Григорьевича сдавило сердце, перехлестнуло горло. Чувствуя себя в чем-то непоправимо виноватым, он гладил и гладил своей большой рукой вздрагивающие спины ребятишек.
Глава седьмая
Встревожило Лидию Николаевну поведение Удалихи на собрании. Она с детства привыкла видеть свою крестную сердитой, шумливой, с мужиковатой ухваткой в деле. Казалось, Удалиха вечно будет такой же сухой и крепкой, как лиственничный корень. И время ничего не поделает с ней. Но вот сдала и Удалиха, похудела, окостлявилась, даже заплакала на людях.
Жизнь сурово обошлась с Удалихой, и она, между прочим, так же сурово относилась к жизни. Во время коллективизации потеряла мужа и осталась с четырьмя сынами. Ни один еще к труду способен не был. Но никогда и никому не жаловалась старуха, ни перед кем не гнулась, и, когда Лидии Николаевне сделалось чересчур трудно, она обязательно сравнивала свою жизнь и жизнь Удалихи — и сразу все беды блекли.
Есть такое поверье, что беда не ходит в одиночку. Если уж на кого посыплются беды, они будут сыпаться, будто тяжкие каменья во время обвала. Пожалуй, по отношению к Удалихе это не было суесловием.
Только подняла своих сынов Удалиха, только дождалась помощников грянула война. Три сына попали на флот, в одну береговую батарею. Лидия Николаевна до сих пор ясно представляет себе этих коренастых, сильных парней с серьезными, как у матери, лицами.
Три сына Удалихи погибли в одну минугу. Мать не получала скорбные вести по порциям. Ей принесли похоронную, в которой были вписаны сразу три имени. Редкому человеку по силам такой удар, но Удалиха устояла. Только года два после похорон никто не слышал голоса старухи на собраниях, не бунтовала она, как прежде, и у нее стали дрожать руки. В это время и попросила она дать ей работу на птичнике. Птахин тогда квартировал у нее и чем мог помогал Удалихе.
Здесь, на птичнике, Удалиха немного «отошла». Снова сделалась шумливой, гремела на заседаниях правления, не давала житья лодырям и рвачам. С первых дней не поладила Удалиха с женой Птахина, Кларой Заухиной. Умела старуха распознать человека с гнильцой. Клара не мыслила себя иначе, как полновластной хозяйкой там, где она жила, и над теми, с кем жила. Но, как говорится, не на таковую напала. Удалиха в своем доме всегда была хорошей хозяйкой и потому скоро «отказала» квартирантам, сказав на прощанье: «Сопля тот мужик, которым баба командует!»
Этим самым навлекла старуха на себя «немилость» супругов Птахиных и немало притеснений от них претерпела. Птахин добился, чтобы ее удалили из членов правления. Попробовал убрать из птичника, но это оказалось выше его власти.
Младший сын Удалихи после войны домой не вернулся, а женился на городской и, как говорят в народе, «вошел в дом». Вот потому-то, что он «вошел в дом», Удалиха и отказалась наотрез жить с ним. Так что, когда Птахин попытался сплавить ее к сыну, она заявила: «До Москвы дойду, но гнезда своего не кину», — да и колхозники подняли ропот. Пришлось Птахину смириться, махнуть рукой на старуху, и она осталась на птичнике.
Не раз забегала на птичник в прошлые годы Лидия Николаевна. Было приятно смотреть, как высокая старуха стояла посреди птичника, разбрасывая сыпучий корм плавным движением руки, а вокруг нее бушевала белая метелица. Вечно хмурое лицо старухи делалось непривычно добрым в эти минуты, и голос звучал так, как, должно быть, звучал, когда она склонялась над люлькой; «Касатушки, касатушки, цып-цып-цып! Ешьте, милые, ешьте, белые». И казалось, куры понимали ее, выводили в ответ свое «ко-ко-ко-ко» постараемся, мол, тоже с понятием.
Выкроив свободную минугу, Лидия Николаевна отправилась навестить Удалиху.
В избе Удалихи пустовато, тихо. Изо рта Лидии Николаевны шел пар. Старуха лежала в горнице, под одеялом, старым тулупом и еще под каким-то тряпьем.
— Лежу вот, жду часу своего, а он не торопится. — поздоровавшись, грустно вымолвила Удалиха.
— Что ты, крестная, тебе ли говорить о смертном часе? Тебе еще жить да жить, — сказала Лидия Николаевна то, что принято говорить в таких случаях.
Сказала и пожалела: разговоры эти ни к чему. Такое говорят людям, которые вслух намаливают себе смерть, а про себя страшатся ее. Удалиха же, судя по ее тоскливому, отсутствующему взгляду, ждет смерти всерьез. Устал, видно, и этот железный человек. Поэтому, когда Удалиха отвегила на ее традиционное слово грустной фразой: «Нет, Лидия, я уж месту рада», — Лидия Николаевна не нашлась, что ответить. Они посидели молча целую тягостную минуту. Удалиха первая нарушила молчание:
— Как ребятишки-то?
— Да ничего, здоровые. Давай-ка я тебе, крестная, печку затоплю, сварю чего-нибудь, — сказала Лидия Николаевна и, не дождавшись разрешения, начала хлопотать в избе. Открыла ставни и ахнула: на окнах горшки, и в них торчали стебельки обрезанных цветов. Лидия Николаевна бросилась во двор и там нашла несколько гнилых бревнышек, потюканных тупым топором. «Стайку разбирает на дрова», — догадалась Макариха и вздохнула: многие лишились скота и сожгли надворные постройки, теперь заново отстраиваться трудно будет.
Она в несколько взмахов развалила топором надвое бревнышко, потом каждую половину расколола по сердцевине и начала рубить на поленья. «Зачем же старая цветы-то обкарнала?» — с недоумением подумала Макариха и заторопилась в избу.
Смутная догадка пришла ей в голову. Она зажгла лучину и быстро спустилась в подполье. Очень уж просторным показалось ей старое подполье. Просторным оно было оттого, что в нем почти ничего не хранилось. Лишь в уголке одного сусека сиротливо лежала кучка картофеля: Лидия Николаевна опустила руку с тлеющей лучиной и чуть не заплакала: «Это ведь она курицам все скормила, зелень, морковь, картошку, свеклу, хлеб — все сплавила. Колхозным курам! Свое! На коленях она по своему огороду ползала, ей каждая картошка трудов великих стоит, а тут взяли обидели такого человека, обошли его всем, забыли!»
Уже погасла в руке Лидии Николаевны лучина, а она все стояла и думала о человеческой душе, такой необъятной и глубокой.
— Ты чего ж это, старая, вытворяешь? — укоризненно обратилась она к Удалихе, поднявшись из подполья с чугуном картошки.
— Хвораю, — насупилась старуха. По всему было видно: она уже догадалась, о чем будет идти речь, и постаралась замять разговор: — Ты, Лидия, водички мне согрей, голову помыть. Грех сказать, обовшивела я!
— Нагрею и воды. А ты мне вот что скажи: отчего у тебя подполье пустое и цветы срезаны? Старуха заохала, схватилась за бок.
— Ой, ой, смертынька подходит, чисто весь бок скололо! — Но сквозь полузакрытые редкие ресницы она заметила, что Макариха в упор смотрит на нее и что хитрить бесполезно. Тогда она рассердилась, села на кровати и замахала костлявыми руками, как прежде на собрании.
— А чего же мне было делать, а? Ежели курицы с ног валятся, витаминоз на них от бескормицы навалился. Она, курица-то, пить, есть хочет или нет? То-то и оно, что хочет! А ты знаешь, когда начальство колхозное в последний раз на птичнике было? Знаешь, что неделями корму не выдавали? Это, стало быть, мои фантиранты на куричьем брюхе мстили. А при чем она, курица, ежели и вредный человек? Ни холеры ты не знаешь! Еще допрашивать меня взялась. Я те допрошу, разъязви тебя в душу и в печенки!
Лидия Николаевна поднялась и ушла затоплять печку, уверенная в том, что с этой минуты крестная пойдет на поправку. Рассердился человек, кровь в нем закипела. Вон он голос у нее какой сделался.
А Удалиха шумела и шумела. Уже и печка протопилась, уже усадила ее Лидия Николаевна в деревянное корыто с водой, намылила голову, а она все бушевала и грозилась.
Много обидного сказала Лидии Николаевне Удалиха, ой, много. И такого сказала, что Макариха не сразу разжевала. Больше всего Удалиха сердилась на свою крестницу за то, что та ушла из правления колхоза. Ну, ладно, ее, Удалиху, отстранили от руководства, она старый человек, пора и отдохнуть. А почему она, Макариха, почему тот «хромоногий бес» Букреев да этот «толсторожий молчун» Качалин дозволили выгнать себя из правления? Боялись, чтобы их не завиноватили люди? В стороночку, в уголок спрятались, ворью да жулью вожжи препоручили. Вот она, Макариха, сознательный человек, хорошего мужа жена, неленивая работница, почему она ушла из членов правления? Не ответит ли она на этот вопрос своей крестной? Не ответит, совестно. Тогда крестная за нее ответит: чтобы меньше спросу с Макарихи было! Так что же теперь получается?
И Удалиха нарисовала картину.
Было трудное время, когда начал организовываться колхоз в Корзиновке. Одним из первых вошел в него красный партизан Максим Удалов. Он-то и придумал имя корзиновскому колхозу «Уральский партизан». А была у Максима Удалова и Парасковьи Удаловой как-никак коровенка, лошадь и пашня, хоть некорыстная, да своя. И был в семье Удаловых свой хлеб. Страшно было Парасковье Удаловой вести свою коровенку, свою лошадь в колхоз, жалко было лишаться пашни. Да ничего не поделаешь, он, Максим-то, хозяином крутым оказался, гаркнет, бывало, — чихать смешаешься, и умницей он был большим, и потому верила Парасковья: раз Максим делает что — не к худу делает.
И правда, не к худу. Как работали дружно, как веселились на первых праздниках, сердце млело от радости. Было приятно сознавать, вот не только в доме Удаловых хлеба досыта, а у вдовы Ключихи тоже. Да, да, про Макарихину мать идет речь. Не часто она до колхоза хлеба досыта едала.
Потом Максима темной ноченькой загубили злодеи. Ан не сдалась Парасковья Удалова, не убегла из колхоза, а вместо мужа в правление поступила, хорошую жизнь на земле ладила. И всю силушку положила Парасковья Удалова, сынов пустила из-под своего крыла: летите, соколы, бейтесь с врагом лютым ради счастья людского.
А что получилось из того? Сыновьи косточки истлели. Парасковью на отвал, как старую рухлядь! Никому она теперь не нужна, износилась, издержалась! В родной деревне, как на постылом погосте, дни доживает! Пусть-ка крестница обскажет, отчего это? Попутно сообщит, почему ее ребята бегают в ремках, а такие, как Клара Птахина, в шелках? Может, Клара робит больше Макарихи? Может, Птахин больше пользы сделал, чем Макар?
Только после того, как вымыла Лидия Николаевна и окатила теплой водой старуху, помогла ей лечь в чистую постель, Удалиха успокоилась и устало закрыла глаза.
— Ой, господи-батюшко, ровно гора с меня свалилась, — тихо промолвила она и, добавила: — Ты, Лидия, не обижайся на мои слова. На правду грех обижаться. Мне уж если суждено поправиться, так поработать бы еще. Я вроде крота — живу до тех пор, пока тружусь. Не смогу трудиться, тут же и окочурюсь. Берегите вы жизнь, не дозволяйте крутить ею, как пьяные шофера баранку крутят. Мы вам ее, нашим детям эту жизнь добывали.
Лидия Николаевна не пошла сразу домой, а завернула в школу. Там, в кабинете заведующего, за старым письменным столом на месте Макара сейчас сидела приезжая женщина.
И стол, и комната, и все в комнате было, как прежде, почти ничего не изменилось. Стол с точеными ножками, на углах которого были когда-то деревянные ангелы. Их отломили после того, как перевезли громоздкий стол из кулацкого дома в школу. На окне старенький глобус, где уже стерлись границы многих стран, а иные мелкие острова и вовсе исчезли. У глобуса медная ножка. Ее приделал когда-то сам Макар. Пока он мастерил ножку, Юрка укатил глобус и прорезал на нем дырку, приспособив глобус под копилку. На этом месте и по сей день видна крепко приклеенная заплаточка. Как много переменилось с тех пор! И на этом земном шаре, в который глубоко закопаны солдаты, многое переменилось. Они лежат там уже превратившиеся в прах, а память о них все живет и никак не истлевает во вдовьих сердцах, в детях, которым расти и шагать по этому старенькому, много раз чиненному шару.
Пусть они шагают по нему просто так, без оружия, пусть не оставляют вдов и сирот за собой!
Все, все в этой комнате было, как прежде, и только за старым столом сидел другой человек, и на столе этом не было того уютного беспорядка, какой бывает у мужчин вечно чем-то занятых, вечно что-то мастерящих.
Лидия Николаевна не любила заходить в этот кабинет. Однако сегодня она прошла туда и, не задерживаясь долго, договорилась с директором о том, чтобы учащиеся взяли шефство над птичником. Удалихе уже не под силу управляться там, а рабочих рук в колхозе недостает.
Дома она сказала Галке:
— Ты, Галина, будешь каждый день после уроков заходить ко мне на ферму и брать литр молока для бабушки Удалихи. Кроме того, будешь прибирать у нее в избе, мыть пол, носить воду, пилить с ребятишками дрова. Прогонять станет — не уходите. Ругать будет — молчите.
Но это не принесло успокоения Лидии Николаевне. Расшевелила ее старая птичница, бесцеремонно переломала те хрупкие перегородки, которыми Лидия Николаевна пыталась отгородиться от смутных дум. Нет, старуха не дала Лидии Николаевне замкнуться, и точно так же, как сама она давеча, спустилась с зажженной лучиной в темное подполье, старуха заглянула в ее нутро с непотухшим огнем, осветила в душе крестницы все уголки, тронула, до боли тронула все там.
Вот уже несколько дней бушует свирепая метель. Во мраке исчезли засыпанные сугробами деревушки со своей нешумной сельской жизнью. Где-то в заречных бригадах застряла Тася. Метель не сегодня-завтра кончится, но перед тем, как затаиться в горах, среди дремлющего леса, она разлютовалась очень сильно.
Сегодня ночь особенно тревожна. Все крутится, завывает, стучит. Запаса кормов, подвезенных к ферме, не хватило. Пришлось дояркам снова брать в руки веревки и шагать в поле к стогу соломы.
Лидия Николаевна была в эти дни на редкость молчалива. Она вообще за последнее время все чаще и чаще задумывалась, хмурилась. Высокая, сильная и кирзовых сапогах, в куцей телогрейке и старом суконном полушалке, шла она впереди девушек. Шла сердито, не отворачиваясь от ветра. У стога навязывала соломы больше всех и, взвалив вязанку на плечи, так же молча, чуть согнувшись, шагала к ферме уже по заснеженной тропе.
Девчата с тревогой и молчаливым любопытством поглядывали на Лидию Николаевну, перешептывались между собой. Лишь один раз Лидия Николаевна прервала молчание. Она велела затопить печку в молочной и попросила одну девушку принести пригоршни сена помягче.
— Вы, девки, тоже положьте в обувь сенца да помните его — вот ногам-то и теплее будет.
Лидия Николаевна по-мужицки закинула ногу на ногу, стала разуваться, и все услышали, как затрещали пристывшие к подошвам ее сапог портянки. Она поставила ногу в латаном чулке ближе к печке, пошевелила пальцами. Девчата торопливо принялись стягивать обувь. На многих были такие же сапоги, резиновые полусапожки, ботинки. Лишь несколько человек обуто, как принято на ферме, в валенки с калошами.
Немного отогрелись доярки и повеселели. Что-то вспомнили, засмеялись, подтолкнули одна другую, взвизгнули, но Лидия Николаевна не улыбалась, как обычно, по-матерински, поощрительно, а поднялась и строго обронила:
— Погрелись, хватит, — и первая шагнула за дверь, где метались кучи снега и куда так не хотелось уходить. Поздно вечером Лидия Николаевна пришла домой.
Ребята спали. Она без аппетита поела хлеба с молоком и, не раздеваясь, прилегла.
Руки и ноги ломило от усталости. Знобило, сон не шел. Навалилась на Лидию Николаевну душевная смута. Началась она после того, как поругала ее Удалиха. Особенного будто ничего и не случилось. Ругали ее и прежде, да еще как! Ругали и по делу, и без дела. Сносила, иногда огрызалась и тоже ругала кого следует. Но не этим растревожила ее Удалиха. Мыслями своими перевернула она всю душу, жизнью своей. Почему так? Почему труженица Удалиха так тяжко доживает свой век? Кто за это ответственен, кто?
Взять такое дело. Засобирались ее соседи, Хопровы, в город уезжать — и уехали. А отчего уехали, она ведь толком не знает. Вот помнит, что сам Хопров пришел к ней попрощаться, а глаза у него растерянные, все шапку мял и бормотал что-то. Хопров, может быть, хватался за последнюю надежду, может быть, думал, что соседка станет убеждать его, докажет, что ему уезжать незачем из родной деревни, от родной земли, которая его вскормила и вспоила. А она ничего ему не сказала, попрощалась, пожелала счастливого пути и, проводив сгорбленную фигуру мужика взглядом, сама пожалела, что не может уехать вслед за ним.
В то время, когда Лидия Николаевна лежала в тихой и темной избе, на ферме поднималась суматоха.
Где-то за полночь, в особенно таинственный и сонный час, начала телиться Туалета. Дежурила на ферме молодая девушка Поля. Еще в прошлую зиму она училась в школе, заканчивала седьмой класс, а нынче уже работница в доме, доярка колхозная. Девушке нравилось работать на ферме: строго здесь, чисто, жизнь идет спокойным чередом. Вот еще бы с кормами было нормально и тогда совсем хорошо бы работалось, а то от вязанок болят и спина, и плечи, а когда вернешься с холодного ветра, морит сон.
Голова Поли клонится к столу. Из ее проворных пальцев выскальзывает вязальный крючок, и девушка роняет голову на стол. Румяная щека девушки лежит на затасканном кружеве, на неполной катушке ниток. Блаженный покой окутывает Полю. Далеко-далеко, наверное, в некотором царстве, в некотором государстве сердито воет баба-яга: У-у-у-у-у-у. Нет, не у-у, а му-у. Отчего му-у? Так кричать баба-яга не умеет. Она злая. А в этом голосе боль, жалость и призыв. Нет, это не колдунья! Это, что же это?
Поля рывком отрывает голову от стола. На ее щеке две глубокие вмятины от катушки. Поля бессмысленно озирается, и вдруг до нее доносится тихое мычание. Запихивая волосы под платок, она бежит в коровник. Мычит Туалета. Мычание ее больше похоже на приглушенный стон. Обычно добрые и кроткие глаза Туалеты чуть подались из орбит. В них огромная боль и мука. Мокрые бока коровы вздымаются и опускаются грузно, тяжело, как кузнечные мехи. С минуту девушка стоит в немом оцепенении, боясь приблизиться к страдающему животному. Потом она сорвалась с места, впорхнула в кухню и принялась быстро крутить ручку телефона.
— Алло! Алло! — с отчаянием кричала девушка в трубку. — Мне квартиру ветеринара, да, да, Егора Парфеныча. Не отвечает?! Ой, девушка, милая, позвоните еще, а?
И дежурная телефонистка звонила, звонила, а в трубке слышался только треск и шорох, напоминая о том, что на улице злая погода, под которую хорошо спится сытым и здоровым людям. Тогда Поля бросила трубку и побежала в ближайшую избу, к пастуху Осмолову. Когда бы и что бы ни случилось на ферме — бежать к Осмолову или Лидии Николаевне, они-то уж найдут выход из любого положения. За Лидией Николаевной бежать далеко, и Поля ринулась к старому пастуху.
Вскоре Осмолов в рыжем тулупе, надетом прямо на нижнее белье, и в валенках на босую ногу был уже возле коровы. Туалета, завидев Осмолова, подняла голову, лизнула влажным большим языком его руку и протяжно, как показалось Поле, облегченно замычала. Тревога все больше и больше охватывала девушку, потому что пальцы пастуха делались с каждой минутой суетливее, хотя голос старика не менялся, был по-прежнему умиротворяющим, ласковым.
— Ничего, матушка, все будет хорошо, — проворковал напоследок старик и только после того, как очутился в молочной кухне, спросил: — Ветеринара вызвала?
— Не могла дозвониться. А что, плохо?
— Хуже некуда. Недосмотрели, не уследили, теленок-то неправильно лежит.
— Я тетю Лиду позову, она велела в случае чего…
— Кого? Нечего тетю Лиду беспокоить, она и так уж еле ноги таскает, пусть хоть немного отдохнет. Здесь упущение ветеринара, вот и дуй в деревню, а пошли за ним своих девок, быстро, а сама сюда. Ну, если что случится, сыграем ему «сени, мои сени»! Чего ты еще копаешься?
— Я сейчас, сейчас, дедушка Арсений, заторопилась девушка.
Минут через десять Поля вернулась, а из Корзиновки в Сосновый Бор, ухая в сугробы, оступаясь, падая, торопились две доярки. Они что есть силы забарабанили в дом ветеринара и, не ограничившись этим, начали стучать в окно.
— Тише, тише, избу развалите, — послышался за дверью голос ветеринара. Крючок со скрежетом вылез из петли, и перед глазами девушек предстал полный мужчина с заспанным и помятым лицом. Был он в одном белье, и, почесывая грудь, с насмешливой злостью спросил:
— Чего уставились? На смотрины, что ли, явились? Так я уж того, из жениховского возраста вышел, со своей супружницей и то врозь сплю.
Одна из девушек протерла глаза, осмотрелась. Тикают где-то часы, капает вода из рукомойника, пахнет подымающимся тестом, а на тумбочке лежит снятая с настенного телефона трубка.
— Ты чего же это на звонки не отвечаешь, мы, по твоему, обязаны бегать за тобой?
— А я что же, по-вашему, окаянный, да? — разозлился ветеринар, и его обвислые руки задрожали. — Я, значит, как пес приблудный, должен в этакую дурнину идти куда-то на звонок? Я тоже имею право отдохнуть…
— Не больно изработался.
— Что? — заорал ветеринар. — Критику наводить? С коровенкой сладить не можете, а критиковать мастера. Я ведь знаю, что у вас на уме: растолстел, зажирел, морду с похмелья не обвалишь, бездельник, и этакий и сякой!
— Зажирел и есть! — отрезала одна доярка в легкой душегрейке и в старых, наскоро надетых валенках.
Ветеринар хлебнул ртом воздух, распахнул дверь и указал на улицу.
— Выметайтесь!
— Да ты не бесись, — спокойно сказала та же доярка. Она была постарше и побойчей своей подруги, стоящей рядом и робко прислушивавшейся к перепалке. — Никуда мы не уйдем!
— Нет, пойдем, пойдем, за тетей Лидой пойдем или за Качалиным! — вдруг запальчиво вставила другая и так же неожиданно зашмыгала носом и начала вытирать глаза концом платка. — Ему нашего не жалко, все пропадай пропадом…
Ветеринар поморщился, подвернул кальсоны и, пытаясь удержаться на грозном тоне, ответил:
— А что ваша Лидия Николаевна! Подумаешь, важность, Макариха! Генерал! Тьфу на вашего генерала! — плюнул он и громче зыкнул на младшую доярку, притворяя дверь: — Перестань слезы лить, у меня своя мокрица есть! — Он еще раз плюнул и направился в горницу. — Вот проклятая служба! — Доносилось оттуда уже не столь сердито. — Ну, кому только досуг, тот и в дверь ломится. Штаны где? — вдруг рявкнул он на жену. — Лежишь, как колода, нет, чтобы встать, помочь собраться. Тоже разжирела! Я вот наведу тут порядок!..
Доярки не стали дальше слушать, хлопнули дверью и ушли. На краю деревни их догнал ветеринар. У него был фонарик, который бросал бледное пятнышко света на переметенную дорогу. Ветеринар все еще ворчал, ругал свою службу, доярок, что не дали ему спать, и всех на свете.
Туалета уже не мычала, а только тяжело и прерывисто дышала, уронив голову на солому, которую еще вечером принесла и постелила под нее Лидия Николаевна. Осмолов, вытирая мокрые бока коровы, все еще пытался разговаривать с ней ласково, но и он не выдержал, взглянув на Полю глазами, полными боли.
— Где этот толстомясый ветеринар?
Девушка в ответ беззвучно пошевелила губами, пытаясь что-то выговорить.
— Полюшка, беги, пожалуй, и за Лидией, — сказал пастух и опять склонился к Туалете.
Лидия Николаевна, услышав торопливый стук в дверь, подумала, что вернулась из Заречья Тася, и сказала:
— Не закрыто, входи, Таисья.
— Это я, тетя Лида! — Лидия Николаевна узнала голос дежурной с фермы и стала рукой искать на шершавой стене выключатель.
— Тетя Лида, пойдемте скорей на ферму, с Туалетой что-то неладно, завыла тоненько Поля.
Лидия Николаевна включила свет, на секунду зажмурилась. Потом сняла с вешалки телогрейку, надела ее и, обертывая полушалок вокруг головы хмуро полюбопытствовала:
— Чего ревешь-то?
— Да как же… умирает Туалета, я ветеринару звонила, а он.
— Ну?
— А он не отвеча-ает.
Лидия Николаевна прикрикнула на Полю, вытерла ее лицо полотенцем, висевшим возле умывальника, и окунулись они в метель и снег. Поля семенила за Лидией Николаевной и, поминутно проваливаясь, рассказывала торопливо и бессвязно о том, что произошло на ферме. Время от времени она подвывала ветру. Случалось не раз и прежде — неопытные доярки поднимали попусту панику, прибегали среди ночи, так же громыхали в дверь или окна, а потом и ревели и пытались оправдаться. Туалета — корова грузная, телится всегда тяжело, поэтому не особенно встревожили Лидию Николаевну слова Поли. Просто дежурная по молодости испугалась и паникует.
Но как только Лидия Николаевна вошла на ферму, что-то екнуло у нее внутри. Уж очень тихо на ферме: ни беготни, ни суеты, как всегда бывало в подобных случаях. Переборов желание скорее броситься в коровник, Лидия Николаевна заставила себя спокойно надеть халат, завязать на рукавах тесемки. Когда она шагнула в коровник, первым до ее слуха долетел заискивающий голос ветеринара — Егора Парфеновича Стерлягова:
— Ничего, ничего, мы его теплым молочком, с сосочки, он и оклемается, выживет без матери…
Сердце у Лидии Николаевны оборвалось. Она пошатнулась, ухватилась за перекладину стойла, потом медленно подошла к тому месту, где столпился народ. На соломенной подстилке лежала мертвая Туалета с провалившимися боками, а в вымя ей тыкался головастый, долговязый телок.
— Мы ему сосочку, сосочку… — залепетал и засуетился ветеринар, увидев Лидию Николаевну.
На него угрожающе и презрительно поглядывали люди. Лидия Николаевна остановилась. Боль и ярость сжали ей сердце. Она уже ясно понимала, что лучшая корова корзиновского колхоза, гордость всего района, пала из-за недосмотра ветеринара. Казенный человек ветеринар и равнодушный к колхозному добру. Он даже ни разу не поинтересовался в нынешнем году, как протекает беременность у коровы-рекордистки. «Даже животным и тем человеческое равнодушие смертью оборачивается», — подумала Лидия Николаевна, а вслух сказала:
— Хватит глазеть. — И, выпрямившись, начала распоряжаться: — Телка подсадите пока к другой корове. Туалету закройте соломой, а ты, начальник, — повернулась она к ветеринару, — идем со мной!
В кухне было полно народу. При появлении Лидии Николаевны и ветеринара все смолкли, насторожились.
— Подбросьте в печку дров, — сказала Лидия Николаевна, и кто-то заторопился выполнить ее распоряжение.
Девчата осторожно и выжидающе поглядывали на своего бригадира. Что-то должна была предпринять Лидия Николаевна, придумать наказание этому сытому человеку с бегающими глазками. Неужели опять все кончится руганью да разговорами, как в прошлые годы? Вполне может быть. Не первый раз дохнет скотина на колхозных фермах, а ветеринар, как жил, так и живет себе спокойно и благодушно, сваливая все грехи на бескормицу и колхозную неорганизованность.
Ветеринар и сейчас вел себя очень независимо. Он широко расселся за столом и пробовал закурить. Правда, ему никак не удавалось вставить в мундштук сигарету. Однако и эту несложную операцию он наконец проделал. Закурив, он обвел всех вызывающим и насмешливым взглядом. Только со взглядом Лидии Николаевны он не посмел встретиться. Лидия Николаевна посмотрела на своих насторожившихся девчат и как можно спокойней спросила:
— Вот, девчата, за столом сидит человек, который погубил нашу лучшую корову. Что с ним будем делать?
Ветеринар изумленно глянул на нее, затем перевел взгляд на доярок и попытался улыбнугься. Но улыбки не получилось. Что-то растерянное, жалкое тронуло складки губ его. Было ясно: только сейчас этот человек, под десятком суровых, осуждающих глаз, по-настоящему оробел. Туалету — не простят. Ветеринар понял сразу. Он тяжело поднялся, как перед судом, снял шапку и произнес:
— Я виноват. — Он помолчал и совсем тихо добавил:
— Виноват я. — Он подождал, не заговорит ли кто, и, словно испугавшись этого тягостного молчания, заторопился: — Конечно, убыток, понятно, я обязуюсь уплатить.
— Дешево решил отделаться! — оборвала его Лидия Николаевна. Она сурово кивнула головой, чтобы он убирался из-за стола. — Ну, денчата, давайте составлять акт. Поля, — обратилась она к дежурной, будешь писать — у тебя почерк разборчивый.
Доярки плотнее придвинулись к столу, окружили Лидию Николаевну и Полю, а ветеринар остался в стороне. Ему сделалось невыносимо тяжело. Он хотел выскользнуть в дверь, немного проветриться, но только успел надеть шапку, услышал повелительный голос бригадира:
— Никуда не уходи, распишешься в акте, отныне невиновных в колхозных убытках не будет. Хватит, похозяйничали, поели дармового мясца, пора за все расплачиваться.
Всем собравшимся в правлении стульев не хватило, и некоторые примостились на подоконниках. Стерлягов сидел, утопив ладони между коленями и опустив голову. Уланову понравилось, что он явился в правление побритым, опрятно одетым, а не взлохмаченным и обросшим, какими иные являются на мирской суд, дабы разжалобить окружающих своим видом. Вошла Лидия Николаевна, а за ней — разрумянившаяся от мороза Поля. Она немножко оробела при виде молчаливого и серьезного народа, прижалась в уголок, но Лидия Николаевна показала на нее глазами и, скрывая улыбку, проговорила:
— Это, Иван Андреевич, представитель фермы. Ее, правда, не приглашали, но она пришла, так как она дежурила в эту ночь и считает себя виновницей.
— Ой да уж, тетя Лида, какие вы. И вовсе я ничего такого…
Стерлягов поглядел на нее с любопытством. Начал было закуривать, спохватился и, встав, спросил:
— Курить выходить или как?
Иван Андреевич больше всего сегодня избегал официальности, хотел, чтобы беседа проходила строго, но непринужденно.
— Курить разрешается всем, за исключением девушек, — с мягкой улыбкой сказал он. — Ругаться также можно всем, исключая их же, так как ругань у девушек на румянец влияет.
Люди зашевелились, с недоумением начали поглядывать на Уланова, и он понял, что шутка его, пожалуй, неуместна. Чуть смешавшись, он уже серьезно продолжал:
— Я думаю, начнем, товарищи.
— Да, пожалуй, чего еще ждать? — послышалось со всех сторон. Однако во взглядах многих промелькнуло удивление: какое же это собрание — ни секретаря, ни председателя, даже протокол писать не собираются.
— Так вот, товарищи, — заговорил Уланов, — я пригласил вас сюда не на собрание, а только побеседовать. — Он скользнул взглядом по Стерлягову. Побеседовать о наших хозяйских делах, о наших нуждах, о наболевших вопросах.
Стерлягов поднял голову и озадаченно посмотрел на Уланова.
— Разговор думаю начать с одного очень важного документа. «Мы, работницы молочной фермы колхоза „Уральский партизан“, составили настоящий акт о том, что из-за плохой, можно сказать, предательской работы ветеринара пала наша лучшая корова…» — Уланов заметил, как начала отливать кровь от лица ветеринара. Окончив чтение акта, он отложил его в сторону, сделал паузу, снял очки и, протирая их платком, продолжал: — А теперь я, товарищи, сообщу вам и товарищу Стерлягову некоторые данные из его биографии. Думается мне, что он кое-что забыл. Так вот: Егор Парфенович Стерлягов родился в тысяча девятисотом году в селе Корзиновке, в семье батрака. Еще будучи не Егором Парфеновичем, а Егоркой, он тоже начал батрачить. Не под вашим началом ходил он в подпасках, Арсений Тимофеевич? — повернулся Уланов к Осмолову. Старик торопливо закивал головой:
— У меня, у меня…
— Значит, с вами батрачил? Ясно. Затем батрак Стерлягов был отправлен защищать веру, царя и отечество, но вместо того, чтобы защищать, проявил «несознательность» — повернул оружие против царских холуев. Затем сделался красногвардейцем, громил Колчака, участвовал в походе Первой конной армии. Ушел на германскую войну Егоркой, а вернулся после гражданской войны Егором Парфеновичем. Вступил в колхоз, сделался ударником, был послан на колхозные деньги учиться. Приобрел специальность. Боролся всеми силами за увеличение поголовья колхозного скота. Говорят, ни метели, ни морозы его не страшили, когда речь шла о деле. Вот коротенькая биография товарища Стерлягова. Да она, очевидно, всем вам известна. И теперь хочу я вас спросить: тот ли это самый человек? Может быть, на бумаге одно, а в жизни другое? Бывает и так.
Стало очень тихо. Стерлягов огруз, руки его опустились, в лице не было ни кровинки. Из угла большими глазами глядела на него Поля. Во взгляде ее изумление. И как ей, молоденькой девушке, недавно покинувшей шумный класс, где ей семь лет подряд ставили в пример таких людей, как Стерлягов, было не изумляться. Молоденькая девушка всеми силами старалась понять и осмыслить все, что здесь происходит. Она знала, что это очень важно для ее жизни, которую она пока безоговорочно принимала такой, какая она есть.
Молчали все. Уланов не торопил. Люди думали. Лидия Николаевна, сцепив пальцы рук, ждала, кто первый заговорит. «Вот как секретарь дело повернул, — подумала она, — пожалуй, это разумней, чем мы решили сгоряча. Трясти, трясти надо наших людей — засиделись они. На свежий воздух вытаскивать пора. Правильно Иван Андреевич делает!»
Молчание затянулось. Уланов терпеливо ждал.
— Коли все молчат, позвольте мне сказать, — негромко произнес Стерлягов и поднялся, крепко стиснув в руках шапку. Он выглядел почти спокойным. Лишь по вздувшимся на висках жилам, по напряженному голосу можно было судить, какая борьба совершается в нем.
— Вы сидите, сидите, — сказал Уланов.
— Нет, разрешите стоять, — отозвался Стерлягов. — Поскольку решается моя судьба, я долго задерживать не буду. Я только скажу, товарищи, что замарал я свою биографию. Отделилось как-то прошлое от меня, забылось. Память, видно, дряхлеет. Надо бы почаще оглядываться на былое-то да напоминать друг другу о нем, тогда бы мы больше уважали друг друга и берегли бы добытое своими руками. А так чего же?! В самом деле все как-то утряслось, устоялось, катится жизнь и катится, а я вроде бы пристяжка у нее. А вообще-то чего я в беллетристику ударился. Не об этом сейчас рассуждать.
— Говорите, пожалуйста, мы слушаем.
— Нет, я уж заканчиваю. Я только прошу вас, дорогие мои земляки, позвольте мне поработать остатки лет среди вас, только чтоб вместе, а не на отшибе, больше ни о чем не прошу. — Он огляделся вокруг, подбородок его неестественно выдавался вперед. Еще больше набухли жилы на висках. — Я вам в пояс поклонюсь каждому…
— Нечего нам кланяться! — сердито оборвал его Миша Сыроежкин. — Пусть тебе совесть твоя грехи отпустит, а мы не долгогривые такими делами заниматься. И не о тебе одном речь идет, а обо всех нас: о том, как дальше жить! Этак-то всяк сумеет: нашкодил — и бух! Поклонился какой-нибудь Фекле — и готово дело, живи спокойно, отрывай на ходу казенные подметки! Я так понимаю, что нам надо поговорить сегодня обо всей нашей жизни. Не один ты на отшибе, а многие врозь, в одном колхозе и врозь. Не годится так-то. Идти нам надо дальше рука об руку, как в тридцатом начинали.
Да, сегодня Миша Сыроежкин говорил очень серьезно, продуманно. Видно, немало поразмыслил после собрания над своей жизнью. Недаром в последнее время Миша сделался сдержаннее и очень болезненно переживал всякие шуточки и подковырки, на которые раньше не обращал внимания.
Односельчане знали, что за его придурковатостью скрываются доброта и честность. А Уланов только что распознал в Мише эти качества. Он с большим вниманием слушал выступление Сыроежкина. Перед ним открылся новый человек.
После Миши говорил Букреев. Начал издалека. Напомнил о том, как создавался корзиновский колхоз, перешел к сегодняшним делам, крепко покритиковал всех сидящих в кабинете и себя не забыл. Стерлягов томительно ждал, когда Букреев заговорит о нем. И тот не забыл про него.
— Что же, Егор Парфенович, тяжело по ночам-то подниматься? — сурово спросил он. Стерлягов сжался, забегал пальцами по карманам в поисках мундштука. — Вы вот вместе с Лидией Николаевной в колхоз вступали, и она до сих пор не разучилась вставать среди ночи, до ломоты в костях работать. Ты не криви губы. Сам просил, чтобы поминали о прошлом почаще, вот и слушай. Между тем живет Лидия Николаевна куда беднее тебя. Правда, коновалу, или нынешнему ветеринару, само собой, лучше жить полагается: как-никак спец деревенский, шишка на ровном месте. Но ведь ему и работать надо, а не сидеть на чужом хребте. А ты чужеспинником стал!
Стерлягов со страхом глядел на него, хотел возразить, но Букреев разошелся не на шугку.
— На чужой спине свое сытое житье везешь! Считаешь, что Макариха и все мы батрачить на тебя и на других деревенских лодырей обязаны! — Букреев сердито хватил шапкой о стул. — Я так считаю: Стерлягова следует спустить с обогретых пуховиков на землю, влепить ему строгий выговор, стоимость коровы с него взыскать, дать ему задание — в два-три года восстановить племенное стадо в колхозе. Вот брюшко-то у него и опадет. Отлынивать примется выгнать с должности и под суд отдать. — Букреев с грохотом подвинул стул и уже с места закончил: — Может, что не так сказал, погорячился, прошу извинить, больно уж накипело на сердце. Тверже камня будь — и то расколешься. Ведь такую корову сгубил! Ах ты, Егор Парфенович! Неужто ты совесть всю с квасом съел? Неужто наше горе — не твое горе, наши беды — не твои беды?
После совещания Уланов с Лидией Николаевной отправились на форму. Лидия Николаевна предупредила:
— Трудный разговор будет. Девчата воинственно настроены.
— Надо полагать. Но пусть лучше воинственно, чем равнодушно. К тому же я на вашу помощь рассчитываю. Одному мне с девушками, пожалуй, не сладить.
Уланов решил не играть в прятки и без обиняков сообщил дояркам, что Стерлягова под суд не отдали. Объяснил, из каких соображений это сделано. Девчата переглянулись между собой, и одна из них язвительно заметила:
— Воспитывать решили! Что-то мы часто стали преступникам баюшки-баю петь, в ноги им кланяться, уговаривать. На базар придешь — и там милиционер перевоспитывает, вместо того, чтобы хулиганов ловить да со строгостью наказывать. А они ходят — руки в брюки. На рынке — как дома.
— Однако поднялась общественность на хулиганов, комсомольцы взялись вместе с милицией за дело, и всем безобразиям пришел конец. Не так ли? - обратился к девушкам Уланов.
— Так-то оно так…
— Конечно, в людях вся сила.
— И нам, если взяться за рвачей, так они заревут не баско.
— Ага, лекции им читать, беседы о вреде табака и браги проводить ежедневно…
— Да нe ехидничай ты, Дуська тут серьезно…
— Правильно. Судить легче всего, а вот на путь поставить.
— Да ведь у нас отпетых-то голов раз-два и обчелся Просто разболтались многие, — поддержала разговор Лидия Николаевна.
Уланов протер очки и стал пристально вглядываться и лица молодых доярок. Он был доволен. Жители села Корзиновки с сердцем брались за перестройку колхозной жизни и начали они верно — с людей. А направить колхозников на верный путь было как раз тем ответственным делом, ради которого Уланов оставил привычное производство, обжитое место.
Часть третья Тают снега
Глава первая
Минуло больше месяца. Зима начала сдавать. Появились первые подтайки. Под ярким солнцем отпотели края снежных шапок на крышах. Воробьи поднимали свару, дрались на дорогах. Днем, пока еще неподалеку от дворов, гуляли куры, подбирая то одну, то другую лапку.
Люди говорили: рано началась весна — на позднее наведет.
Произошли кое-какие перемены и в Корзиновке. Они тоже напоминали первые подтайки. Изменился облик правления колхоза. С новым крыльцом у парадного, прежде забитого хода, с новой трубой и даже флюгером на коньке, смотрел дом на Корзиновку с горы посветлевшими, чисто вымытыми стеклами. Прежде чем зайти в правление, колхозники подолгу обметали веником валенки, тщательно сморкались на сторону, делали последние, сладкие затяжки и цигарку, потушив, бросали. Не стало в правлении грязных, заляпанных перегородок. В большой комнате появились стулья, дорожки, чернильные приборы, на стенах красочные плакаты, надписи на которых Тася уже прочитала множество раз. Здесь же, в правлении, висел второй номер стенной газеты «Репей». На его колючках были вздеты Федосья Ральникова со своими подвыпившими работницами, бригадир шестой бригады на куче мерзлой картошки и другие нарушители артельной дисциплины.
Люди стали ходить в правление охотно. На пол не плевали. Много говорили о колхозных делах и, хоть видели, что дела эти не так уж важны, толковали о них без уныния, а с жаром, с шумом.
Конец февраля. До зеленой травы, если весна выдастся ранняя, еще месяца два, а корма уже кончаются. В двух бригадах замерз картофель. Картофель — большая поддержка скоту, но временная. Некоторые колхозники требуют расходовать картофель, хлеб — все бросить на выручку скота. Дескать, после такого постановления, как сентябрьское, дадут все и без семян не оставят. Дадут! А кто даст? Под какие такие финансы?
И Яков Григорьевич, и Тася чувствовали, откуда дует этот ветерок. Надо было принимать срочные меры, чтобы обеспечить скот кормами и пресечь подобные разговоры.
Вот уже третий день отсутствует Яков Григорьевич.
По этому поводу суждения расходились. Одни говорили: зря, мол, Птахин это делает, другие желали ему скатертью дорожку.
Много забот и хлопот стало у Таси перед весной. Подработка семян, изготовление торфоперегнойных горшочков и еще многое другое. А тут, как всегда бывает в предвесеннюю пору, совещание за совещанием, то в МТС, то в городе. Отрывают только. Шефы сделали станок хороший. Его установили в помещении лаборатории. Можно бы начинать работать, не тут-то было. Многие колхозники считали возню с горшочками детской забавой. Поэтому с осени никто не позаботился о торфяной массе. Специально по этому вопросу собирали заседание правления. Решили добывать торфяную массу зимой. И вот за деревней, у речки, с раннего утра и до ночи теперь дымили костры. В помещении бывшей лаборатории жарко и парно. Здесь штампуют горшочки и замораживают.
Горшочками занимаются молодые колхозницы. Выручает молодежь Тасю. Те, что постарше, считают такого рода труд несерьезным делом. Им нужно обязательно посмотреть, что из этой затеи получится, убедиться — стоящее ли это дело, тогда они примут новшество. А пока многие колхозники просто подтрунивают над агрономом и ее помощниками.
— Может быть, вы моему сынишке урыльник слепите? Вам заодним уж горшки мастерить, а мне специально на рынок за ним ехать, — съехидничал Балаболка.
Райка Кудымова уперла руки в бока и ответила;
— Сынок-то, видать, в тебя удался: и умом и животом слаб!
Скрылся Балаболка под хохот и больше не появлялся в лаборатории.
Другая группа комсомольцев ремонтирует инвентарь. Здесь за главного Осип. Не узнать стало парня. Он посолиднел, но его природная застенчивость все еще мешала парню развернуться в полную силу. Особенно повергнут в смущение бывает Осип в присутствии Райки Кудымовой. Наедине с ней он боится оставаться. Однако в работе всегда проворен и смекалист.
Недавно в колхоз приезжал корреспондент районной газеты и напечатал хвалебную заметку об Осипе. Три дня Осип скрывался на острове: стеснялся показываться людям на глаза. Тася вынуждена была идти уговаривать его.
Захваченная суетой и водоворотом колхозных дел, Тася поздно прибегала домой, иногда, даже не раздевшись, падала на кровать и засыпала. Сережка, еще сызмальства привыкший к чужим людям, не горевал. Он в глубине души даже считал, что так, пожалуй, лучше — меньше притеснений. Ребята и Лидия Николаевна были для него всем: и матерью, и отцом, и воспитателями. С их помощью он готовил уроки, приучился к домашним делам. Тася изредка заглядывала в его тетрадки и удивлялась. В них встречались даже пятерки.
— Ты, Серега, способный у меня, — говорила она сыну.
И Сережка согласно кивал головой, утаивая, как бьются с ним ребята Макарихи, перебарывают его непоседливость и рассеянность. Ему нравилось, что мать называет его способным. Ребята его так не называли.
Солнце тем временем все чаще и чаще проглядывало сквозь холодные груды облаков. На крышах появились маленькие, похожие на картофельные ростки, сосульки.
Птахина вызвали на партийное собрание в МТС, куда были прикреплены коммунисты колхоза «Уральский партизан». Разбор персонального дела Птахина был бурным, долгим. Только здесь Птахин по-настоящему понял, какую жалкую, а подчас и подлую роль выполнял он.
Собрание исключило его из партии.
Явился домой Птахин, лег вниз лицом на постель и так пролежал целые сутки. Клара ходила на цыпочках, но никакого беспокойства на лице ее вовсе не было. Она только немножко поразилась, когда увидела на следующий день лицо Птахина, осунувшееся, с ввалившимися щеками, с тусклым, ничего не выражающим взглядом. Он проговорил медленно и таким тоном, каким никогда не смел разговаривать с ней:
— Приятель твой, Карасев, чтобы здесь больше не появлялся!
Клара по старой привычке хотела на это ответить достойной отповедью, после которой Птахин и пикнуть бы не посмел, но тут же почувствовала, что наступили другие времена. Ей лучше пока закусить язык. Впервые за совместную жизнь она со скрипом в душе уступила мужу и, сделав озлобленный вид, полюбопытствовала:
— Исключили?
Муж ничего не ответил, встал с кровати, налил из графина квасу и так застыл, с пробкой от графина в одной руке, со стаканом в другой. Потом спохватился, сунул пробку в горлышко графина и снова лег. Клара подошла, властно взяла его за плечи и посадила на кровати.
— Сиди и слушай! — приказала она. — Ты чего раскис? Мямля! Умирать, что ли, собрался? Действовать надо! Решение собрания должно ведь утверждаться в райкоме?
— Допустим!..
— Собирайся в город! Возьми денег. Тысячу, две — не жалко для такого дела. Выпей там с кем нужно, поговори, сунь деньги — все сделают! Только не лежи, ради Бога, не изгнивай заживо…
Птахин не мигая глядел на Клару, будто только что проснулся и увидел ее. Она соскочила с кровати…
— Чего уставился, как баран на новые ворота?
А Птахин сказал с усталой усмешкой:
— Какая ты все-таки.
Клару взбесили эти слова. Она сжала свои тонкие губы, сощурила цыганские глаза.
— Не такая жванина, как ты! Если бы была такая — сильная пара получилась бы! Мы бы оба давно подохли с голоду, нас бы в порошок стерли!
— Порошок? Да мы и на порошок-то не годны. На мыло разве. А насчет денег ты зря расщедрилась. Не все на деньги купишь! Ясно?
Но по выражению ее лица он понял, что ей ничего не ясно. Птахин снова лег на подушку.
Клара попыталась продолжить разговор.
— Слушай, прекрати. Ну тебя к аллаху! Если уж такая ты добрая — сходи в Сосновый Бор и возьми с книжки тысчонку. Съезжу-ка я, в самом деле, в город. Есть ведь у меня там друзья. Они помогут мне пропить эту тысчонку. Жалко на пропой, а? Жалко?
— Что я, без понятья? — обиделась Клара и притворно надула губы.
Пусть Птахин говорит, что хочет, но поступает так, как ей угодно, — и все будет нормально.
В силу денег Клара верила твердо, непоколебимо.
Давно уверовала. Эту веру ей еще в детстве привила тетка. Походила эта тетка, как и многие старые девы, на плохо обглоданный мосол. Клару она взяла на воспитание из детского дома и все свои качества: зависть, жадность, неверие в людей и даже неприязнь к ним — привила своей воспитаннице. Оставляя все свои пороки людям в наследство, она словно мстила через Клару тому миру, который прошел мимо нее. Кроме этого, она оставила Кларе большую сумму денег. Была старая дева отличной швеей и изумительной сквалыгой. Она копила деньги всю жизнь.
Клара с трудом доучилась до восьмого класса, просидев перед этим по две зимы в четвертом, пятом и шестом. Потом поступила в сельскохозяйственный техникум. Гонялись за ней в техникуме многие парни, но почти никто не нравился Кларе. Она была девица с разбором. Молчком и накрепко влюбился в нее Зинка Птахин, незаметный и, как считала Клара, самый бросовый парень в техникуме. Ни товару, ни красоты в нем не было. Птахин и сам понимал — до Клары ему далеко, а потому переносил свою любовь героически — мучился и молчал. Ребята посмеивались над ним, Клара тоже.
Потом дороги их разошлись. Клару отчислили из техникума — плохо училась. Встретились они уже несколько лет спустя, когда Птахин прочно осел в Корзиновке. Зачем-то его вызвали в облсельхозуправление, и здесь лидом к лицу он столкнулся с Кларой. Клара занимала должность секретаря в одном из отделов управления.
Она не процветала. Тетушкины деньги кончились, замужество не удалось. Попался какой-то хлюст поизворотливей, чем она, ободрал ее, как липку. — и был таков.
Птахин все это пропустил мимо ушей. До его рассудка, потрясенного встречей, не доходили злоключения Клары. Перед ним была та, которая приходила к нему в тревожных снах по ночам, чей голос, низкий, насмешливый, слышался в говоре ручья, и звонком пенье жаворонка, в шорохе травы, девушка, по которой он тосковал и с которой уже не надеялся встретиться.
Она все такая же, ослепительно красивая. Только глаза ее стали чаще прятаться в надменном, полупрезрительном прищуре, будто она долго перед этим глядела на солнце. Черные, до яркости черные глаза, с большими яркими белками. Ни у кого не видел таких глаз Зиновий.
Как и все тихие нравом, немножко замкнутые люди, любил Птахин единожды и неизменно. И он готов был на все, потому что заранее принижал себя, принимал ответ как милость великую. А в таких случаях всегда бывает одно и то же: есть у жены совесть, значит, она будет злоупотреблять властью в меру, нет совести — она замордует, заездит мужа до того, что он однажды взревет, взбунтуется, как добрая крестьянская лошадь, брыкнется и сбросит с себя седока. Сбросит и удивится; оказывается, без седока-то значительно легче.
Что-то похожее на бунт заезженной лошади назревало и в душе Птахина. Сегодня Птахин уже пробовал брыкнуться, и это сразу озадачило Клару. Ей хотелось по привычке сделать ему укорот, но положение сложилось такое, что с мужем приходилось считаться. «Вот отчалим отсюда — и я подтяну узду!» утешала она себя, шагая в Сосновый Бор. И все-таки Клара знала, что Птахин не станет употреблять деньги на спасение партийного билета, не такой он человек. Ему просто захотелось куда-нибудь уехать, напиться до обалдения, чтобы все забыть. «И пусть встряхнется, — сочувствовала Клара, — пусть. За один раз много не пропьет…»
Как только Птахин уехал в город, к Кларе заявился гость — Карасев. Он снял хрустящий реглан, по-хозяйски огляделся.
— Давненько не бывал у вас, давненько, — с легкой усмешкой, таившей что-то циничное, подмигнул он хозяйке дома.
— И хорошо делал! — лениво отозвалась Клара, перекладывая вещи из гардероба в чемодан.
Карасев остановился позади нее со сложенными за спиной руками.
— Собираешься?
— А чего ж? Пойдем искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Так, кажется, у Грибоедова?
— А черт его знает. Больно мне нужны твои Грибоедовы. — Карасев нахмурился, отошел к комоду, взял в руки флакон замысловатой формы, повертел его в руках и, поставив на место, вздохнул: — Ты лучше скажи, как быть? Куда деваться? Нет ли каких соображений у твоего Грибоедова насчет этого?
Клара прикинула на груди кремовую кофточку, приосанилась, глянула в зеркало и, аккуратно сложив ее, безразличным голосом проговорила:
— Тебе горевать нечего. Ты не пропадешь, не то, что мое чудо. Ему все время поводыря нужно.
Она присела на корточки возле чемодана, и одна пола китайского халата отогнулась, оголив ногу выше колена. Карасев опустился на пол рядом с Кларой и обнял ее. Она не противилась. Он жадно припал к ее губам.
— Сивухой от тебя вечно прет! — сморщилась Клара и несильно оттолкнула его. Карасев отдышался и сказал:
— Его ведь в самом деле из партии выгонят.
— Выгонят? — Клара помедлила и сделала губы бантиком. — Ну и пусть. Мне-то что? Не надо на партвзносы денег давать. Между прочим, у него есть диплом, Карасик, а при дипломе партийный билет не обязателен. — И дурашливо, но больно Клара щелкнула Карасева ногтем по носу.
— Однако ты дала ему денег и послала в город, — поймав ее руку, сказал Карасев.
Клара покосилась, отняла руку и снисходительно хмыкнула:
— А как бы ты поступил на моем месте?
Карасев почесал подбородок одним пальцем и с нескрываемым восхищением произнес:
— Шельма же ты!
Клара расхохоталась. Карасев поднялся с полу и заходил по горнице. Он кусал губы. Ему вот хотелось пожить уютно, полакомиться жизненными благами, а в случае беды остаться в тени, в сторонке. Не вышло. Почему же? Отчего? Под следствие попал. А ну как ковырнут его прежние дела поглубже? Даже думать об этом жутко. Клара вон женщина, а оказалась поизворотливей. Исподволь, потихонечку обвела вокруг пальца своего любовника и вместе с ним супруга. Пожалуй, никто так не доволен случившимся, как она. А ведь Клара ходит по деревне, возмущается, доказывает, что с ними обошлись жестоко, что они добьются своего, — их восстановят в колхозе, мужа оставят в партии. Да, Клара-то знает, что она на земле человек сезонный. Долго задерживаться ей на одном месте нельзя, народ становится все любопытней и пытается пристальней приглядеться к каждому, кто вместе с ним живет и работает. Далеко собирается этот народ идти, и попутчики ему нужны надежные.
Карасев смотрит на красивую, нежную шею Клары, по которой рассыпались мелкие завитки кудрей, прислушивается к ее беззаботному мурлыканью и делает еще одно открытие: Клара специально не выкрала его прошлогоднюю расписку вместе со всеми документами на обмен семян. Да, да, направляя удар на Карасева, она отводила его от себя. Ведь исчезли же все заключения о «некондиционности» семян, справки, наряды, квитанции, а его расписка осталась. Надо же так чисто все обстряпать!
— Шельма! — еще раз зло, но с прежними нотками восхищения сказал Карасев.
— Чего обзываешься? — плутовато скосила Клара улыбающиеся черные глазищи. Карасев снова схватил ее за плечи.
— Слушай!.. Уедем со мной! Брось ты своего лопуха! Знаешь, чего мы сможем с тобой добиться?!
— Например?
— Ну, деньги, почет: все добудем!
— Нам с тобой несподручно, Карасик. — Она прищурилась, поджала губы: Нет, ты хитер! — Глаза ее совсем исчезли в густых ресницах, и тонкие ноздри сделались бледными. — Я живу в достатке и воле. Муж меня любит. Я его уважаю. Чего ты ко мне пристаешь? Дура та баба, которая согласится связаться с таким, как ты. С тобой ведь запросто можно угодить в уголовку, в исправиловку. Ты понимаешь, что я не так создана, чтобы жрать тюремную пайку и копать вечную мерзлоту. Понимаешь? Тогда убери свои немытые лапы! Она передернула плечами, освобождаясь от Карасева.
Точно побитый пес, стоял он посреди комнаты.
— Гонишь?
— Конечно.
— Значит, гонишь?
— Конечно.
Он вдруг встрепенулся, обхватил руками ее шею и впился губами где-то возле уха.
— Ну, гони, только в последний раз… больше не приду… гнать не надо… слово… красивая ты… Краля моя!
— Пусти! — выкрикнула она, с силой разжимая его руки. Но он еще крепче сомкнул их. — Да пусти ты, обормот! — уже миролюбивей потребовала она.
Карасев выпустил ее, перевел дух. Потом отправился на кухню и, набрасывая крючок на петлю, скривился в усмешке:
— Вообще, конечно, зря советская власть не истребляет таких, как ты.
— О себе не забывай… — невозмутимо напомнила ему Клара.
Она вела себя в этот день вызывающе нагло, словно наслаждалась его бессилием и мстила напоследок за то, что он все еще использует неписаное право обнимать ее и домогаться ласки.
Впрочем, у Клары еще в детстве была привычка тискать, руками что-нибудь живое, тискать так, чтобы это живое пищало. И так ли еще запищит Карасик, когда она в полную мощь возьмется за него. Так ли?..
Уланов с Чудиновым возвращались из леспромхоза. Чудинова подбрасывало на заднем сиденье, и он недовольно брюзжал:
— Нет уж, увольте меня ездить на таком драндулете. Я уж как-нибудь на лошадке. То ли дело, едешь посвистываешь, на природу любуешься. А тут, мало того, что кишки все переболтает, так, концы-концов, где-нибудь под обрыв угодишь. — Машину тряхнуло на очередном ухабе. — Я-то что, не велика шишка, а вот секретарь угробится, будет слез…
Уланов тихо рассмеялся, но болтовни Чудинова не прервал. Он знал, что Николай Дементьевич мыслями своими сейчас далеко. Не так уж давно они знакомы, да успел Уланов привязаться к этому чудаковатому директору, привыкнуть к его грубоватой манере обходиться с людьми, за которой скрывались мужицкая хитринка и практический ум. Сначала он казался Уланову человеком, у которого душа нараспашку. Однако это первое впечатление прошло, и до сих пор зональный секретарь не мог с уверенностью сказать, что хорошо знает директора, с которым успел не только сработаться, но и сдружиться.
Их взаимоотношения не всегда были гладки. Слишком разными людьми они были. Уланов и делает, и говорит без обиняков, прямо, открыто. А Чудинов ко всякому делу подходит сторонкой, со своим умыслом. И какая-то недосказанность постоянно чувствуется в поведении директора. Даже трудно предположить, что у него на душе. Сейчас вот Уланов знал наверняка, о чем думает Чудинов и одновременно ворчит. Знал потому, что они думали об одном и том же.
Готовясь к решительному подъему в работе, колхозники изо всех сил старались не допускать новых потерь. Упущений и без того было много. Увы, старались не все. Часть колхозников все еще оставалась в хозяйстве свидетелями. Положение с кормами, посевными материалами обстояло неважно. И совсем уж плохо было в «Уральском партизане». Точно установлено, что под видом «обмена» Карасев заодно с работниками «Заготзерно» сумел сплавить большую партию семян пшеницы. Дело передано в прокуратуру, но от этого колхозу пока не легче. Особенно тяжело в «Уральском партизане» с кормами. Обмер сена, произведенный в сараях мнимых колхозников, принес большое облегчение. Излишков оказалось много. На некоторых сеновалах хранилось еще даже прошлогоднее сено. В район, в область, даже в Москву полетели жалобы на «незаконные» действия колхозных властей.
Сейчас Уланов ежедневно дает разъяснения, ответы на жалобы. Но сено, взятое у рвачей, поддерживало колхозный скот. Падежа скота пока нет. Наконец через обком партии они добились помощи колхозу деньгами и на эту ссуду, опять же через обком и министерство сельского хозяйства, закупили сено в лесостепных районах Сибири. Прессованное сено будет отгружено лишь в середине марта. Придет, значит, в конце месяца. А что делать до этого времени? В Корзиновке и еще в некоторых бригадах, кроме небольшого количества силоса, не осталось ничего.
Уланов отправил в район Якова Григорьевича и наказал ему не возвращаться до тех пор, пока не добудет сена. Когда-то Уланов — а ему уже казалось, что это было давным-давно, — ложился и вставал, думая о металле, шихте, руде и тому подобных вещах. Теперь для него самым значительным словом стало «сено». Он видел его во сне, еще живым, цветущим лугом, ощущал запах и шуршание и постоянно удивлялся тому, что раньше такое замечательное слово было для него совершенно безразличным.
Через колхозников Уланов узнал, что эмтээсовский шеф — леспромхоз ежегодно заготавливает много сена на колхозных лугах и что директор леспромхоза в течение последних лет распоряжается дальними колхозными покосами, как своими. Колхозное руководство смотрело на это сквозь пальцы. Пусть, дескать, пользуется. Для государства же берет, а мы и ближние-то луга скосить не успеваем.
Уланов обрадовался, узнав эту новость, и ринулся к Чудинову. Тот ухватил свой вмятый подбородок крючковатым пальцем и спросил:
— А ты директора того видывал когда-нибудь? Это тот тип! Ох и ти-ип! В этом тресте, к которому относится леспромхоз, управляющий — бывший генерал. Директоришек шерстит по-военному. Раз, два — и по шее! А наш сосед хоть бы что, спокойнехонько трудится и даже перед генералом не робеет. — Чудинов наклонился к Уланову и доверчиво сообщил: — Он всех тут в округе обманул и меня тоже.
— Как это он сумел? — тая смех, поинтересовался Уланов.
— Урвал моментик. Меновую мы тут с ним делали. Так он моим отчаянным механикам такой гроб подсунул вместо двигателя на автомашину, что хоть сейчас брось, хоть маленько погодя.
Чудинов говорил о своем соседе без всякого осуждения, и чувствовалось по голосу, что он и сам при случае, не моргнув глазом, надует директора леспромхоза. Такая уж, по-видимому, «деловая связь» у них установилась.
— Я вот еще повстречаюсь с ним, — погрозил Чудинов своей однопалой рукой в окошко в том направлении, где находился леспромхоз. — Ты чего ухмыляешься? — повернулся он к Уланову. — Доезжай-ка, он и тебя обжулит на чем-нибудь.
— Не посмеет! Это ж мой друг, старый друг! Мы с ним на Магнитке в одной комнатушке жили. Мне ли его не знать!
— О-о, тогда немедленно поехали! — обрадовался Чудинов. — Чего ж ты молчал? Однако друзья у тебя!
Директор леспромхоза встретил их радушно. Когда Чудинов принялся его корить, тот с невозмутимым видом поинтересовался:
— Ты, насколько мне помнится, в армии был, даже будто бы воевал маленько?
— Был, повоевал. И не маленько. Кое-чем фашистам досадил, — не без гордости ответил Чудинов.
— Это, между прочим, не только твоя слабость — доказывать, что без личного твоего подвига не видать бы людям светлого Дня Победы. Особенно рьяно лезут в герои те, кто на дезобане ездил, вшей солдатских выжаривал. Ты на дезобане не ездил — и то ладно. Одиннадцатую солдатскую заповедь еще не забыл?
— Не забыл.
— Что она гласит?
Чудинов почесал затылок и добродушно рассмеялся:
— Погоди. Я при случае напомню тебе, что она гласит.
Уланов улыбнулся, наблюдая за этими двумя солидными и плутоватыми мужичками, которые подковыривали друг друга, а в душе таили взаимную симпатию. В конце концов директор заявил обескураженному Чудинову, что двигатель послан списанный, а чтоб за добрым прислали, да не вислоухих людей.
— Утиль, значит, сбываешь под видом шефской помощи? — спросил Чудинов. — Благодетель!
После того как директора леспромхоза обвинили в незаконном захвате сенокосных угодий и пугнули законом, он заявил:
— Давайте-ка не позорьтесь! За то, что я сохранил и очистил колхозные покосы, которые были загажены до безобразия, и трава-то на них не росла, мне еще премию присудят. Только не нужна мне премия. Забирайте покосы, а уж если не сумеете скосить, не обессудьте…
— Сдрейфил! — подмигнул Чудинов директору. — Прежде говорил, что близко не подпущу колхозников к этим лугам.
Директор помолчал и смиренно проговорил:
— Тут любой сдрейфит, вон какие постановления пошли, и все на пользу вам. Свяжись попробуй, так не рад будешь.
— Ага, приуныл, голубчик! То ли еще будет! Мы вас тут по-соседски еще во как прижмем! — И Чудинов изобразил в воздухе движение, каким пользовались в войну солдаты при осмотре белья.
— Не очень-то пугай, соседи тоже ногтистые.
Так между взаимными перепалками и подковырками они сумели договориться насчет ремонтной бригады, которую директор обещал подбросить в МТС на недельку, а взамен «выцыганил» зимней смазки, лежавшей в МТС без пользы. Обещал директор помочь насчет какого-то инструмента, запчастей. Чудиноа довольнехонько хлопал соседа пo плечу.
— К тебе можно в гости ездить! Любого оберешь донага и взамен онучу дашь — грех прикрыть. Да так эту онучу расхвалишь, что гостя умиление охватит!
— Ладно, остряки. Отобрали добро и еще просмеивают, — сказал директор и, прищурившись, добавил задумчиво: — Покормить вас, что ли, на дорожку, чтоб добрее были.
Директор леспромхоза накормил гостей обильным и вкусным обедом. Здесь и зашел разговор о самом главном. На этот раз слушателем был Чудинов. Он сидел с благодушным видом поднажившегося коммерсанта, посматривая то на директора, то на Уланова. Директор леспромхоза с серьезным видом слушал Ивана Андреевича, потом отодвинул тарелки на середину стола.
— Убери-ка посуду, — бросил жене и, помолчав, задумчиво выдавил: М-да, Иван, попал ты, как я погляжу…
— Да я не о себе.
— Я понимаю! — выпятил нижнюю губу директор и, почмокав, решительно произнес: — Вот что, братцы, славяне! Сена я вам дам, но его не так просто достать. Сено в Талице.
— Kpecтa на тебе нет! — возмутился Чудинов. — Это равносильно тому, что ничего вовсе не давать. Как мы его оттуда достанем?
— Да мое-то какое дело? — вспылил Директор. — Может быть, еще его вам в Корзиновку привезти, в стойло занести? Спасибо! Я вам не нянька! Я сам реву из-за сена. Сезонники из ваших же колхозов явились с лошадьми и ни соломинки не привезли. Все стравил. Из последнего делюсь, а они на-ка тебе, еще нос гнут! — Директор встал из-за стола и начал рубить рукой. Снарядите трактор, народ побоевее — и сено будет на месте. Мы-то достаем!
— Чего ты шумишь? — пробурчал Чудинов. — Сено вы по Талице сплавляете осенью, когда вода подымается. Прошлой осенью паводка не было, сено осталось. Вот и все. А ты: достаем, достаем! И мы достаем, если на то пошло…
— Вот и доставайте, а под руками у меня, в самом деле, нет сена. Бедую.
И хоть не отпускал их гостеприимный директор, Уланов и Чудинов после обеда выехали из леспромхоза. Сейчас, по-видимому, Чудинов обдумывал, как организовать доставку сена в колхоз. Уланов не знал, где эта самая Талица и каким образом можно к ней пробраться.
— Хватит ворчать, — обернулся он к Чудинову. — Если что придумал, открывай.
— Заворчишь тут, — откликнулся с заднего сиденья Чудинов. — Протрясет до самого пупка, невольно заворчишь. Я так думаю: молодежь надо напустить на сено. И хоть не агрономское это дело — корма добывать для колхоза, послать туда, на Талицу, следует Таисью Петровну. За ней остальные потянутся. Она у молодежи авторитет, Да и парням неудобно будет отставать! Женщина, мол, и то не побоялась, поехала…
— Опять хитришь, директор, — погрозил пальцем Чудинову секретарь. Неисправимый ты человек! — И, подумав, Уланов добавил: — Пожалуй, так и сделаем. Лихачева пошлем.
— Пусть едет, мне-то что. Только чтоб не напился в путь-дорогу. С ним случается.
Газик круто повернул к Корзиновке. В устье речки вспучилась зеленоватая наледь. Придорожные кусты торчали прямо изо льда, наползшего неровными пластами. По верху его маслянисто блестела вода. Газик, разбрызгивая воду, проскользнул наледь и побежал по дороге. Неожиданно, откуда-то сверху, кубарем слетел парнишка и распластался у самой машины. Шофер тормознул так, что Чудинов подпрыгнул и ударился головой в фанерный потолок машины.
— Не задавили стервеныша? — испуганно спросил он, схватившись за голову и выскакивая из машины.
От машины что есть духу улепетывал мальчишка с ершистыми волосами. Лохматая шапка и лыжа остались на дороге. Чудинов в два прыжка догнал мальчишку и схватил за телогрейку. Мальчик сделал молчаливую попытку вырваться и, ничего не добившись, глянул исподлобья большими серыми глазами на Чудинова.
— Отпусти!
Чудинов шлепнул его по макушке и спросил:
— А если бы задавили тебя, тогда как?
— Тогда никак. Задавили бы — и все! — глядя в сторону, рассудил малыш.
Подошел Уланов. Он принес шапку и лыжи.
— Вы ему как следует, паразиту, дайте! — кричал от машины шофёр.
— Ба! Да это мой старый знакомый. — удивился Уланов. — Ну, брат Серега, не ждал я от тебя. Что ж ты под машину прыгаешь?
— Я, что ли, виноват, раз лыжи понесли, — нахлобучивая шапку до самых глаз, пробубнил мальчишка. Он с трудом просунул носки валенок, похожих на налимьи головы, в ремешки, вытер рукавом нос. — Идти, что ли, можно?
— Иди. Да катайся осторожнее. А Васюха где? — поинтересовался Уланов.
— Он дома, греться убежал. Мы попеременке с ним катаемся. Одни у нас валенки и одни лыжи на двоих.
— Значит, по-братски! — сказал с чуть заметной улыбкой Уланов. — А мать где?
— Не знаю. Может, в правлении, — отозвался мальчишка и, довольный, что так дешево отделался, поспешил в гору.
Зная, что за ним следят, он попытался идти в гору елочкой, как настоящий лыжник. Лыжи плохо слушались eгo. Он то и дело падал. Начерпал полные валенки снега, однако настойчиво продвигался вперед и вскоре исчез с глаз.
— Это неужели сынишка Голубевой? — проводив мальчика взглядом, изумленно спросил Чудинов.
— Ее, ее, — отозвался Уданов. — Деревенский воздух полезен оказался. Вырос, окреп, бойкий стал.
— Осенью видел — заморыш был. А теперь — не узнать, — тихо промолвил Чудинов и, сразу помрачнев, пошел к машине.
— Эх, хорошее это дело, иметь такого вот разбойника! — мечтательно начал Уланов, явно набиваясь на разговор. — Тебе по этой части повезло, Николай Дементьевич. Семьянин ты.
Чудинов не отозвался и молча сел в машину. На горе он велел шоферу остановиться и открыл дверцу.
— Знаешь что, Иван Андреевич, ты тут проверни насчет поездки с сеном, а я к себе пойду. Дел у меня много накопилось.
Уланов удивился, услышав в его голосе унылые нотки, и спросил:
— Чего у тебя настроение вдруг испортилось?
— Да так… нездоровится что-то, к непогоде, видно…
Уланов попрощался с Чудиновым и задумчивым взглядом проводил разом осевшую фигуру директора. Он брел устало, загребая ногами снег, будто отработал две смены в горячем цехе.
И опять Уланова смутило поведение директора, опять что-то насторожило его.
Глава вторая
До речки Талицы двадцать пять километров. На двенадцатом километре проторенная дорога повернула в леспромхоз. Впереди белой лентой извивалась наезженная дорога, которая вела на далекую речку Талицу. Трактор-натик бойко врезался в рыхлую снежную целину, таща за собой тупоносые тяжелые сани. На них лежали привязанная бочка с керосином, вилы, топоры, лопаты, пилы. Тут же расположились восемь корзиновских комсомольцев. Снег был глубокий. Лихачеву пришлось прибавить газ и перейти на вторую скорость. Почти смыкая ветви над узкой просекой, стоял дремотный лес. Неугомонный, тарахтящий трактор будто нырнул в тоннель и никак не мог из него выбраться. Но и в этом мягком тоннеле, погруженном в печальную, полусонную тишину, были свои новости. Вот за поворотом норка в снегу, а к ней идут следы и исчезают под упавшим деревом. Вон молодая елочка высунула из-под снега пушистый носик, а на нем сидит красивая ронжа и с беспокойством смотрит на приближающуюся машину. Дальше видна осиновая рощица, поточенная зубами сторожких зайцев. Жизнь, всюду жизнь со своими заботами.
Василий внимательно прислушивался к надсадному тарахтенью трактора. «Хватим мы лиха за эту поездку, ой, хватим!» Он оглянулся назад. На санях царило веселье. Ребята и девушки пели, смеялись, махали руками, Райка Кудымова пыталась даже притопывать на санях. Василий резко прибавил газ, сани дернулись — и Райка полетела в снег. Пока она поднялась, трактор успел отойти, и она, проваливаясь в снегу, догоняла сани. Ребята махали ей руками, протягивали концы веревок. Райка с маху упала на сани, и ее раскрасневшееся лицо расплылось в широкой улыбке. Лихачеву сделалось тоскливо одному в кабине. «Об извозчике, как всегда, забыли. Скоро вспомнят, не поздней как вечером», — подумал Василий.
Погода стояла сырая, теплая, пригревало солнце, тянул ветерок, роняя с ветвей отяжелевшую кухту. Вокруг деревьев, особенно обочь дороги, гладкая поверхность осевшего снега была изранена комьями. Пришла капризная пора. Весна оживала днем и затихала к вечеру. Порой еще выдавались такие крутые утренники, что все кругом трещало от мороза. Василий хоть и был на войне танкистом, имел, говоря отвлечённо, непромокаемую крышу над головой, все-таки знал, как тяжела эта предвесенняя, неустойчивая нора для человека, лишенного крова. Помнил он, как намокает, бывало, солдатская шинель за день, а к вечеру ее коробит морозцем. Корчится солдат, кроет всех, кто под руку подвернется, нечем ему, сердяге, согреться, кроме матюка да цигарки.
Грустная улыбка тронула лицо Лихачева. Он вздохнул, еще раз оглянулся на сани и, увидев, что там началась потасовка, остановил трактор. Ребята и девчата завозились па снегу.
— Вы вот что, молодые люди, — строго заговорил он, — если не желаете поморозиться, перестаньте мочить одежду.
— Слушаем приказ, пока при вас! — озорно крикнула Райка и неуклюже приложила руку к растрепанной голове. Василий засмеялся, достал ведерко и сказал:
— А ну, кто-нибудь за водой слетайте, радиатор парит.
Двое парней, с ними Райка Кудымова, побрели вниз по косогору, проваливаясь в снегу. Василий проводил их взглядом и отозвал Тасю в сторону:
— В самом деле, ребята не понимают, что делают. Сейчас озорничают, а ночью реветь будут. Втолкуй им, что они на серьезное дело посланы.
— Да они это сами понимают. Но я скажу им, обязательно скажу. — Она пристально посмотрела на него и спросила:
— А у тебя опять меланхолия? Хватил на дорожку, да?
— Для тепла.
— Я тоже думаю, что не для холода. Больше-то хоть не добавляй. Толкуешь о серьезности дела, а спустишь нас где-нибудь с обрыва.
— Будь спокойна, привезу — не растрясу.
За бурливой горной речкой дорога пошла в гору. Темная речушка, ведя пререкания со снегом и холодом, который всю зиму пытался заковать ее, скрылась за кудреватым ольховником. Трактор с ревом вгрызался в косогор, выбрасывая гусеницами кучи волглого снега. Не успели одолеть один подъем, как впереди оказался другой, еще круче прежнего. Лес становился гуще, мрачней. Дорога сделалась еще уже, снег глубже.
«Ничего, зато обратно будет путь!» — успокаивал себя Василий. Они одолели еще несколько перевалов. В одном месте долго буксовали. Пришлось свалить несколько деревьев, выложить их под гусеницы. А уже совсем недалеко от Талицы они наткнулись на обвал. Огромные глыбы камней оторвались от утеса, нависшего над распадком речки, и засыпали широкой полосой дорогу, повалили деревья. Из-под снега торчали холодные валуны, изуродованные лесины. Пришлось комсомольцам взяться за топоры, прорубить просеку для объезда. Натик упорно преодолевал перевал за перевалом, продвигался вперед. Вот он спустился к речке и, дыша жаром, замер возле густой опушки леса, окружавшей широкую поляну. Где-то над головой, словно пробуя свои силы, ветер начал пошевеливать вершины деревьев.
Найти один из стогов оказалось делом нетрудным. Он стоял среди белого поля, испощеренного заячьими следами. Огромная шапка снега прикрыла стог.
Решили сразу приступить к делу, а потом уже поесть.
— Правильно! — поддержал Василий. — Поесть можно и на ходу. Важно засветло погрузиться.
Ребята забрались на стог и начали спускать глыбы снега. Они норовили угадать комом снега в девчат. Хохота и веселья было хоть отбавляй. Работа спорилась. Василий изял топорик и побрел к ершистой сухостоине, загребая валенками снег.
— Глядите-ка, водитель решил дрова заготовлять, — закричал кто-то из девчат. Райка громко позвала:
— Греться к нам иди, на зарод! Тут что твоя баня!
Василий не откликнулся. Свалил сухое дерево, разрубил на несколько частей и вытащил на поляну, где заранее утоптал место для костра.
Стог был уже очищен от снега. Василий подогнал трактор, установил сани ближе к сену — и погрузка началась. Воздух вокруг наполнился терпким запахом травы, цветов, листвы. С веселым шумом падали на сани слежавшиеся пласты зеленого сена, в котором золотыми искорками мелькали засохшие ягодки земляники. Сено лесное, мелкое, Девчата, утаптывавшие воз, тонули в нем по пояс, как в пуху. Ветер совсем проснулся, спустился с гор к речке. Порывы его выхватывали отдельные былинки, листочки, а то и клочки сена, сорили по снегу или бросали шуршащую траву на деревья.
Как ни старались комсомольцы, управились только к сумеркам. Солнце скрылось. Лишь много времени спустя облака раздвинулись, точно бетонные плиты, в щель выглянул огромный кровавый зрачок солнца. Он глядел с подозрительной враждебностью, не предвещая ничего доброго. Тяжелые облака снова сдвинулись, как крепостные ворота, и в лесу сделалось еще темней, тревожней. Ветер усилился, стало подмораживать. Тонко звенел на речке Талице схватывающийся ледок. Под ногами захрустел быстро образовавшийся наст. В лесу снег не успел подтаять, настом его не схватило, оттуда на полянку налетели, извиваясь, белые змейки.
— Давай, Вася, быстренько заводи свой вездеход, — потребовали комсомольцы, как только воз был нагружен и закреплен.
— Нет, прежде поешьте, пообсушитесь и тогда тронемся.
— Да ты что, сдурел? Ветер вон начинается, пурга может быть, а мы тут прохлаждаться станем.
— Пока не обсушитесь, я трактора не заведу, — отрезал Василий. — Это вам сейчас жарко, потом по-другому запоете.
Тася хотела что-то сказать, но, встретившись с озабоченным взглядом Василия, промолчала и пошла к костру. Ребята с ропотом побрели за ней. Над костром в ведерке кипела вода. Тася очень удивилась такой хозяйской распорядительности Василия и подумала: «Вот что значит на войне побывал человек».
— Чтобы чай поменьше пах керосином, я в него смородинника сунул, сказал Василий. — Пейте, всем понемножку достанется, и обязательно просушитесь.
Погода портилась.
— Вот-вот, самое время чаевничать, — заворчали некоторые.
— Слушайте, что вам говорят, а не злитесь попусту, — проговорила Тася. — Вам же лучше делают, а вы…
Часто пробуксовывая, трактор с трудом вытащил сани с большим возом из впадины Талицы на перевал. Здесь порывы ветра оказались значительно сильнее. Гнулся и шумел лес. Перегретый трактор, тускло посвечивая фарами, стоял под густыми пихтами. Василий поднял капот трактора, чтобы скорее остыл мотор, и комья снега, опадающего с деревьев, с шипением таяли на нем. На перевал подымались пешком. Было жарко. На остановке сразу почувствовали, что Василий не напрасно заставил их просушить одежду. Девушки и ребята стояли за возом, но ветер все равно донимал их: сыпал пригоршнями снега в лицо и за воротник. Пробирала дрожь.
Василий хлопотал возле трактора. Тася выглянула из-за воза, различила в темноте его согнувшуюся над мотором фигуру и подумала: «В замасленной-то одежонке обжигает, наверно. Надо бы у тети Лиды полушубок попросить для него». Тася увидела, что Василий спрыгнул с гусеницы в снег, побрел к радиатору и исчез за ним. Через секунду из трубы вылетел сноп огня и, покрывая шум ветра, затрещал трактор. Сразу сделалось веселей. Василий заскочил в кабину, убавил обороты, и, когда трактор заработал ровно, Тася услышала:
— Команд-и-р!
Она побрела к трактору. Василий выглянул из кабины и, раскуривая папироску, заговорил:
— Ты вот что, товарищ командир, скажи ребятам, чтобы они не слезали с воза, — отстать могут. Пару самых мерзлых подбрось мне. Здесь, — он кивнул головой на сиденье, — не баня, конечно, но все-таки от ветра скрывает.
Теперь еще один yroвop: не давай скучать ребятам. Чем можешь — бодри! Ну, осподи баслови, как говорил мой преподобный родственник, патриарх всея Руси Нестор Беспрозванный, любитель армейских анекдотов и картофельной самогонки.
Тася махнула рукой, засмеялась и поняла, что Василий очень обеспокоен. «В душе у него тревога, что-то скрывает и, как всегда в таких случаях, начинает тревогу маскировать прибаутками».
После этой остановки ехали долго. Сначала ребята и девушки пели, смеялись, а потом пронизывающий ветер заставил всех сгорбиться, сомкнуть губы. Только слышно, как неугомонно и деловито трещит трактор, дергая сани. Его светлые фары выхватывали из темноты раскланивающиеся ели и пихты или березу с обиженно опущенными ветвями.
В кабине было веселей. Здесь, кроме Василия, находились Райка и молчаливый, смущенный Райкиным соседством Осип. Райка отогрелась, на нее снова напало игривое настроение. Она визжала и смеялась до слез над каждым анекдотом, на которые не скупился тракторист. Осип старался сдерживаться, но Райкин смех заразителен, и он, уткнув в воротник тужурки свое румяное лицо, тоже прыскал и сам не понимал, отчего ему так весело.
С силой выжав на себя рычаг и не отрывая взгляда от клочка дороги, освещенного фарами, Василий продолжал:
— А то еще так бывало: знают немцы, что наши солдаты любители покушать, вот и обольщают, кричат из своих окопов: «Русь! Иван! Комен зи хир?» — Переходи, значит, к нам. — «У нас шестьсот граммов хлеба дают!» А мы в ответ: «Пошли к свиньям собачьим. У нас девятьсот дают — и то не хватает!»
Пока Райка взвизгивает, машет обеими руками, пытаясь что-то выговорить, а Осип хохочет в воротник, Василий, покусывая губы, смотрит на пробку радиатора, как стрелок на мушку ружья. Потом переводит взгляд дальше, туда, где в бешеной пляске крутятся стаи снежинок. От следов, что оставили днем, почти не осталось никаких признаков. Только на голых буграх, которые встречались очень редко, сохранились отпечатки гусениц. Перевалив один из таких бугров, Василий глянул в заднее оконце, но его совсем залепил снег. Тогда он открыл дверцу и, не выпуская из левой руки фрикциона, взглянул на сани. В темноте от с трудом различил белые бугорочки на темном сене.
— Э-э, печально я гляжу на наше поколенье! — прокричал он, останавливая трактор. — Так можно, душевной страсти не изведав, солдатской каши не поев, окончить свой праведный путь во младости. — И ошалело, на весь лес заорал: — Э-эй, подъем! Разминка-а! Командир обоза ко мне! Два нар-ряда и семь лет расстрела этому командиру за увяданье бравого вида у вверенного ему подразделения!
Тася, сцепив руки в рукавах, вяло и виновато улыбнулась. Не лучше выглядели и остальные.
— Прыгать, бороться, плясать! — приказывал Василий. Сам толкнул какого-то парня — и тот, как гнилой пень, свалился в снег. — Эх-ма, а говоришь: я тоже медведей убивал, девок целовал. А кто видал? — помогая парню подняться, наговаривал Василий и быстро исчез в кабине. Через минуту послышался его голос:
— Сюда все! Ко мне-e!
Ребята неохотно побрели из-за укрытия. У Василия в руках полная бутылка и консервная банка.
— А ну-ка, хлопцы и хлопчихи, тяните по маленькой, для разгонки крови. Оч-чень доброе лекарство! Обожаю! Спиртоцид называется!
— Как ты до сих пор не допил это самое лекарство? — удивилась Тася.
— Х-м, сам удивляюсь, откуда у меня взялась такая железная выдержка, рассмеялся Василий и протянул ей банку. — Начальнику фуражного обоза Таисье свет Петровне — первой!
Тася взяла банку и, зажмурившись, опрокинула ее. Сразу обожгло и перехватило горло.
— Снежку, снежку, — услышала она голос Василия и черпанула рукавичкой снегу.
Ободренные ее примером, выпили и остальные. Девчата, поперхнувшись, кашляли, беспомощно и ошалело размахивали руками, смеялись друг над другом.
Стало теплей и веселей.
На следующей остановке, ковыряясь в двигателе, Василий попросил крутнуть заводную ручку. Его просьбу бросились выполнять сразу двое. Они быстро выдохлись, разогрелись, но завести двигатель не смогли. Василий покачал головой и огорченно пробормотал:
— Жидки, жидки, ай-яй-яй! Кто-нибудь пусть сменит их. Им надо орудовать не тракторной ручкой. Ложкой у них лучше получается. — Если бы было светло, то все увидели бы, какие хитрые искры прыгают в глазах тракториста.
За ручку в пару с Райкой взялась Тася.
— Во-во командир! Покажи удаль, крутни так, чтобы дым пошел коромыслом! — Подбодрил Василий и, нырнув под капот, стал ощупывать вентиляционный ремень. Пальцы его торопливо и озабоченно бегали по тому месту, где он еще давеча заметил расползающийся шов. Ремень был старый, много раз чиненный. О ключах, о горючем, о запасных свечах и даже о водке Василий позаботился, а запасных ремней в мастерской не оказалось. — Что у тебя там не заводится? — услышал Василий Тасин голос и встрепенулся.
— Крутите неважно, вот и не заводится, — отозвался он и крикнул: — А ну, следующий! Эти тоже мало каши ели.
Так он погрел всех, а сам для виду ковырялся под капотом и напевал во все горло:
Умирать нам рановато, Пусть умрет лучше дома жена!..— Эх вы, мелочь пузатая! — фыркнул Василий.
Незаметно открыв краник подачи горючего в карбюратор, он взялся за ручку, налег на нее — и двигатель, содрогнувшись, пустил длинную и громкую очередь. — Учитесь, пока я живой! — перекрывая шум, озорно закричал Лихачев озадаченным комсомольцам. — Командир, твоя очередь занимать каюту-люкс, показал он на тракторную кабину.
Когда миновали крутые перевалы и трактор стал меньше дергаться, Тася задремала. Сидевшая рядом с ней девушка тоже притихла. Заметив это, Василий перестал болтать и молча глядел вперед. Здесь, в низине, ветер был тише, а снегу гнало больше.
Сколько времени прошло, Тася не знала, когда ее разбудила неожиданная тишина. Она вздрогнула и с недоумением огляделась. Трактор не работал. Из радиатора валил густой пар. Василий поднял капот, нагнулся и пошел в кабину. В руках его, как мертвая змея, болтался ремень.
— Вот, — бросил он его под ноги, — на соплях тянул. Хорошо, не на перевале порвался, — загорали бы.
— А мы сейчас где? — стараясь что-либо разглядеть сквозь мчавшиеся тучи снега, спросила Тася. — Ой, как метет, еще сильнее ветер сделался.
— Нет, ветер не усилился. Это мы на реку спустились. Ехать-то пустяк остался — километров пять. Если бы ремень не подвел, сейчас бы газанули будь здоров!
— Какая тут дорога, — стараясь сгладить досаду Василия, проговорила Тася и про себя отметила: «Вот он о чем давеча беспокоился. Ну и хитрый!» И, покосившись на него, спросила: — А теперь как быть?
— Потихоньку поползем. Через каждые полкилометра будем останавливаться и снег толкать в радиатор.
— Ребят, может, пешком послать?
— Не выдумывай. Еще заплутают, тогда намылят тебе шею, — пообещал Василий.
Он надолго смолк. В сумраке кабины было чуть видно его лицо, и Тася различала, как устало у него опустились плечи и поникла голова.
— Досталось тебе, Вася.
Он встрепенулся и, стараясь придать своему голосу бодрость, отозвался:
— Ничего, не привыкать. — И, помолчав, со вздохом добавил: — То ли бывало во времена не столь отдаленные. — И тут же постарался замять проскользнувшую грустную нотку в голосе: — Однако тронулись! За простой не платят!
Когда-то Василий полушутя, полусерьезно обронил фразу, что они обязательно поладят, и он оказался прав. Тася с Василием крепко сдружились. Василий за это время во многом и сильно изменился: перестал пить, сделался скромней и выдержанней, правда, иногда еще паясничал. Тася не раз ловила себя на том, что, если Василий долго отсутствует в Корзиновке, ей чего-то недостает. Относилась она к нему с той заботливой теплотой, с какой матери обращаются к милому, но непутевому ребенку. Василий принимал ее покровительство хотя и полушутя, но беспрекословно. Очень нравилась Тасе в нем та особенная черта, которой другие люди в нем не подозревали. Он был скромен в отношениях не только с ней, но и вообще со всеми девушками! За его внешней разболтанностью Тася сумела распознать и душевную доброту, и природный такт. В Корзиновке говорили о нем много, говорили беззлобно, потому что Лихачев ничем не запятнал своей мужской репутации. Более того, он не ухаживал ни за одной из девушек. Находились люди, которые были склонны отнести это к его зазнайству: не хочет, мол, с нашими девками знаться. Он и за Тасей не ухаживал, а просто по-дружески относился к ней и к Сережке. В нужную минуту как-то незаметно приходил на помощь. Когда человек идет навстречу с открытым сердцем, трудно не принять его.
Не успели отъехать и десятка метров, как впереди появились подводы. С них махали руками, кричали. Василий остановил машину.
— Что такое? Заблудились, что ли? Да это корзиновские, оказывается! Ну и ну! Догадливый народ. — Он оглянулся на Тасю. — Должно быть, подводы выслали за нами.
Тася соскочила прямо в снег и, проваливаясь почти по пояс, побрела туда, где тускло светили фары. Только она вышла на свет, как из темноты вынырнула маленькая фигурка и кто-то повис у нее на шее.
— Мамка!
Горячее мальчишеское дыхание опалило ее. Тася прижала подвижную, легкую фигурку к себе и счастливо засмеялась.
— Серьга! Сорванец ты мой отчаянный! — При неясном свете она видела, как радостно сияли большие серые глаза Сережки, а на разгоревшейся щеке блестели размазанные соплишки. Она чмокнула его в эту щеку, потом в другую, такую же холодненькую, родную. Но Сережка, заметив, что на свет фар появляются люди, высвободился из Тасиных рук.
— Дай я тебя обтрясу, мам. Снегу на тебе пуд! — сконфуженно бормотал он и, хотя снегу на Тасе почти не было, начал старательно обмахивать ее рукавичкой.
— Увязался за нами малец, не брали ведь, так нет, бежит и бежит следом. Пристал чисто банный лист. Пришлось посадить — проговорил один из приехавших. — Мы думали, что вы где-то в лесу застряли. Яков-то Григорьевич шибко беспокоится. Он нас и отрядил.
Девчата и ребята пересели на подводы, Тася решила не ехать.
— Нужно кому-то остаться здесь, помогать трактористу.
— В таком случае останутся ребята, а вы поезжайте, — сказал Осип. Хоть я останусь.
— Нет, нет, давайте трогайте, и ты, Осип, тоже. — Она улыбнулась и притворно строго спросила: — Кто тут командир, а?
Райка дернула Осипа за рукав и похлопала по шапке.
— Соображать надо!
Подводы тронулись и сразу исчезли в снежной кутерьме. Сережка уже сидел в кабине и надоедал Василию. Тот разъяснял ему назначение разных ручек и педалей. Тася опустилась на сиденье.
После этой остановки долго ехали молча. Сережка вытащил из-за пазухи пирог, завернугый в тетрадный лист. Пирог был из ржаной муки с картошкой. Тася разломила его и, подав половину Сережке, кивнула головой в сторону Василия.
Сережка потянул за рукав Лихачева и, когда тот обернулся, сунул ему половину пирога, согревшегося у него под рубахой. Василий взял кусок, грубовато, одной рукой прижал к себе Сережкину голову и придавил пальцем его нос, оставив на нем темное мазутное пятно.
Сережка рассыпался звонким смехом. Не успел Василий проглотить кусок, показавшийся ему удивительно вкусным, как трактор уже разогрелся настолько, что из радиатора вместе с паром полетели брызги горячей воды. Василий выключил мотор — стало темно и тихо. Выл и бесновался ветер, швырял в замерзший трактор снегом, набивая сугробы вокруг.
— Ух, визжит как! — заговорил Сережка. — Ему надоело сидеть молча, и он, как взрослый, добавил: — Известное дело, весна скоро, вот он, Дед Мороз, и злится, не хочется удочки сматывать.
Василий улыбнулся и терпеливо ждал, когда Сережка заговорит снова. Но тот почему-то притих.
— Серега, ты задремал? — поинтересовался Лихачев.
— Не. — Сережка шмыгнул носом и заерзал на сиденье так, что затинькали пружины. — Я про дяденьку вспомнил про одного. На подводе он сегодня приехал со станции. А шапка у него, как пирог. Вот ему нащипало уши-то, наверно? — Сережка помолчал и, что-то вспомнив, повернулся к Василию. — Ой, чуть не забыл сказать, дяденька этот лектор, наверно, потому что про море рассказывал, про новое. Говорит, что если плыть и плыть все время по Кременной, то в море попадешь. Бо-ольшое-большое море.
Сережка не закончил одного и сразу перескочил на другое:
— Дядя Вася, у него зуб золотой вот здесь. — Сережка ткнул себе рукавичкой в угол рта. — И пальто у него, знаешь, какое, дядя Вася? С девчоночьим воротником… Хы-хы, интересное пальто. А Костя влип, как миленький, на уроке и кол домой приволок. Тетя Лида его в нашу с мамой половину закрыла. Он сначала все нам стучал по азбуке Морзе, потом песни пел, а потом как зареве-ет.
— Болтун ты, Серьга, у меня, — без всякого осуждения сказала Тася.
А Василий с задумчивой, теплой улыбкой вымолвил:
— Хорошо иметь на свете живую душу, родную, близкую, хотя вот бы и такую, совсем маленькую. — Он сдвинул на задиристый Сережкин нос лохматую шапку и похлопал его по спине. — Ждет вот, беспокоится.
Перед самым утром трактор с возом сена остановился возле молочной фермы. Василий спустил воду из радиатора и зашел в молочную, где дежурная расшевелила железную печку. Василий закурил, затянулся несколько раз и бессильно выпустил папиросу из пальцев. Усталость сморила его. Пришла Лидия Николаевна, растолкала Василия и велела идти домой, сказав, что его ждут в Тасиной половине.
А Тася с Сережкой отправились ночевать к Макарихе и забрались на горячую печку, спать.
Метель не унималась.
В Тасиной половине тускло светила лампочка, завешанная московской газетой вместо абажура. В газету завертывали что-то жирное, и пятна, нагревшиеся от горячей лампочки, чадили. За столом, положив перед собой журнал, сидел человек с седой, крутолобой головой и приплюснутым носом. Лицо его было простое, ничем не примечательное, а некрасивый нос придавал этому лицу даже что-то неприятное. Но маленькие синеватые глазки светились умом и добротой. Есть люди подобные березовому углю; с виду черен, холоден, а возьмешь — обожжешься. Огонь у березового угля таится глубоко, и не сразу его заметишь.
Человек этот — отец Василия — Герасим Кондратьевич Лихачев. Он много лет разыскивал сына, зная, что, кроме сына, ему разыскивать некого. Он заставил себя примириться с мыслью, что сын пропал, без вести пропал, и лишь глубоко в душе таилась маленькая надежда:
«А может быть…»
Война безжалостно раскидала людей, спутала их судьбы. Но именно на войне профессор Лихачев по-настоящему научился ценить человеческую теплоту в горе. Именно на войне ему страстно захотелось встретиться со своим мальчиком и все, все, что он раньше ему недодал, отдать сполна.
Встретить, обязательно встретить! Хоть раненого, изувеченного, но своего сына. Он докажет, что может быть отцом. Он сутками будет сидеть у его постели; весь свой ум, знания, всего себя отдаст ему. Только бы встретить!..
Будто в отместку за прежнее отчуждение злопамятная судьба все дальше и дальше разводила его с сыном. «Все проходят раны, поздно или рано…» пели когда-то фронтовики, и, может быть, со временем Лихачев перестал бы думать о сыне. Тем более, что он женился и перестал быть совсем одиноким.
Но однажды в клинику — это уже спустя много лет после войны — с тяжелым ранением был доставлен молодой парень. Судя по одежде и по тому, как он держался, его не стоило по амнистии выпускать из тюрьмы. Он все время плевался кровью себе на грудь, грязно ругался, не обращая внимания на сестер, готовивших его к операции, и клялся, что если он не даст «дубаря», то перережет «хрип» каким-то «подлюгам». Держался он так, пока был пьян. После операции несколько дней лежал без сознания, боролся со смертью. Только на седьмые сутки он окончательно пришел в себя и встретил Лихачева слабой, вполне человеческой улыбкой. Впрочем, профессор не раз убеждался в том, что даже самые отчаянные головорезы на больничной койке становятся людьми.
— А-а, доктор! — вяло и приветливо сказал он. — А я ведь вас знаю.
— Меня? Поразительно! Очевидно, в газетах читали?
— Я газет не читаю. Утирка! Мне о вас в исправительной колонии ваш сын, Васька, рассказывал, карточка у него хранится, на ней вы моложе.
— В-вы что-то пугаете… у меня нет сына… вернее, у меня был сын, но его звали не так.
— Дело это всего одну косую стоит, батя, имя-то.
— Минутку, минутку! Вы серьезно. Вы не шутите? Молодой человек, я вас прошу!..
…Да, они все-таки встретились. Но встретились не так, как того хотел Герасим Кондратьевич. Ничего особенного не произошло. Все было просто и даже как-то слишком буднично.
Мела пурга, спутав грань между ночью и утром. Пришел трактор, стреляя очередями в заснеженную ночь. Потом стало тихо, только свистела и бесновалась метель за окном.
Спустя много времени дверь избы распахнулась и на пороге появился высокий парень в серых валенках с рыжими пятнами мазута, в запачканной телогрейке и ватных брюках. Его красивые, резко очерченные брови недовольно сдвинулись, а темные, такие неповторимо темные, чуть грустные глаза на-какую-то долю секунды встретились с глазами профессора и туг же опустились. Парень колотил валенок об валенок и искал глазами веник. Герасим Кондратьевич бросился к нему, обнял, что-то пытался сказать. Тихий, недовольный голос привел его в себя:
— Я же грязный, выпачкаешься…
Так вот они и встретились…
Герасим Кондратьевич мерил шагами комнату, в которую их поселила Тася. Он остановился перед отрывным календарем и с недоумением уставился на него. Потом понял, что у календаря просто-напросто давно не отрывали листочков. Он аккуратно и долго отрывал их. Снова прошелся по комнате. Василий спал, откинув голову к стене, чуть слышно похрапывая. За ушами и под челюстями у него остались мазутные пятна. «Он хорошо сделал, что убрал простыню и чистые подушки, — подумал профессор. — А женщина здесь живет любезная, уступила свою комнату без лишних разговоров».
Когда стрелки на часах профессора показали четверть второго, он начал хлопотать. Приготовил чистое полотенце, мыло, одеколон — все необходимое для туалета. Потом решил заняться обедом. Все было незнакомо, непривычно. Самостоятельно он, наверное, не смог бы ничего приготовить, надо было прибегать к чьей-то помощи. Словно разгадав его намерения, и избе появился тот самый шустрый мальчик в большой лохматой шапке, который вчера выскочил из кабины трактора. Он принес охапку дров, положил ее у подтопка. Нашарил в печурке ножик с обломленным концом и принялся щипать лучину.
— Ты хочешь затопить печку, мужичок?
— Да, печку, — неохотно отозвался Сережка и пояснил: — Видите, лучину щипаю, не избу же поджигать. Может, вам картошку сварить? Воды я принесу. Мама еще тоже спит.
— О, ты, оказывается, деловой человек. Но язык у тебя острей, чем этот ножик. — показал Герасим Кондратьевич на нож, зажатый в руке Сережки.
— А вы, что ли, дядин Васин папа, да? — не ответив на вопрос профессора, поинтересовался мальчик.
— Да, маленький мужичок, да.
— Г-м, а чего же вы тогда раньше не приезжали? — Сережка презрительно уставился на профессора и, сжав кулаки, продолжал: — Мой отец вон тоже никак не приезжает, ребята говорят, прячется.
— Пря-ачется? Как это прячется?
Мальчишка насупился, шмыгнул носом.
— А я знаю, что ли, как?
Герасим Кондратьевич погладил его по голове, но мальчишка отстранился и спросил:
— Может, еще чего надо сделать?
— Да, надо. В лавку или в магазин — как у вас тут называется, не знаю, нужно, сбегать.
— Магазин, конечно, как везде. Там тетя Августа торгует.
— Вот и прекрасно. Ты у этой тети Августы попроси бутылочку хорошего вина. — Профессор подмигнул. — Хорошего, понимаешь?!
— Понимаю, не бестолковый. Красного, значит. А еще чего? Шоколадку, может? — бросил дипломатический намек Сережка.
— Шоколадку? Нет. Шоколадку ты себе купи, а нам винца, сыру, селедки маринованной. Есть у вас сыр и селедка?
— Были бы деньги! — солидно отозвался Сережка. — У нас все есть. Тетя Августа продавец во! — показал он большой палец. — Она, если кому надо, и без денег даст — в долг.
Получив деньги, Сережка стиснул их в руке и ринулся из избы. Профессор притворил за ним дверь, покачал головой и обернулся, почувствовав на своей спине взгляд.
Василий лежал с открытыми глазами. И опять все получилось не так, как думал. Он хотел все приготовить, сделать и ждать у кровати, когда сын откроет глаза. И тогда сказать: «Доброе угро» — или что-нибудь в этом роде. И они, может быть, разом перешагнут ту черту отчуждения, которая разделяет их. Но все получилось по-другому. Василий потянулся, соскочил с постели и, надевая штаны, угрюмо сказал:
— Напрасно ты Сережку в магазин откомандировал: мать не любит давать ему такие поручения. И вообще все эти вина, закусочки ни к чему — я на работе.
— Ну и прекрасно, что на работе. Рюмка вина не повредит, — потирая руки, ответил Герасим Кондратьевич.
Василий прошел мимо него к умывальнику. Словно не замечая приготовленных отцом предметов обихода, выцарапал из пластмассовой коробки плоский обмылок и принялся с чувством полоскаться.
Появился Сережка с покупками. Губы у него были коричневые от шоколадки. Он то и дело облизывал их.
— Серега, я сейчас схожу к трактору, посмотрю там кое-что, а ты достань тут картошки, только у матери спроси сначала, и сварите вдвоем обед. Я скоро вернусь, — сказал Василий.
Профессор с готовностью и старательно исполнял все распоряжения мальчишки, и ему даже нравилось быть под Сережкиным началом. На плите зашипела картошка. Они уселись рядом с дверцей подтопа и, прислушиваясь к гудению нетра в трубе, молчали.
Герасим Кондратьевич с нескрываемой мягкой улыбкой смотрел на Сережку, который опустил руки на колени и о чем-то сосредоточенно думал.
— Ты в каком же классе, мужичок мой?
— В первом. Я не мужичок. Я Серега!
— Ну, извини, брат. Я не думал, что тебя это может обидеть. И как твои успехи, Сережа?
— Успехи? Так себе — серединка на половинку.
— Почему же?
— Трудно учиться. Когда в садике был, очень хотелось в школу. Зачем? Мальчик пожал плечами с таким видом, по которому легко догадаться, как жестоко он себя осуждал. После солидной паузы он рассудительно продолжал: Да и мамка все на работе да на работе. Ребята играть зовут. Вот пробегаем, а после выкручивайся. Костя тетин Лидии, он уже в третьем, тот выкрутится. Он хоть слижет у девчонок или на ладошке напишет. А у меня так не получается, — с сожалением закончил Сережка.
— И не надо, — серьезно проговорил Лихачев. — Это все равно что, ну как тебе сказать, равносильно, как украсть что-нибудь.
— Н-не, Костя не вор. Дяденька, а вы взаправду профессор? — решился, наконец, Сережка задать долго томивший его вопрос.
Когда Герасим Кондратьевич дал утвердительный ответ, Сережка, наморщив лоб и придвинувшись к собеседнику, спросил, глядя ему в рот:
— А профессор, это как?
— Что тебе сказать… с некоторых пор… — начал выкручиваться из неловкого положения Герасим Кондратьевич.
Но, к его радости, послышался глухой стук в стенку и мальчик заспешил.
— Меня зовут. Мама, наверно.
Больше он не пришел.
Обедали Лихачевы вдвоем. Обедали, изредка перебрасывались ничего не значившими словами.
— Вы, оказывается совершили героический поступок, — разрезая селедку, заговорил Герасим Кондратьевич. — В такую пору, в такую яростную погоду доставили сено.
— Когда ты работаешь и спасаешь жизнь людей, не считаешь же это героическим?
— Разумеется. Это же обязанность каждого медика.
— А когда в прошлом году ты прилетал на Северный Урал, чтобы сделать срочную операцию школьнице, и, не отдыхая, прямо с самолета, пришел в операционную? Это что, тоже обязанность?
— Это, может быть, и не обязанность, но… Э-э, минуточку! А ты как узнал об этом?
— Да так вот и узнал. Я тоже иногда газеты читаю.
Герасим Кондратьевич отложил вилку, снял очки и напряженно уставился на Василия.
— И ты… и ты, зная, где я, зная, что я жив, не пожелал написать мне?..
Василий ткнул вилкой в картошку и небрежно обронил:
— К чему? Я считал, будет лучше для нас обоих, если мы не станем мешать друг другу.
— Мешать? Почему мешать?
Василий молчал, не поднимая глаз на отца.
— Чего же ты молчишь? Продолжай! Я хочу все знать, все услышать, понимаешь, все! Я, наконец, имею хоть небольшое право узнать о последних днях матери и о твоей жизни. Ты, может быть, считаешь, что я неправильно сделал, приехав сюда, что я всегда… — голос профессора понизился до чуть слышного шепота.
Василий поднялся, зашагал по комнате, иногда щупал висок. Профессор молча отметил хорошо знакомый ему жест жены.
— Я слушаю, — напомнил о себе Герасим Кондратьевич.
Василий остановился, долго и молча смотрел в глаза отца. Он, кажется, первый раз смотрел в его глаза после того, как они встретились.
Герасим Кондратьевич выдержал этот взгляд. Выдержал и прочитал в глазах сына то, чего тот не сумел бы передать никакими словами.
— Вот так-то, — тихо и горько прошептал отец и пожал руку Василия выше локтя.
Василий отстранился и нервно зашагал по комнате от печки до стены, за которой слышался шум. Там, очевидно, домовничали одни ребята.
— Объясняться будем? — усмехнулся Василий.
— Зачем ты так? — тихо уронил отец. — Зачем?
Василий резко повернулся к нему, и, когда заговорил, в голосе его послышалась затаенная боль:
— А как? Как надо разговаривать с отцом? Подскажи! Чего же молчишь? Ты ведь и сам не умеешь говорить с сыном. Даже стесняешься назвать меня сыном!
Василий умолк, увидев, как вдруг тяжело поник головой отец, и продолжал уже спокойней:
— Ты, наверное, женат? Имеешь семью. К чему ты разыскивал меня?
— Все-таки мы не чужие!
— Не чужие! Давно ли?
Профессор поднял руку, пытаясь возражать.
— Нет, ты дай мне высказаться. Раз уж ты пожелал этого разговора, раз за тем приехал…
— Тогда говори и не рисуйся, — потребовал отец.
— Как умею. Как научили, так и говорю.
Василий стоял перед отцом бледный, прямой. В нем многое сохранилось от матери: жесты, движения и даже эта вот полутеатральная суровость осталась в наследство. В сочетании с тем, что происходило в душе у этого молодого парня, его вид производил разящий эффект. А как его мать любила эффекты! Она и стихи-то всю жизнь писала со сверхъестественными эффектами. Оттого, наверное, их и не печатали.
— Не знаю, что ты имел в виду, снарядившись сюда, — продолжал Василий. — Забрать меня с собой? Так ведь? Устроить мою жизнь? На свой лад устроить? А меня не надо устраивать. Я сам устроился. Я сам шишек себе набил! Сам и лечился от них! Я сам уже с усам и с сединою даже. Понятно? Я еще покуда не стал тем человеком, каким хотел бы быть. Но я стану им, стану! Стану потому, что вокруг меня много настоящих людей. А о золото, как тебе известно, потрешься — за медяк, да сойдешь! И я не желаю, чтобы мне мешали…
— Да никто тебе мешать и не собирается, — прервал Василия отец с грустной улыбкой. — Чего же ты шумишь? С усами и сединой, а разошелся, как школьник.
Герасим Кондратьевич уже понимал, что затаенный гнев, обида, недовольство собой, своей неустроенной жизнью говорят за Василия и что, вероятно, он хотел бы предстать перед отцом в другом виде. Гордый парень сделался, а самолюбие прежнее еще осталось.
— Живи ты как желаешь, — продолжал отец. — Но к чему эти театральные жесты… Они тебе уже не идут. И потом, говоря о себе, ты забываешь о других… Тебя переменило время, толкла жизнь в ступе, а разве для других, для меня, допустим, это время прошло бесследно? Ты во многом прав, но и неправ тоже. Давай, друг мой, ты уж извини, я так и буду называть тебя, поговорим все-таки спокойно. — Профессор еще раз стиснул руку сына выше локтя и со вздохом добавил. — Не хмурься, садись, рассказывай. Я обещаю тебе сегодня же уехать.
Василий тихо рассказывал. Отец слушал его не шевелясь, не перебивая.
Когда Василий смолк, надолго воцарилась грустная тишина. Потом Герасим Кондратьевич зашагал по избе, заложив руки за спину, и поймал себя на мысли, что вот эта привычка у них с сыном одинаковая.
— Ты, пожалуйста, расплатись с хозяйкой за квартиру, — прервал молчание Герасим Кондратьевич.
— Не надо. Никаких денег она не возьмет, еще и обидится, если предложишь.
— Ну что ж, ладно. Я знаю — эти привыкли добывать копейку трудом, даровых не принимают. Знаю, брат, знаю. Трудно поднимается деревня.
— Очень трудно. Надсадились за войну.
— Да-а, война. Пушки давно смолкли, а раны еще болят. Тебя тоже ранило или обошлось?
— Два раза. — Василий помолчал. — Один раз ребята вытащили… из пекла…
Они снова и надолго замолкли.
— Ну, я пойду, — сказал Василий поднимаясь. — Извини, работа есть работа.
— А я, пожалуй, собираться буду. У меня ведь тоже работа.
— Дело твое. Но только я не советую. Метель уймется, вместе на станцию поедем, я провожу.
— Вместе? Что ж, вместе так вместе. Вдвоем, конечно, лучше. Ну ты иди, иди. — Герасим Кондратьевич зажмурился, и у губ его легли горькие складки. — И… и прости меня…
— За что прощать-то?
— За седины твои ранние, за… — Голос Герасима Кондратьевича дрогнул, он кашлянул и через силу рассмеялся. — Стар становлюсь, сентиментален становлюсь, так-то. Работа у меня тоже неспокойная. Сдаю. Ну, ступай! - властно и звонко крикнул он.
Герасим Кондратьевич выехал только на следующий день. Что-то там не выходило с лошадью. А пешком Василий его но отпускал.
Да отец и не особенно противился этому. Он лежал на кровати, а Василий — на табуретках, подставленных к скамейке. На дворе по стенам шуршал сыплющийся снег, стучал чердачной дверкой ветер. Они не спали, прислушиваясь к дыханию друг друга.
— Что ж, ты взял женщину с детьми? — осторожно осведомился Василий.
Профессор поворочался на скрипучей кровати, кашлянул:
— Не-ет. Видишь ли… мы с ней еще с фронта…
Василий не отозвался. Профессор поворочался и смущенно попросил:
— Ты разреши мне, пожалуйста, папироску. Мои где-то запропастились.
Василий прошлепал босыми ногами, достал из кармана пачку тоненьких папирос и протянул отцу. Потом он дал ему прикурить, прикурил сам. При свете спички они на мгновение встретились взглядом и больше не касались этой темы.
Василий скоро заснул, а Герасим Кондратьевич осторожно ворочался на кровати. Не спалось. Что-то мешало под боком, подушка казалась жаркой. Он перевернул ее, и щеку приятно охолодила чистая наволочка, попахивающая морозной свежестью: видно, стираное белье вымораживали на дворе.
В Москве белье было тоже всегда чистое, даже лучше отглаженное, но не имело такого запаха, способного вызвать в человеке какие-то особенные воспоминания — о купании в светлой реке, о сонном лесе, о ветре, щекочущем лицо. Герасиму Кондратьевичу захотелось выйти на улицу, может быть, ветер успокоит его, остудит.
Он спустил с кровати ноги, неслышно пробрался к печи и взял с шестка сушившиеся валенки Василия. В валенках ноги окугала мягкая, парная теплота.
На улице его хлестнул порыв ветра и сразу же умчался куда-то за избу, к крутому яру, смахнув с него горсть снега. Больше там уже ничего нельзя было отыскать. Небрежно обломанная кромка яра была начисто вылизана ветром. Налетел еще порыв ветра, но уже более слабый. Этот даже до яра не сумел добраться. Он ударился в избу, рассыпал принесенный снег и вместе с ним лег наземь, уснул.
Герасим Кондратьевич посмотрел на небо. Там еще громоздились, пугались и мчались с ветром тучи в другие края. Но вот где-то и небесный фонарик звездочка — мелькнул, и тут же тучи стерли его, однако в другом месте зажглись сразу две несмелые звезды, как два глаза только что проснувшегося ребенка. Герасим Кондратьевич вышел из-за палисадника, преодолевая наметенные у изгороди сугробы.
К дому кто-то шел. Слышны были глухой кашель и резкий скрип затвердевших на морозе сапог.
— Лидия Николаевна, — узнал профессор и подался к ней. — Вы что же это, голубушка, так поздно возвращаетесь? Неужели все на работе?
— Да, приходится, непогодь… А вы не спите?
— Да вот тоже мучаюсь, тоже непогодь. Кости ломает. У медиков ведь иной раз тоже кое-что болит.
— А-а, — понимающе протянула Лидия Николаевна. — Ну как у вас с Василием?
— А никак, — признался Герасим Кондратьевич. — Да, собственно, и не могло быть иначе — слишком уж мы долго жили врозь.
— Нет, вы что-то не так говорите. Ведь совсем чужие люди и то умеют сродниться, а вы все-таки…
— Вот именно, что все-таки… Вы, голубушка, ступайте, ступайте закоченели ведь, кашляете вон…
— Ничего мне не сделается, — сказала Лидия Николаевна и тут же прибавила: — Герасим Кондратьевич, пойдемте ко мне, я самовар поставлю.
— С удовольствием, только вам отдохнугь нужно, — начал робко возражать профессор, уже шагая за Лидией Николаевной. Надоело ему быть одному, хотелось поделиться с кем-то своими тревогами, сомнениями и надеждами.
Они пили чай, разговаривали непринужденно, как давно знакомые люди. Лидия Николаевна говорила тихо, но теми словами, которые доходят до сердца. Говорила о себе, о Тасе, вообще о колхозных делах, о житье и как бы мимоходом о Василии.
— Льдом он взялся. Отогреть его надо — подо льдом-то чистая, светлая вода скрывается. Так и душа его. Только вы к нему попросту, по-отцовски… Сумеете ли — не знаю. Жизнь-то уж больно с ним неласково обошлась, как мачеха. Пустит ли он вас в душу? Такие люди не вдруг ее настежь открывают.
— Да, да, не вдруг, — подтвердил Герасим Кондратьевич, — не вдруг, голубушка. Ах, как мы жили! Как жили мы?! Разбросанно, неловко, порознь! Если бы все можно было заново начать!..
Василий проснулся от тишины, тихонько позвал отца и, когда в ответ никто не откликнулся, торопливо подскочил к кровати, ощупал ее. «Неужели уехал?!» — испуганно подумал он и хотел было выбежать на улицу, но валенок на плите не оказалось.
Поняв, что Герасим Кондратьевич может в любую минуту вернуться с улицы, он снова лег, задумался. Было неловко оттого, что он днем горячился, даже накричал на отца. Не надо бы так. Не надо. Он ведь искал его, нашел. Отец он все-таки. Отец. И если бы он еще тогда, до войны, попробовал искать сына и нашел бы его, да у матери отнял бы, разве они так бы сейчас встретились? Вместе жили, вместе — и какими далекими, чужими людьми были!
К утру метель совсем угомонилась. Возле церкви на узловатых березах появились галки. Они то по одной, то сразу кучей взмывали в небо или рассыпались по дороге. Василий и Герасим Кондратьевич шагали за санями. Профессор распахнул шалевый меховой воротник. «Девчоночий воротник», — с улыбкой вспомнил Василий Ссрежкины слова, и сразу веселей сделалось вокруг. Нет, не оторваться ему от Сережки и от всего этого сверкающего солнцем мира. Крепко врос в него корнями. До сих пор он не мог этого знать, потому что даже мысленно не пытался представить себя в другом месте, среди других людей, а вот представил и понял: здесь ему жить, здесь работать, здесь его место.
— Весна приближается, — блаженно заговорил Герасим Кондратьевич.
— Да, весна! Для кого пора романтических мечтаний, а для нас бешеное время. Работы нынче будет уйма.
Скрывая улыбку, профессор покосился на него.
— А ты уж так-таки и отрешился от романтических мечтаний?
— Да нет, иногда… особенно, если выпью.
— Пьешь?
— Случается. Привычка!
— М-да, нынче это уже не привычкой, модой становится — мечтать в пьяном виде.
Прошли сосновый бор, показались первые избы деревни. Василий остановился. Встал и отец, нерешительно протянул руку.
— Ну что ж, давай прощаться, — как можно бодрей сказал он, но у него предательски вздрогнули губы.
Василий, не замечая протянутой руки, крепко обнял отца.
Профессор уткнулся в плечо сына. Так они постояли, не размыкая рук, стыдясь поцеловаться па прощанье.
— Так ты пиши, пиши, — торопливо говорил Герасим Кондратьевич. — Часто пиши, прошу тебя, и потом, может быть, ты все-таки соберешься, ненадолго к нам, а? Давай приезжай, хоть на недельку. Я рад буду. Да.
— Конечно, конечно, — забормотал Василий. — Ты тоже пиши. И это… извини… орал я…
— Чего там! — махнул рукой Герасим Кондратьевич. — И телеграмму, телеграмму дай, когда соберешься.
— А если я не один приеду, ничего? — отвернувшись, поинтересовался Василий.
Герасим Кондратьевич похлопал его по плечу, надвинул Василию, как мальчишке, шапку на глаза.
— Эх ты, парень, парень! Ты думаешь, я настолько постарел, что уж ничего и видеть не могу. Непременно вместе приезжайте, непременно. Этого архаровца я в планетарий поведу, в зоопарк. Мороженым до отвала накормлю за то, что он меня картошкой угощал. Ну, будь счастлив, сын! — Герасим Копдратьевич давнул руку Василия и бодро поспешил по дороге.
Василий провожал его взглядом до тех пор, пока отец не скрылся в сосняке.
Глава третья
После смерти Евдокии что-то неладное стало твориться с Юрием. Сначала Лидия Николаевна не подозревала, что резкие перемены в характере сына связаны со смертью Евдокии и вообще имеют какое-то отношение к Качалиным. Юрий сделался раздражительным, давал беспричинные подзатыльники ребятам, начал грубо поговаривать с матерью. Лидия Николаевна рассудила чисто по-житейски и отнесла это за счет переутомления. Скоро экзамены за семилетку — это не шутка. Попробовала освободить сына от домашних дел, взвалив их на плечи младших ребятишек, потому что самой ей в эту пору некогда было и передохнугь.
Думая между делами о сыне, Лидия Николаевна чувствовала себя в чем-то виноватой. Юрий уже становится взрослым и стесняется своей бедности. Ему уже осточертело донашивать перешитые штаны и гимнастерки отца. Пришла пора юности. Ему уже хотелось одеться, сходить в клуб, на школьные вечера, а не возиться с младшими ребятишками, чинить много раз чиненные валенки себе и ребятам, варить обеды, возить из-под горы воду, пилить дрова с Васюхой или Сережкой, которые бегают за пилой: дернешь к себе — и пильщик вперед.
Большинство его ровесников имели костюмы, велосипеды и с девчонками заигрывали уже, по вечеркам ходили. «Как я понимаю тебя, сынок, — огорченно думала Лидия Николаевна. — Мне ли тебя не понять. Сама в обносках находилась и нужду ковшом похлебала». Как-то идя вместе с Тасей поздним вечером домой, Лидия Николаевна несколько раз тяжело вздохнула. Тася обернулась, но ничего не разглядела в темноте.
— Что, тетя Лида, тяжело с кормами? Но что же делать? Вот весна еще затягивается. Ничего, скоро все равно трава появится, дотянем. Дотянем ведь, правда?
Лидия Николаевна ничего не ответила. Она шагала непривычно молчаливая, замкнутая и наконец, как бы сама с собой, заговорила:
— С кормами тяжело, и на сердце тяжело, все тяжело.
— Тетя Лида, что с вами? — встревожилась Тася.
— Ничего особенного, просто так, давит вот тут, — показала она на грудь. И не удержалась, все рассказала Тасе.
Тася и сама заметила давно в Юрии перемены: он похудел, осунулся, грубо обращается со своими ребятами, а качалинских он и раньше чурался и все время спрашивал у Таси, куда лучше поступить учиться, причем делал это со злом, давая понять, что жить здесь не будет, что ему все надоело. Тася кое-что заподозрила, но сказать Лидии Николаевне не решалась. Услышав о костюме, она ухватилась за эту мысль.
— Вот что, тетя Лида, я получаю окончательную за март — и мы покупаем Юрию костюм. Да, да, ничего не слушаю. Покупаем — и весь разговор. Пусть пойдет на экзамены в новом костюме. Вот радость будет!
— Что ты, Тасюшка, выдумываешь? Чего из твоей зарплаты выкроится? У самой дыр столько.
— Ничего, проживем как-нибудь. Картошка есть, на хлеб останется. — Она заразительно рассмеялась, и у Лидии Николевны полегчало на душе.
— Ну ладно, скажу я ему сегодня, а с тобой потом рассчитаемся.
— Ерунда, какие там расчеты. Мне будет просто приятно сделать для вас хоть что-нибудь.
Дома Лидия Николаевна все посматривала на Юрия, меряла взглядом его мускулистую фигуру, еще немного длинноватую и нескладную. Она знала, что парни в таком возрасте не переносят нежностей, и потому просто, с гордостью в голосе проговорила:
— Какой ты большой у меня вырос, сынок!
Он удивленно посмотрел на нее, а затем скривил губы:
— А ты и не заметила… все на других заглядываешься!
Лидию Николаевну передернуло от этих слов, но на лице Юрия, в его глазах было столько обиды, злости, что она не решилась оборвать его и как можно мягче продолжала:
— Не мудрено, Юра, и не заметить. Сам видишь…
— Конечно, вижу! — снова вызывающе заговорил он и прищурился, что было признаком крайнего раздражения.
— Ты чего грубить-то начал, Юрий? — с растерянной улыбкой спросила мать. — А я тебе, как хорошему парню, собираюсь костюм к экзаменам справить.
— Не надо мне никакого твоего костюма, понятно? Ничего не надо! - глухим и дрожащим голосом заговорил Юрий, со злостью глядя на мать полными слез глазами. — Лучше им сшей, а я уеду — и все!
— Кому это им? — посуровела Лидия Николаевна.
— Не знаешь будто? Думаешь, я ничего не вижу? Уеду — и все!
— Так ведь я тебя не держу, не протестую, с богом, поезжай, учись, разве я враг тебе?
— Ага, я знаю, ты хочешь, чтобы я уехал! Все знаю, только и ждешь! И уеду! И уеду! Что, думаешь, побоюсь? — Он еще что-то хотел сказать, но круго повернулся и выбежал в сени.
Оттуда донеслись странные звуки, точно кто-то надсадно кашлял. Лидия Николаевна догадалась — это первый раз после смерти отца плачет Юрий, чем-то глубоко обиженный и раненый.
Лидия Николаевна сидела на скамейке растерянная, убитая. Ребята затихли no yглам. Они поняли, что в доме происходит что-то неладное, и с испугом смотрели на поникшую и как-то сразу постаревшую мать. Ребятам стало жаль ее, в их детских душах поднимался протест против Юрия, который почему-то взял и обидел мать. Васюха медленно подошел к матери, погладил ее повисшую руку с синими жилками и трещинками на пальцах, такими же, как на клеенке, потом ткнулся в ее колени и притих. Она перебирала его волосы и думала — отчего взбеленился Юрий?
«Как же это я, совсем закрутилась, забыла… он уже большой… он все понимает… а я насчет тряпок! Думала, обноски, домашние трудности его тяготят».
Теперь Лидия Николаевна ясно поняла и до глубины души удивилась, как она не могла понять раньше. В последнее время Юрий часто заводил разговоры об отце, задавал вопросы на эту тему, не снимал шерстяной гимнастерки отца. Оказывается, все это тонко рассчитанные ходы.
Совсем недавно Юрий взял семейную фотографию, где Лидия Николаевна снята с мужем. Она стояла рядом с ним, взявшись за руку, с длинными косами на груди, в белом платье. А Макар в галифе, в буденовке с большой звездой. Именно эту фотографию выбрал Юрий, увеличил и повесил на видное место в рамке собственного изготовления. И то, что Юрий в последнее время посматривал на Якова Григорьевича недоброжелательно, следил за матерью, не переносил присутствия Зойки и Славки, — все это говорит об одном и том же.
«Ах, какая же я дура! Какая дура! Выживаю, видно, из ума-то!»
Лидия Николаевна поднялась со скамейки, отстранила Васюху и, приоткрыв дверь, сдержанно бросила:
— Юрий, не стой долго на улице. На дворе сыро.
Он появился несколько минут спустя, с заплаканными глазами, тихо проскользнул в горницу и лег на кровать, лицом в подушки. Ужинать отказался. Когда без обычного шума и гама остальные ребята поужинали и улеглись спать, Лидия Николаевна прошла в горницу, потянулась к выключателю, да раздумала. Склонившись над кроватью, почувствовала, что сын не спит. Она положила ему на голову руку, и он ее не отстранил.
— Сыно-ок! — тихо позвала Лидия Николаевна. — Ты почему же мне просто-то не сказал обо всем? Я ведь поняла бы, или уж разучилась, по-твоему?
Он молча поймал ее руку и прижал к своей щеке. Лидия Николаевна присела на кровать рядом. Они долго молчали, будто прислушиваясь к дыханию друг друга.
— Ты, мама, прости меня, — чуть слышно сказал Юрий.
— Я понимаю, ты тоже… женщина… ну, дядя Яша овдовел, ребята у него… я все понимаю, но вот никак не могу, ну не могу вот… папка, там, в земле… а дядя Яша придет… — Юрий уткнулся в подушку и заплакал.
— Так этого можно и не делать. Я ведь прежде всего о вас думаю. Не хочешь — и не будет дядя Яша жить у нас.
— Нет, нет, — торопливо, сквозь слезы заговорил Юрий, — ребят надо поднимать, им нужны родители. Дядя Яша добрый, мы к нему привыкли. Пусть дядя Яша придет, только, мама, пусть он приходит потом, когда я уеду учиться… потом… не обижайся, мама…
— Я не могу обижаться на тебя, Юрий. И ездить тебе не надо. Завтра я поговорю с Яковом, и он перестанет к нам приходить. А сейчас спи.
Она вздрагивающими руками поправила на нем одеяло и скрылась на кухне.
— Мама! — неуверенно и робко позвал Юрий, но она не откликнулась.
На следующий день Яков Григорьевич урвал немного времени и пришел поправить кое-что по хозяйству в доме Лидии Николаевны. То ли от потепления, то ли от дряхлости, в доме стала туго ходить разбухшая дверь. Ребятишки вдвоем, с разбегу, а потом втроем открывали ее. Справив нужду, они в рубашонках вопили на улице, не в силах совладать с упрямой дверью. Можно было подтесать дверь и этим ограничиться, но Яков Григорьевич, как всегда, взялся за дело капитально. Сняв дверь с петель, он обнаружил, что один косяк стоял еле-еле. Пришлось менять косяк и попутно подновить дверь.
Зашвыркал в доме рубанок, застучал ловко насаженный топоришко, повизгивала проворная ножовка. Ребятишки Лидии Николаевны, а вместе с ними Зойка и Славка да еще чьи-то вертелись вокруг, растаскивали стружки, пытались постолярничать сами. Шум и смех был невообразимый. Яков Григорьевич с карандашом за ухом, с засученными рукавами тихо улыбался, поглядывая на ребят, шлепал линейкой по рукам тех, кто намеревался стянуть инструмент. Косяк был уже поставлен и дверь навешена, когда в доме появился Юрий. Насупившись, быстро проскользнул мимо Якова Григорьевича и в горнице сердито швырнул книжки на стол.
В избе выстыло. Ребята собрали стружки и обрезки в железную печку. Яков Григорьевич достал из кармана банку из-под зубного порошка, полную махорки. Он молча свернул цигарку, прикурил и той же спичкой поджег смоляные стружки. Они разом занялись, и печка загудела. Глядя сквозь молниеобразные щели на боках печки, как корчатся и рассыпаются прахом стружки, которые только что были такими красивыми, шелковистыми, Яков Григорьевич сказал Славке и Зое:
— Вы, ребята, шли бы домой. Не топлено там сегодня, сварите хоть картошки, что ли.
— Мы тоже с ними пойдем, — засобирались Макарихины ребятишки.
Кто в чем, и в латаных шубенках, и в телогрейках, и в валенках, и в сапогах, а Васюха даже в старом, потерявшем свое обличье буденовском шлеме — все высыпали на улицу. В доме сделалось пусто и тихо. Юрий шуршал в горнице книжкой. Яков Григорьевич сделал глубокую затяжку от самокрутки, прошелся по кухне так, что прогнулись половицы, бросил окурок в таз под умывальником и негромко, но властно позвал:
— Юрий!
Минуту в горнице стояла тишина, потом что-то мягко упало, должно быть, книга, из-за старых цветастых занавесок показался Юрий. Яков Григорьевич ожидал увидеть лицо его насупленным, непримиримым, таким, какое оно было у него в последнее время. Но он ошибся. Лицо Юрия сейчас было самое обыкновенное и даже чуть наивное.
Только в глубине открытых черных глаз таились колючая неприязнь и мальчишеское упрямство.
— Что, дядя Яша? — спросил Юрий тихим голосом, будто между ними было все по-прежнему и ничего решительно не изменилось.
«Ну и хитер, бесенок, — подумал Яков Григорьевич. — В кого же это он такой? В отца? Нет, у того душа настежь открытая была. Надо с ним ухо востро держать, что-то он задумал». Чтобы выиграть время, Яков Григорьевич кивнул головой на печку:
— Принеси дров, стружки сгорели. Надо хорошо протопить, выстыло, а мать сегодня на силосных ямах работает, намерзнется.
При упоминании слова «мать», на которое так нажал Яков Григорьевич, чугь заметно дрогнули брови Юрия. Он тут же отвернулся, схватил с вешалки шапку и выбежал во двор.
Пока он подкладывал дрова в печку, медленно собирал вылетевшие на железо угольки, молчали.
В печке пощелкивали, разгорались дрова. Изба погружалась в сумерки. За рекой в холодном, зловеще багровом огне тлели слоистые серые облака. Отблески зари окрашивали окна Макарихиного дома в красный цвет, а яркие блики, падающие из щелок печки, метались по избе, щупали раскаленные, но не греющие стекла.
— Командуем, значит, помаленьку? — медленно проговорил Яков Григорьевич, глядя на неподвижно сидевшего паренька.
Юрий не шелохнулся, не оторвал взгляда от огоньков, плясавших в печке, и Яков Григорьевич долго ждал ответа. Он опять вынул банку, скрутил папироску, достал уголь и, положив его на печку, уткнулся в него концом цигарки, искоса наблюдая за Юрием. Паренек был так же неподвижен, непроницаем и тих. Ресницы его полуопущены. Он точно дремал. При очередной глубокой затяжке Яков Григорьевич заметил, что глаза Юрия следят за ним из-под ресниц настороженно и выжидающе.
— Ты, однако, Юрий Макарович, самолюбом растешь, — снова заговорил Яков Григорьевич и, уже не дожидаясь ответа, продолжал: — О себе только думаешь, стало быть, только себя и любишь.
Юрий разом повернулся к нему, но Яков Григорьевич не дал ему возразить.
— Так, так, не перечь. Молод еще мне перечить. Я, брат, с виду тих, а в тихом озере, как тебе известно, черти водятся, и, когда я рассержусь, перечить мне не следует. Ты что же, решил, будто мать твоя обязана всю жизнь тянуть лямку непосильную? Двужильная она? Это так, но и две жилы лопнут, если их натянуть до отказа. — Яков Григорьевич приостановился, сделал несколько затяжек и уже самым обычным, спокойным голосом добавил: Нехорошо, Юрий, так обращаться с матерью. Ты не маленький, слава Богу, уже на самостоятельную дорогу выскребаешься, а вот Галка, Костя, Васюха, да и Зойка со Славкой — нуждаются еще в том, чтобы их за руку вели. Я понимаю, противится твоя душа… за отца обидно. Однако в жизни приходится делать уступки ради ближних, кого любишь. Если, конечно, по-настоящему любишь. Яков Григорьевич остановился, напряженно посоображал, да взял и поведал Юрию завещание отца, рассказал о его последних минутах. Посинели в зимних сумерках окна, отбушевала почка, и теперь в ней лишь золотились угольки, тускнея один за другим. Юрий опустил голову. Яков Григорьевич не мешал ему обдумать услышанное, знал, как это все разбередило сердце паренька. Лишь много времени спустя он поднялся, легонько отстранил Юрия, бросил три полена в печку. Постоял еще на одном колене, потом поднялся, отряхнул штаны и тронул Юрия за плечо.
— Ну, чего притих? Брось-ка пыхтеть и сходи по воду, мать усталая придет.
Юрий молча поднялся, пошел за печку одеваться.
— Когда переходить-то будете? — послышался оттуда его недовольный голос, но уже с примирительными оттенками.
— Да не знаю. Вот посевную проведем. Надо еще избу подремонтировать, старая больно стала. В нашу бы можно перебраться, да не хочу я, да и мать, пожалуй, не захочет. Продадим ту избу.
— Ну-ну, дело это ваше, — буркнул Юрий. — Я, как говорится, отрезанный ломоть, гость в чужом подворье. — И, стукнув дверью, выскочил на улицу.
— Экая ведь заноза! — покачал головой Яков Григорьевич. — Гляди ты, как его!
Долго сидел Яков Григорьевич один в непривычной для этого дома тишине. Он научился размышлять о своей нескладной жизни спокойно. С годами притупилась в нем тревожная тоска по утерянному счастью, и любовь к Лидии Николаевне сделалась привычной, как что-то навечно неотъемлемое, без чего он не мыслил жизни. После молодых лет и до последнего времени он не стремился к тому, чтобы что-то переменить. Он боялся, что огонек, которым он согревается всю жизнь, вдруг погаснет от прикосновения к нему. Любовь для него была необходима такой, какой он ее изведал, и большего не хотел.
Каждый человек любит по-своему, и, очевидно, в этом кроется самый глубокий смысл любви. Бывает иногда, что человек, способный любить только раз в жизни, сам себя лишит этой радости, растворив любовь свою в буднях, как горсть сахара в огромной лохани. Но любовь, вмещающаяся в горсть, поселится в маленькую душу. У Якова Григорьевича в сердце жила любовь, которая обнимала и грела собой не только Лидию Николаевну, но и ее ребятишек, Зойку, Славку. За такую любовь можно было не бояться.
И все-таки Яков Григорьевич не решился бы перешагнуть ту черту, которая отделяла его от Лидии Николаевны, если бы его жизнь не была жизнью родных детишек. Знал он, что Лидия Николаевна для детей также сделает все oт нее зависящее.
Подремонтированная дверь тихо отворилась. Якова Григорьевича коснулась свежая, холодная струя, услышал голос Лидии Николаевны:
— Кто тут живой есть? Чего без свету сидите?
— Я один, Лида, сумерничаю, — отозвался Яков Григорьевич. — Иди погрейся, озябла?..
— Да нет, у силосных ям не застынешь, подолбишь пешней — жарко. Однако она подошла к печке, протянула руки.
Яков Григорьевич пошарил в темноте табуретку, с шумом пододвинул ей.
— Сядь. Устала?
Она молча села. Яков Григорьевич осторожно взял ее руку и начал греть в своих руках. Лидия не двигалась и ничего не говорила. В эту минуту наслаждались покоем и редкой близостью.
Сколько же лет промелькнуло? Сколько они ходили рядом и все же далеко друг от друга? Чем же это подогревалась в нем любовь, которую он сумел молча пронести до сегодняшнего вечера? Видно, схожа любовь с репейным корнем: срубят его, лопатой расщепают, а он соберется с силами и, как ни в чем не бывало, лезет из земли со своими листищами, да еще семя цепкое по ветру пускает.
В сенках захрустели шаги, ухнула в бочонок из ведер вода и послышался удаляющийся звон ведер.
— Хорошо так сидеть, — вздохнула Лидия Николаевна, — да готовить что-то надо к ужину. — Но она не спешила подниматься и, помедлив, тихо спросила: — Разговаривали?
— Привередничает еще, но уже но так ретиво. Думаю, что все уладится.
— Господи, какие еще частоколы нам ломать? В деревне сейчас так кому только не лень, тот и чешет язык. — И дрогнувшим голосом добавила: — Ведь до чего дошли, дотрепались, говорят, что мы отравили Евдокию. Батюшки!
— Пусть говорят. Наслышались всякого. Но в угоду этой пташке-цыганке мы не сделаем ребятишек сиротами. Такие, как Клара, только и ждут, чтобы мы поссорились. Им же радость, когда другие корчатся от горя, как береста на огне.
— Ладно, Яша, переборем и эту беду. Вдвоем переборем. А я устала. Даже осиновый лист и тот куда-то хочет притулиться, а я одна уже не могу. Устала.
— Скоро уж, скоро, Лида, мы будем вместе, — дрожащим голосом проговорил Яков Григорьевич и несмело нащупал своими губами ее обветренные, но все еще не утратившие свежести губы. — Жизнь моя.
Лидия Николаевна отстранилась, перевела дыхание, легонько погладила его руку и виновато сказала:
— Я пойду, свет включу. Скоро ребята прибегут, есть запросят.
Все эти дни Тася пропадала на острове. Здесь развернулись работы на парниках и в теплице. Решено было заниматься ранними овощами в основном на острове. Парниковое хозяйство здесь более или менее в порядке, имеется теплица. В третьей бригаде также полным ходом идут работы на парниках. На этих двух участках все силы овощеводов, иначе пока нельзя.
Распылишь их по всем бригадам — и ничего не добьешься. Если на острове и в третьей бригаде удается сохранить и вырастить ранние посевы овощей и реализовать их, колхоз получит порядочный доход. Деньги дадут возможность развернуться шире.
В теплице запах прелой земли, свежий аромат зелени.
Ранние огурцы набирают цвет. Под бледными листиками набухают цветы, похожие на клюв желторотого птенца. Вот в одном месте этот клювик уже раскрылся, сделался похожим на миниатюрную граммофонную трубку, и уже сразу потянулся со стеллажа в сторону тонкий липкий огуречный ус. Надо ему помочь уцепиться за твердую опору.
Тася привязывает к огуречному стеблю мочалку, цепляет другой ее конец за гвоздик в потолке. Она уже представляет, как этот ус обовьется вокруг мочальной ленточки кольцами, а затем вьюном взвихрится вверх, вытягивая к свету своей тонкой, но удивительно крепкой нитью все растение вместе с листьями, цветами, с продолговатыми пупыристыми плодами…
А вот и знаменитые морозоустойчивые помидоры Букреева. На некоторых кустах с розеточными листьями уже осыпались невзрачные цветочки. На их месте появилась завязь. Помидорчики похожи пока на чуть заметные бородавки. Но пройдет неделя, другая и бородавочки пополнеют, нальются, а потом их уж в ящики, в тепло, — и нате, пожалуйте, граждане-товарищи, свежие красные помидоры ранней весной.
Тася улыбнулась своим мыслям, на ходу сорвала сочное перо лука, изжевала его и поморщилась. Горек лук, свиреп, несмотря на то, что в теплице вырос. Через несколько дней его можно будет срезать на продажу.
Приятно в теплице. За стеклянными рамами, всего в нескольких шагах, еще лежит снег, а здесь все зеленеет, здесь маленькое лето. Так и не уходил бы отсюда. Сидел бы, дышал свежими запахами, смотрел, как проклевываются сквозь черную почву семечки, как идет растение в жизнь смело и настойчиво.
Но вот лицо Таси омрачилось. Она остановилась перед узенькими ящиками, в которых виднеется резкая щетина зеленых всходов. И это семена! «Напрасно доверилась старым данным, напрасно, — ругала себя Тася. — Теперь вот любуйся!»
Еще осенью Птахин объяснил ей, какие семена следует проверить на всхожесть и какие в проверке не нуждаются. Это были так называемые сортовые семена. Может, они в свое время и в самом деле подходили под разряд сортовых, но успели утратить свои добрые качества.
«Все же хорошо, что догадалась проверить семена: еще успеем подработать их или обменять до начала сева».
Несколько утешившись этим, Тася вышла из теплицы и направилась к парникам. Здесь работали женщины с острова и из Корзиновки. Они сеяли рассаду капусты, поливали ранние всходы огурцов и помидоров. Осип застеклил старые рамы. Мало их. Много парниковых секций завалено снегом. Эти даже не раскапывали, все равно закрывать нечем. Тася вздохнула. Надо будет поставить вопрос перед правлением, чтобы при первой возможности выделили деньги для приобретения стекла и пиломатериалов. В нескольких парниковых секциях морозоустойчивые помидоры выпускали уже по третьему листу. В солнечные, теплые дни, которые нынче случались редко, половину рам открывали и тогда на листиках мохнатых растений выступали мелкие капельки, будто растения потели.
Часто наведывался на остров Павел Степанович. Он ковылял среди парников, мимоходом делал замечания жешцинам, давал советы Тасе. Он очень настойчиво прикидывал и рассчитывал, где и как в будущем развивать парниковое хозяйство.
— Нынче я только по нужде ковыряюсь у себя, там. Вот доживем до следующей зимы, оклемаемся маленько, и я перевожу свою избу на остров, и, если товарищ агроном доверит мне, — улыбнулся он, — возьму все дела на себя. Ух, давно у меня руки, тьфу, все забываюсь, рука чешется на здешнюю землю.
Федосья Ральникова слушала эти разговоры с нескрываемой злостью. При случае не упускала возможности поехидничать над проектом Букреева. С особенной неприязнью она начала относиться к агроному. Тася старалась не обращать внимания на ее подковырки, шуточки, на ее косые взгляды. Она понимала, что Федосья, в прошлом толковая работница, чувствует себя неловко оттого, что выбилась из нормальной житейской колеи, стала в открытую кутить.
Пробовала Тася говорить с ней по душам, но та грубо обрывала ее. Пока Федосья еще числилась бригадиром на острове. Делала же она все через силу, нехотя и вообще почти не появлялась на работе. Тася поговорила о ней с Яковом Григорьевичем. Тот подумал, подумал и махнул рукой.
— Передурит, нe тронь ты ее.
И Тася не трогала больше Федосью. А это, видимо, больней всего и задевало женщину. Если бы ее ругали или уговаривали, она бы сумела разрядиться. Она затаила злобу на Тасю, которая как хозяйка распоряжалась на острове — в ее бабьем царстве.
Подкараулив, когда Тася и Осип остались вдвоем в теплице, Федосья незаметно появилась там и, подбоченившись, хриплым с перепоя голосом спросила:
— Любезничаете?
Осип отложил в сторону молоток, повернулся к Федосье:
— Тебе чего, мама? — чувствуя, что надвигается что-то недоброе, несмело спросил он.
— Любезничаете, говорю? — Не обращая внимания на Осипа, Фодосья вперила свои глаза, подернутые сеткой красных прожилок, в Тасю. Тася выдержала взгляд и как можно спокойнее сказала:
— Не понимаю, что вы злитесь, Федосья Романовна?
— Ах, не понимаете? — закричала Федосья и с клокочущей яростью рассмеялась. — Люди добрые, она не понимает! Она глазки строит! Охмурила сопляка-мальчишку, замутила ему мозги, бесстыдница этакая, и ничего не понимает…
— Мама! — Осип порывался еще что-то сказать, но губы его беззвучно шевелились. Из руки парня со звоном высыпались гвозди.
А Федосья бушевала. И чем дальше, тем злей и отважней. Тася отшатнулась к стене. У нее появилось желание бежать отсюда. Бежать скорее от криков, от этих оскорблений, как когда-то они бежали, задыхаясь, с Лидией Николаевной по темным улицам Корзиновки. Но, вспомнив Лидию Николаевну, Тася и слова ее вспомнила: «Тебя помоями обливают, а ты не гнись! Они и нe пристанут! В жизни надо быть гордым…» Теперь уж Тася слушала Федосью с поднятой головой. Окаменев, ждала. И когда Федосья накричалась, Тася почти спокойно сказала:
— Глупости это все! И сами, вероятно, знаете, что глупости, так ведь, Федосья Романовна? Я даже не знаю, как мне быть: обижаться на вас или не стоит? Вы бы, наверное, обиделись, если бы вам столько гадостей наговорили?
Федосья опешила. Она ожидала истерики, потасовки, чего угодно, но только не этого. Она расстегнула пуговицы у телогрейки, потопталась на месте к, немного оправившись, попыталась снова настроиться на боевой лад.
— Ты это… ишь, говорунья… он мальчишка, он за первой юбкой…
— Перестань! — с прорвавшейся болью закричал Осип. Кулаки его были сжаты, весь он непривычно взъерошился. — Убирайся отсюда! Убирайся! Людей обзываешь, а сама… — Федосья испуганно попятилась к двери. — Матери так делают, да? Ты кого позоришь? Себя позоришь! — Голос Осипа взвился до фальцета, в нем задрожали слезы.
Федосья рванулась в дверь. На улице она отчаянно завыла:
— Испортила парнишку… змея подколодная… против меня направила-а-а… И уже издалека долетело: — Удавлю-у-усь!..
В теплице долго молчали. Осип вытер лицо рукавом, собрал с полу гвозди и поднял глаза па Тасю. В них смешались стыд, недоумение, тяжкая обида.
— Простите вы мать, Таисья Петровна. Грызет ее, вот она и… — Осип замотал головой, сморщился, как от зубной боли… — Я знаю, тяжело слышать такое. Вы ведь хороший человек, честное слово. — Он доверчиво взглянул на Тасю и уже совсем по-мальчишески: — Будто я подлизываюсь или что, не подумайте.
Тася ничего не сказала Осипу, лишь легонько, дружески тряхнула его руку и пошла в Корзиновку.
Осип видел сквозь стекла, как изменилась ее походка. Тася шагала, опустив голову и плечи, с трудом передвигая тяжелые ноги по зарыжевшей весенней дороге, будто преодолевала встречный ветер.
Осип проводил ее взглядом до самой протоки, стукнул кулаком по коленке и, сложив инструмент, отправился домой. Вид у него был решительный, а синеватые глаза, всегда полные задумчивости и любопытства, сделались колючими, сердитыми.
Глава четвертая
Нудная и длинная выдалась весна. То припечет, высушит крыши, сгонит снег с пригорков, разъест забереги на реке. То ворвется откуда-то метель и сердито упрячет все, что успела сделать молодая и слабосильная весна. Больших холодов нет, но и тепло бывает редко. Слякоть вокруг непроходимая. По Кременной уже давно не ездят и не ходят. Колхозные бригады живут на той стороне самовластно, и что у них там творится — никому не известно. А в этих бригадах сев должен был начаться в первую очередь, потому что поля там и в третьей бригаде Букреева расположены на угористых местах. Дорог каждый день, а тут, на тебе, полюбуйся, поработай!
Яков Григорьевич то и дело глядел в окно на серую, безжизненную поверхность Кременной и плевался:
— А, чтоб тебе провалиться!
Утром рано спрашивал у Славки, который днюет и ночует на реке вместе с ребятишками Лидии Николаевны:
— Как там?
Славка без расспросов уже знал, о чем разговор, и уныло докладывал:
— Стоит!
— Это же беда!
— Беда, — соглашался Славка.
Как готовилась к ледоходу Кременная, исподтишка, так и тронулась незаметно, под утро, без всякого шума. Лед на ней сделался уже рыхлым и сразу же превращался в кашу. Яков Григорьевич поднялся рано, вышел на кухню. У печки стояли грязные Славкины сапоги, а сам он спал на печке в мокрых штанах, «Видно, недавно явился». Яков Григорьевич набросил на сына тулуп и, проходя к умывальнику, изумленно ахнул: по реке, наползая друг на друга, выпирая на берег, мчались льдины. Яков Григорьевич не поверил глазам, приник к окну, потом радостно засмеялся и схватил Славку за ногу.
— Эй, рыбак! Проспал! Проспал! Ледолом начался!
Славка, не проснувшись, выдернул ногу и еще глубже залез под тулуп.
— Эй, эй, рыбак! Не дам спать! Вставай! — сдернул Яков Григорьевич тулуп со Славки и начал стаскивать его с печки. — Да проснись ты, чудо гороховое, — лед пошел!
Славка сразу встрепенулся, разомкнул тяжелые веки и, поморгав ими, глянул в окно.
— Ой, правда!
— Врать я тебе буду, что ли? Я, брат, лучше тебя караульщик оказался! — поддразнил сына Яков Григорьевич. — Проспал бы ты самую лучшую рыбалку, если бы я дрыхнул, как ты. А сейчас крой за саком, да поешь хоть маленько. Рыбу-то удь, а про экзамены не забудь! Мне за вами следить некогда.
Славка прыснул и закашлялся, подавившись картошкой, а когда отдышался, зачастил, приговаривая:
— Он, папа, ты, как поэт! «Рыбу удь, а про экзамены не забудь!» Здорово! Надо записать, пока не забыл, для стенгазеты.
— Подь ты к лешему, чертенок! — засмеялся Яков Григорьевич, натягивая сапоги. — Ему дело говорят, а он прыгает.
Славка был восприимчивым парнишкой. Долгое общение с нервной матерью научило его быстро улавливать перемены настроения у взрослых, и он знал, что отец ворчит сейчас для порядка и что на самом деле он сегодня особенно добрый. Причина тому — ледоход. Славка жевал кусок хлеба с холодной картофелиной и одновременно наматывал непросохшие портянки. Он бодро заявил:
— Не беспокойсь, папа, не подкачаю!
— Гляди мне! Tы ведь постарше, Зойку должен уму-разуму учить, сам видишь, как у нас…
Он не договорил, но Славка без слов понял, на что намекает отец. Мальчик сразу сделался серьезным, огляделся кругом и пробормотал:
— Я как с реки приду, приберу дома… — Помолчав, еще тише, но тверже произнес: — Экзамены мы сдадим, о нас не думай. Мы уж большие.
— Ну, ну, я ведь так. Пошли, что ли?
— Пошли.
Было пасмурное, но теплое утро. От реки вместе с холодком несся то нарастающий, то затихающий шум. Славка кинулся к устью Корзиновки. Здесь в ледоход, как в отстойнике, скапливалась рыба. Ямку в устье речки звали золотой. Славка оказался первым. Яков Григорьевич пошел к правлению, уже поравнялся с домом Макарихи, когда услышал не крик, а победный вопль Славки:
— Пап-ка-а-а!
Яков Григорьевич приблизился к обрыву. Славка обернулся и помахал рукой, в которой была зажата белая рыбина.
— Есть! Жареха!
— Tы поосторожней там, — предостерег сына Яков Григорьевич. — А то свалишься в воду.
— Я соображаю!
— До соображений тебе будет. — хмыкнул Яков Григорьевич.
В правлении чисто, тепло, уютно. В тишине четко, как шаги солдат, раздаются удары маятника больших настенных часов.
Яков Григорьевич открыл свой кабинет, причесал непослушные волосы на правую сторону. Эта незамысловатая прическа сохранилась у него на нею жизнь. На столе лежали вчерашние газеты, Яков Григорьевич мимоходом заглянул в них и, усевшись на новый стул, обтянутый коричневым дерматином, потянулся.
В кабинете появилась заспанная Тася.
— Ужо поднялась, барышня-агрономша! — пожимая ей руку, улыбнулся Яков Григорьевич и пригласил: — Садись давай, хорошо, что рано пришла. Надо нам кое-что обмозговать. Я только прежде позвоню на конный двор, чтобы лодку спускать готовили.
— Уже плыть собираетесь?
— Да нет, по льду-то далеко не уплывешь. К вечеру уж разве, когда реже льдины поплывут. Но о лодке приходится хлопотать. Забыли небось за зиму, где она и что с ней.
Пока Яков Григорьевич с сердцем крутил ручку телефона, безуспешно пытаясь дозвониться до конного двора, Тася, облокотившись о стол, глядела на него.
Лицо у Таси было озабоченное, усталое от постоянных недосыпаний, однако без прежнего уныния и настороженности. С тех пор как Яков Григорьевич стал председателем, жизнь Таси в колхозе утвердилась, пошла уверенней. А ведь она уже могла и не быть здесь. Птахин как-то написал на Тасю жалобу в МТС, требовал убрать ее из колхоза. Весь тон докладной изобиловал сарказмом Клары и кудреватыми словечками Карасева. Чудинов дал Тасе прочесть докладную. И, ничего не добавив, при ней же разорвал бумагу.
— Работай. Не думай, что другим легче. Помни, что, концы-концов, спрашивать с тебя будут, с нас, а не с какой-то там гопкомпании. — Он еще что-то хотел сказать, но замолчал и, порывшись в столе, подал бумажку. Вот тебе распоряжение на получение добавки в смысле зарплаты. Чего уставилась? За двоих ведь ворочаешь. Трудно, знаю, скоро пришлем зоотехника. Берн, бери, сотня-другая не лишние.
Чудинов разговаривал с ней грубоватым тоном, не глядя в глаза. Она со строго поджатыми губами выслушала его. Забыв, видимо, про уговор, на людях он называл ее на вы, а когда оставались вдвоем — на ты.
Когда вместо Птахина начал работать Яков Григорьевич, этот большой и даже чем-то родной человек, Тася сразу поняла, что теперь ей уже не надо будет мучиться, решать и бороться за свои решения одной. К этому человеку она может прийти всегда, с чем угодно, и он поможет ей.
Тася спокойно и охотно приняла покровительство нового председателя. В МТС ей часто говорили, чтобы она не тянулась на поводу у председателя, ты, мол, самостоятельная фигура. Она соглашалась с этим — и делала, как хотел Яков Григорьевич. Тася так нуждалась в человеке, который был бы сильнее со. Она всегда льнула к сильным людям и словно черпала у них упорство.
Так и не дозвонился Яков Григорьевич до конного двора, бросил трубку.
— Дрыхнут мертвым сном или на речку ушли. — Он почесал затылок, подвинул к себе растрепанный блокнот и, листая его, проговорил: — Итак, товарищ агроном, ледок тронулся, сеять начинаем. Ох и аврал будет у нас, не приведи Господи! Весна дурит, людей недостает. Знаешь, что я хочу предложить тебе?
— Пока нет.
— То-то, что не знаешь! Узнаешь — заревешь!
— Так уж и зареву?
— Хотя верно, ты — барышня храбрая, — улыбнулся Яков Григорьевич и, погасив улыбку, отодвинул блокнот. — Дела и вправду серьезные. Я хочу попросить тебя на время возглавить посевную кампанию в здешних бригадах. Сам я переплыву на ту сторону, думаю, не завтра, так послезавтра начнем там выборочный сев. А в Заречье у нас гулеваны живут, за ними глаз да глаз нужен. — Яков Григорьевич положил свою руку на стекло и сразу закрыл половину календаря из журнала «Огонек», где был изображен Василий Теркин. Тебе придется отправиться в третью бригаду. Несколько дней побудешь там, займешься зерновыми и кукурузой.
— Как же с семенами?
— Вот к этому вопросу и подходим. Заберешь семена из шестой бригады и из Ильичевки.
— А Ильичевка?
Яков Григорьевич налил воды, попил и, пристально посмотрев на нее, угрюмо пробасил:
— Ильичевка подождет. Сев в ней обычно начинается позднее. К тому времени семена завезем из соседнего колхоза. У них есть сортовые, дают в долг, до осени.
— Что же с нашими семенами, Яков Григорьевич?
Яков Григорьевич нахмурился, смахнул со стола спичку, потом нагнулся, достал ее, искрошил в пальцах и сказал:
— Не хотел я тебя расстраивать да не скроешь шила в мешке. Наших семян уже нет.
— Как нет? — изумилась Тася.
— Так и нет. Проданы и пропиты.
— Да это что же? Удар в самое сердце колхоза. Преступление!
— Преступление и есть! Ну, ты пока молчи об этом. Идет следствие, и паниковать не надо. Людям хлопот и трудностей без того по горло. — Он смолк и покачал головой. — И ведь все с позволения Птахина. Ой, дурная голова. Они, как о тряпку, ноги об него вытирали.
— Стоит такого жалеть, — фыркнула Тася.
— Такие люди, как Птахин, — глина, и от того, в какие руки попадут, зависит — кирпич сделают или безделушку для забавы. Так-то, Таисьюшка. Люди-то разные живут на земле, очень разные.
Тася опустила глаза, затеребила концы косынки, уловив в его словах какой-то глубокий смысл, касающийся и ее.
Яков Григорьевич положил в стол газеты, свернул блокнот.
— Ну, беги завтракай. Распоряжайся тут твердо. У нас еще надо часто круто завертывать, так не робей, подвинчивай гайку. Я постараюсь попутно похлопотать насчет людей и поскорее возвратиться, неохота мне оставлять тебя одну, да и иначе нельзя. Заречье — колхозная житница. Сеять там надо вовремя и хорошо. Во всех здешних будем в дальнейшем расширять посадку картофеля и овощей, а в Заречье — зерновые. В этом весь корень нашего хозяйства. Да, я тебе забыл сказать, будет у тебя хороший помощник.
— Кто?
— Вот догадайся.
— Где мне?
— Решил райком всеми силами вытягивать наш колхоз из прорыва. Уланов и квартировать думает здесь. Повезло нам, — простодушно подмигнул Яков Григорьевич.
— Хоть в этом повезло — и то ладно, — заключила Тася и стала отодвигать стул к стене.
— Я вот еще о чем хочу тебя попросить, Таисьюшка. Будешь наезжать из бригады, ребят моих попроведай. Весна сейчас, река вскрылась, всякое может быть, да и экзамены у них.
— О ребятах не беспокойся. — Она покосилась с усмешкой на озабоченное лицо Якова Григорьевича. — И чего вы топчетесь, как зайцы возле капусты! Нерешительные какие-то.
— Ты больно решительная, — улыбнулся Яков Григорьевич и отмахнулся. Иди уж. Скоро все уладим. Вот закончим посевную — и баста! Начнем жить одним домом.
— Давно пора. И окончания посевной ждать не обязательно, не свадьбу гулять. Я вот велю ребятам манатки перетаскивать без тебя — и весь разговор.
— Иди-ка ты, иди, взбалмошная! — испуганно приподнялся Яков Григорьевич. — Такое дело сразу нельзя…
— Эх, Яков Григорьевич, Яков Григорьевич! — покачала головой Тася. Так вот и упустил ты невесту смолоду. Еще и сейчас останешься с носом, предупредила она. — На тетю Лиду еще любой засмотрится, да окажется не таким тяжкодумом, как ты, — и готово.
— Ладно, не пугай, пуганый я, — смущенно отшутился Яков Григорьевич н, покраснев до самого воротника гимнастерки, пробубнил: — Если Лида разрешит, пусть тут ребята перетаскиваются, так даже лучше. Да поговори прежде с ней, кто ее знает, может, что снова там.
Тася захлопала в ладоши и от двери, сияя глазами, крикнула:
— Как я рада! Как я рада! Все вместо! Красота! Я и разговаривать с ней не буду, я прикажу, и все! Сколько можно так?
Тася выбежала из кабинета. Яков Григорьевич подошел к двери, притворил ее и так, держась за скобу, постоял в задумчивости. Потом тряхнул головой и прокашлялся:
— Девчонка еще, как есть девчонка!
Он медленно подошел к окну. Отсюда видно было кусок протоки между крутых яров, разрезанных речкой Корзиновкой. В тугом вырезе, как на экране, появлялись и исчезали льдины. Вот проплыло торчащее бревно, за ним ободранные, похилившиеся пихточки, загораживавшие зимой прорубь. Потом кусок дороги, словно обрызганный йодом. Мелькнуло и пронеслось несколько черных льдин, должно быть, стоянка трактора была или что-нибудь мазутное на лед складывали. Между солидно плывущих огромных льдин ныряли и крутились околотые льдинки-коротышкн. Все чаще и чаще стали мелькать темные окна воды. Лед редел. Рука Якова Григорьевича снова потянулась к телефону.
По воде с шуршанием плыли и плыли льдины. Над рекой носились крикливые птицы. С берега, поныривая, прилетела серенькая трясогузка в черном фартучке и такой же ермолочке. Вильнув на ходу, она подхватила муху и села на льдину, довольнехонько покачивая хвостиком. Низко-низко, чуть не касаясь брюшками льдин, промчалась стайка чирков, посвистыная крыльями. Немного спустя в том направлении, где они исчезли, ухнул выстрел.
В Заречье справляли Николу-престольного. Над рекой разлетались переборы гармошки. Мужской голос, едва поспевая за ними, проревел заковыристую частушку. Ему откликнулся бойкий голос подвыпившей и оттого хулиганистой женщины:
Я на камушке сижу, Слезы мои капают. Меня замуж не берут, А лишь только лапают.Раздался взрыв хохота, заглушивший гармошку. Кто-то подзадоривающе вопил:
— Ы-ы-ых, язви те! Пой, Грунька!..
— Жми на все лады!
— Пропадай моя телега, все четыре колеса!
— Oп, oп, oп, гуляй, Заречье!..
Яков Григорьевич подтащил лодку на берег, послушал маленько и пошел в гору.
Ребятишки, игравшие на берегу в бабки, переглянулись, и один босой помчался в избу, откуда доносилось веселье. Гармошка квакнула и смолкла. Навстречу Якову Григорьевичу, что-то дожевывая на ходу и застегивая пуговицы па гимнастерке, спешил бригадир. Он совсем недавно возвратился из армии, и Яков Григорьевич надеялся, что бригадир из него получится толковый. Армейскую выучку прошел, здесь вырос, людей знает, свой человек. И вот тебе на!
Бригадир по армейской привычке прищелкнул каблуками и заплетающимся языком доложил:
— Гуляют.
Яков Григорьевич смерил его сердитым взглядом:
— Если уж взялся докладывать, так докладывай точнее.
— Гуляем! — покорно поправился бригадир жалобным голосом и глуповато уставился на председателя мутными глазами.
— Так и будешь стоять? — спросил Яков Григорьевич бригадира, а краем глаза наблюдал за тем, как в избе панически расталкивают все куда попало. Что-то упало и со звоном разбилось. «О, мать твою!» — ругнулся какой-то мужик, и на него сразу зашикали со всех сторон. — Веди, что ли, в избу-то! — снова заговорил Яков Григорьевич и первый шагнул в сени.
— Я… мы… понимаете, товарищ пре… председатель… теща моей жены человек верова… верующий… женился я недавно… теща… — лепетал сзади бригадир.
— Помолчи пока! — буркнул Яков Григорьевич. — Я еще с тобой потолкую. — И, шагнув через порог, как ни в чем не бывало, сказал: — Мир честной компании!
Ему отозвался разрозненный и вялый хор женских голосов. Мужики голоса не подали и по возможности старались укрыться от его цепких глаз кто за спиной жены, кто за печкой, а то и за фикусами, составленными в угол горницы. Некоторые явно прицеливались выскользнуть из избы, но Яков Григорьевич нарочно не уходил от дверей.
— Чего же не приглашаете председателя за стол? — с иронической усмешкой продолжал Яков Григорьевич. — Выбрать выбрали, а теперь ни потчевать, ни узнавать не желаете!
Народ зашевелился, послышались сконфуженные голоса:
— Да что вы… да мы… да Яков Григорьевич, дорогой ты наш начальник… да ежели не побрезгуешь… милости просим…
Яков Григорьевич снял кепку, поискал глазами, куда ее повесить, и сунул в руки расторопно подскочившей молодухе. Он видел, как тесть бригадира, кряжистый мужик в сатиновой вышитой косоворотке, подмигнул своей жене и она захлопотала. Это был тот самый колхозник Варегин, что выступал на собрании. Бригадир, то и дело роняя голову на грудь, стоял у дверного косяка с бессмысленным видом. Яков Григорьевич с прищуркой глянул на него.
— А вы, я вижу, начальство любите, побольше подаете?
Послышался легкий смешок, бригадира оттеснили на кухню и потом толкнули в чулан. Он притих там, успокоился.
Яков Григорьевич спокойно принял стакан, наполненный брагой, понюхал и деловито осведомился:
— Не с хмелем? А то с хмелевой голова здорово болит.
— Нет, нет, что ты, бражка — первый сорт! Откушай, сам увидишь!
Сразу с двух сторон к нему угодливо потянулись вилки с закуской. Слева вилку с соленым рыжиком держала та самая, что пела залихватские частушки, краснощекая птичница Груня. Справа — сама теща. Яков Григорьевич чокнулся со всеми, зажмурившись, выпил стакан до дна, крякнул и взял вилку с рыжиком.
— Старых везде бракуют! — с притворным вздохом сказала теща и сама съела огурец со своей вилки.
— Какая же ты еще старая? — повернулся к ней Яков Григорьевич и тут же решительно накрыл ладонью стакан, в который тесть под шумок намеревался плеснуть еще браги. — Стоп! Стоп, граждане, — запротестовал председатель. Мы сначала поговорим но душам.
Он еще поддел рыжик, съел его и не торопясь положил на стол большие руки.
— Что ж, мужики, выбрали время и решили действовать прежним манером?
Все затихли, насупились. Яков Григорьевич подождал, но никто не проронил ни слова.
— Зачем же вы меня тогда выбирали? Чтобы было на кого свалить все колхозные грехи? Шея, значит, у меня толстая, сдюжит? Сегодня Никола-престольный, завтра какой-нибудь Тихон-раздольный, потом Троица, глядишь, лето-то и промелькнет, а на отчетном меня за грудки возьмете?
— Мы не так просто, мы День Победы празднуем-то, — подал неуверенный голос один из мужиков, рассчитывая, должно быть, смягчить председателя тем, что гулянка ведется по патриотическим мотивам.
— День Победы? — повернулся Яков Григорьевич на голос. — А когда он был?
Подавший реплику колхозник завел к потолку глаза, беззвучно зашевелил губами и уныло молвил, почесывая загривок:
— Кажись, позавчера.
— Эк, до чего допились! Счет времени потеряли! Небось с первого мая так и шуруете?
На вопрос никто не ответил. Мужчины сидели красные, ковыряли ногтями клеенку, женщины теребили концы платков, покусывали губы. У раскрытых окон затаились ребятишки.
— А я везде говорю, — продолжал Яков Григорьевич, — заречные не подведут, на заречных можно надеяться. Они у себя посеют и другим помогут. Они же, видали, и бригадира своего, молокососа, споили! Видно, плохо я знал заречных. Сейчас переплыву к ильичевцам, там у них еще грязно на полях. Пусть они у вас посеют, а вы гуляйте. Никола ведь, да еще престольный…
Он сорвал с гвоздя кепку, нахлобучил ее и пошел из избы. Безмолвно, с раскрытыми ртами, провожали его сидевшие за столом.
Постояв на яру, Яков Григорьевич закурил, с досадой швырнул спичку в лужу, спустился к реке и начал отвязывать лодку.
С горы, едва успевая переставлять ноги, в одной косоворотке, без танки, скатился Варегин и схватился за цепь. За ним спешила вся компания.
— Товарищ председатель! Яков Григорьевич! Не позорь! Просим тебя, не позорь! — торопясь и задыхаясь, говорил Варегин. — Мы перед ильичевцами сроду в грязь лицом не ляпались. — Яков Григорьевич, бей, режь, ругай, что хочешь делай, только не плавай к ильичевцам. У нас соревнование с ними, еще сыспокон веку, и мы всегда впереди шли. Хоть в чем впереди: в драке ли, в работе ли. Сыспокон веку так, и негоже нам, понимаешь, негоже в таком облике перед ними… Хочешь, сегодня в ночь начнем, только не езди.
Яков Григорьевич уселся на нос лодки и с непроницаемым видом дымил папиросой. В душе он смеялся, но лицо его было по-прежнему сурово. Будто он не знал, какие отношения у заречных с ильичевцами, будто ои не здесь родился и вырос. Но он послушает и помолчит. Помолчать иной раз полезнее, чем говорить.
На той стороне, за островом, возле дома Лидии Николаевны копошились игрушечные фигурки. Яков Григорьевич догадался, что это возле палисада играют ребятишки. Все остальные дома корзиновцев утопали в синеватом мареве, и дальние горы за деревней с трудом угадывались в дрожащей пелене.
Когда на берегу собралось порядочно народу и вспотевший Варегин в отчаянии замолк и обратил свой унылый взор на односельчан: все, мол, мои пределы кончились и ничего поделать не могу, Яков Григорьевич швырнул окурок в воду, проводил его глазами и поднялся.
— Ладно, на этот раз не поплыву! Но чтобы все, что за эти прогулянные дни не сделали, — наверстать! Ты, Варегин, отвечаешь головой, и за зятя своего отвечаешь!
— Есть! — по-солдатски рявкнул Варегии, разом воспрянув духом, и начал круто распоряжаться:
— До вечера гулять, чтобы и капли браги не осталось и никому она души не смущала. Мишке-трактористу больше не подавать, поскольку на агрегате, а положить спать. Хорохориться начнет — связать его, сукиного сына. Ты, Никифор, тоже больше не принимай, отяжелел. Зятя мово сполоснуть холодной водой, ежели до вечера не восстановится…
Гулянка возобновилась. Яков Григорьевич был обескуражен, но, к его удивлению, все получилось так, как приказал Варегин. Брагу допили до последней капли, и вечером часть людей вышла на работу. На другой день здесь началась посевная. Следом должны были начать сеять у Букреева. «А из Варегина, пожалуй, добрый бригадир получится, надо это учесть, — отметил про себя Яков Григорьевич. И тут же его мысли перепрыгнули па другое: Как-то там у Таисьи дела?»
Он тоскливо глядел на корзиновскую сторону. На пологой седловине чуть виднелась Дымная.
Еще в начале зимы Павел Степанович Букреев ездил на совещание передовиков сельского хозяйства в город. Там у него произошла любопытная встреча.
Он обедал в столовой, и к его столу неожиданно подсели два человека. Один из них оказался бывшим колхозником, уехавшим из Дымной года два назад. Звали его Илья Морозов.
Павел Степанович относился к подобным людям с большой неприязнью. Он хлебал щи, а те двое заказали сборную солянку, гусятину, чебуреки. Бывший колхозник держался вызывающе, хрустел новыми полусотенными и косил глаза на Букреева. Павел Степанович похлебал щи и принялся за котлету. Ои делал вид, будто не узнает Илью. Букреев хитрил. По лицам этих двух мужиков видел они подсели за его стол неспроста. Им хотелось поговорить, и Букреев догадался, о чем они собираются с ним разговаривать. «Что ж, покуражиться и мы сумеем», — отметил он про себя.
Соседи его заказали водки, и Павел Степанович догадался, для чего. Но он, как ни в чем не бывало, клевал свою котлету вилкой. Илья был одет в хороший бостоновый костюм, который нарочно расстегнул, чтобы лучше был виден атласный галстук с китайскими завитушками. Говорил он громко и все больше о каких-то покупках, о заработке, о квартире с «крантом». Сосед его, не проронивший ни слова за это время, согласно кивал головой. Одет он был попроще, часто и с интересом поглядывал на Павла Степановича. Один раз он даже порывался обратиться к нему, однако Илья скорчил гримасу и приложил палец к губам. Павел Степанович прикрыл улыбку рукой. Принесли водку. Илья поставил длинноногие рюмки перед собой, наполнил их из графинчика и обратился к Павлу Степановичу:
— Земляк, не откажись за компанию!
— Спасибо, на чужие не пью, а своих не накопил.
Илья вспыхнул, ресницами захлопал, но тут же преодолел замешательство:
— Не чуждайся земляков, Павел Степанович, от души угощаем!
— А я от таких, как ты, и от души ничего не приму.
— Да ты слушай! Ты что? Ты за кого нас считаешь?
— Товарища твоего не имею чести знать. А ты отеческую избу на произвол судьбы оставил в трудное время, за сладким куском погнался… за кого же мне тебя считать?!
Илья скривил губы.
— Дезертир! Илюха Морозов подлый дезертир, — как можно небрежней промямлил он. — И тут же взвихрился: — А почему я дезертиром стал, а? Знаешь ведь, дядя Паша?
— Чего ты крик-то в общественном месте поднимаешь? — сурово уставился па Морозова Павел Степанович и погрозил пальцем. — Ты, парень, оправданья себе не ищи. Трудно жилось. А мне, ты думаешь, с семьей, да об одной руке, да об одной ноге — легче твоего было?
Илюха Морозов потупился. Его сосед, старше Ильи лет на восемь, с прозрачными, доверчивыми глазами, терзал в руках шапчонку. Он, наконец, набрался духу и заговорил с Букрсевым, который сердито помешивал ложечкой полуостывший чай:
— Я вот не знаю вас, вот сейчас познакомился. Сам я тоже колхозник, работаю на канаве с Илюхой. Завербовался на завод. Он, Илюха-то, мучается. Это он вам пыль в глаза пускает, вид делает купецкий. А я скажу — тяжело без родного угла, да и, вот ежели бы… ну, говори ты, Илюха!..
Морозов поднял глаза на Павла Степановича и умоляюще попросил:
— Да выпей ты с нами, ради Бога, дядя Паша, и всю мы тебе душу откроем. Окажи ты нам доверие…
И оказалось, что квартира с «крантом» вовсе не по душе Илюхе, и работа тоже. Денежная работа, но горячая, кругом металл, пламя, он к земле с детства привык, к крестьянскому труду. Ребятишки вон народились, растут квелые. На природу бы их…
Словом, после постановления Пленума стал Морозов подумывать о возвращении домой. Как ему быть? Посоветовал бы Павел Степанович!
Букреев сказал ему, чтобы он хорошо подумал, взвесил все. Изменения в деревне к лучшему начинаются — это так, но жизнь пока еще очень трудная. После сентябрьского постановления калачи на березах разом не выросли, да и не вырастут скоро.
И все же, несмотря на серьезные и честные доводы Букреева, Морозов первым возвратился в колхоз со своей семьей. Вместе с ним ехал и его товарищ. Мужик холостой, безродный, все растерявший во время войны.
Морозов шагал рядом с санями, нагруженными доверху разным скарбом. На возу сидели закутанные в одеяло сынишка и дочь. Жена шла рядом с Ильей.
Появились первые проталины. Мокрый снег шлепал под ногами лошади. Новорожденные ручейки пробовали свои силенки, пробивая дорогу к логам и речкам. Где-то в стороне от дороги, подгоняя весну, азартно бормотали тетерева.
Вот и поскотина. Морозов остановил лошадь, без надобности осмотрел воз, кое-что поправил, потом заметил на желтой проталине несколько беленьких брызг и, проваливаясь в снегу, пошел к ним.
— Илья, сдурел! — крикнула ему вслед жена. — Полные сапоги начерпал!
Но Илюха ничего ей не ответил. Он сграбастал ручищей, впитавшей металлическую пыль на долгие годы, белые брызги подснежников, дал по цветочку ребятам и жене. Как только приблизились к крайним домам деревушки Дымной, Илюха прокашлялся, выпрямился и, отступаясь, пошел рядом с лошадью. Вот и знакомая до мелочей улочка с несколькими старыми липами и срубом колодца посредине. На улицу выходит народ. Кто отвечает на приветствие Морозовых, кто нет.
Родной дом! Дом этот, по словам покойного отца, построен еще его отцом, то есть Илюхиным дедом. Окна дома перекрещены досками. Одна тесина на крыше провалилась, стало видно желтое, источенное червями стропило. Удивительно быстро и как-то само собой разрушается заброшенное жилье. Морозов оторвал доски от ворот, повернул заржавевшее кольцо щеколды и услышал, как оно знакомо звякнуло о верх скобы. Обыкновенный, даже не очень музыкальный звук вызнал ворох воспоминаний у Ильи…
В детстве, бывало, пробегает допоздна Илья, старается сделать так, чтобы щеколда-предательница поднималась беззвучно, иначе отец оттаскает за ухо. А когда учился в школе, мать по звуку щеколды узнавала, какую отметку Илька несет. Хорошую — звон на весь двор, плохую — едва слышный стук. А когда первый раз вышел Илька работать в колхоз, возил снопы и вернулся вечером домой, он так затарахтел щеколдой, что бабка-покойница с перепугу перекрестилась.
Илья заулыбался, но тут же улыбка сошла с его губ. Он услышал разговоры односельчан.
Преобладали замечания едкие, насчет того, что вот, мол, поднажились в городе, а теперь в деревню вернулись, поскольку сейчас колхозникам большие льготы вышли. А дед Еремей, тряся головой, злобно заявил:
— Лодырей да прохвостов и в городе не больно жалуют!
«Гляди ты, живой еще дед!» — удивился Морозов и вздохнул: откуда знать деду, что фамилия Илюхи не сходила с Доски почета. Провинился Илюха перед односельчанами, он провинился. Неужели они за это ему ласковые слова говорить станут? Иного и ждать было нельзя. Но вот лодырем и прохвостом они его все же зря обзывают, со зла это.
Илья услышал голос Букреева;
— Не подумавши говоришь, не подумавши! Лодырь, он в деревню осенью нагрянет, когда будет урожай убран, на готовый каравай, а эти весной, к самой работе…
«Да пусть срамят, пусть! — стиснул зубы Морозов. — Все одно не поверну оглобли, не поверну и еще докажу кое-кому здесь, как надо работать».
Тася, проходя по Дымной, с радостью отмечала: народу заметно прибыло. В деревушке шумней стало, веселей. Она знала, что, кроме Морозовых, в Дымную вернулись еще несколько семей. В заречные деревни тоже приехали три семьи.
Здесь, в этой небольшой деревушке, сильнее, чем в других селах, ощущалось дыхание возрождающейся жизни и весны. Осенью пусто было, безлюдно и тихо. А сейчас вой мужики стоят посреди улицы, курят и хохочут. Шапки у них па затылки сдвинуты, телогрейки расстегнуты — пригревает. Вон дом осенью был пустой, с выбитыми стеклами, а сейчас к окнам прилепились носами ребятишки, смотрят, галдят. Мужики бросили цигарки, подались на склад, в дом, выкрашенный синей краской, и вернулись оттуда с мешками. Крякнув, бросили их на телегу с заржавленными ободьями. Один мужик щекотнул подвернувшуюся на пути женщину. Та взвизгнула и лягнула его. Опять хохот. «Вот что значит настоящий человек, пусть даже на маленьком посту, подумала Тася о Букрееве. — К нему, как к магниту, тянутся люди. Умеет он и поговорить с ними, и расшевелить их. Насиделся он в стороне, натерпелся за эти годы. Теперь горы свернет».
Разыскать Букреева Тасе долго не удавалось.
Колхозники, у которых справлялась о нем Тася, смеялись:
— Где тебе, милая, его догнать, у него ведь одна нога не своя, вот он ее и не жалеет. Как ероплан летает!
Разыскивая непоседливого бригадира, Тася успела ознакомиться с положением дел в дымновской бригаде. Бригада в общем-то была готова к севу. Мужики, оказывается, таскали в мешках семена. Завтра выезд в поле намечен, если погода устоится.
Размахивая жидким ивовым прутом с лохматенькими охровыми шишечками, Тася напевала привязавшийся с утра один и тот же мотив. Так, без слов и без всякой мысли напевала и прутиком помахивала.
— Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела! — услышала Тася позади себя насмешливый голос Букреева и обернулась. С крыльца дома Морозовых спускался Букреев все в той же тужурке, перешитой из солдатской шинели, но в новом суконном картузе.
— А я вас ищу по всей деревне, — сказала Тася и швырнула надоевшую ей ветку в палисадник, возле которого остановились.
Букреев крепко пожал Тасе руку и, покачиваясь рядом с ней, несердито выговаривал:
— Давненько к нам не заглядывала, товарищ агроном, давне-енько.
— Некогда, Павел Степанович, сами знаете, какие наши дела. В вашей-то бригаде сносно, на вас мы надеемся, не подведете, — немножко польстила она, рассчитывая тем самым поднять дух бригадира и выклянчить у него кое-что для других бригад.
Павел Степанович прищурился.
— Картошки нужно в шестую бригаду. Угадал?
— Угадал, Павел Степанович, — откровенно призналась Тася, — догадливый вы, я еще осенью это заметила.
Павел Степанович так громко захохотал, что курицы, копавшиеся возле дороги на просыхающей полянке, переполошились и петух недовольно поднял голову, призывая их к спокойствию.
— Подли-иза, ох и подли-за! — захлебывался Павел Степанович и, все еще не переставая улыбаться, сказал:
— Ладно, дам картошки на семена, уж ради общего дела, а самому Разумееву каленого камня пожалею. Ну, как Сережа у тебя? Познакомился я тут с ним на улице. Хороший парень, сорванец такой же, как мои, ухо с глазом!
Тася чувствовала, что Павел Степанович рад ее приходу, спешит наговориться с ней, как с родной, и от этого на душе ее сделалось светлее. Тревога о посевной, о доверенном ей деле меньше донимала, рождалась уверенность, что с такими людьми она все одолеет, и эта уверенность прибавляла сил.
— Да, а хорошо я сделал, что осенью не послушал Карасева. Были бы мы без картошки. Нюх у меня еще не притупился, чувствовал я, дело пахнет керосином! — говорил Букреев, шагая с Тасей к своему дому. — Эх, сукины сыны, до чего колхоз довели: ни кормов, ни семян, ни людей… Все пустили под гору. Неужели им это просто сойдет?
— Не сойдет!
— Думаешь? — повернулся к Тасе Букреев и, уловив на ее лице что-то намекающее и успокаивающее, заторопился: — Надо взять их за шиворот, надо тряхнуть! — Он помолчал, оскребая сапог о железку на крыльце, уступил железку ей и сказал: — А ты молодец, Петровна, и ребята молодцы, что не дали скоту пасть, сено приволокли. До самой ростепели сено возили с Талицы по вашей дороге и колхозники, и лесозаготовители. Право, молодцы! От души говорю.
— Чего там, съездили и съездили. Больше разговоров, — смутилась Тася. — Лучше скажите, как у вас дела? Видела я инвентарь — в порядке. Семена подготовлены. Все будто на мази.
— Завтра думаем начать у Крутого лога. Горка там, вроде просохло. Ждать больше нечего. Весна-то дурит!
Павел Степанович перекинул деревяшку через порог, пропустил Тасю и спросил:
— Ты первый раз самостоятельно на посевной?
— Первый, Павел Степанович.
— Крещенье, значит? Ну, ну, ничего, — похлопал он ее по плечу. — Глаза боятся, а руки делают. Люди кругом свои. Разные, конечно, люди, но наши, советские. Они тебе помогут, ты им, и дело пойдет. Нынче легче у нас, веселей. Так ли бывало? Я тебе никогда не рассказывал, как мы тут начинали в тридцатом году? Нет? Вот пойдем обедать, я тебе поведаю кое о чем.
Утро выдалось солнечное, яркое. Павел Степанович довольно жмурился, причмокивал губами:
— Погодка-то, погодка, ровно по заказу!
Кругом курились поля. Небо подернулось бледной синыо. На самой середине его сиротливо болтались два беспутных облачка. Солнце пронизывало их насквозь своими острыми иглами. В низинах бушевали бесшабашные ручьи. Они напоминали малых ребят, которых долго держали взаперти и наконец-то выпустили. Мчались они с говором и с шумом, не разбирая пути, в любую подвернувшуюся канавку, трещинку, извилинку, смывая тлеющие под солнцем кучи серого снега.
У Крутого лога, возникавшего далеко в лесу и на открытом месте спаявшегося с высокой горой, Тася и Павел Степанович спрыгнули с телеги.
— Наиболее плодородная почва в вашей бригаде, как мне помнится, возле реки, — сказала Тася, спуская с головы на плечи платок.
— Да, ближе к реке, — показал кнутовищем Павел Степанович, — там, где намечено сеять кукурузу. Читал я насчет этой самой кукурузы в газетах. Вроде как стоящее дело. Но у многих людей в нашей бригаде сомнения: лучшую ведь землю отдаем.
— Мне думается, Павел Степанович, нужно попробовать часть кукурузы посеять на угористых полях. Растение теплолюбивое, как бы от реки его инеем не хватило. Как думаете?
— Пожалуй, ты дело говоришь, только обработку посевов на неровных полях будет трудно вести. Но мы попробуем и там и тут. Дело-то новое, без разведки не обойдешься. — Он помолчал и добавил: — Когда уж это переберемся мы на остров? Ну вот хочется мне вплотную заняться овощами, и только. А озимые, ячмени, яровые, овсы только отдергивают от дела. Ну какой у нас хлеб? Зато овощи родятся куда с добром! Вот и развивали бы овощное дело.
— Вы, значит, противник многоотраслевого хозяйства?
— А-а, какой там противник! — махнул рукой Павел Степанович. — Я противник того, чтобы труд людей зря переводить. Мне сдается, многоотраслевое хозяйство надо тоже с толком развивать.
— Направимся потихоньку. Яков Григорьевич велел тебе передать, что на острове нынче будет дополнительно распахано десять гектаров под овощи. Глядишь, через год-два мы туда постепенно переместимся с овощами и здесь тщательней будем планировать посевы! Нынешний год покажет, что и где лучше родится. Поля везде удобрены неплохо, спасибо шефам.
— И Ваське Лихачеву, — подхватил Павел Степанович. — Между прочим, налаживается парень. Спервоначалу был такой шалопай, беда! У меня тут как-то пахал, так согрешил с ним.
Они поднялись потихоньку в гору. Здесь крепче припекало солнце. По обочине пашни белели подснежники да шуршали нарядные медуницы. Тася сорвала несколько цветков. От них тянуло крепким вином, и запах этот пьянил сердце, кружил голову. Она выдернула из гнездышка синенький цветок медуницы, положила в рот и словно бы попробовала душистого сладкого меду.
Возле мелкого березника, на поляне, Илюха Морозов и рыжий парень запрягали лошадь. Девчата засыпали зерно в сеялку. Все они были в рубашках и кофточках, а верхняя одежда сложена на землю. Девчата громко и беспричинно смеялись, подталкивали Илюху и в особенности рыжего парня.
— Жених из города вернулся! — показывая на рыжего, сказал Павел Степанович. — Вот девки-то и стараются перевизжать одна другую, заневестились, засиделись в девках-то, а он ноль внимания, важничает, дескать, против городских устоял, но поколебался, а уж вам где меня окрутить, не поддамся. — И тут же, перейдя с шутливого тона на серьезный, Букреев прибавил: — Как ни трудно возле земли родной, а без нее, видно, труднее.
Остановив лошадь, бригадир крикнул:
— Здорово живом, молодцы!
— Здорово, коль не шутите! — отозвалась бойкая девушка в брезентовых сапогах с загнутыми голенищами.
— Сыровато маленько начинать-то, Павел Степанович. — озабоченно сказал тот самый неприступный жених с рыжим чубом и треснувшей посредине губой.
— Ничего, мокро — не засуха, жизни не убивает. Попробуем, глядишь, и не так сыро покажется. Ну-ка, Илья, дай мне!
Павел Степанович взял вожжи, проворно забрался на сиденье сеялки, неловко выставив конец, деревяшки, чмокнул губами:
— Н-но, Лысуха! Н-но, милая, начнем? Ты кобыла удачливая, знаю.
Лысуха, большая пегая лошадь с мягкими отвисшими губами, махнула хвостом и важно зашагала но пашне. Все молча смотрели ей вслед, только рыжий парень бежал рядом с сеялкой и кричал:
— Начали! Дядя Паша, начали! В добрый час начали!
— А ты как думал! Знай наших! — подмигнул ему бригадир, подстегивая лошадь. — Но, милая, шевелись, подбавляй ходу-у!
За сеялкой ложились ровные рядки, надежно укрывая налитые зерна. Тянулся парок, воздух наполнялся запахом вешней теплой земли. Появились галки, заковыляли по полю. Тронулась и вторая сеялка. С горы было видно извивающуюся ленту Кременной. На ней белели редкие льдины. На взгорье за рекой деревушка. За ней крутобокие горы. По одному из угорев чедлснно тащилась маленькая черная точка. Это был трактор. И там начали.
Хлопотливая весна вступила на поля. За этим трактором Тася увидела уже множество других, за полем, где сейчас она стояла, ей чудилась бесконечная вереница полей, черных, пробудившихся, ждущих человеческих рук.
— С зачином тебя, товарищ агроном! — услышала Тася голос Букреева и вздрогнула.
По лицу бригадира расплылась хорошая улыбка, а глаза строгие. Она поняла, что он серьезно поздравляет ее с первой бороздой. Дрогнувшим голосом Тася ответила, переходя на «ты»:
— Спасибо, Павел Степанович, спасибо, дорогой! И тебя тоже!
Под горой загромыхала телега. Из деревни везли семена, и Миша Сыроежкин, лежа на мешках, во всю головушку орал песню без слов. Все удивились тому, что поет он просто так, без подпития, иначе он непременно гаркнул бы про вора и бандита.
Глава пятая
Птахин настоял на своем. На станцию они выехали рано угром. Большинство жителей Корзиновки в это время обычно спали. К удивлению Птахина, весь их багаж уместился на одной телеге. Воз, правда, получился солидный, но зато ничего не осталось, кроме расшатанных табуреток и скамеек в покинутом доме. Дом занял недавно прибывший новый кузнец. Он хмуро выжидал, когда они уберутся. Птахин снова поймал себя на мысли, что жена так вела хозяйство, чтобы при случае можно было без лишних хлопот собраться и ничего не оставить. «Тряпки, тряпки, тряпки! Неужели она жила как квартирантка в Корзиновке?»
Как ни избегал Птахин людских глаз, увернуться от них все же не сумел. В деревне уже топились печи, шевелился народ. Совсем неожиданно встретился Букреев. Он сошел с дороги, глянул на Птахина, и тот, не выдержав взгляда, опустил голову.
«Черти-то его поднимают ни свет ни заря!» — пронеслось раздраженно в голове Птахина. Клара глядела на Букреева, впаявшего деревяшку в грязь, нахально, вызывающе, чувствуя, что это ее единственное оружие. Она хотела и не могла быстро придумать какую-нибудь грубость.
К досаде и огорчению Птахина, людей встречалось много. «Корзиновцы нынче рано просыпаются, на работу спешат, не то что в прошлый год!» отметил он. Было неловко и обидно оттого, что многие встречные смотрели на него, как на незнакомого проезжего. Некоторые усмехались, но никто не пожелал доброго пути. «Как быстро чужаком для них стал!» — подумал он и стегнул лошадь, чтобы скорее выбраться из деревни. Но у самой околицы, уж совсем некстати, встретилась старая Удалиха с ведрами. До Птахина доходили слухи, что она сильно болела и бедствовала. А туг вот, как нарочно, поднялась и шагает себе, да еще твердо шагает, долго проживет.
«Смотаться бы скорей!» — тоскливо подумал Птахин, проезжая мимо Удалихи, стоявшей обочь дороги.
— Нахапали — и ходу! — сердито крикнула она. — Да ворованное еще никому впрок не шло.
— Заткнись, кляча! — огрызнулась Клара. — Завидно, самой-то нечем грех прикрыть!
— Брось ты! — ткнул Птахин жену под бок и вытянул по костлявой спине старого мерина.
— А чего она свой нос сует?
— …Голову вам сломать, шею свернуть… — несся вдогонку голос Удалихи.
Они сделали вид, будто ничего не слышат. Мерина Птахину дали старого. Назывался он почему-то Петушок. Ничего в нем петушиного не было. Сколько его ни хлестал Птахин, прибавлять шагу он и не подумал, только на каждый удар вожжами отвечал досадливым помахиванием хвоста, будто паутов отгонял. Птахин плюнул и отступился, бросил вожжи на колени. «Нарочно клячу дали, стиснул он зубы, — и сопровождающего не послали, там, говорят, на станции лошадь отдашь новому колхознику: из города едет к нам работать. Заслужил!» И тут же утешил себя: «Посевная. Работы по горло. Кого же посылать? Сами уедем. Лошади хорошие тоже в расходе». Но самообман не помогал. Ведь он своими глазами видел, что кобылка Бабочка стояла на конюшне. Птахин оглянулся на деревню, в которой начал свою трудовую жизнь, и со вздохом пропел:
Эх, Корзиновка! Корзиновка! Деревянное село!А Клара, сидя на возу, беззаботно напевала «Самару-городок». Птахин досадливо сморщился: нашла время веселиться. Хотел оборвать ее, но раздумал и начал грустным взглядом прощаться с Корзиновкой.
Мало что изменилось в ней за эти десять лет. Она не расширилась, не разрослась. Только несколько новых домиков и построек, еще не успевших почернеть от времени и солнца, виднелись на краю села. Остальное — как было. Так же слепо сквозь узорчатые железные решетки глядела с горки на деревню старая, безмолвная церковка. Крышу ее украшали несколько толевых заплат, заметно выделявшихся на старом, ржавом железе. Вокруг церкви роем вились беспокойные галки и падали на вершины старых берез, росших когда-то в церковной ограде. Теперь, без ограды, они имели вид приблудных состарившихся странниц.
За Корзиновкой на косогоре виднеется правление с новым крыльцом. Чуть поодаль от него, ближе к обрыву — старый длинный дом Макарихи. Из дворов тянет перепрелым навозом, разносятся от дома к дому довольные голоса петухов, на улицах начинает появляться зелень. Мир, покой и удивительно мягкий уют кругом.
Дорога сворачивает к реке. Скоро начнется сосновый бор, и Корзиновка исчезнет.
Птахин смотрит на Корзиновку не отрываясь, и вспоминается ему, как десять лет назад он пришел сюда тоже весной, в заношенной вельветовой куртке с «молнией», в тапочках, с фанерным чемоданом, закрытым на большой замок. Как он спал в первые дни в правлении на стульях и ел картошку с луком. Картошку ему приносил в кармане бригадир-полевод Яков Григорьевич Качалин. Выкладывая на стол припорошенные табачными крошками картофелины, он ободрял:
— Не робей, парень. Все образуется. На квартиру определишься, сапоги раздобудешь, невесту подсмотришь. Все пойдет по порядку.
И все шло по порядку: жил, работал, вырастил первый урожай, женился. Время шло незаметно, быстро шло время в трудах, заботах, радостях и горестях. Ведь были и радости. Были. Шли к нему люди и с тем, и с другим, шли за помощью, за советом, не таясь выкладывали все. Они нуждались в нем, а он в них — вот в чем была самая большая радость. А потом он как-то привык к этому, обтерпелся, надоедать ему стали люди, и жалобы, и просьбы их показались ему докучливыми, раздражать стали. Раз отмахнулся, другой. Так незаметно лишился главного — сердечного отношения людей и остался как перст один.
Сдавило грудь Птахина, и судорога докатилась до горла. Он только сейчас понял, что у человека на земле бывает два самых дорогих места.
Одно, где сонно скрипит деревянный очеп, где трюкает под печкой сверчок, где пахнет парным молоком и из русской печки тянет сладким угаром. Там он сделал свой первый шаг: от кованого сундука к подолу большой, вечно занятой женщины, которую звали единственным, известным ему тогда словом «мама».
Пошел он необычно, а запомнил все обстоятельства, связанные с этим событием, потому что ему часто потом рассказывали, как все получилось. Оказывается, он еще с детства был «ползунком». Миновало уже два года, а он все еще ходил у скамейки, возле сундука. Ему достаточно было одного пальца матери, чтобы шагать. Но отнимала мать палец — и он тут же шлепался на пол. Однажды он стоял у сундука, смотрел в окно и заметил, что рыжее солнце исчезло, окно потемнело, кругом сделалось тихо. Он прислушался к этой тишине, позвал мать. Никто не откликнулся. За окном блеснуло что-то яркое и ужалило его в глаза. Вслед за этим забарабанило так, будто на чердаке передвигали по камням такой же тяжелый сундук, за какой он держался.
Тут-то мальчик и обнаружил, что он уже не держится за сундук, а, теряя равновесие, ковыляет головой вперед к цветастому переднику матери, будто боднуть ее собирается. Мать ахнула, подхватила его и выбежала в сени.
— Отец, отец, гляди-ка, Зинка-то пошел!
Отец долго молчал, а потом угрюмо выдавил:
— Какой град, все выхлещет!
На крыльце прыгали, бились со щелканьем друг о дружку градины. Они были круглые, похожие на пуговицы, пришитые к материнской кофте. Мальчику они еще напоминали сладкие круглые конфеты. Он высвободился из рук матери, подобрал одну кругленькую, положил в рот. Она оказалась несладкой. Он выплюнул ледяшку и шагнул на улицу. По голове больно заклевали злые курицы. Зинка заревел. Светлый, большой мир, который был за порогом, сразу обидел его.
Вторая родина памятней. Может быть, оттого, что сам помнишь, как сделал здесь первый шаг, как получил первую получку, как заработал первое, вслух сказанное спасибо. Если в краю детства каждый дом, каждый пригорок и переулок были таинственной загадкой, то здесь они до мелочей знакомы. Порой постылы, надоедливы делались корзиновские места. А вот трудно от них оторваться…
«Устроимся еще лучше, подумаешь, невидаль какая, Корзиновка!» толкует ему Клара постоянно. «Вот и невидаль. Для меня всего одна Корзиновка на свете». — Птахин вдруг выпрямился, изумленно огляделся вокруг. «Правда, ну куда я, зачем? Хотел, чтобы мне покорились, догнали, упрашивали, а мне клячу и, пожалуйста, катись колбасой. Ничего никому не доказал и докажу ли?»
Телегу подбросило на выбоине, покатился чемодан. Клара ловко подхватила его, пристроила, зевнула и, сонно щурясь от солнца, снова замурлыкала что-то под нос.
— А знаешь, — оборвала она песню, — все, что ни свершается, к лучшему. Даже хорошо, что тебя турнули из председателей. Устроимся где-нибудь в городе, в театр, в цирк ходить станем, а в этой дыре уж заплесневели, одичали вовсе.
Птахин повернулся, с нескрываемым раздражением посмотрел на ее затененное косынкой лицо с черными полуопущенными ресницами.
— Ни шиша же ты не понимаешь! — желчно и снисходительно бросил он и соскочил с телеги. — Н-но, паскуда! — выругался Птахин, охаживая кнутом мерина.
— Псих ненормальный! — пожала плечами Клара.
Дорога свернула в желтоствольный сосняк. Корзиновка пропала из виду. Ехали молча. Показалась МТС.
«Скорей бы здесь проехать, а то еще кого-нибудь черт вытащит», нахмурилась Клара.
Птахин грубо бросил:
— Слезь. Не видишь, грязь, тяжело коню.
Клара нехотя слезла с воза, оглядела юбку, подтянула косынку и, догнав Птахина, пошла рядом с ним, покусывая выдернутую из-под чемодана соломинку. Птахин отдал ей вожжи.
— На, я закурю.
Она взяла вожжи, подсунула их под чемодан на телеге.
— Не беспокойся, рысак не удерет!
— А у тебя руки отсохнут?
Клара удивленно пожала плечами.
— Псих, я сказала — псих, так оно и есть. Жалко Корзиновку стало? Так я-то тут ни при чем.
— Ты ни при чем. Ты всегда ни при чем! — забубнил Птахин.
— Разумеется, ни при чем! — И тут добавила, чтобы вывести Птахииа из дурного расположения духа: — Вот и река, гляди, как вода здорово прибывает, на острове уже кусты затопило.
«Эх, пиломатериал для парниковых рам не увезли с берега, — ахнул про себя Птахин. — Унесет, если Яков Григорьевич или Голубева не вспомнят. Позвонить, что ли? А ну их!»
Стараясь идти рядом с лошадью, чтобы закрыться от окон МТС, они воровато ехали по улице.
В ограде МТС рядами стояли новые машины. Часть их уже отправлена в колхозы. Возле некоторых хлопотали люди. «Да-а, посевная начинается, вот и шевелятся, как муравьи, — думал Птахин. — А машин-то, машин! Только и работать теперь. Тут тебе и для хлеба, и для овощей: тракторы, культиваторы, сеялки и всякая холера. Вот в войну бы или в первые годы после войны попробовали. Руками голыми, на одной картошке, а кругом кричат: „Давай! Давай!“ И давали. Еще как давали! Птахина весь район знал, в газете писали об опыте его работы! Теперь никому не нужен, все рыло воротят. Отваливай, мол. А куда?»
— Н-н-но ты, одер! — закричал Птахин и с яростью ударил по обвислому заду Петушка.
В кабинете Чудинова выставляли рамы. Горбатенькая секретарша убирала со стола и что-то сердито говорила уборщице, вытаскивавшей рамы.
Чудинова в кабинете не было. Птахин вздохнул и облегченно и раздосадованно. Где-то в глубине души у него еще таилась надежда, что здесь, на этом последнем рубеже, его остановят. И думалось: остановит именно Чудинов: «Концы-концов, не хочешь в Корзиновке быть, айда в другой колхоз или к нам. Агрономы да еще с такой практикой, как у тебя, по проулкам не валяются». Но Чудинова не было. Обрывалась последняя нить. Моментально созрела уловка:
— Может, в магазин заедем, на дорожку чего-нибудь купим? — спросил Птахин у Клары.
— Время терять, да чтобы глазели тут разные! Поехали дальше. Закусить на дорогу есть, а что другое — на станции купим.
— Да и… коня покормить бы… еле ноги переставляет.
— Ничего, доедем. Не наше дело кормить колхозных кляч.
Птахин прошел несколько шагов и, ничего не сказав жене, вернулся к конторе МТС, заглянул в несколько комнат, но Чудинова в них не оказалось. Тогда он зашел к секретарше, взял телефонную трубку, намереваясь вызвать Корзиновку, но раздумал и попросил секретаршу позвонить насчет пиломатериала:
— Пусть не царапаются — унесет.
Больше здесь делать нечего. Птахин потоптался, нахлобучил кепку и, попрощавшись с секретаршей, побежал догонять подводу.
Вот и последние дома деревни Сосновый Бор. Дорога поднимается в гору. МТС остается внизу. Рыжий домик правления, как муравьиная куча, посредине ограды, а вокруг него, будто рой замерзших муравьев: тракторы, автомашины, какие-то механизмы, похожие на стрекоз, сеялки, видимо.
Из кузницы валил черный дым и долго не растворялся в голубом небе. По реке плыли редкие льдины. Иногда какой-нибудь куст со слабыми корнями выворачивало течением, и он мчался неведомо куда, то исчезая в реке, то ненадолго выныривая. Куда-то его прибьет? Сумеет ли он уцепиться своими переломанными корнями в другом месте, на другой косе или обмыске? А может, закрутит его течением и бросит на сплошной камешник, где и со здоровыми корнями не всякий куст приживается.
Река все дальше и дальше, а впереди, насколько хватает глаз, поля озими, отороченные ельником и пихтачом. Дышит озимь, расправляет выстоявшие зиму перышки, тянется навстречу солнцу.
Впереди за щетинкой мелколесья дымки. Станция. Птахин еще раз оглянулся на реку, на МТС и скользнул взглядом дальше, туда, где из-за соснового леса чуть выглядывала белая церковка, в которой, может быть, сейчас Миша Сыроежкин отпускал семена в бригады.
Но Миша Сыроежкин оказался на станции. Вместе с ним был тот человек, которому велели передать лошадь. Птахин узнал его.
— Здравствуй, Хопров. — И протянул ему руку.
— Здравствуйте, здравствуйте, — раскланялся Хопров. Одет он был в хороший шевиотовый костюм, обут в добротные хромовые сапоги. По всему видно, жилось человеку в городе неплохо. И язвительный вопрос насчет того, что несладко, мол, в городских хоромах, отпал сам собой. Вместо этого Птахин просто спросил:
— Потянуло, значит?
— Потянуло, — откровенно признался Хопров. — Да и все время тянуло. Я в городе-то чувствую себя временным жителем. Да и не один я. Много нас таких толкалось в городской тесноте, и не теряли мы надежды переехать обратно. — Хопров помолчал и признался: — Мне часто изба своя снилась. Будто стоит она, забитая досками. Я подхожу ближе, а это уж не изба, а отец-покойник глядит… мурашки по коже… да-а, земля родная, она тянет к себе человека. А вы что же надумали?
— Да вот, — пожал плечами Птахин, — надоел я корзиновцам, выгнали.
— С председателей тебя прогнали, а из деревни небось не гнали, недоверчиво протянул Хопров. — Я корзиновцев знаю. Они зря обидеть не позволят. Не-ет.
В словах Хопрова была затаенная надежда. В трудное для деревни время он отсиделся в городе. Побаивался Хопров, как и Илюха Морозов, как бы земляки не показали от ворот поворот. Как бы между прочим он поинтересовался, пустует ли та половина избы в доме Лидии Николаевны, которую он занимал прежде, или уже заселена.
Птахин рассказал ему обо всем. На лице Хопрова появилось огорчение, но он тут же горячо заговорил, уверяя скорее себя, чем Птахина, в том, что не может, мол, быть такого положения, чтобы в родной деревне не нашелся уголок для своего человека.
Почувствовав, что разговор принимает неприятный характер, Птахин распрощался с Хопровым и направился в вокзал. Там на деревянном чемодане по-хозяйски устроилась Клара.
Скрыться от неприятных собеседников Птахину не удалось. Только вышли они из вокзала, появился Миша Сыроежкин, с ним Хопров.
— Пых, пара кривых! — заговорил Миша, увидев Птахина и Клару. — Ну и лошадку вам удружили! На ней только горшки возить. — И громогласно прибавил: — Распрощаться пришли, значит.
В поведении Миши чувствовалась заносчивость. Птахин торопливо ответил:
— Что ж, спасибо.
Миша прикурил от его папироски и сообщил:
— Ездил вот с Яковом насчет семян. Выхлопотали, будут семена. Меня было за холку там взяли, да расписка выручила. Хорошо, что я тогда расписочкой разжился у Карасева, а то бы как милый загремел! Семена, оказывается, Карасев сплавил. Ты как-то отвертелся. Вовремя удочки сматываешь, а то и тебя бы прижали!
— Я за карасевские махинации не ответчик.
Миша сердито сощурился, вспыхнули глаза его недобрым огнем.
— Конечно, ты не ответчик. Мы — ответчики. И отвечать нам вот этим местом, — он похлопал себя по загривку. — Сейчас вот взаймы нам семена дали, а потом их вернем, а вернем непременно, не беспокойтесь. Но то, что вы нажили на нашем горе, боком у вас выйдет.
— Ты чего разорался-то? — зашипела Клара. — Забирай свою клячу и уходи. Ишь, налил шары!
— Налил? Зашабашил Миша Сыроежкин, точка! Прежде выпивал, но на свои любезные — никого не ограбил, не обворовал, на ваш манер я никогда не жил. Вы от людей тоже не убежите! Разгадают вас. Может, еще скорее, чем здесь! Не везде такие людишки вислоухие, как корзиновцы.
— Ладно, мотай, мотай!
— Да не связывайся ты с ним, — оборвал Клару Птахин, весь красный от смущения. — Вон уже люди останавливаются. Пошли к багажу.
Он завернул за скверик и напустился на нее.
— Тебя хлебом не корми, дай поругаться!
— А чего они привязываются? — Завидно голоштанцам! Жить не умеют, завидовать только ловки!
— Это еще неизвестно, кто жить не умеет, — прогнусавил Птахин.
— Эх ты, мямля! На тебя каждое слово действует, отпор дать не умеешь.
Так, переругиваясь, они перетаскали чемоданы в багажное отделение. Клара достала дорожные харчи, разложила их на чемодане, который оставила при себе, но есть Птахин отказался.
— Мне больше достанется, — заявила Клара.
Она сердито изжевала бутерброд, легла на скамейку, положив чемодан под голову. Вскоре Клара уснула, а Птахин ходил от стены к стене но вокзалу и, не обращая внимания на табличку «Не курить. Штраф!», жег папироску за папироской.
Пришел пригородный поезд, постоял немного, и паровоз тендером вперед потащил дальше десяток старых вагонов. На перроне остался милиционер. Он кого-то поджидал. Появился Миша Сыроежкин, о чем-то с ним поговорил, показывая рукой в сторону МТС, и они пошли вместе. Несколько минут спустя мерин Петушок важно прошествовал через переезд. На телеге возле багажа сидел Хопров. За телегой шагали милиционер и Миша Сыроежкин. Отчаянно жестикулируя, он что-то рассказывал. «Куда это они?» — удивленно подумал Птахин, и на душе у него вдруг сделалось тревожно.
Клара спала. Дорожная пыль, осевшая на ее лице, оттенила тонкие, не нуждающиеся в помаде алые губы. Даже во сне на ее продолговатом и смуглом лице лежала печать высокомерия, надменности, будто и сейчас она говорила:
«А я плевать на всех хотела! Ну, найди, кто тут краше меня?» Было в ее красоте что-то вызывающее, броское, до чего дотронугься боязно и отступить нет сил.
Однажды пастух Осмолов очень удачно сравнил ее с мухомором. «Самый яркий гриб, а в пищу не годится — отрава!» Глядел, глядел на нее Птахин и вдруг ясно понял: «А ведь то, что болтали насчет Карасева и ее, — правда!»
У Птахина кончились папиросы. Он пошарил в кармане, нашел скомканные рубли и пошел в конец станции, к переезду, где заваленный разнокалиберными ящиками приютился магазин.
Поезда ждать еще долго. Птахин купил папирос и книжку. Среди множества завалявшихся и по своей устарелости уже годных только на обертку книг, брошюр продавщица по его просьбе отыскала «художественную вещь». Книжка была в хорошем переплете, во многих местах изъеденном мышами.
В книжке рассказывалось о том, как один фронтовик, вернувшись с войны, зажил с передовой во всех отношениях женой.
Сначала жизнь шла гладко, но зазнался фронтовик, и началась драма. Фронтовик даже из родной деревни норовил уйти, но его перехватили. Колхозный парторг прочитал ему соответствующую мораль, и все закончилось благополучно.
Зиновий перелистал книжку до конца, со вздохом вернулся к началу, пробежал глазами краткую биографию автора с перечислением его литературных трудов. Портрет писателя был помещен рядом. Сквозь роговые очки, занимавшие пол-лица, глядели на Птахина простодушные глазки.
Птахин швырнул книгу, поднялся и, терзая зубами незажженную папироску, зашагал по скверику за вокзалом. Сколько он так проходил, сам не знал.
Уж начало вечереть, когда он увидел спускавшуюся к переезду телегу, которую снова тащил Петушок. На телеге сидели двое: милиционер, которого он узнал по форме; другого пока различить не мог. Птахин хотел выйти из скверика, да раздумал. Толстые стволы одряхлевших от старости, изросших в сучья тополей скрывали скамейку, на которой он сидел. Телега повернула к вокзалу. Птахин узнал сидевшего на телеге рядом с милиционером Карасева. Возле магазина телега остановилась. Милиционер повел Карасева к вокзалу.
— Курить разрешается? — услышал Птахин голос Карасева.
— Курите, чего ж?
Следом за телегой, поныривая в выбоинах, подъехал газик зонального секретаря. Уланов торопливо вынырнул из него и тоже направился к вокзалу.
Птахин подождал, пока Уланов поравнялся с ним.
— Добрый день, Иван Андреевич! — окликнул он его и протянул через заборчик руку.
Уланов помедлил, нехотя подал руку и сухо ответил на приветствие:
— Здравствуйте.
Птахин молчал, не зная, с чего начать разговор, и ухватился за спасительное средство.
— Закуривайте, — шлепнул он но пачке «Беломор», — ленинградские, с фабрики Урицкого.
— Спасибо. Я только что бросил.
— А-а, тогда я один закурю, — смущенно пробормотал Птахин и, когда справился с собой, щурясь от дыма, как мог небрежней полюбопытствовал:
— Куда же Карасева-то?
— В тюрьму, — ответил Уланов, колюче прощупывая Птахина через стекла очков.
Чисто выбритое лицо секретаря было обветрено, губы шелушились. Раздвоенный на кончике нос заострился. Худоба и стремительность появились в Уланове. Почему-то все это бросилось в глаза Птахину только сейчас, и он nepвый раз поймал себя на мысли, как, должно быть, трудно работать этому, не очень здоровому, не очень сильному человеку, на новой должности, сколько напряжения, подчас, может, непосильного, требуется от него, чтобы поднимать такие колхозы, как «Уральский партизан». Кабы он один был такой «Партизан».
— Во-он что! — с плохо скрываемым изумлением сказал Птахин, думая обо всем этом. — За что Карасика-то?
— За ловкость рук.
— За это у нас, кажется, еще не садят, — натянуто усмехнулся Птахин.
— Эх, Птахин, Птахин! — не отзываясь на его реплику, покачал головой Уланов. — Знаешь ли ты, что тебя спасли от тюрьмы только расписки этого пройдохи Карасева да твои прошлые добрые дела?
— Ничего я не знаю.
— А жаль, придется рассказать, хотя и не особенно хочется с тобой здесь, с таким вот, разговаривать. Качалин Яков Григорьевич тебя отстаивал в райкоме. Я, говорит, вот этаким юнцом его знаю. Способный он и невредный для колхоза человек. Беда только, что с курса сбился. Но если, говорит, он побудет среди колхозников, поработает в поле, мозолей на ладони натрет, да сам своим горбом рассчитается за тот урон, который нанес колхозу, поймет, с кем идти надо и куда. Я, говорит, верю в него. Это в тебя, значит. — Уланов поправил пальцами очки и задумчиво прибавил: — Не вернулся еще Яков Григорьевич домой и не знает, что вы уже бросили колхоз. Другое бы, вероятно, заговорил.
Птахин молчал и, как мальчишка, крутил пуговицу на пиджаке, глядя себе под ноги. К сапогу пристал прошлогодний лист. Птахин наклонился, чтобы отскрести его.
— Между прочим, — донесся до него голос секретаря, — когда у Качалина спросили, отчего он так яро заступается за тебя, он ответил: «Я, говорит, заступаюсь не только за человека, но и за молодого коммуниста и хочу, чтобы он смог загладить свою вину перед людьми, перед партией». Хорошо сказал Качалин, да, вижу я, напрасно хорошие слова тратил, — заключил Уланов и, ничего больше не прибавив, пошел к вокзалу.
От березового листка в руках остались только клочки. Птахин зачем-то понюхал их, вытер руку и почувствовал, как рубашка у него прилипла к спине. Он утерся рукавом и снова закурил, хотя во рту уже и без того было горько.
Пришел пригородный поезд. Паровоз теперь катился передом и, весело прокричав, пшикнул тормозами.
Из вокзала вывели Карасева. Он небрежно хлестал но голенищу хромового сапога березовой веткой, мимоходом пугнул охальным движением руки молоденькую проводницу и, громко расхохотавшись, исчез в вагоне.
— У, гадюка! — сквозь зубы процедил Птахин и почти бегом кинулся на вокзал.
Клара с помятым после сна лицом сидела у чемодана. Она раздраженно набросилась на мужа:
— Где тебя нечистая носит?
— Забарабали твоего приятеля, видела?
— Даже разговаривала и кое-что ему на дорогу дала. Он выкрутится, не беспокойся. Это не ты! Тебе ведь надо везде няньку. На твердый поступок ты не способен. А Карасев выскользнет, он такой!
— Значит, ты думаешь, так уж ни на что и не способен? — зловеще спросил Птахин. У него вдруг изменился голос, стал тверже, исчезла гнусавость. Он поднялся. По лицу его разлилась бледность. С трудом владея собой, Птахин по возможности спокойно сказал, решительно и гневно, отбрасывая все страхи и сомнения, одолевавшие его еще минуту назад:
— Дай сюда ключ от маленького чемодана.
— Зачем?
— Дай. Надо, — повторил он и, уже выходя из вокзала, обернувшись, бросил:
— Время покажет, кто на что способен!
Клара, подняв брови, озадаченно смотрела на закрывшуюся дверь, перевела взгляд на окно и увидела, что Птахин широкими шагами направился к камере хранения. Клара подозрительно прищурилась.
Где-нибудь в горах, затаившись от солнца, закрытый плотной шубой хвойных лесов, лежит и млеет в полдень снег, распуская слезы, которые тут же превращаются в ручейки. Мчатся они с удалым, недолговечным шумом. Вместе с ручьями ползет из лесов холодок, а по утрам туман и иней. Там, будто раненная насмерть медведица, залегла зима и последними, злыми усилиями отбивается от звонкой, всюду проникающей весны. Зато здесь, у реки, о зиме напоминают только редкие льдины, застрявшие на берегу. Солнце лижет эти голубоватые снизу и серые сверху глыбы. Они рыхлеют и со стеклянным звоном рассыпаются на множество тонких прозрачных сосулек. Любят тайком от родителей полакомиться ими ребятишки. Тася даже остановилась от неожиданности, подумав о том, что Сережка непременно попробует лизать соблазнительные сосульки. А потом его ангина замучает.
«А-а, ничего, все равно не усмотришь! Я тоже маленькая ела». Она вспоминала, как прятала от бабушки кусочек сосульки за спиной. Говорить не могла, потому что во рту тоже была обжигающе холодная сосулька. «Ладно уж, ела, ела», — не выдержав пристального взгляда бабушки, призналась она и выплюнула льдинку на землю. «Вдругоредь соврешь — подавишься», — сказала бабушка.
Где-то совсем близко мелькнули эти видения, словно из другого мира, подернутого золотым маревом. Яркое, в меру ласковое солнце, шуршащие побеги травки на берегу, тиньканье капель возле льдин — все это располагало к воспоминаниям. Тасе хотелось открыто любить все вокруг и всех вокруг, но обязательно иметь при этом такую душу, которая бы так же, без лишних слов, понимала и чувствовала ту музыку, которая поет внутри. Сладкая грусть щиплет сердце Таси, какая-то смутная тревога не дает ей покоя.
За льдиной, навалившейся на угловатую каменную глыбу, oна увидела человека. Он сидел на желтом чемодане и бросал в поду камешки. Рядом с ним лежал плащ и стоял никелированный чайник с вмятиной на боку. Человек бросал камни с мальчишеским азартом и ловкостью. Вот он запустил каменную плиточку с особенным усердием. На воде замелькали «блинчики», сначала редкие и широкие, потом частые. Наконец они слились воедино.
— Восемь! — вслух сказал человек и автоматически, очевидно, совсем нe задумываясь над словами, начал твердить напевом: — Восемь, восемь, доктора просим… восемь, восемь, доктора просим…
— Зиновий! — пораженная до глубины души, воскликнула Тася, забыв о том, что она прежде называла его по имени и отчеству, и были они всегда на вы. Она шагнула из-за льдины и поздоровалась.
Птахин вспыхнул, опустил руку, отшвырнул камешки.
— Здравствуй, Петровна, здравствуй! — перебарывая смущение, заговорил он торопливо. — Не думал я, что тебя первую встречу! Хорошо это, удача будет. Ты — человек легкий! Казниться вот к вам иду… — Он помялся, поглядел на реку и неожиданно сказал, совсем не к месту: — Видела, как я ловко запустил плиточку, сразу восемь блинков выкушал.
— Постой, постой, — вовсе сбитая с толку, остановила его Тася и, не веря в возникшее предположение, вопросительно глянула на него. — А жена?..
— Уехала… — Птахин перебросил несколько раз из руки в руку камень, а потом замер, стиснув холодный буроватый голыш в ладони. — Так-то, Петровна, видишь вот… — Он выронил камень из рук, снова поднял его, запустил подальше в реку и отвернулся.
Тася присела, начала теребить пальцами травку. Птахин занялся тем же.
— Как думаешь, Петровна, — угрюмо заговорил Птахин, — как, говорю, думаешь, — кивнул он головой в сторону Корзиновки, — дозволят наши работать в деревне?
Тася подумала, отломила сосульку и держала до тех пор, пока с нее ручейком не потекла вода. Руки Птахина перестали метаться. Он почти с мольбой глядел на Тасю.
— Не знаю, — откровенно произнесла она, глядя на неспокойную гладь реки. — Право, не знаю, Зиновий. Боюсь тебя обнадеживать, но мне известно одно: наши люди умеют больше прощать, чем наказывать.
В глазах Птахина мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Он торопливо поднялся, бросил на плечо плащ и, взяв чемодан, пошел напрямик к кругому берегу.
— Чайник-то! — крикнула Тася.
— Фу, окаянный! Ну никак я его потерять не могу! — улыбнулся Птахин и, принимая чайник, поймал Тасину руку. — Ты-то хоть, Петровна, не сердись на меня.
— Да что ты, что ты, Зиновий! — смутилась Тася и неожиданно для себя добавила: — Я рада за тебя…
— Спасибо на добром слове. Надо еще на ночлег остановиться где-то. Не всяк меня в Корзиновке ночевать пустит.
— Не устроишься, к нам приходи.
— За приглашение тоже спасибо. Только едва ли. Перед Макарихой-то как я буду…
— Все равно ведь придется и с ней, и с другими встречаться.
— Да, это верно, — опустил голову Птахин и встряхнулся. — Ну так я пошел, Петровна. — Он отошел несколько шагов и окликнул ее: — Иди берегом, в сосняк не сворачивай, клещи появились. Вопьется в человека — и сразу его припадки начинают колотить. А то, бабы рассказывают, и кондрашка хватит. Конечно, верить им… — он безнадежно махнул рукой, — но все-таки поберегись. Иногда и бабы правду говорят…
— Ничего, не беспокойся, клещи тоже знают, в кого впиваться. У нашего брата, деревенских, кожа крепкая.
— Оно так! — рассмеялся Птахин и одним махом прыгнул с чемоданом на обвалившийся взгорок.
Он шел быстро, будто боясь остановиться, и когда исчез за поворотом, Тася сама себе задумчиво сказала:
— Вот так, Петровна, разные люди бывают. Иные как глина, а иные просто человеки и человеки. Хорошо, что на свете много человеков!
Сосулька в Таенной руке стала совсем тоненькой. Не выдержав соблазна, она лизнула ее, раскусила и зашагала по берегу, норовя ступать на плоские, каменные плиты. В глубине острова призывно кричал журавль. В его голосе чувствовалась весенняя истома.
Тася вслушалась в журавлиный клич, в шум и плеск воды, в печальный перезвон распадающихся льдин. У нее сжалось сердце от какого-то тревожного предчувствия.
Неужели в этом была виновата весна?..
Глава шестая
Давно нет в живых тех, кто мог бы рассказать, как норовистая река Кременная в одну из весен рванулась в сторону и, смыв на пути половину деревеньки Малышок, что располагалась под угором, потекла новой дорогой. Уцелевшая часть деревеньки оказалась на острове, а деревня Корзиновка, стоявшая на горе, вдали от реки, очутилась возле самой воды.
Летом обмелевшую, больше похожую на ручей, протоку можно перебрести во многих местах. Весной же протока мало чем отличается от того рукава реки, который мчится и бурлит по другую сторону острова. В вешнее половодье бурные струи, с силой ударяя в податливый берег, подмывают его, подбираясь ближе и ближе к дому Лидии Николаевны.
Особенно ходко обваливается крутой, рыхлый берег нынче: глыбы за глыбами ухают в мутную, быструю воду. Часть земли вихревые струи затаскивают на остров, увеличивая пологий выступ, а остальная земля уносится невесть куда.
Пользуясь отсутствием Галки и Юрия, Костя, Васюха и Сережка затеяли игру. Они вначале помогали ногами отваливаться глыбам: упрутся в щель пятками, нажмут — и поползет этакая махина вниз все быстрее и быстрее, а когда бултыхнется так, что пойдут волны до самого острова, ребята визжат от восторга. Но ребятишкам всякая однообразная игра быстро приедается. Надоела им и эта. Гораздый на выдумки Костя предложил:
— А давайте, кто смелей, а? — И, подвернув штаны, уже увлеченный этой выдумкой, Костя промчался по накренившейся глыбе. — Вот так!
Щель между пластом земли и берегом стала заметней. Васюха разбежался, но оробел и остановился у самой щели.
— Эх ты, кержа-ак! Вон Сережка не испугался! Правда, Серег?
Сережка не мог ничего выговорить от волнения. Он согласно кивал головой, потом зажмурился и побежал. Глыба не отвалилась, а разделилась надвое, и одна половина ускользнула из-под Сережкиных ног. Он схватился за другую половину. Костя видел, как мальчик цеплялся за чахлую травку и, выдирая ее с корнями, сползал вниз.
— Держись! Я чичас! — крикнул Костя и отважно бросился на помощь Сережке. Но он только помог отвалиться земле и едва сам успел перескочить обратно на берег. Где-то над краем обрыва мелькнули огромные, застывшие в ужасе, глаза Сережки, и все исчезло…
Тася сидела лицом к окну, разговаривала с Улановым. Она первая заметила мчавшегося верхом, без седла, Юрия и, побледнев, вскочила:
— Что-то случилось! У меня так щемило сердце. Что-то случилось? Оставив Уланова одного, она ринулась вниз по лестнице.
— Юрий, что произошло… говори… с Сережкой?..
Юрий опустил голову. Тася вскрикнула, взмахнула руками и побежала по дороге.
Уже около ручья, верхом на лошади Юрия Тасю догнал Чудинов и, соскочив с седла, помог ей сесть.
— Верхом скорей…
Когда на взмыленной лошади Тася примчалась в Корзиновку, почти все жители деревни суетились на берегу. Они были с баграми, кошками, плавали на лодках, готовились закидывать сети. Кошками вытащили несколько корней, похожих на водяные чудища, старые ведра, разное барахло.
Тася подошла к берегу, непонимающими глазами уставилась в мертвую, стремительно мчавшуюся воду.
— Голубушка ты наша! — запричитала Августа. — Не уберегли сиротку-у-у…
— Молчи ты! — дернула ее за полу кофты Лидия Николаевна. И, заметив на лице Августы неподдельную скорбь и крупные слезы, катившиеся по пухлым щекам, дрогнувшим голосом прошептала:
— Убирайся домой, без тебя тошно…
Тася все стояла и стояла на крутоярье. Люди смолкли, поглядывая на ее застывшую фигуру, готовые успокаивать или спасать, если ей вдруг вздумается с отчаянием тоже броситься с яра. Но вот Тася повернулась к односельчанам, и все поразились. Она не плакала. На лице ее была какая-то странная улыбка, похожая скорее на гримасу, жуткая, неживая улыбка.
— Что-то не то… что-то не то… — повторяла она едва слышно и терла висок рукой.
И всем стало понятно: она не хотела, не могла поверить тому, что случилось. Она с надеждой глядела на собравшихся, ждала от них одного только ответа, чтобы и они сказали: «Да, не то». И она ловила взгляды людей, искала в них ответ, но, встретившись с ее взглядом, люди мгновенно прятали глаза. Будто все были виноваты перед ней. И когда опустила свои глаза даже Лидия Николаевна, Тася без звука упала на землю, рухнула, как неумелый пловец в воду, грузно, с судорожно открытым ртом.
Ее подхватили на руки, понесли в дом. Там натирали нашатырным спиртом виски, лили в перекошенный рот студеную воду.
По берегу бродил осунувшийся Костя и, размазывая рукой слезы, звал:
— Сереженька! Где ты, матушка?..
Сдерживая рыдания, боясь, чтобы он не помешался, Лидия Николаевна ходила за ним и упрашивала:
— Костюшка, сынок, пойдем домой, милый, пойдем.
Костя смотрел на нее с горьким недоумением.
— Мама, ведь это я придумал.
Внезапно на берегу появился взлохмаченный, запыхавшийся Лихачев и, узнав, что Тася в избе, кинулся туда. Он схватил ее руку, потянул за собой.
— Там… сплавщики поймали…
Тася не сразу пришла в себя, но в ее остановившемся, оледеневшем взгляде начала пробуждаться надежда. Еще не осознав полностью того, что говорил Василий, она ринулась к реке. Руку у Лихачева она вырвала и бежала так быстро, что Василий едва поспевал за ней.
Неподалеку от Дымной навстречу вынырнул газмк Уланова. Секретарь выскочил из машины на ходу.
— Я был у сплавщиков… Сережу откачали и отправили в больницу. На машине не смогли проехать. Успокойтесь, Таисья Петровна. Успокойтесь…
Потрясение было настолько велико, что Тася уже утратила способность сразу воспринимать события, понимать слова. Все до ее рассудка доходило сейчас медленно, и если она куда-то бежала, что-то делала, то автоматически. В сердце ее раскаленной иглой уже вошла боль, неизмеримая боль, от которой зашлось сердце. И вот оно начало биться сильней, словно сжавшиеся в ней пружины медленно отпускались. Слова Василия и Уланова с трудом проникали в оцепеневший мозг.
Она диковато уставилась на Ивана Андреевича, медленно перевела взгляд на Лихачева. «Лжете?» — спрашивали ее глаза. Уланов выдержал взгляд матери, потрясенной почти до потери рассудка, инстинктивно протянул к ней руки, и Тася с рыданием упала на них. Слез было так много, что она захлебывалась ими.
Иван Андреевич растерялся, что-то бормотал, усаживая ее в машину.
Рядом с ней на продавленное сиденье опустился Лихачев и тоже пытался говорить успокаивающие слова. Уланов уже взялся за дверцу, намереваясь сесть рядом с шофером, но посмотрел на Лихачева, на Тасю, доверчиво приникшую к нему, и понял больше, чем увидел.
— Давай! — крикнул он шоферу.
Газик пустил облако голубого дыма, рванулся по дороге. Уланов стоял неподвижно, прислушивался к удаляющемуся шуму мотора.
Запах прошлогодней прелой листвы мешался с нарождающимися ароматами молодой травы и ранних цветов. Аромат тревожил и пьянил. В небо со звонкой песней ввинчивался жаворонок. С каждым взмахом крыльев все бесшабашней становилась его песня.
Камешком упал жаворонок с высоты, проведал свою подружку, пощебетал о чем-то влюбленно и снова взвился, будто выстреленный из рогатки, и запел еще звонче. Пьян от любви жаворонок и способен слышать лишь две песни: свою да ту, которая поется для него.
«Весна поет влюбленными голосами!» — вспомнилась Уланову строчка из какой-то давно прочитанной книги, и он вздохнул. Глубокое сожаление о том, что он упустил в жизни что-то очень дорогое, угнетало его.
Как он мог жить без любви?
Он пожил на свете и умел управлять собой и своими чувствами, поэтому ни единым вздохом, ни единым движением не выдал себя. Может быть, это и плохо. По-видимому, рассудок вредит любви. Но любить не задумываясь, не рассуждая — удел юношей. Уланов же не терял от любви голову. Но видеть Тасю, слышать ее голос, чем-то помочь ей — было для него неизмеримой радостью.
Иногда ему становилось досадно оттого, что не встретилась ему такая раньше, когда он был моложе. Тася обращалась к нему как к старшему товарищу. Ей, очевидно, никогда и в голову не приходило, что Иван Андреевич может относиться к ней как-то иначе.
И все-таки пришло бы такое время, когда Уланов, несмотря на всю свою осмотрительность, выдал бы себя.
Но все складывалось иначе. Беда, постигшая молодую женщину, была и его бедой — это он сегодня ощутил особенно ясно! И когда он мчался на машине вдоль протоки, что-то кричал, отдавал какие-то распоряжения, он так же, как и Тася, плохо помнил себя. Ничего не помня, бросился он в будку сплавщиков, где в забытьи лежал выловленный Сережа, припал ухом к груди мальчика. До него донеслось отдаленное, чуть слышное биение мальчишеского сердца. Иван Андреевич вдруг почувствовал, что горло у него перехватило. Он поднял мокрого мальчишку на руки и, не чувствуя тяжести, помчался к машине. Машина застряла недалеко от эстакады на размытой дороге. Он перенес Сережу на платформу и, согнув по-азиатски ноги, пристроил на них мальчика. Дорогой Сережу растрясло, его начало рвать густо замутившейся водой. Мальчик корчился от натуги, жалобно хныкал между свирепыми вспышками рвоты. На лбу Уланова выступил холодный пот. Он прижимал к груди голову Сережи, что-то говорил ему, сам не понимая своих слов.
Паровозик примчал их в леспромхоз. Здесь Уланов попробовал встать на ноги и не смог. Ноги затекли и сделались точно чужие.
Потом он мчался уже обратно, чтобы принести радость Тасе. Он еще сейчас ощущал на груди прикосновение ее головы. Признательное, благодарное это прикосновение обрадовало и напугало Уланова. Она и впредь придет к нему с бедой и радостью, как к старшему другу. И он всегда всем сердцем откликнется, подаст ей руку, но у него хватит силы воли и мужества ничем не омрачать их дружеских отношений. Он никогда не помешает ее счастью, если оно у нее сыщется. А он боялся этого и хотел, чтобы она была счастлива.
В глубокой задумчивости миновал Уланов околицу Корзиновки. Под его ногами мягко заколыхалось болотце, раскинувшееся среди сосняка.
С одной тонкоствольной сосенки к другой деловито, как заботливый рыбак, тянул коварную сеть клещастый паук. Первым в его ловушку попало солнце. Оно забилось в паутине, рассыпалось яркими жучками. Но сколько паук ни гонялся за ним, овладеть добычей не мог.
Вдруг из-под ног Уланова, фыркнув, снялась пара рябчиков. Петушок размотал сеть крыльями, уронил в кочки сонного паука. Через минуту в глубине леса послышался его переливающийся трелями свист. Ему откликнулся с земли дрожащий от нетерпения голос самки. Весна проникла и в этот хилый болотный сосняк.
Тропинка вывела Ивана Андреевича к усадьбе МТС, здесь его встретил непривычно взволнованный Чудинов.
— Ну, как там? Я звонил и ничего толком узнать не мог.
Он с надеждой и испугом смотрел на Уланова. Было в его взгляде такое, от чего Уланов пришел в замешательство. Не отводя взгляда от Чудинова, он рассказал ему о спасении Сережки. Чудинов сразу весь обмяк и бессильно опустился на траву.
— Дай закурить, Иван Андреевич! — Чудинов зажег спичку, поднес ее к папиросе и не зажег, а вдруг неестественно страдающим голосом произнес: Уехать мне надо. — И все так же, не поворачивая головы, добавил: — Вы ведь моего сына сегодня спасали.
— Что?! — не понял Иван Андреевич.
— Моего, говорю, сына спасали, — уже громче, как глухому, сказал Чудинов и подтвердил: — Да-а, Сережа — мой сын.
Уланов стоял, с недоумением глядел на Чудинова. Он еще ничего не понял. Мелькнуло в памяти мальчишеское лицо, разительно схожее с лицом Чудинова. Уланов сделал шаг к директору. А тот, вероятно, истолковав движение Ивана Андреевича по-своему, начал торопливо, захлебываясь, как напроказивший мальчишка, говорить. Он перескакивал с одного на другое. Главное все же можно было понять.
Рассказ Чудинова занял не больше двух минут, а пауза, наступившая после него, длилась целую вечность. Все, что было святым для Ивана Андреевича, — молодость, любовь, родительское чувство, — осквернил этот человек, который, судя по его характеру и виду, не мог бы обидеть и малой козявки, которому Уланов так доверял, дружбой которого дорожил. Такой удар Уланов пережил только раз в жизни. То было давно и боль успела притупиться. Иван Андреевич все-таки нашел в себе силы перебороть закипающий гнев. Он сквозь зубы выдавил:
— Не знал, не знал я, что ты такой… — он хотел сказать «мерзавец», но, заметив, как жалко сник и разом постарел Чудинов, круто повернулся и зашагал от него прочь.
«Нашел кому исповедоваться», — горько усмехнулся Уланов. Ивану Андреевичу хотелось уйти куда-нибудь, скрыться, чтобы не видеть ни яркого солнца, ни вешнего половодья, ни людей.
Пасмурный и усталый явился Иван Андреевич утром в контору МТС. Чудинов уже был у себя. Уланов прошел к нему, не подавая руки, примостился на подоконнике.
Пытливо глядя на осунувшееся лицо директора, заговорил:
— Чего расклеился? Ночь не спал? Люди из-за тебя, может быть, много ночей не спали, да о деле помнили.
Уланов помолчал, преодолел раздражение и, остановившись перед Чудиновым, уже спокойно спросил:
— Ну, что молчишь?
— А чего я скажу? Нечего сказать! Лучше ты подскажи, Иван Андреевич: как мне быть? Уланов снова сел, задумался.
— Да-а, как тебе быть? Не знаю я, честное слово, не знаю. Осудить тебя как коммуниста? А кому от этого легче? Таисье Петровне и так сейчас тяжело. Кроме того, у нее, кажется, что-то налаживается с Лихачевым. Удивляешься? Он поднял глаза на Чудинова, который быстро повернулся к нему. — Думаешь, ты совсем лишил ее права на семейную жизнь?
— Ничего я не думаю, — невнятно проговорил Чудинов. — Я рад буду, если у нее все устроится.
— Хорошо, если так.
— Иван Андреевич…
— Верю. Не верил бы, сюда не зашел. Что же касается… Когда-нибудь соберешься с силами, расскажешь обо всем жене. А сейчас нельзя.
Иван Андреевич, раздраженно продолжал;
— Ты несколько раз говорил о том, чтобы тебе с семьей уехать куда-нибудь, я поддерживаю эту идею.
Чудинов сидел не двигаясь, глядя в одну точку. Он что-то трудно обдумывал.
Машина снова забуксовала неподалеку от лесосклада. Василий предложил ехать в леспромхоз по узкоколейке. Однобуферные платформы плотно загружены лесом. Невзирая на занятость и суету, лесозаготовители узнали, что очередного рейса дожидаются родители вытащенного из реки мальчика. Молодой бригадир заорал на машиниста, который вылез из жаркого паровозика и, лежа на берегу, курил:
— Тут не пляж! Собирай пустые платформы, пока идет разгрузка!
Машинист начал отругиваться. Бригадир нагнулся, тихо заговорил, поднеся кулак к чумазому носу машиниста, и тот поспешил на паровоз.
Бригадир пригласил Тасю и Лихачева в конторку, сказав, что там сейчас сплавщики отогревают того малого, который спас мальчика. Сплавщик, вытащивший Сережку нз воды, был молоденький, конопатый, с выкрошившимся передним зубом. Он уже изрядно выпил. Сплавщики «отогревали» его па совесть. На нем был накинут пыльный тулуп, из-под которого виднелись тесемки кальсон. На голове нахлобучена большая меховая шапка, которая закрывала парню уши и глаза. Он то и дело приподнимал ее рукой. Видно было, что парень рассказывал о сегодняшнем происшествии не первый раз, но никто его не перебивал, все слушали с одобрением.
— Я, понимаешь, стою на боне, ниже Корзиновки, с багром, и вижу: мельтешит в воде, рубашонка вроде, беленькая, — шепелявя рассказывал он, обращаясь к молоденькой приемщице, которая ласково глядела на него. — Я сперва не понял ничего, потом вижу — головенка! Я, понимаешь, как был, ух! В воду! Хватаю, хватаю — рука соскользает. У него, понимаешь, голова стриженая, а я хватаю. Потом уж изловчился, нырять пришлось. Снесло.
Что-то горячее шевельнулось в груди Василия. Он перешагнул через порог тесной, прокуренной конторки.
— Спасибо тебе, друг!
Сплавщик смущенно отмахнулся.
— Да чего там! Вы что, папаша мальчика будете?
— Вроде… — неуверенно выдавил Василий и оглянулся на дверь.
Тася ничего не слышала. Она стояла на улице и с нетерпением ждала, когда состав будет готов к отправке.
Паровозик, запыхавшись, мчался по лесу, окропленному первыми брызгами зелени. Платформочки лихо подбрасывало, Тася и Лихачев сидели рядом, приспособившись спиной к тормозной стенке. Тася по-прежнему молчала, и Лихачев не надоедал ей разговорами.
Тасю одолевали нетерпение, раскаяние и множество тревожных мыслей. Из мыслей ее, на первый взгляд хаотических, разрозненных, как из кусков железа, составлялись звенья, соединялись между собой в единую цепь. Звеньями этой цепи были дни жизни маленького сына, который лежал где-то в больнице. «А вдруг он умрет?» — эта мысль оглушала Тасю. Надо было заботиться о нем, не отпускать от себя, за руку держать, за упрямую мальчишескую руку. Скорее, скорее! Дышать на эти руки, отогреть и потом, когда он уснет, чмокнуть его в завихренную макушку… А ночью чувствовать, что рядом, уткнувшись носом в грудь, дышит теплом самый драгоценный человек. Ее сын! Она мало заботилась о нем. За делами забывала порой о сыне. Его растили чужие люди. Она часто его ругала и даже наказывала. Как только рука поднималась! Да если он будет живой, она не только тронуть, а взглянугь на него сердито не посмеет…
Стучали колеса, и Тася думала то самое, что думают все матери, когда с их детьми случается беда. Чем ближе было до леспромхоза, тем чаще Тася вскакивала на ноги, смотрела вперед. Вот и стрелка. Еще не успели отшипеть тормоза паровозика, а Тася и Лихачев уже мчались мимо выкорчеванных корней, огородов, новых домишек к больнице. Больница в центре поселка. Еще на улице ударил в нос забытый запах лекарств — и замерло сердце. Тася приложила руки к груди и так, не отнимая их, поднялась на крыльцо. Василий легонько ее поддерживал.
Вот уже третий день Сережка дома. Он еще не совсем оправился после воспаления легких.
Сережка лежал на кровати, разомлевший от тепла и ласки. Он позволял себе даже капризничать, и любой каприз его выполнялся беспрекословно как взрослыми, так и ребятами. Сейчас добровольные сиделки и посетители немного схлынули, Сережка уснул. По избе с величайшей осторожностью ходил Василий Лихачев и выгонял в открытую дверь залетевшую муху. Все свободное от работы время Лихачев проводил здесь. Квартировать он перебрался к старой Удалихе, чтобы быть поближе к Тасе и Сережке.
В поле работал его трактор. Лихачев за короткий срок так вымуштровал своего помощника, что тот свободно заменял его. Василий метался все эти дни от поля к дому Лидии Николаевны. Натаскал он мальчишке ворох цветов, но Сережка к ним относился довольно равнодушно. Зато машины и механизмы приводили его в восторг.
Лихачев затаил в душе думку и с нетерпением ожидал получки. Вчера он получил деньги и купил Сережке двухколесный велосипед. Он знал, что именно двухколесный, а не трехколесный, по душе Сережке. Пока мальчик спал, Лихачев сбегал домой, принес велосипед и, осторожно поставив его возле кровати, побежал в поле. Он нарочно не снял бумажную обмотку с велосипеда, не стер мазут с ходовых частей. Все это они сделают вместе.
На душе у Василия празднично. Он заранее радуется Сережкиной радости. «Какое это, оказывается, счастье, дарить что-нибудь близким людям!»
Часа через два Лихачев заглянул в Тасину квартиру и застал мальчика одного. Он сидел на кровати в трусиках и, не притрагиваясь к велосипеду, во все глаза глядел на него.
Когда Василий перешагнул порог и приблизился к Сережке, мальчишка вдруг пружинисто взвился и обхватил его шею похудевшими ручонками с острыми локтями.
— Я не буду ломать этот велосипед! — доверчиво прошептал он Василию на ухо, и у Лихачева сладко замерло сердце.
Потом они вместе обрывали бумагу, вытирали смазку подвернувшейся под руку еще доброй наволочкой. Ключики, гайки и прочее добро они складывали на постель. Сережка все норовил делать сам и то и дело заливался звонким смехом. Когда они вытерли велосипед и Василий прокатил его но комнате, звеня колокольчиком, Сережка выдохнул мальчишеское откровение:
— Хорошо, что я утоплялся.
— Чего, чего?
Но что-то неуловимое свершилось в мальчишеской душе, и он, спрятав глаза, неохотно отозвался:
— Ничего, так…
Однако Василий сумел разгадать весь смысл этого, идущего от всего сердца, признания. Да, мальчик был рад, что несчастье, свершившееся с ним, так сдружило его с Лихачевым, с мужчиной, который стал ему дорог и близок. Сережке нужен был отец.
Но существовало еще такое, чего Сережка не мог постичь своим умом. Мир для него не был тем сложным миром, каким он был для взрослых. Василий подавил вздох и предложил:
— Ты бы поел, Серега!
— Опять молоко, опять лапшу? — капризно надул губы Сережка.
— А чего же тебе хочется?
Мальчишка, глядя в сторону, тоном приказа отрубил:
— Селедки с картошкой и с луком.
Василий поскреб в затылке:
— Нельзя тебе, Серьга, острого, понимаешь?
Мальчик демонстративно отвернулся к стене и скосил глаза на Василия…
— Здорово хочется, Серега?
Завихренная макушка Сережки дернулась в знак того, что без селедки жить невыносимо и диета осточертела.
Лихачев стоял некоторое время в раздумье, потом удалился. Минут через десять он принес в замазанном газетном свертке кусочек селедки, несколько перышек луку и сваренной картошки в мундире, которую дала ему старая Удалиха. К этому она сделала словесное добавление насчет того, что надо есть все, чего душе желательно, и тогда человек любую хворь победит.
— На, рубай, только проворней!
Сережка уписывал за обе щеки запретную пищу, размахивал при этом руками, пытался что-то рассказывать Василию. Лихачев не спускал с него глаз и одновременно прислушивался к шуму на улице.
Хлопнула дверь в сенках. Василий вскочил.
— Полундра, Серега! Мать идет! Засыпались!
Через секунду они уже сидели как ни в чем не бывало. Остатки еды лежали под матрацем, а Сережка, давясь, дожевывал пищу.
Тревога была напрасной. В избу завернула Лидия Николаевна. Она кое-что прибрала, поправила постель и сделала вид, будто никакой подозрительной поклажи под матрацем не заметила. Уже отворив дверь, она спросила у Василия:
— Ну и долго так думаете канителиться?
— О чем это вы?
— Будто не знаешь? Где так догадлив и храбер. Неужели мне в помощники опять зачисляться?
— Сделайте милость, тетя Лида, возьмите еще одну внештатную должность на себя, — полусерьезно, полушутя проговорил Василий и потупился. Неудобно мне самому…
— Эх ты, вояка! — с улыбкой покачала головой Лидия Николаевна. — Худой он вояка? Мышонок? — обратилась она к мальчику и притворно плюнула. — Тьфу, какой трус!
Сережка нахохлился:
— Откуда знаешь? Он не трус! Он на танке воевал!
Лидия Николаевна прикрыла рот кончиком платка и со смеющимися глазами шагнула за дверь.
Перед вечером заглянула домой Тася. Она заметила велосипед, мазутные пятна на простыне, подушке и, как это умеют делать только хозяйки, ворчливо сказала;
— Вы тут, ребята, зря на кровати ремонтные мастерские открыли. Мне стирать сейчас некогда.
«Ребята» заговорщически глядели друг на друга: ничего, дескать, пошумит да перестанет.
Трудно было Тасе сдержать душевное ликование при виде этой картины. Она осмотрела велосипед, тоже позвенела в звонок и, тихонько напевая, принялась собирать на стол.
Уже солнце село за щетинку дальних лесов, оставив после себя широкий лист раскаленного недоката, остывающего по краям, когда пришел навестить Сережку Уланов. Он держался подчеркнуто вежливо, чувствовал себя стесненно и стал быстро прощаться.
Тася вышла проводить его. Вечер успел накрыть мягким пологом деревню, сделалось прохладней. Где-то вдали опять одиноко кричал журавль. Ему никто не откликался. Уланов крепко пожал Тасе руку и, на секунду задержав ее, как бы между прочим сообщил:
— Чудинов на днях начнет сдавать свои дела и уедет работать в Сибирь.
Почувствовав, как дрогнула Тасина рука, он поспешно направил разговор в другое русло:
— Если нужно, Таисья Петровна, я похлопочу путевку в санаторий для вашего сына.
— Нет, нет, я его теперь от себя не отпущу, — запротестовала Тася и, высвободив руку, отступила назад, в сенки. Оттуда прозвучал ее напряженный голос:
— Вы знаете все, Иван Андреевич?
Наступило долгое молчание, и человек, которому страшно хотелось соврать, не сумев этого сделать, произнес:
— Да.
Опять пауза, только еще более продолжительная. В наступившей тишине слышалось лишь их дыхание. Даже журавль умолк, устал, видно. Звякнула щеколда ворот. За дощатой перегородкой сенок заскрипели половицы под грузными шагами. Яков Григорьевич возвращался с работы домой. Открылась дверь, на улицу выплеснулся ребячий гомон. Дверь стукнула, и снова сделалось тихо.
— Я вот часто теперь задумываюсь, — неожиданно заговорила Тася, задумываюсь над тем, что было бы со мной и с Сережкой, если бы вокруг нас не жило столько хороших людей.
Иван Андреевич ничего не ответил, только слегка встрепенулся и поискал ее взглядом. Глаза уже привыкли к темноте, и он различал ее фигуру с накинутым на плечи белым шарфиком. Она стояла, прислонившись спиной к косяку, и смотрела вверх, на звезды. Смотрела задумчиво, тихо. Многое научилась понимать Тася и потому часто задумывалась.
Вернувшись с улицы, она застала Сережку и Василия за интереснейшей, с мальчишеской точки зрения, беседой. Они разговаривали про войну. Сережка весь подался вперед и восхищенно, с полуоткрытым ртом слушал Василия.
— А вот что такое герой, дядя Вася? — спросил мальчик и уставился в рот Лихачеву своими любопытными, до необычайности жадными глазами. — Это тот человек, который больше фашистов убил, да?
— Герой?
Василий задумался. Оказывается, очень трудно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, особенно ребенку. Ведь даже у взрослых неодинаковое представление о героизме, а у детей герой — это тот, кто самолеты сбивает, из пулемета косит врагов, как козявок. Они, дети, видят героев в кино и склонны думать, что герои бывают только на войне. И Сережка, конечно, ждал, что дядя Вася сейчас начнет рассказывать такое, что дух захватит.
Тася стояла с недочищенной картофелиной, ожидая ответа Василия. Все так же неотрывно глядел ему в рот Сережка, и Лихачев понял: не надо в этот удивительно ласковый и мирный вечер рассказывать про войну, про смерти и кровь. Не надо. Он потрепал Сережку за щеку и с плохо скрытой грустью сказал:
— Нет, Серега, герой не тот, кто больше убил.
Сережка не понял Василия, а Тася поняла, утвердительно закивала головой. Василий принялся разъяснять Сережке, что, когда он вырастет, наступят уже другие времена, и, может, о войне уже все люди забудут, и на земле будут только трудовые герои… может быть…
Поздней ночью Сережка угомонился, заснул, положив руку в руку Василия. Лихачев осторожно поднялся, накрыл малого одеялом, постоял еще возле его постели и засобирался домой.
С каждым днем ему все труднее и труднее становилось уходить из этого дома. Сегодня покидать его особенно не хотелось. Он завел часы на угловике, поискал еще какую-ибудь работу, которая могла бы хоть ненадолго задержать его здесь, и, не найдя, начал прощаться. Он дошел до днери, обернулся. Тася молча глядела ему вслед и закручивала кончики шерстяного шарфика жгутом.
— Скажи, Вася, тебе не хочется, ну… уходить?
Василий поднял глаза, взглянул на нее с удивлением и, скомкав в руках кепку, признался:
— Не хочется.
Он тут же схватился за дверную ручку, готовый выскользнуть на улицу.
— Погоди.
Тася медленно подошла к нему, скрестила на груди шарфик и продолжала все так же тихо, глядя прямо ему в глаза:
— Если ты все обдумал, если… оставайся… Мне скрывать от тебя нечего. Я тебя люблю.
За окном занималось утро. Оно медленно проникало через окна.
Василий распахнул створки. На подоконник упали легкие снежно-белые лепестки. Ночью расцвела черемуха.
Маленькая южная гостья — яблонька, посаженная Юрием три года назад, смело тянулась за зубчики частокола. Переболела яблонька, и не храни ее от ветра и холода ветвистая черемуха, может быть, и погибла бы.
Оттого, что дом Лидии Николаевны стоял на крутоярье, солнце заглядывало здесь в палисадник раньше, чем в другие. Еще внизу, в распадке, у берега Корзиновки и на острове, едва-едва обозначались липкие язычки листьев на кустах, а на Макарихином угоре уже млела в цвету черемуха — у всех на виду, тихая, белая.
В домах начинали топить печи, запахло в деревне дымком. На улицах замычали коровы, защелкал кнутом пастух Осмолов, выгоняя стадо за околицу. К правлению колхоза, поеживаясь и зевая, прошел уполномоченный из райкома, человек городской, не привыкший вставать рано. Из дворов, что-то еще наказывая на ходу ребятишкам, с узелками в руках выходили женщины и спешили на поля и фермы. Дымя махрой, мужики запрягали лошадей у конного двора и привычно ругали конюха, который так же привычно огрызался, вытаскивая сбрую во двор.
В чьем-то доме играло радио, но его заглушал стук: колхозник Балаболка рубил топором угол конного двора, пробуя острие. Он мозолил топор на точиле в конюховке часа два, пережидая, когда все уберутся на работу, и он потихоньку начнет загораживать свой индивидуальный участок. На Балаболку никто не обращал внимания, и он рубил, рубил да зыркал по сторонам.
А улицы Корзиновки становились все шумней и многолюдней. Деревня просыпалась. Люди собирались на работу.
1958



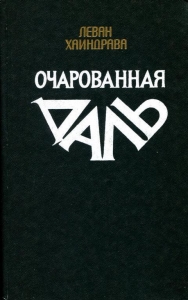


Комментарии к книге «Тают снега», Виктор Петрович Астафьев
Всего 0 комментариев