Валентин Катаев Зимний Ветер (Волны Черного моря 3)
1 ОСКОЛОК
Петя — или, как он теперь назывался, прапорщик Бачей — услышал одновременно два звука: свист гранаты и рывок воздуха. Никогда еще эти звуки не были так угрожающе близки и опасны.
Затем его подкосило, подбросило вверх, и он на лету потерял сознание.
Когда же он открыл глаза, то увидел, что лежит щекой на земле. Он чувствовал, как от удара об землю гудит все его тело, в особенности голова. Вместе с тем он видел, как волочится по земле пыль и дым того самого снаряда, который только что разорвался рядом.
Из свежей воронки тянуло тошнотворно-острым запахом жженого целлулоидного гребешка.
«Значит, я не убит, — подумал он. — Но что же со мной делается? Я лежу, а вокруг бой. Наверное, я ранен. Но куда?»
Едва он это подумал, как сразу ощутил боль в двух местах: болела голова и болел живот, как будто бы по нему изо всех сил ударили палкой.
Петя потрогал голову, на которой по-прежнему крепко сидела стальная каска. Ощупав каску, он обнаружил крупную вмятину от осколка. Так вот почему болит голова и так оглушающе звенит в ушах. Но это не ранение, а в худшем случае контузия. Значит, он ранен не в голову, а в живот. Он ужаснулся. Ранение в живот почти всегда смертельно. Это знали все фронтовики и больше всего боялись раны в живот.
Холодный пот выступил у Пети на лбу под каской. Он не решился сразу посмотреть на свой живот. Сначала он скользнул глазами по груди и увидел свернутый в скатку новенький непромокаемый офицерский плащ, который перед атакой надел по-солдатски через плечо.
Теперь этот плащ был изорван осколками в клочья. Сигнальная ракета, которую Петя продолжал сжимать в кулаке, была перерублена осколком, и горючая смесь сыпалась из картонной трубки.
Прапорщик Бачей был артиллерийским офицером при пехотном батальоне. Должность, недавно введенная в армии. Его обязанность заключалась в том, чтобы во время атаки находиться в пехотной цепи, и, если нужно, перенести артиллерийский огонь вперед или назад, то пускать красную или зеленую сигнальную ракету. Он только что собрался пустить красную ракету, чтобы перенести огонь вперед, но не успел.
Щегольской френч — новенький, с иголочки, — с четырьмя большими карманами на груди и на бедрах был кое-где запачкан землей.
Живот продолжал зловеще ныть. Петя сделал над собой усилие и наконец заставил себя посмотреть на живот. Он ожидал увидеть рваную громадную рану, но ее не оказалось. Нижняя часть френча была не только цела, но даже нисколько не запачкана землей.
Петя осмотрел свои руки, ноги в недавно сшитых хромовых сапогах, пошевелил туловищем, прижатым к земле.
К своему крайнему удивлению, радости, но вместе с тем и легкому разочарованию, Петя понял, что он цел. На нем не было ни одной царапины.
Это меняло дело.
Раз ты не ранен, то нечего лежать на земле, а надо подниматься и поскорее догонять цепь, которая уже перевалила за гребень высоты, откуда слышалось протяжное стоголосое «ура».
Высоко над головой туда и обратно с безжалостным скрежетом, свистом и всхлипываниями пролетали снаряды разных калибров, чиркали по земле и посвистывали в воздухе шальные пули, и не так-то легко было заставить себя оторваться от матушки-земли и встать на ноги.
Все существо Пети протестовало против необходимости снова идти в огонь.
Другое дело, если бы он был ранен. Ну хотя бы немножко. Тогда он имел бы право остаться на месте, уползти назад, выйти из-под обстрела и хотя бы на некоторое время освободиться от ежеминутной возможности смерти.
Петя уже воевал два года, только что дослужился до прапорщика, имел солдатский георгиевский крест, но каждый раз в бою испытывал все то же суеверное чувство неизбежной смерти именно сегодня.
С течением времени он научился управлять этим изнурительным чувством, которое, впрочем, бесследно исчезало, как только проходила опасность.
Прижавшись к земле, Петя продолжал самым внимательным образом осматривать себя, втайне надеясь найти хотя бы маленькую рану. Он надеялся на рану, как на чудо.
Раны не было.
Тогда Петя поднялся на ноги. Отряхиваясь от земли, он еще раз с сожалением посмотрел на побитый осколками плащ.
Совсем близко он увидел двух окровавленных мертвых солдат с короткими саперными лопатками в кожаных чехлах на поясе и понял, что солдаты убиты тем же самым снарядом, который свалил его взрывной волной.
Делать нечего, надо догонять роту.
Петя бросил испорченную ракету, вытащил из-за пояса другую, исправную. Приготовил и, продолжая чувствовать во всем теле угрюмое гудение, сделал несколько шагов по вскопанной снарядами земле.
В это время к нему подбежал прапорщик Колесничук.
— Петька, что с тобой? Ты ранен?
— Ничего подобного, — с плохо скрытой досадой сказал Петя.
— На тебе лица нет.
— Еще чего!
— А я говорю, что ты ранен.
Колесничук стал всматриваться в Петино лицо.
— У тебя разорвалось прямо-таки под самыми ногами. Я видел. Не может быть, чтобы ни один осколок не зацепил.
— Зацепил, да только не тело, — с иронией сказал Петя, показывая изодранный плащ.
— Невероятно! Да нет же. Пари, что ты ранен. Иду на что хочешь!
С этими словами добряк Колесничук стал со всех сторон осматривать Петю.
— Я, наверное, все же контужен, — слабым голосом сказал Петя. — Адская головная боль. И головокружение. Положительно не могу держаться на ногах.
Он преувеличивал. Конечно, он отлично мог держаться на ногах, и голова у него уже совсем не болела, а только шумело в ушах, да и то не так сильно, как сначала.
Петя оперся на плечо товарища.
— Лучше я здесь где-нибудь отлежусь, или, даже еще лучше, пусть меня отнесут в… околоток.
У Пети не хватило совести сказать — в лазарет.
— Как ты думаешь, Жора? — уже совсем жалобно проговорил Петя с легким стоном, за который сам себя презирал. Потом он сел на землю.
— Стой! Ага! — вдруг с торжеством крикнул Колесничук. — Вот сюда. Я так и знал. — С этими словами он коснулся пальцами Петиных галифе немного пониже кармана. — Ого, брат, сколько натекло!
Петя посмотрел и не поверил своим глазам. Карман его только что пошитых ультрамодных бриджей из дорогой темно-синей гвардейской диагонали теперь почернел и был мокрый, как будто в нем раздавили помидор.
— Видишь, сколько крови? — сказал Колесничук, болезненно морщась и чуть не плача от жалости к своему старому гимназическому товарищу, с которым они оказались в одной дивизии.
— Ишь, куда попало. По самому канту врезало. Петя увидел в мокром сукне маленькую рваную дырочку. Не могло быть сомнений: он ранен. И, по всей вероятности, ранен легко, потому что боли почти не чувствовал.
— Носилки! — крикнул Колесничук.
— Не надо, — сказал Петя неожиданно для самого себя. — Ты мне, Жора, только помоги перевязаться. Я остаюсь в строю. — И он строго посмотрел на приятеля.
Это был именно тот случай, о котором Петя давно уже мечтал, как и большинство прапорщиков: быть раненым и остаться в строю.
Так как вокруг все еще продолжали посвистывать шальные пули, а время от времени рвались и снаряды, то оба прапорщика отползли немного назад и сели в лощинке, среди поломанного орешника.
Здесь Колесничук, продолжая морщиться и качать головой, разорвал индивидуальный пакет, который был привязан к его шашке, а Бачей расстегнулся, опустил галифе и вдруг увидел свою голую ляжку, пробитую насквозь осколком.
Вид этих свежих красных дырок, откуда сочилась и текла по белому телу — его телу! — жидкая кровь- его кровь! — так поразил Петю (в особенности яркость крови), что у него закружилась голова. Он успел схватиться руками за шею Колесничука, который в это время неумело, но решительно накладывал на рану розовую вату бинта.
Тут подоспели носилки.
Петя Бачей заскрипел зубами, когда прямо на раны стали лить черный, как деготь, японский йод. Затем фельдшер перевязал рану, туго обкатав бинтом Петину поясницу.
Петя застегнулся и снова надел пояс с пистолетом и полевой сумкой, которые теперь показались ему слишком тяжелыми. Он с сожалением посмотрел на свои попорченные осколком, пропитавшиеся кровью бриджи.
— Ничего, — сказал Колесничук, — отпарятся. Ходить можешь?
Петя встал и сделал несколько шагов, но тотчас почувствовал довольно сильную боль. Он пошатнулся. Фельдшер подхватил его под руки и бережно посадил на землю.
— Нет, нет, пустите меня, я пойду в цепь! — сказал Петя, понимая, что теперь его уже в цепь не пустят, а отнесут на носилках в тыл.
В это время по знаку фельдшера санитары сбегали куда-то в кусты и вернулись с носилками.
— Лягайте, господин прапорщик, — сказал фельдшер, деликатно подставляя Пете плечо.
— Хорошо. Но только не дальше полкового госпиталя.
— Это как бог даст, господин прапорщик. Счастливого вам пути!
В голосе фельдшера Пете послышалась плохо скрытая зависть.
Санитары, преувеличенно суетясь, помогли раненому прапорщику лечь на носилки, и покрыли его сверху продырявленным макинтошем, побитым осколками.
Они заметно торопились. Им явно не терпелось поскорее вместе с носилками раненого выбраться с линии огня в тыл.
— Ну, Петя, будь здоров, поправляйся, а я пошел догонять роту. Старайся попасть в Одессу, кланяйся там моей Раисе.
Раиса была его молодая жена, попросту Раечка, урожденная Лурье, бывшая одесская гимназистка, хорошо знакомая Пете с детских лет.
Они поцеловались, и последнее, что видел Петя на поле боя, была долговязая фигура Колесничука, который, в каске на затылке, время от времени приседая и бросаясь на землю, бежал зигзагами по гребню высоты, догоняя свою цепь.
Санитары внесли Петю в глубокую расселину. Здесь раненого уже дожидался, дрожа от волнения, его вестовой — молодой миловидный солдатик последнего призыва, по фамилии Чабан.
Он бросился к носилкам и припал головой к погону прапорщика, заглядывая в его лицо своими нежными, девичьими светло-карими глазами, потемневшими от испуга.
— Что с вами, господин прапорщик?.. Что с вами, господин прапорщик? — повторял он бессмысленно. — А я уже думал, що вас зараз зовсим вбыло. — При этом он, не стесняясь, вытирал слезы рукавом своей летней травянисто-желтой гимнастерки.
— Где же это вы околачивались? — по-прежнему неестественно слабо, но уже с командирскими нотками в голосе сказал Петя. — В бою вестовому полагается быть вместе со своим офицером. Под суд захотели?
— Виноват, господин прапорщик. Трошки отстал, бо вы дуже швидко побежали вперед. А тут «он» как ударит сбоку… И все вокруг вас. А одна граната прямо-таки у вас под ногами разорвалась. Я уже думал, что клочков ваших не соберу. Стою на месте, аж весь трясусь тай плачу…
Чабан снова всхлипнул и посмотрел на своего прапорщика с восторженной улыбкой, как на ясное солнышко, даже немножко зажмурился.
— Ну, хорошо, потом расскажешь, а пока несите! — сказал Петя, услышав, что за гребнем снова — и довольно близко — началась ружейная пальба пачками и застучали пулеметы.
Но и без этого санитары поторопились.
Теперь, кроме них, носилки поддерживали неизвестно откуда взявшиеся еще два солдатика с винтовками, оба маленькие, проворные, суетливые, до смерти перепуганные и в то же время старающиеся быть как можно незаметнее.
— А вы, друзья, как сюда попали? — грозно спросил Петя. — Вы разве санитары?
— Никак нет, — с готовностью ответил один из них. — А мы пособляем санитарам.
— На случай, если чего-нибудь не так… — добавил другой.
— А ну, марш обратно в роту! — крикнул Петя.
— Слушаюсь, господин прапорщик! — с еще большей готовностью сказали оба солдатика в один голос, но никуда от носилок не отошли, а, наоборот, ухватились за них еще крепче, всем своим видом стараясь показать, что они готовы на все, лишь бы как можно лучше услужить господину прапорщику.
— Я кому приказываю? — сказал Петя, угрюмо скосив из-под каски глаза.
Но тут кончилась лощинка, и носилки снова оказались на открытом месте.
Вероятно, баварскому артиллерийскому наблюдателю эта небольшая кучка солдат, окруживших носилки, показалась в бинокль среди складок местности тем, что на военном языке называется «скоплением неприятеля».
Через минуту прилетело несколько немецких шрапнелей, которые разорвались в разных местах — высоко и низко, — повиснув в воздухе зловеще-темными шарами дыма.
Петя лежал на носилках вверх лицом, и ему некуда было деться. Он снова почувствовал отчаянный, животный ужас. Как! Провоевать два года, получить такое удачное ранение и быть так глупо, так безжалостно убитым на носилках по дороге в тыл, именно теперь, когда через каких-нибудь четверть часа он будет спасен от всех ужасов войны!
Но что же делать? Он прикрыл лицо каской. Его сводило с ума собственное бессилие.
— Братцы! — крикнул он солдатам. — Выручайте! Всех представлю к георгиевскому кресту за спасение офицера под огнем!
Солдаты, которые и сами были не прочь спастись вместе с раненым офицером, побежали рысью, так что каска стала подпрыгивать на лице прапорщика, довольно ощутительно ударяя его по носу.
И скоро носилки оказались в безопасности. Поле боя осталось далеко позади, и над ним туда и назад продолжали летать наши и немецкие корректировщики, окруженные оспинками шрапнельных разрывов.
2 СВЕРЧКИ
Все это происходило жаркой солнечной осенью 1917 года в Румынских Карпатах, в первые часы русского наступления, начатого по всему фронту после двухдневной артиллерийской подготовки.
Петя понимал, что ему здорово-таки повезло. Недаром же у него было две макушки. Он оказался первым раненым офицером по всей дивизии. Поэтому его эвакуация в тыл совершилась со сказочной легкостью.
Офицерское отделение только что развернутого в громадных палатках полевого дивизионного лазарета было еще совсем пусто. Первого раненого прапорщика встретил весь медицинский персонал во главе с главным врачом-хирургом в еще чистом, накрахмаленном халате, из-под которого выглядывали лакированные сапоги с маленькими штаб-офицерскими шпорами.
Хирург изнывал от ожидания.
Заметив носилки с прапорщиком, он тотчас отбросил в сторону папиросу «Лаферм» и натянул черные резиновые перчатки, при виде которых у Пети потемнело в глазах.
— На стол! — крикнул хирург наигранно грубым голосом, таким самым, каким, по его мнению, должен был кричать великий Пирогов на бастионах осажденного Севастополя.
— Ножницы! — услышал Петя над собой ужасный голос, едва только его положили на грубо сколоченный сосновый стол, покрытый клеенкой.
«Боже мой, для чего же ножницы?» — со страхом подумал Петя и жалобно посмотрел на хирурга, который изо всех сил раздувал сизые щеки, шевеля усами, рыжими, как медная проволока.
— Разрежьте ему шаровары! — скомандовал хирург с таким видом, как будто малейшее промедление грозило раненому смертью.
— Умоляю вас… Я сам… — пролепетал Петя и слегка приподнялся на локте, забыв в этот миг, что он ранен.
Не хватало, чтобы искромсали ножницами его шикарные выходные бриджи, которые хирург так вульгарно и пренебрежительно назвал шароварами.
— Что же ты стоишь, как бревно, я не понимаю. Помоги же! — плаксиво сказал Петя своему вестовому, который ни жив ни мертв стоял возле распахнутого входа в операционную палатку, с ужасом ожидая, что сейчас начнут резать его любимого начальника.
Но Чабана в операционную не пустили, и Пете самому пришлось расстегнуться и обнажить перевязку.
— Сапожники! — сказал хирург, разрезая кривыми ножницами промокший окровавленный бинт и с отвращением бросая его в пустое ведро. — Шмаргонцы! Даже перевязать толком не смогли раненого прапора. Зонд!
Он сделал зверские глаза, которые за увеличительными стеклами небольших золотых очков зашевелились, как у рассерженного бычка, и в ту же секунду в его откинутой назад руке очутился зловеще изогнутый, длинный, страшный инструмент с неприятно блестящим никелированным шариком на конце.
— Ой, не надо! — совсем по-детски сказал Бачей. Но хирург не обратил на это внимания и твердо, но в то же время очень легко насквозь проткнул рану гибким зондом.
Петя зажмурился, застонал от тупой боли, которая, впрочем, оказалась не так сильна, как можно было ожидать при виде окровавленного конца зонда с шариком, вылезшим из выходного отверстия раны.
— Болит? — бодро спросил хирург.
— Болит, — бодро ответил Петя и немножко застонал, хотя этого можно было и не делать.
— Но не очень? — пытливо спросил хирург.
— Но не очень, — согласился Петя. — Но все-таки…
— Прекрасно, — сказал хирург, вытаскивая зонд, отчего раненый опять застонал, на этот раз непроизвольно.
Он хотел зажмуриться или отвернуться, но как завороженный не мог отвести глаз от своей сочащейся раны.
— Молодец прапорщик! — сказал хирург, ощупывая Петино бедро со всех сторон. — Кость не задета. Ну, счастлив ваш бог. Могло быть куда хуже.
Услышав, что кость не задета, Петя почувствовал нечто вроде разочарования и даже некоторого испуга.
Но следующие слова хирурга его успокоили.
— Сейчас мы сделаем вам дренаж, и можете отправляться дальше, на эвакуационный пункт. Не будем вас задерживать, тем более, что через час-полтора здесь на одной койке будет валяться по четыре раненых, и мы не будем знать, что с ними делать, куда их девать.
Хирург мотнул своей коротко остриженной медно-рыжей головой в сторону передовых позиций, откуда по всему фронту продолжало грозно перекатываться и греметь, отчего полотняные стены операционной с вделанными в них окошками все время вздрагивали и колебались.
Когда в оба отверстия раны были вставлены резиновые трубочки — дренажи, приклеены пластырем, закутаны ватой и нога твердо забинтована, Петя вдруг почувствовал такую сонливость, что мгновенно заснул, но сейчас же его разбудил собственный храп.
Теперь он уже лежал на свежем воздухе, в тени под деревьями, и хирург что-то наливал в лазаретную эмалированную кружку из красивой французской бутылки.
— Выпейте коньяку, это вас подкрепит. Мартель. Подарок доблестных союзников.
Петя хлебнул французского коньяка. Едкая пахучая жидкость потекла по его подбородку. Он закашлялся.
— Заешьте, — сказал хирург и сунул прапорщику в рот кусок английской галеты. — Подарок доблестных союзников. И будьте здоровы. Сейчас вам принесут документы, аттестат и все прочее, а я пойду резать людей, видите, публика подваливает. Горячий будет денек! — прибавил он.
Петя увидел, что все вокруг успело заметно измениться.
В лесу между палатками госпиталя, где совсем недавно было еще безлюдно, теперь, откуда ни возьмись, появилось множество раненых — солдат и офицеров.
Они притащились сюда с передовой линии пешком или, в лучшем случае, были принесены на носилках, которых, как это всегда бывает во время больших сражений, не хватало.
Раненые лежали, сидели и стояли в сухой, жаркой тени небольших карпатских сосен, ожидая очереди на перевязку или операцию.
Со своими измученными, запылившимися лицами и окровавленными, промокшими перевязками они не произвели на Петю никакого впечатления. За время службы в действующей армии он уже успел достаточно насмотреться на раненых.
А главное, он сам был ранен, и это как бы давало ему моральное право не обращать внимания на чужие страдания.
Глядя на них, он только лишний раз убеждался в том, что ему сегодня во всех отношениях повезло.
Был бы он ранен часом позже, неизвестно еще, достались ли бы ему носилки, сделали бы ему так быстро и так тщательно перевязку, напоили бы его французским коньяком, а главное, эвакуировали бы его в тыл с такой, в сущности, пустяковой раной. С такими ранами обычно через неделю-другую человека снова отправляют на позиции.
Пете даже пришло в голову, слегка отуманенную мартелем, что хирург может, чего доброго, передумать и вместо эвакуационного пункта отправить его куда-нибудь не дальше корпуса.
Чабан, посланный в канцелярию лазарета за бумагами, долго не возвращался, и Петя стал не на шутку беспокоиться.
Между тем санитары и солдаты, доставившие его сюда, мирно сидели в сторонке и хлебали из бачка лазаретный суп.
Пустые носилки стояли рядом.
— Вы здесь зачем околачиваетесь? — спросил Петя.
— Обедаем, господин прапорщик, — с искательной улыбкой ответил один из санитаров.
— Окопались? — грозно сказал Петя. — А ну в два счета марш в роту! Нечего тут валандаться!
Солдаты сделали вид, что страшно торопятся, засуетились, стали в последний раз изнутри и снаружи облизывать деревянные ложки, совать их черенками за обмотки, а на самом деле оставались, как пришитые, на месте.
— Кому сказано? — повысил голос Бачей. — Вы чего здесь дожидаетесь?
— Так точно, дожидаемся, чтобы вы всех нас переписали.
— Это еще зачем?
— Вы обещали.
— Я?
— Так точно. Как мы вас под огнем вынесли на своих руках из боя и как вы нам обещали за спасение офицера георгиевские кресты.
— А! — сказал Петя. — Это дело другое. Раз обещал, значит, сделаю. Ну, говорите свои фамилии.
Он вытащил из-под головы сумку и записал в полевую книжечку фамилии и звания своих спасителей, после чего они, пожелав прапорщику счастливого пути в тыл и еще довольно долго скручивая цигарки из солдатской газетки, «позыченной» у лазаретной прислуги, наконец взяли пустые носилки и, не торопясь, побрели, мелькая среди деревьев, туда, откуда, ни на миг не утихая, продолжали доноситься зловеще громкие звуки большого сражения.
По этим звукам, как бы уже давно досадно застрявшим на одном месте, Пете было ясно, что наше наступление остановилось, пехота залегла и теперь ее изо всех сил молотит неприятельская артиллерия.
Раненых с каждой минутой прибывало все больше и больше.
Уже возле переполненных лазаретных палаток началась давка. Санитары укладывали раненых прямо под деревьями на одеяла.
Слышались стоны, недовольные возгласы, матерная брань, и уже неподалеку образовался митинг, откуда долетал рыдающий солдатский голос, выкрикивающий те самые слова, которые в последнее время повторялись всюду — в тылу и на фронте, — где только ни собирался митинг.
Эти слова еще не потеряли своей жгучей новизны.
Они были не плодом ораторского искусства, а с болью и яростью вырывались из самого солдатского нутра, из глубины народной души, истерзанной всеми муками трехлетней бойни.
— Будя! Попили нашей кровушки! Пора кончать, пока нас всех тут не переколотили! Бона, слышь, как молотит?
Митинг замолк. В минутной тишине бой гремел особенно зловеще.
Пете даже показалось, что все вокруг потемнело и солнце скрылось в грозовой туче, хотя на самом деле безоблачный полдень продолжал сиять в предгорьях Карпат, весь пропитанный горячими запахами трав и различных древесных пород: сосны, дуба, бука, граба…
Петя почувствовал тошноту. Он надвинул на лицо свою помятую каску, накалившуюся от солнца, и закрыл глаза.
В это время прибежал Чабан с бумагами, а следом за ним подъехала санитарная двуколка, в которую Петю и погрузили.
— Ну, Чабан, прощай, — сказал он, засовывая бумаги в полевую сумку.
— Господин прапорщик, — проговорил Чабан с умоляющей улыбкой и даже осмелился нерешительно, хотя и довольно крепко взять Петю за плечо.
На лице Чабана было написано столько отчаянной, страстной надежды, что Петя сразу понял: вестовой просится вместе с ним в тыл.
— Ей-богу, ваше благородие, возьмите меня, — проговорил Чабан, переводя дух от смущения. — Ей-богу, возьмите!
Он даже употребил старорежимное, дореволюционное выражение «ваше благородие», уже давно отмененное Временным правительством.
— Чудак человек, как же я могу?
Петя всей душой жалел этого человека, такого молоденького, поукраински красивого и нежного, который должен был немедленно возвращаться в цепь, получить винтовку и идти в бой, откуда вряд ли уже вернется.
— Господин прапорщик, вы можете. Вы все на свете можете!
Свято веря в эту минуту во всемогущество прапорщика, Чабан смотрел на Петю со страстной надеждой.
Петя был совсем не против того, чтобы взять с собой вестового. Сам так счастливо избегнув смерти, он теперь с радостью готов был спасти от гибели любого другого человека, своего ближнего, в особенности такого милого, как Чабан. Вся беда заключалась в том, что при старом режиме раненый офицер мог взять с собою в тыл денщика, то есть солдата, числившегося в нестроевой команде, а после революции не мог. Вестовой оставался в части.
«Убьют малого, это уж наверное», — подумал Петя, испытывая какое-то странное, сложное чувство, похожее на стыд или, во всяком случае, неловкость от того, что вот он уже спасен и его уже наверняка не убьют, а если убьют, то не скоро, а вот Чабана так убьют безусловно и, весьма вероятно, сегодня же днем.
— Ваше благородие, господин прапорщик! — умоляюще говорил Чабан, держась за колесо, как бы желая удержать двуколку. — Как же вы поедете без меня? Кто вам по дороге поможет? А я в случае чего и постирать могу и сготовлю поисты.
— Ладно, — сказал Петя решительно. — Зовите сюда начальника госпиталя.
— Не могу. Не имею права. Не положено, — сказал начальник госпиталя, приведенный Чабаном. — А впрочем, делайте, как хотите! — прибавил он и вдруг раздраженно закричал: — Пускай хоть вся армия уезжает! Тем скорее кончится вся эта революционная петрушка. Вы! Как там ваша фамилия? — спросил он вестового, подчеркивая слово «вы».
— Чабан, ваше высокоблагородие!
Начальник госпиталя поморщился так, словно поел мыла.
— Можете сопровождать своего прапорщика, но только без аттестата. Аттестат пусть вам выдаст в тылу воинский начальник, если, конечно, он вас не арестует за дезертирство.
— Я отвечаю, — сказал Петя покраснев.
— Ну так и отправляйтесь, — сказал начальник госпиталя, — я умываю руки. Идите вы все к черту!
И громко плюнул.
Двуколка тронулась и въехала в лес, подпрыгивая по корням.
Это был лиственный прохладный лес с бархатисто-серыми стволами и неподвижной листвой, как бы очарованно застывшей в однотонно-зеленом воздухе.
Из заросших лесных расселин тянуло приятной сыростью.
Иногда жаркие лучи солнца пробивались сквозь буковую листву и скользили по лицу прапорщика, заставляя его жмуриться.
Здесь было так тихо и мирно, что даже сравнительно недалекий грохот боя уже не казался таким грозным, и Петя испытывал упоительное чувство безопасности.
Иногда двуколка пересекала поляны, поросшие перезревшей травой. Тогда вокруг слышался сухой треск кузнечиков. Он вызывал в Петином воображении картину степной ночи, когда на громадном пространстве как бы рассыпаны мириады крошечных косцов, дружно продолжающих какую-то свою косовицу, начатую еще днем.
Давно не слышал Петя вокруг себя этих мирных, убаюкивающих звуков.
— Слышь, Чабан, — не открывая глаз, спросил он. — Что это такое?
Чабан не понял, о чем его спрашивают. Ему даже показалось, что его офицер бредит. Он с испугом посмотрел на Петю.
— Чего изволите? — спросил он жалостливым, бабьим голосом.
— Я говорю, это что, сверчки, что ли? — повторил Петя. — Или, может быть, у меня шумит в ушах?
— Так точно, — еще более жалобно ответил Чабан. — Це у вас в ушах шумит.
Петя прислушался.
— Да нет же, это не в ушах. Неужели ты ничего не слышишь?
Чабан с недоумением посмотрел на своего офицера и стал прислушиваться.
— Ну? Ничего не слышишь? — спросил Петя с тревогой.
— Слышу, — ответил Чабан.
— Что же ты слышишь?
— Слышу цвиркунов. А никаких сверчков не слышу.
— Ну, так цвиркуны — это и есть то же самое, что по-русски сверчки! — Петя сказал с облегчением, потому что и сам было испугался, не начинаются ли у него галлюцинации слуха.
Несколько раз Петя засыпал и просыпался от толчков двуколки.
К вечеру его привезли на какой-то эвакопункт и положили на нары в офицерском бараке, который, в сущности, ничем не отличался от солдатского и был переполнен ранеными, свезенными сюда со всей армии.
Петя лежал в духоте, вплюснутый между двумя ранеными офицерами, из которых один все время вздрагивал и стонал, а другой лежал неподвижно, высунув сапоги из-под коротко обрезанной пехотной шинели. Он не дышал, и Пете все время казалось, что он уже умер.
В бараке было темно и душно. Горела только одна маленькая керосиновая лампочка с черным от копоти стеклом.
Пахло больничной соломой.
Звуки сверчков не прекращались. В ушах утомительно стрекотало. Но Петя понимал, что это уже не настоящие сверчки, так нежно и сонно бормотавшие о счастье, а сухой шелест крови, торопливое стрекотание пульса, признак подымающейся температуры, надвигающегося беспамятства и мучительного «пиит-пиит-пиит» Андрея Болконского.
Ему померили температуру. Было тридцать восемь и два.
Рана по-прежнему не болела, но все тело ныло и дрожало, как отравленное.
Петю стала трясти лихорадка. Тошнило.
«Ага, тебе хотелось так легко выскочить из пекла. Ты хотел обмануть судьбу. Ты думал, что уже все обошлось и ты спасен, — быстро, прерывисто нашептывал ему жаркий сверчковый голос. — Нет, дорогой мой, так не бывает. За все надо платить. Надо платить. Надо расплачиваться. Расплачиваться…»
Чабан навалил на прапорщика груду госпитальных одеял, но от них Пете не стало тепло — его продолжало знобить, морозить, — а сделалось еще противнее, неудобнее, до обморока тошнотворнее.
Петя временами терял сознание.
Рана больше не болела, стала нечувствительной. Но именно эта странная нечувствительность, онемение тканей казались особенно зловещими.
Теперь Петя был уже уверен, что у него начинается гангрена. Ему представлялось это страшное слово «гангрена» в виде медленно ползущего длинного животного, покрытого черными пятнами с желтовато-розовыми краями, причем это животное в то же время было также его онемевшим бедром.
Петя стал бредить.
Это было тягостное ползание по сильно пересеченной местности, среди ящиков с французским коньяком и английскими галетами, среди неразорвавшихся тротиловых гранат, среди развешанных предохранительных сетей от минометных снарядов, среди рельсов прифронтовой узкоколейки, по которой туда и назад ползали вагонетки с боеприпасами и медикаментами.
Ему преграждали путь глубокие окопы, обшитые тесом, ужасно неудобные ходы сообщения, по которым никуда невозможно было приползти, так как они все непонятным образом переходили в некую абстракцию пространства, близкую к бесконечности.
Он натыкался на штабеля снарядов. Он останавливался на краю квадратных ям, вырезанных в глине, откуда торчали почти под прямым углом стволы дальнобойных пушек Виккерса, бесшумно извергавшие длинные языки пламени.
Между тем пересеченная местность все время куда-то сползала и заваливалась, как несколько слоев тяжелых лазаретных одеял, и все время рядом лежал мертвец с закрытым лицом и грязными сапогами, вытянутыми из коротко обрезанной шинели.
Среди этого нагромождения иногда появлялся солдатик с неразборчивым, совсем темным лицом и подносил к Петиным губам кружку с обжигающим и вместе с тем как бы не имеющим температуры придымленным чаем.
Солдатик плакал, и Петя понимал, что он называется Чабан, но кто он такой, и что значит это слово «чабан», и какое оно имеет к нему отношение, он уже не понимал и, как ни старался, не мог отдать себе в этом отчета.
В то же время вокруг непрерывно шумели солдатские митинги, выносившие резолюции о немедленном прекращении этой многослойной пересеченной местности.
Через несколько суток Петю вынесли на носилках вместе с другими ранеными и при свете разных — госпитальных и железнодорожных — фонарей торопливо погрузили в санитарный поезд, который тотчас отошел от станции.
3 СТЫЧКА С КОМЕНДАНТОМ
Целый день поезд утомительно медленно полз среди гористых пейзажей, осенних рощ, часто останавливался, пока к ночи окончательно не остановился на станции Яссы, забитой воинскими эшелонами и маршевыми ротами.
Петю выгрузили и вместе с другими ранеными перенесли в какойто громадный сумрачный католический монастырь, превращенный в госпиталь.
Чабан сбегал в город и скоро вернулся, сообщив новости, которые узнал по так называемому «солдатскому телеграфу». Немцы прорвали фронт, перешли в наступление, и теперь никто не знает, где свои и где чужие и куда можно отправлять санитарные эшелоны с ранеными, чтобы не угодить к немцам.
— Подлецы! — сказал Петя, вскакивая с носилок. — Чабан, одеваться!
Он чувствовал себя еще довольно слабым, но уже гораздо лучше, чем прошлой ночью.
Температура упала. Нога не болела. Правда, немножко знобило, но этот легкий озноб даже как-то бодрил.
— Ах, подлецы! — все время повторял Петя, с помощью вестового просовывая забинтованную ногу в узкую штанину бриджей.
Его охватило беспокойство.
Он очень хорошо понимал, что значит во время отступления попасть на прифронтовую узловую станцию, забитую эшелонами.
Настоящая ловушка.
И главное, когда все так хорошо устраивалось!
Петя кипел от негодования и в то же время готов был заплакать с досады, как мальчик: вместо того чтобы благополучно эвакуироваться в тыл, в родную Одессу, еще, чего доброго, очутишься в плену.
Этого еще не хватало!
— Нет, черт бы их всех побрал! Сапожники! Шляпы! Довоевались!
Раненые офицеры, размещенные вместе с Петей в темной, прохладной трапезной монастыря, разделяли его негодование.
Они так же, как и Петя, готовы были тоже вскочить с носилок и ринуться на станцию для того, чтобы расправиться со шляпой, военным комендантом, этой жалкой крысой, окопавшейся в тылу, но, к сожалению, никто не мог этого сделать, так как все были тяжелораненые, кроме Пети.
Таким образом, прапорщик Бачей сразу сделался как бы их представителем.
— Послушайте, прапорщик, — раздавалось со всех сторон, — взгрейте их там как следует!
— Цукните их хорошенько!
— Эту тыловую сволочь!
— Покажите им, коллега, кузькину мать, ля мер де ля Кузька!! — весело кричал поручик с отрезанной по колено ногой, видимо, из студентов, который, не переставая, острил и каламбурил, как бы желая заглушить в себе, перекаламбурить ужасное душевное состояние, терзавшее его днем и ночью и не дававшее ни на минуту уснуть, забыться.
Кто-то протянул Пете желтый лазаретный костылик — палочку с резиновым наконечником, — и Петя сначала неуверенно, шатко, боясь ступить на раненую ногу, а потом все тверже и тверже, бережно поддерживаемый вестовым, вышел из монастыря с тем, что он разнесет в пух и прах коменданта и заставит немедленно погрузить всех в поезд и отправить в Россию, не дожидаясь, пока западня захлопнется.
Это было грубое нарушение лазаретных правил.
Напрасно румынский военный врач в нарядном мундире с красивыми иностранными орденами и две молоденькие дежурные сестры-урсулинки в своих белоснежных батистовых накрахмаленных громадных головных уборах пытались остановить прапорщика в дверях, даже хватали его за руки, но Петя строптиво вырвался от них и по скверной фронтовой привычке, сам того не заметив, пустил такое выражение, что Чабан застенчиво покраснел и пугливо посмотрел на черное распятие на белой стене.
Привычное состояние боевого раненого офицера, да к тому же еще и георгиевского кавалера, попавшего в тыловую обстановку, охватило Петю, едва он добрался до железнодорожной станции, полной слоняющихся солдат.
Петя сразу же хотел пройти к военному коменданту, но молодой донской казак с винтовкой за спиной преградил ему дорогу протянутой плеткой, сказав, что посторонним вход воспрещен.
— Это я посторонний? — сказал Петя, побледнев до корней волос, и ударил костылем по плетке. — С дороги!
— А ты, ваше благородие, не шуми.
— С дороги! — в бешенстве закричал Петя. — Не видишь, с кем разговариваешь?
— Видали мы таких керенских геройчиков, студентов, — проговорил казак, продолжая стоять на месте, не сводя с Пети своих весело прищуренных, наглых глаз.
Кровь бросилась Пете в голову.
— А! — крикнул он голосом, который ему самому показался ужасным, и что есть сил ударил костыликом по какому-то станционному чугунному столбику.
Ручка отломилась, и костылик полетел, скользя и подпрыгивая по перрону.
На шум выскочил комендант — пехотный капитан с пустым рукавом гимнастерки, заткнутым за тугой пояс.
— Господин капитан, — сказал Петя, дрожа от негодования, — когда прекратится этот кабак? Почему нас выгрузили здесь и не отправляют дальше?
— Во-первых, попрошу вас не скандалить и стоять по уставу, когда вы обращаетесь к офицеру, старшему по чину.
Тут Петя увидел на рукаве капитана черно-красный треугольный шеврон так называемого ударного батальона.
— А во-вторых, какого дьявола вы суетесь не в свое дело? Распустились! Вольнопер позволяет себе делать замечания. Когда отправят, тогда и отправят. Вам что? Не терпится поскорее на фронт, получить немецкую пулю в задницу? Не суйтесь поперед батьки в пекло. Успеете.
— Да я, наоборот, не на фронт, а в тыл, — простодушно сказал Петя, понемногу остывая и не без некоторого уважения разглядывая на гимнастерке капитана орден Владимира четвертой степени с мечами и бантом.
— Вот как?
Капитан зло сощурил глаза.
Петя понял, что сморозил глупость, непроизвольно покраснел и замялся.
— То есть не лично я, а, так сказать, мы… То есть все раненые… Нас всех почему-то выгрузили из поезда и посадили в какой-то монастырь…
— Вот как! — еще более грозно повторил капитан, не слушая Петиных объяснений. — Значит, вы изволите торопиться с фронта в тыл? Драпаете?
Он очень четко, сквозь зубы, с особенным зловещим удовольствием произнес это новое фронтовое словечко «драпаете», только что вошедшее в моду на румынском фронте.
— Драпаете-с?
— Попрошу вас в таком тоне не разговаривать с раненым офицером! — вспылил Петя. — Это не мы драпаем, а вы драпаете со всеми вашими знаменитыми штабами.
Лицо коменданта странно окаменело, но Петя не обратил на это внимания. Он уже не владел собой. Его понесло.
— Развалили к чертовой матери фронт, а теперь, вместо того чтобы ликвидировать прорыв, бросаете на произвол судьбы раненых и устроили здесь… кабак!
Он уже вовсе не соображал, что говорит, и очнулся лишь тогда, когда близко от себя увидел покрасневшее, с белым глянцевитым шрамом на переносице лицо капитана, его темные брови и крепко стиснутые собачьи зубы.
— Что? Прорыв?
— Прорыв, — машинально повторил Петя, уже смутно догадываясь, что говорит нечто совсем неладное.
— Замолчать! Как вы смеете! Мальчишка! — крикнул капитан ужасным голосом и стал шарить пальцами по кобуре револьвера. — Прорыв? — сказал он, понизив голос, отчего его голос стал еще ужаснее. — Да за такие слова я вас сейчас… Тут же на месте… За распространение провокационных слухов… Приказ Корнилова знаете?
Казак снял с плеча винтовку.
Но, к счастью, вокруг Пети и капитана уже собралась толпа солдат, которые в это время привыкли с подозрением следить за офицерами, прислушиваться ко всем их разговорам.
Теперь они молча, в вольных позах стояли вокруг, недоброжелательно поглядывая то на Петю, то на коменданта, решая вопрос, кто из них прав.
И Петя никак не мог понять значения их пытливых, изучающих взглядов.
В присутствии солдат капитан сразу переменился.
— Вперед, знаете ли, не рекомендую вам распускать панические слухи, — сказал он скорее ворчливо, чем грозно. — А то видите, что делается… — Он кивнул на солдат. — Что же касается ваших раненых, то они будут отправлены с первым же санитарным поездом. Больше вас не задерживаю. Можете идти.
Казак равнодушно надел винтовку.
Капитан козырнул, бросил на Петю внимательно-недобрый взгляд и скрылся в своем помещении, а Петя побрел по перрону, опираясь за неимением костылика на плечо вестового.
Солдаты некоторое время молчаливо следовали за ними, для того чтобы послушать, о чем будут разговаривать между собой офицер и вестовой. Но так как оба молчали, то солдаты мало-помалу рассеялись, продолжая наблюдать за ними издали, но уже без особого интереса.
Казалось, что стычка с комендантом кончилась благополучно.
Но в глубине души у Пети остался неприятный осадок. Было что-то слишком мстительное, ядовито-изучающее в последнем взгляде коменданта, и Петя испытывал предчувствие какой-то нависшей над ним беды.
Он не ошибся.
4 ДОЛОЙ ВОЙНУ!
Желая поскорее смешаться с толпой, наполнявшей привокзальную площадь, Петя и Чабан быстро сошли по ступеням и очутились среди солдатского моря. Площадь только тем и отличалась от станционных площадей русских юго-западных железных дорог, что над зданием вокзала висел румынский флаг и вместо трактира напротив находилась кофейня со столиками на улице и высоким шестом, на котором тоже висел маленький румынский флажок.
Скирды свежеобмолоченной соломы, блестя сухим золотом на сентябрьском солнце, виднелись кое-где в привокзальных дворах. Пахло базарной пылью, половой, полынью, кукурузой.
Но все эти мирные краски солнечной румынской осени были нарушены неумолкаемым говором солдатской толпы — утомительнооднообразным, грозным.
Слышались выкрики ораторов.
Петя заметил, что этот митинг сильно отличается от тех митингов, к которым он привык на позициях.
Там, в перерыве между боями, солдаты стояли молчаливо в своих касках, как бы прикованные к земле тяжестью своих вещевых мешков, подсумков, противогазов и оружия.
Они с угрюмым вниманием слушали ораторов, по большей части молодых, говорливых унтер-офицеров из вольноопределяющихся или прапорщиков с университетскими значками и красными бантами на груди. Ораторы призывали к войне до победного конца, изредка поднимая головы вверх, для того чтобы проводить глазами маленький немецкий разведчик «Таубе», осыпанный белыми оспинками наших шрапнелей.
Здесь же Петя увидел солдат, взвинченных, обозленных. Они не столько слушали ораторов, сколько сами кричали, перебивая друг друга.
Это было смешение всех родов войск.
Одни застряли здесь по дороге на фронт. Другие только что сменились с позиций. Третьи — с распустившимися обмотками, грязными вещевыми мешками и угрюмо бегающими глазами — были дезертиры.
Солдаты обменивались новостями, и так называемый «солдатский телеграф» раздувал самые мрачные слухи о положении на фронте и подливал в огонь масло.
Митинги горели в разных частях площади, как костры.
То, что на фронтовых митингах, рядом с позициями, произносилось с некоторой опаской, здесь звучало в полный голос, с криками, рыданиями и швырянием фуражек на землю.
Среди защитных солдатских рубах мелькали синие воротники и белые голландки матросов Дунайской флотилии. Струились георгиевские ленты черноморцев Виднелись черные кожаные куртки самокатчиков и нижних чинов автомобильных команд.
Гул стоял мрачный, грозный, как на большом пожаре.
Но он не пугал Петю.
После стычки с комендантом прапорщик испытывал такое же чувство озлобления и протеста против войны, против мясорубки и бойни, откуда он только что так счастливо вырвался, каким были охвачены все эти митингующие с утра до вечера солдаты.
Отовсюду неслись крики ораторов, требующих мира, земли, хлеба.
Насчет земли и хлеба Петя был равнодушен. Но мира жадно просила вся его душа, все его молодое, здоровое тело, так грубо раненное и еще не совсем очнувшееся от ужаса смерти, пролетевшей над ним так близко.
— Долой войну! — кричал недалеко от Пети солдатик-пехотинец с грязным, измученным лицом и расстегнутым воротом выгоревшей гимнастерки с зелеными пятнами под мышками.
В одной руке он держал, как горшок, свою каску и размахивал ею, другую же руку, раненую и обмотанную окровавленным тряпьем, протягивал слушателям.
— Кидай винтовки и ходу домой, пока нас всех тут не переколотили!
У него были красные, воспаленные глаза. Видимо, он горел в жару и его бил озноб.
— Верно! Правильно! — кричали в толпе. — Пока мы тут будем проливать кровь за кадетов, наши дети дома с голодухи подохнут!
— Верно! — вместе с другими закричал и Петя, внезапно рванувшись вперед.
Он не разбирал слов, которые раздавались вокруг него. Он только слышал всхлипывающие, рыдающие, отчаянные звуки солдатских голосов.
Петей уже овладел митинговый азарт, тот самый, который в те времена непроизвольно вспыхивал в душе каждого человека, как сухой порох, от самой маленькой искорки чужого голоса.
Он сам не заметил, как очутился на козлах походной кухни возле раненого солдатика, продолжавшего с белыми, остановившимися глазами и открытым ртом во все стороны совать свою раненую руку в зловонном, окровавленном тряпье, облепленном зелеными мухами.
— Подождите, дайте мне!.. Дайте мне, я хочу сказать!., — с нетерпением говорил Петя, становясь рядом с солдатиком, и отстранил его плечом.
Он и сам не знал, зачем ему это понадобилось, но удержаться не мог и не хотел.
Его распирало от мыслей и чувств, которые требовали немедленного выражения. Ему хотелось тут же, сию секунду излить все свое негодование против безрукого коменданта, против наглого старорежимного казака с плеткой, против всей тыловой сволочи, которая не хотела войти в его положение и как можно скорее отправить его домой.
Он отстранил солдатика плечом совсем не потому, что собрался с ним спорить. Напротив. Он был с ним абсолютно согласен, но только считал, что все это он сумеет рассказать гораздо лучше, убедительнее.
— Граждане солдаты! — взволнованно начал Петя. Но, заметив, что обращение «граждане» неприятно насторожило против него весь митинг, быстро поправился и крикнул: — Товарищи!
Он сорвал свою помятую осколками каску и замахал ею над головой.
— Товарищи солдаты! — с упоением кричал он, не слыша собственного голоса. — Вот я, например, тоже прямо с передовой, из боя. У меня ранена осколком нога. — Он говорил совсем не то возвышенное, замечательное, что ему хотелось сказать, но то, что он говорил, выкрикивал осипшим голосом, было именно той самой простой солдатской правдой, которой так жаждала его душа. — Вот тут… смотрите, братцы… в верхнюю треть бедра, — почти жалобно произнес прапорщик Бачей, показывая окружавшей его толпе солдат, куда именно он ранен. — А вместо того чтобы нас, раненых, отправить в тыл, нас почему-то держат здесь, и мы, того и гляди, попадем немцам в плен, потому что Макензен опять прорвал фронт, и если он перережет железнодорожную ветку Яссы — Кишинев, то нам всем тут вата, — с удовольствием произнес Петя новое солдатское словечко «вата», обозначавшее конец, гибель.
В толпе зааплодировали, но не слишком сильно. Петя слез с походной кухни, и у него было такое ощущение, будто он произнес очень длинную, блестящую речь, покрытую бурей аплодисментов. В то же время он увидел казачий разъезд, медленно, зловеще пересекавший площадь.
Февральская революция уже совершилась, царя свергли, а казаки с плетками медленно пересекали площадь, как выходцы из старого мира, как привидения.
Однако они совсем не были привидениями.
Весь митинг с недоверием и страхом следил за донцами, каждую минуту готовый либо рассеяться, либо вступить в драку.
Пете показалось унизительным, до глубины души обидным, что солдаты — фронтовики, герои, граждане новой России, несмотря на свободу и революцию, продолжают бояться казаков.
Он вспомнил 1905 год, с ненавистью прищурился и, отставив ногу, довольно громко сказал:
— Подонки самодержавия!
Казаки не обратили на эти слова никакого внимания, и разъезд так близко проехал мимо прапорщика, что его обдало острым запахом пыльных лошадей и он услышал волосяной свист конских хвостов, отмахивающихся от жирных осенних мух.
Но казачий есаул с выточенным лицом белого шахматного конька искоса взглянул на прапорщика и, откинувшись на седле назад, что-то негромко сказал своему вестовому.
— Ишь, красавцы! — еще более сузив глаза, с вызовом обратился Петя к солдатам. — Видели подобных фруктов? Они думают, что это им старый режим! Гнусное казачье!
— Кадеты, корниловцы! — крикнули в толпе, но не слишком уверенно, и казачий разъезд, молчаливо миновав площадь, скрылся за углом.
Вечером в госпитале Петя уже собирался лечь в белоснежную постель, приготовленную урсулинками, предвкушая скорое возвращение домой, в Одессу, легкие, приятные сновидения, как вдруг в монастырской галерее раздались грубые звуки шагов, звон шпор, стук шашек, и Петя увидел нескольких солдат и унтер-офицеров, которые, отстранив дежурную сестру-урсулинку, шли по галерее прямо на прапорщика со злыми, решительными лицами.
— Вот этот самый и есть, — услышал Петя. Прежде чем он успел прийти в себя от неожиданности, его окружили.
— Вы арестованы! — с ненавистью глядя Пете прямо в глаза, сказал толстый фельдфебель-подпрапорщик с алым атласным бантом и полной колодкой георгиевских крестов и медалей на жирном туловище, перехваченной офицерским поясом с солдатской шашкой, с офицерским темляком.
— А что я сделал? — запинаясь, спросил Бачей, причем чуть было не прибавил титулование — «господин подпрапорщик».
— Ваше оружие! — сказал, выступая из-за спины фельдфебеля, строгий артиллерийский поручик, у которого на груди тоже был алый атласный бант.
Не чувствуя за собой никакой вины, прапорщик отстегнул пистолет и кортик и подал их артиллеристу, пожав плечами и сделав ироническую улыбочку.
Но это не произвело никакого впечатления.
— Следуйте за нами!
Его провели по темному, угрожающе пустынному ночному городу с конным памятником какому-то генералу или королю, и он очутился в комнате без мебели, куда тотчас втолкнули офицерскую раскладную койку-сороконожку без подушки и одеяла, и, оставив внутри комнаты часового, захлопнули дверь, а снаружи, в коридоре, поставили другого часового.
Петя понял, что с ним происходит что-то очень нехорошее. Когда же он взглянул в окно и при свете садового фонаря увидел внизу третьего часового, его длинную тень на садовой дорожке, то растерялся. Это был не простой арест, а самый строгий, который применяется лишь тогда, когда арестованный подлежит военнополевому суду.
Бачей, конечно, никак не мог применить к себе подобный случай, даже отдаленную возможность военно-полевого суда. Он вообще считал, что все это глупая ошибка. И все же в глубине души испытывал ужас.
— Я не понимаю, в чем дело, зачем меня сюда заперли, — несколько раз обращался он к часовому, который неподвижно стоял у двери с винтовкой у ноги и не отвечал на вопросы прапорщика.
Петя, конечно, очень хорошо знал из устава гарнизонной службы, что часовой не имеет права разговаривать с арестованным. Он также знал, что в случае побега часовой имеет право стрелять и убить. Но все это до сих пор была теория. Теперь это была практика. Попав в положение арестованного, Бачей почувствовал, как это подлинно страшно: спрашивать, и не слышать ответа, и бояться выглянуть в окно, чтобы не получить пулю в голову.
— Да нет, вы мне только скажите: в чем меня обвиняют? — почти жалобно спрашивал он часового, понимая, что ответа не может быть, а просто так, из наивного упрямства.
На столике горела свеча. Он вынул из сумки полевую книжку и на листке донесений стал писать начальнику гарнизона жалобу на самоуправство армейского комитета, требуя, чтобы ему либо немедленно предъявили обвинение, либо выпустили. Бачей требовал, чтобы часовой вызвал караульного начальника, но часовой продолжал сердито молчать.
Когда среди ночи началась смена караула и в комнату вошел новый часовой в сопровождении не только разводящего, но также почему-то караульного начальника и дежурного по гарнизону, мрачного штабскапитана с черепом батальона смерти на рукаве, Петя подал дрожащей рукой свою бумагу, но караульный начальник даже не пожелал ее взять, а брезгливо отстранил руку.
— Не понимаю, что это происходит! — воскликнул прапорщик Бачей. — Я требую, чтобы меня наконец выслушали. Здесь явное недоразумение. Пусть меня либо немедленно освободят, либо предадут суду.
— Суду? — сказал штабс-капитан, прищурившись. — Много чести. Таких типов, как вы, расстреливают на рассвете, во дворе комендатуры. Срывают погоны и расстреливают без всякого суда.
— Но за что же? — пролепетал Бачей, чувствуя, что еще минута, и он потеряет сознание, — так все это было ужасно, непоправимо: одинокая свеча в темной пустой комнате, штыки часовых, тени на грязных стенах и в особенности ненавидящие глаза штабс-капитана и череп на рукаве его гимнастерки. — За что же? — пересохшими губами повторил прапорщик.
— За измену. За панику. За пропаганду. Мальчишка!
— Вы не имеете права. Я офицер!
— Не офицер, а большевистская сволочь!
И не успел Петя что-нибудь сказать, как штабс-капитан и все остальные, стуча сапогами, вышли из комнаты, и снова он остался наедине с молчаливым часовым и со своей громадной тенью, которая, повторяя беспорядочные движения языка свечки, колебалась на стене, доставая большой, как бы распухшей головой до середины потолка.
Теперь он уже не сомневался, что с минуты на минуту его вытащат из комнаты в сад, толкнут к стене, и он даже как бы видел перед собой эту стену с отвалившейся штукатуркой, обнажившей розовые кирпичи.
Петя несколько раз вскакивал с койки, не стесняясь часового, бегал по комнате, потом опять бросался ничком и закрывал глаза, заставляя себя заснуть. Но вместо сна он начинал летать по комнате на своей койке, как на доске качелей — вверх и вниз, и вкось, — и это летание временами погружало его в беспамятство, однако не настолько глубоко, чтобы заглушить ужасные мысли, терзавшие его мозг.
Он понимал, что приближался тот критический миг, когда должна была наконец решиться судьба революции, и жизнь отдельных людей уже не имела значения. Он чувствовал себя песчинкой в завитке взбаламученной волны, которая, сверкая на солнце, катилась к берегу, каждую минуту готовая вдребезги разбиться о скалы.
Но ведь он был не песчинка. Он был живой. В нем был заключен весь мир со всей его древней и новой историей, религией, химией, поэзией, астрономией, а главное, с той неистребимой жаждой и силой жизни, которая одна могла удержать его от бессмысленного желания в порыве отчаяния разбить окно, закричать на весь этот чужой румынский город: «Спасите меня!» — и быть убитым пулей часового.
Он провел ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую ночь, когда вихрь разнообразных мыслей, представлений и ощущений с умоисступляющей быстротой и постоянством вращается вокруг какойто одной неподвижной точки сознания, дошедшего до высшей степени не земной, но уже какой-то небесной ясности.
Вся душа его болела множеством различных болей, среди которых особенно мучительно ощущалась боль мысли о том, что будет с отцом, когда он узнает о гибели сына. Он жалел отца больше себя. Но он и отец в эти минуты в его сознании были как бы одним существом, странно разделенным в этом тягостном мире тюремной свечи, отраженной в черных стеклах окна. Все же перед самым рассветом, когда он так устал мучиться, что уже готов был покорно идти, когда его поведут, он на короткое время заснул без мыслей и сновидений глубочайшим сном приговоренного к казни. Он проснулся от тех звуков, которых ждал с таким ужасом всю ночь. Слышались торопливо бегущие шаги солдат, звон шпор, стук прикладов по метлахским плиткам коридора. Свеча уже догорела и потекла со стола, застыв на углу белым грибом. Но она была уже не нужна. Светало. Часовой неподвижно стоял у двери. Петя заметил, что у него встревоженное лицо. Казалось, он к чему-то прислушивается.
Откуда-то снаружи доносился беспокойно нарастающий, могучий, грозный шум громадной толпы.
Вдруг в комнату вошел штабс-капитан из батальона смерти с черепом на рукаве. При слабом свете темного утра его лицо с обострившимися чертами казалось почти зеленым. В одной руке он держал пистолет прапорщика Бачея, в другой — его кортик и помятую каску.
— Получите ваше оружие. Вы свободны. И не задерживайтесь.
Теперь уже шум толпы превратился в сплошной вой, среди которого слышался свист и улюлюканье.
5 СПАСЕНИЕ
Пока Петя, кое-как надев амуницию, спускался по чугунной лестнице с узорчато-сквозными ступенями, сильно пахнувшими керосином и. карболкой, шум толпы на улице изменил свой характер. Теперь это были взрывы голосов, как могло показаться, веселые приветствия. По лестнице, обгоняя Петю, протопало вниз, к выходу, несколько солдат, на бегу надевая пояса — очевидно, выпущенные арестованные, — причем один из них лег животом на железные перила и совсем по-мальчишески, со смехом и гиканьем, съехал вниз, обогнав остальных, и едва он выскочил на крыльцо, как раздался новый, веселый, торжествующий рев толпы.
Бачей вышел на крыльцо и увидел, что солдаты запрудили всю улицу и площадь вплоть до противоположных домов. Его тоже приветствовали криками. Он молодцевато улыбнулся и помахал толпе своей боевой каской с помятой офицерской кокардой. С ним произошел тот самый феномен, без которого людям невозможно было бы воевать: едва миновала опасность смерти, как он тотчас забыл о ней, как будто бы не было ни этой ужасной бессонной ночи, ни штабскапитана с черепом, ни безмолвных часовых с примкнутыми штыками.
Ему сразу стало ясно, что произошло: толпа освободила его вместе с другими солдатами, схваченными за большевистскую пропаганду в прифронтовой полосе, что, конечно, влекло за собой в лучшем случае военно-полевой суд, а в худшем — расстрел без суда и следствия, что, впрочем, было все равно.
Первым, кого увидел Петя, был Чабан, который пробирался к нему со счастливым испуганно-взволнованным лицом.
— Товарищ прапорщик, — кричал он из толпы, — бачьте, я тут! Тикайте до меня! Слава богу, что они вас еще не спели коцнуть, — произнес он совсем новое, еще ни разу не слышанное фронтовое словечко, видимо подхваченное Чабаном сегодня в толпе.
— Здравствуй, Чабан. Как жив-здоров?
Чабан посмотрел на своего офицера счастливыми глазами, хотел ответить, но вместо этого заморгал и, схватив обеими руками руку прапорщика, стал ее жать и раскачивать.
Бачей, правда, и сейчас не вполне понимал, что же он сделал такого, за что его чуть не расстреляли под забором. Он только пожалел себя и солдат, не желавших ни за что ни про что погибать на фронте, а так же громко сказал то, что думали все солдаты про корниловцев.
Тем не менее он держал себя героем и весело, с некоторым вызовом посматривал вокруг, чувствуя себя вполне своим в этом мире большевистски настроенных фронтовиков.
Впрочем, он заметил, что толпа не так беспорядочна, как это ему сперва показалось.
Ею кто-то управлял.
Недалеко от себя в толпе Бачей увидел молодого солдата — по виду даже новобранца, — который, видимо, всем и руководил.
К нему один за другим подходили выпущенные арестованные, и он давал им какие-то приказания… Его движения были властны. Они решительно не соответствовали званию рядового. Но когда он резко поднимал руку и отдавал распоряжение крикливым альтом, сердито сведя рыжеватые брови и шевеля губами, над которыми виднелись молодецкие рыжевато-золотистые усы, то впечатление новобранца исчезало, и он казался вожаком, которому почему-то беспрекословно подчинялась вся эта возбужденная толпа.
Он с удивлением посмотрел на незнакомого прапорщика, освобожденного вместе с другими арестованными, прищурился и крикнул:
— Идите сюда, товарищ!
Голос был знакомый, и в следующий миг Петя, к своему крайнему удивлению, узнал Гаврилу, того самого батрака с хуторка Васютинской, который некогда за конюшней любил поигрывать с маленьким Павликом в картишки.
— Гаврила! — воскликнул Петя. — Это ты?
Но Гаврила смотрел на прапорщика-фронтовика с георгиевским крестиком, в помятой каске и не узнавал его.
— Да ты что, не узнаешь? — сказал Петя и хлопнул Гаврилу по спине, ощутив ладонью приятный жар здорового солдатского тела.
— Паныч… Петя… чтоб вы пропали! — закричал Гаврила. — Ваше благородие! — И расхохотался дружелюбно и совсем не по-солдатски, а по-мальчишески, даже слегка повизгивая.
Немного поколебавшись, обниматься или не обниматься, они всетаки не обнялись, а ограничились рукопожатием, причем Петя ощутил прикосновение грубой солдатской ладони, твердой, как хорошая кожаная подошва.
— Ну, господин прапорщик, скажи спасибо, что мы успели поднять гарнизон, а то бы всем вам крышка, — сказал он, переходя на «ты». — Здесь, как видишь, сплошная контрреволюция. Казачье. Корниловцы. Батальоны смерти. В Советах меньшевики и эсеры. Кадеты. Генерал Щербачев. И всякая прочая сволочь. Одно слово — Румфронт. Все, кому не лень, продают рабочий класс и хотят обезглавить пролетарскую революцию. Но побачим! Вы как сюда попали?
Петя наскоро, не столько словами, сколько жестами и звукоподражаниями, на том фронтовом языке, который в одну минуту может передать во всех подробностях целую эпопею, поведал Гавриле все свои обстоятельства.
— Так ходу отсюда.
Гаврила отдал еще несколько распоряжений солдатам, окружившим его, и, энергично работая плечами, вывел Петю и его вестового из толпы, что оказалось вполне своевременно, так как на улице показались казаки — уже не разъезд, как вчера, а целая сотня с шашками наголо, и через миг улица опустела.
Перелезая через глухой железнодорожный забор, Бачей почувствовал боль в раненой ноге. До сих пор рана лишь временами ныла — тупо, но не слишком сильно, — так что Петя о ней почти забыл. Теперь же вдруг ногу так схватило, что он даже вскрикнул.
Гаврила и Чабан посадили Петю на скрещенные руки и понесли по железнодорожному полотну.
— Куда вы меня тащите?
— В санитарный поезд. Эй, землячок, не скажешь, санитарный Красного Креста восемнадцать-бис еще не проходил? — на. ходу обратился Гаврила к пожилому санитару, несшему на плече несколько буханок белого румынского хлеба с бирюзовой плесенью возле горбушек.
— Пришел уже.
— Где стоит?
— На четвертом пути.
— Раненых много?
— Аж до самой крыши и еще трошки.
— Ходу! — решительно сказал Гаврила. Санитарный Красного Креста восемнадцать-бис окружила толпа раненых офицеров, которые требовали, чтобы их пустили в поезд. Но это было, очевидно, невозможно, так как даже в окна было заметно, до какой степени набиты вагоны. С подвесных коек смотрели страшные забинтованные головы, узкие, мертвенно белые маски лиц с черными, как бы подведенными, жалобными глазами, землисто-серые халаты и костыли, один из которых торчал наружу сквозь разбитое вагонное окно.
Толпа, не переставая, выла, матерно ругаясь, и на чем свет стоит поносила и Временное правительство, и окопавшееся в тылу начальство, и «доблестных союзников», и самого «главноуговаривающего» Керенского, которого нужно повесить на первой осине, и очень жаль, что Корнилов этого не сделал, хотя и сам тоже порядочная сволочь.
— Ну, тут нам не светит, — сказал Гаврила. — Будем вертать.
Петю отнесли в сторонку и усадили на ящик из-под французских зажигательных гранат с черно-красной зловещей наклейкой.
Он совсем обессилел и полулежал, вытянув раненую ногу, а пот струился по его лицу из-под каски, нагревшейся на солнце.
Чабан хлопотал возле своего офицера, морщась от жалости и страха.
Гаврила куда-то побежал, скрылся за вагонами длинного воинского эшелона с лошадьми, кухнями, пушками и красными бархатными знаменами с золотыми кистями, потом вынырнул и скоро опять скрылся.
Его проворная фигура время от времени появлялась то тут, то там. Он останавливался и разговаривал с разными людьми: санитарами, проводниками вагонов, смазчиками.
Один раз он прошел под руку с машинистом, который направлялся к паровозу со своим сундучком и фонарем.
Гаврила делал свои резкие, короткие жесты, и даже издали было понятно, что пожилой машинист не только терпеливо его слушает, но и повинуется, утвердительно кивая головой в черной промасленной фуражке.
Петя следил за Гаврилой с нетерпением и надеждой, которые то и дело сменялись отчаянием. Он видел, что в санитарный поезд можно попасть только чудом, а в чудеса он уже давно не верил. Наконец Гаврила вернулся.
— Ну как? — тревожно спросил Петя.
— Побачим.
Он сделал знак, и они снова быстро понесли прапорщика по путям и несли до тех пор, пока не очутились довольно далеко от станции, за последним семафором.
Сквозная рана продолжала болеть. Пете казалось, что она нарывает с двух концов. Снова начинался жар.
«Как, неужели мне никогда не удастся вырваться отсюда?» — с отчаянием думал он.
Его уложили под железнодорожным откосом в тени, на сухую сентябрьскую траву, среди потрескивавших маленьких коробочек дикого мака, посыпанного мелкими угольками и золой из паровозных поддувал.
Он снова услышал сверчков, их сухой, хрустальный звон. Однако теперь они уже не напоминали ему осыпанную звездами степную ночь, а как бы предупреждали о приближении беспамятства.
Но, пока еще не потеряв сознания, он с трудом поднял руку и погладил Гаврилу по его выгоревшему матерчатому погону с потрескавшимся номером части. Он хотел спросить: «Ну как, друг? Спасешь ты меня или нет?» Но вместо этого лишь жалостливо и сонно улыбнулся.
— Не дрейфь, Петечка, живы будем… не помрем, — сказал Гаврила с той доброй, уверенной солдатской легкостью, которая лучше всего помогала даже в самых отчаянных случаях фронтовой жизни.
— Я и не дрейфлю, — жалобно сказал Петя. Гаврила ему что-то ответил, но Петя уже плохо понимал.
Сухой соломенный звон уже как бы проник в его кровь и теперь гудел по всему телу, оглушая и мутя сознание. Все же он еще видел — хотя и неясно, как через воду, — что подошел санитарный поезд и вдруг остановился.
Сверху из своего окошечка смотрел машинист.
Гаврила вскочил на подножку вагона и, вынув из кармана вагонный ключ, отпер дверь.
Появились солдаты в халатах — санитары, мелькнуло испуганное лицо сестры милосердия с красным крестом на груди.
Потом Петю взяли за плечи и за ноги, а Чабан поддерживал его голову, чтобы она не болталась, потянули вверх, и Петя очутился в коридоре переполненного сверх всякой меры санитарного вагона, на тюфяке, разложенном на полу.
Последнее, что успел увидеть Петя, было лицо Гаврилы, наклонившегося над ним, резкое, по-солдатски решительное и вместе с тем так неожиданно для беспутного Гаврилы бесконечно доброе, с длинным конопатым носом и загоревшим лбом с белым пятном от козырька. Он почувствовал крепкое рукопожатие и щекочущий поцелуй в самые губы.
Гаврила что-то быстро и горячо говорил Чабану на прощание. Он говорил, чтобы они непременно словчились попасть в офицерский лазарет Красного Креста на Маразлиевской, где служит Мотя, племянница Гаврика Черноиваненко. Петя хотя и слышал, но уже ничего не понимал, а только всем своим существом чувствовал одно: он спасен, и война для него кончена.
6 МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА
И вот в один прекрасный день Петя проснулся от колокольного звона.
Звон этот — сильный, красивый — влетал в комнату, заставляя дрожать цельные зеркальные стекла больших высоких окон и колебаться кремовые шторы, ярко освещенные солнцем.
В первую минуту Петя был изумлен, так как во время сна — подетски глубокого, крепкого — не только забыл все, что с ним произошло, но как бы потерял ощущение самого себя и даже не знал, кто он такой, как его зовут, зачем он здесь, а вместо него было какое-то совсем новое, непонятно откуда взявшееся существо, понимающее только то, что оно живет и очень этому радо.
В это же время комната обернулась вокруг него, как это бывает при пробуждении от крепкого сна, все стало на свое место, и Петя в один миг все вспомнил и стал самим собой, то есть раненым офицером, которого вчера вечером привезли сюда в удобном санитарном автомобиле со станции Одесса-порт, куда пришел поезд Красного Креста восемнадцать-бис.
Здесь, в офицерском лазарете, ему прежде всего хорошенько прочистили сильно нагноившуюся рану, сделали хорошую сухую перевязку, затем постригли, побрили, вымыли в горячей ванне прозрачным глицериновым мылом № 4711 знаменитой фирмы Келер, от которого так приятно, немного кисленько, почти по-девичьи пахло чистотой, культурной, глубоко мирной жизнью, и наконец отвезли на носилках с колесиками в палату. Там его положили на упругий пружинный матрац, покрытый свежей, накрахмаленной, скользкой простыней, и едва он почувствовал под отяжелевшей головой холодную, хрустящую наволочку с перламутровыми пуговицами, как тут же заснул мертвым сном, забыв все на свете.
Теперь за окнами так громко звонили колокола, что Пете казалось, будто эти тяжелые, звучные колокола находятся тут же, в комнате, вместе с голубым куполом и золотым крестом колокольни, вместе с густо-синим сентябрьским небом и белыми круглыми облаками.
Вдоль стен стояли три кровати со спящими офицерами.
Посредине находился стол, а на нем в стеклянном кувшине — большой букет осенних астр, тугих, чешуйчатых и круглых, как овощи. Это был букет общий.
Но рядом со своей кроватью, на тумбочке, возле градусника, Петя увидел чашечку с двумя полураспустившимися розами — чайной и пунцовой, — которые явно предназначались ему одному.
Петя улыбнулся.
Он сразу смекнул, от кого этот маленький подарочек.
И он не удивился, когда дверь осторожно отворилась и в палату по натертому паркету бесшумно вошла девушка с половой щеткой в руках, в холщовом халате, завязанном на спине серыми тесемками, и, стараясь не зашуметь, чтобы не разбудить раненых, приблизилась к кровати и посмотрела на Петю, который в тот же миг закрыл глаза и притворился безмятежно спящим.
Немного поколебавшись, Мотя стала одну за другой подымать сборчатые шторы, и Петя сквозь приспущенные ресницы увидел близко за окном то самое, что с такой точностью предсказал ему колокольный звон: купола монастыря, сверкающие на солнце золотые кресты, густо-синее небо с белыми, еще совсем летними облаками.
Значит, он находится возле Александровского парка, на Маразлиевской улице, против Троицкого монастыря, в особняке Ближенского, занятом теперь под офицерский лазарет.
Мотя стояла перед Петей и смотрела на него с веселым, слегка застенчивым любопытством, однако без тени того пугливого обожания, к которому Петя привык с детства.
Они не виделись года три.
За это время Мотя выросла, еще больше похорошела и хотя совсем утратила свою робкую, детскую прелесть, но зато приобрела какую-то другую, новую, пугающую прелесть молодой, красивой женщины.
Все в ней было уже не девичье, а женское: сборчатая юбка под лазаретным халатом, прическа валиком с тремя целлулоидными гребенками под черепаху, высокие ботинки на пуговицах и маленькие руки, хотя и грубые, но прелестной формы и по-женски белые.
Это была и Мотя и не Мотя.
Петя ничуть не был огорчен превращением куколки в бабочку.
Наоборот, в один миг он представил себе, какие радости и удовольствия сулит для него дружба с этой маленькой женщиной, которая всю свою жизнь, с раннего детства, была в него так преданно и наивно влюблена.
Они смотрели друг на друга. Он на нее — радостно, самоуверенно, а она на него — тоже радостно, но с оттенком материнского сочувствия и слишком просто, открыто для влюбленной.
Она смотрела на него, наклонив голову, и перебирала пальцами зубчатые листики роз с такой осторожностью, как будто опасалась нечаянно коснуться самих полураскрытых бутонов.
— Здравствуй, Мотя. Как я рад тебя видеть! — растроганно сказал Петя, беря ее небольшую, крепкую руку с твердой, зазубрившейся кожей на ладони.
Она смутилась и смущенно оглянулась по сторонам. Все-таки Петя был офицер, а она всего лишь простая санитарка.
Но остальные офицеры в палате еще спали, и она, немного поколебавшись, присела на табуретку возле кровати, делая деликатную попытку освободить свои пальцы из Петиной руки.
— Здравствуйте, Петя… Петр Васильевич, — поправилась она, помимо воли краснея.
— Какой же я тебе Петр Васильевич? — сказал Петя, откровенно любуясь ею.
— Вы офицер, а я нянечка.
— Это не имеет значения. Прошли те времена! — строго заметил Петя.
— Нет, имеет значение.
— Нет, не имеет.
Петя смотрел на нее, играя глазами, которые красноречиво выражали совсем не то, о чем они спорили.
Она ему положительно нравилась, гораздо больше, чем раньше, когда они были детьми.
Теперь в ней все волновало Петино воображение, в особенности ее какая-то чисто женская законченность.
Сколько ей может быть лет? Петя прикинул в уме: семнадцать, восемнадцать?
— Ну, хорошо, — сказал он наконец, — раз так, то я тебя тоже буду называть по имени-отчеству: Матрена Терентьевна. Хочешь?
И он засмеялся, сделав открытие, что ее имя-отчество совсем не подходит к ее внешности.
Мотя — другое дело. Мотя — это даже в чем-то нежно. А Матрена Терентьевна вовсе не годилось.
— Нет, моя прелесть, я никогда не буду тебя называть Матрена Терентьевна. Ты для меня всегда маленькая, симпатичная Мотя. Или, может быть, ты забыла, как мы с тобой когда-то дружили, и как собирали подснежники, и как ты меня тогда на хуторке Васютинской, под черешнями, от ревности чуть не поколотила?..
— И даже таки поколотила, — сказала Мотя усмехнувшись.
— Тем более. Ну, так дай я тебя поцелую, — сказал Петя, оглядываясь на спящих офицеров, и воровато потянул Мотю к себе.
Но Мотя отодвинулась и, серьезно глядя на него своими прелестными, чистыми глазами, сказала:
— Не трожьте.
— Почему?
— Я замужем.
— Нет!..
Петя смотрел на нее во все глаза, почти с ужасом.
— Ты шутишь!!
— Ей-богу! Святой истинный крест.
Мотя с улыбкой быстро и мелко перекрестилась.
— Каким образом?!. — воскликнул Петя, все еще не веря ее словам и думая, что она шутит.
Она все еще представлялась ему девочкой-подростком под черешнями, и трудно было поверить, что она уже замужняя женщина. Впрочем, живое воображение тут же нарисовало Пете всю несложную, по его мнению, историю Мотиного замужества. Оно, конечно, было вполне в духе времени: скоропалительный брак хорошенькой лазаретной нянечки с каким-нибудь вольнопером или новоиспеченным прапорщиком.
В общем, для Моти это вполне подходило. Но все же Петя почувствовал легкую досаду.
— Ну, что же. Поздравляю тебя от всей души, — сказал он с легкой снисходительной улыбкой. — Кто же твой, так сказать, супруг, избранник, если это не секрет? Наверное, какой-нибудь местный раненый прапор?
Она смущенно крутила на пухлом безымянном пальце немножко великоватое серебряное обручальное кольцо.
— Я угадал?
Она усмехнулась и сделала какое-то еле уловимое, независимое движение плечами.
— Ничего подобного! Не угадали. Вы моего мужа, наверное, помните. Аким Перепелицкий. Рыбак с Малого Фонтана, шаланда «Надя», такая, знаете, самая большая на всем берегу. Она всегда ходила под парусом аж до самой Дофиновки. А Перепелицкий Аким у вас на хуторке Васютинской тоже бывал. Помните, перед самой войной, когда была облава?..
Она вызвала в Петином воображении целый мир юношеских воспоминаний, таких ярких и близких.
— Помните? — спросила она.
— Конечно, помню! Но, позволь. Ведь Аким Перепелицкий уже немолодой человек?
— Как это немолодой! — вспыхнула Мотя. — Конечно, не мальчишка. Ему двадцать девять, а мне восемнадцать, девятнадцатый. Самый раз.
Петя был поражен: Мотя вышла замуж за простого малофонтанского рыбака.
Конечно, Аким Перепелицкий был и молодец, и красавец собой, и всегда нравился Пете больше всех остальных рыбаков на всем берегу между Ланжероном и Люстдорфом. И все же было как-то странно.
Тут же Петя узнал и подробности. Аким Перепелицкий посватался за несколько дней до начала войны. Потом его забрали по мобилизации в действующую армию, в кавалерию. Во время Февральской революции он приехал в отпуск, и они с Мотей обвенчались, после чего он снова уехал на позиции, а Мотя поступила в лазарет.
Любит ли она его или нет, она не сказала.
Петя представил их себе стоящими рядом и, к удивлению, нашел, что они в общем очень подходят друг другу.
Итак, надежда на Мотю рушилась. Но это не слишком огорчило Петю. Перед ним раскрывалась чудесная перспектива мирной, беззаботной жизни в одном из лучших офицерских лазаретов Одессы, а потом месяц или два хождения по медицинским комиссиям на переосвидетельствования, а там, дай бог, и война кончится.
А сколько еще впереди всевозможных встреч и легких романчиков!
Стоило ли огорчаться?
Впрочем, не желая сразу сдаться, Петя сделал еще одну попытку выяснить положение.
— Но я другому отдана и буду век ему верна, не так ли? — сказал он, сделав довольно сильное ударение на слове «верна», и пытливо сощурил глаза.
Но этот вопрос как бы скользнул, ни на миг не остановив Мотиного внимания. Мотя его просто пропустила мимо ушей.
И Петя окончательно успокоился.
Затем Мотя принесла таз. Пока Петя умывался, она стояла возле него с полотенцем на плече и рассказывала новости. Часть из них Петя уже знал из писем отца и открыток Павлика. Часть была до сих пор ему неизвестна. Петя знал, что окружным путем из-за границы в Одессу вернулась владелица хуторка Васютинская и отказалась продлить аренду. Впрочем, семейство Бачей было уже и само радо случаю развязаться с этим хозяйством, которое каждую минуту могло разорить их дотла и пустить по ветру. Да и времена наступили совсем другие. Все друзья с Ближних Мельниц больше не могли помогать Василию Петровичу и посещать воскресную школу. Большинство из них взяли в солдаты и угнали на фронт. Остальные почти все были арестованы в первые же дни войны, как неблагонадежный элемент. Среди них, конечно, был и Терентий, не успевший скрыться. Теперь же он возвратился и, по выражению Моти, снова стал заворачивать в городском комитете и железнодорожном районе.
Воспоминания нахлынули на Петю. Он так живо представил себе Мотиного отца Терентия, представил себе хуторок в степи, темные черешневые аллеи, костер, голубой луч маяка, упиравшегося в звездное небо, — все то, о чем он сначала так часто вспоминал на фронте, а потом забыл и вспомнил снова лишь несколько дней назад, когда бывший хуторской конюх Гаврила вместе с Чабаном тащил его в санитарный поезд и советовал «ловчиться» в лазарет к Моте.
Море, степь, звезды, юность, любовь!..
Неужели все это когда-то было? Боже мой, как зеркально блестели тогда дочерна красные, крупные, спелые ягоды черешни, отражая весь этот степной мир полыни и белого пыльного солнца!
Да, он совсем забыл и только сейчас вспомнил: среди этого забытого мира в венке из степных ромашек на темных вьющихся волосах стояла упрямая девочка, глядя на него юными, строгими, требовательными карими глазами, такими же темными, зеркальными, как и черешни.
— А где же теперь Марина? — с живостью спросил Петя.
— Ага! Таки наконец вспомнили вашу любовь!
— Она здесь?
— Нет, уже давно в Петрограде. Оказывается, в начале войны Павловских чуть не арестовали, но им удалось скрыться.
Говоря, что Павловские в Петрограде, Мотя стала очень серьезной, покосилась на спящих офицеров. Петя понял, что скрывалось за этими словами, в особенности за словом «Петроград», которое теперь содержало в себе гораздо больше, чем простое название города.
Петя взглянул на Мотю и тоже стал серьезен.
Среди патриотического угара первых месяцев войны казалось, что революционное движение подавлено навсегда и русская революция, которая перед войной казалась не только близкой и возможной, но и неизбежной, вырвана с корнем.
Но теперь, когда революция произошла, а в русской жизни, по существу, ничего не изменилось, кроме того, что вместо царя империей стал управлять присяжный поверенный, большинство народа, в том числе и Петя, понимало, что это не настоящая революция, а настоящая революция еще будет, и к ней усиленно готовятся те самые люди, которые готовились к ней еще задолго до войны.
— А ваш папочка, Василий Петрович, — продолжала рассказывать Мотя, — опять бедствует, кое-как перебивается, готовит экстернов.
Петя уже об этом знал из отцовских писем. В этом для него не было ничего нового.
Новое заключалось в том, что, оказывается, за последнее время в семье Бачей произошли другие, более существенные перемены, о которых Петя не имел ни малейшего представления: тетя, Татьяна Ивановна, уже больше не жила с ними. Оказывается, она вышла замуж.
Эта новость поразила Петю до глубины души.
Все в этом тетином внезапном замужестве казалось ему противоестественным, просто диким.
Без тети невозможно было представить себе то, что называлось семейством Бачей.
В Петином воображении тотчас возникла какая-то молчаливая драма, какой-то роман, тем более странный, что в нем, по-видимому, должен был играть главную роль папа, что для Пети казалось совершенно невероятным, как обычно для детей кажутся невероятными обыкновенные человеческие страсти их родителей.
— Нет, ты шутишь! — воскликнул Петя почти с испугом.
— Вполне серьезно, — сказала Мотя, не понимая его чрезмерного волнения.
Она смотрела на вещи гораздо проще, чем Петя. В ее глазах события и вещи были лишены романической оболочки. Мотя не видела ничего удивительного в том, что хотя и не молодая, однако еще далеко не старая девушка, Петина тетка, родная сестра его покойной мамы, вышла замуж.
— Я уже послала Анисима сказать вашему папочке, что вы приехали, — сказала Мотя.
Петя удивился.
— Какого Анисима?
— Денщика вашего. По-теперешнему вестового. Который вынес вас из боя, а потом спасал вместе с хуторским Гаврилой, когда вас чуть не расстреляли корниловцы.
Оказывается, Мотя уже все знала, и в ее глазах Петя был чуть ли не герой, пострадавший за революцию.
— Ах, Чабан! — засмеялся Петя. — А я и не знал, что он Анисим.
— Ну да, Анисим, — строго повторила Мотя. — Я его пока что устроила у мамы на Ближних Мельницах.
— Ишь, как быстро окопался, — не без удовольствия сказал Петя, подмигнув: дескать, смотри какой у меня проворный вестовой, большой ловчила!
— Ага, применился к местности, молодец, — деловито заметила Мотя, щегольнув этим солдатским выражением, весьма модным как на фронте, так и в тылу.
— А где Гаврик?
— Слава тебе господи, вспомнили и про своего дружка!
Петя засмеялся. Конечно, он его никогда и не забывал. Просто было невозможно сразу вернуться в тот мир, от которого Петю отделяли три года войны и разлуки. Все возвращалось постепенно.
— Дядя Гаврик на фронте.
— Воюет?
— Когда воюет… — неопределенно сказала Мотя и со значением посмотрела на Петю. — …А когда и другими делами занимается.
— В тылу?
— Бывает и в тылу.
Она наклонилась к Пете и шепнула ему на ухо:
— Он теперь на нелегальном положении.
— Понимаю, — сказал Петя.
— Политик.
— Солдат?
— А то! До прапорщика еще не дослужился. Мотя засмеялась.
— Но крестик имеет такой же самый, как у вас. Солдатский. Четвертой степени. За Стоход. Два раза ранен. Боевой.
— Молодец, — сказал Петя с уважением.
Ему нравилось, что его старый друг — хороший фронтовик, а то, что он «политик», было само собой понятно.
— В Одессе бывает?
— Сегодня здесь, завтра там, — уклончиво сказала Мотя. — Дай бог когда-нибудь побачиться. Да, вот еще. Получите вашу книжку, — прибавила она, вдруг что-то вспомнив.
Она достала из кармана халата и подала Пете желтую книжечку «Маленькой универсальней библиотеки», пробитую осколками и залитую засохшей кровью.
Это был роман Анатоля Франса «Боги жаждут», который Петя читал перед самой атакой.
— Нашла у вас в кармане. Спрячьте на память о войне. А самые бриджи я заберу с собой на Ближние Мельницы. Там мы их с мамочкой хорошенько отпарим и заштопаем, так что вы еще в них походите. А пока побудьте без штанишек, — игриво сказала Мотя. — Ну, побегу. Надеюсь, теперь мы будем с вами часто бачиться.
И, сверкнув голубыми глазами, она исчезла, на ходу сдернув со стола салфетку вместе с огрызками карандашей, окурками и большим листом бумаги, расчерченной для преферанса и исписанной вдоль и поперек колонками цифр.
7 ОТЕЦ И БРАТ
— Петруша!
Петя повернул голову и увидел в дверях отца. Но, боже мой, как он изменился!
На нем было порыжевшее летнее пальто поверх холщовой блузы с воротом, вышитым крестиками.
Петя сразу узнал эту блузу. Ее, по семейному преданию, покойная мама вышила папе в то легендарное, трудно вообразимое время, когда они еще были женихом и невестой.
Эту блузу папа обычно надевал один раз в год, летом, на праздник Петра и Павла, в день именин сыновей и покойного своего отца, Петиного дедушки.
В глазах семьи Бачей эта блуза являлась не столько одеждой, сколько предметом искусства, и всегда хранилась чисто вымытой и выглаженной в комоде, вместе с такой же холщовой наволокой с большим букетом цветов, вышитым на ней крестиками.
Отправляясь в дорогу, в наволочку прятали подушку или иногда насыпали яблоки, купленные оптом.
Теперь же Петя увидел, что вышивка на блузе полиняла, повидимому, из праздничной она уже превратилась в ежедневную.
И это больно укололо Петю.
Летнюю соломенную шляпу с выгоревшей репсовой лентой отец держал в руке вместе с веревочной кошелкой, в которой виднелось несколько бумажных кульков.
Отец заметно поседел, теперь его волосы почти сплошь были серые. Они по-семинарски, с двух сторон падали на малиновый от загара лоб.
На буром пористом носу сидело стальное пенсне с пробковыми защипками и черным шнурком с шариком, такими знакомыми с детства.
Бесхарактерный рот отца был полуоткрыт, и вокруг него беспорядочно росла давно не стриженная борода. Серые брови были горестно подняты, в глазах блестели слезы, над переносицей резко чернели две вертикальные морщины.
— Петруша! — с усилием выговорил он, вдруг припал к сыну, жадно целуя его лицо и ощупывая руками все его тело, как бы желая убедиться, что Петя не только жив, но и цел.
Только сейчас Петя ясно понял, какие душевные муки пережил отец, пока сын воевал. И он почувствовал жгучий стыд за то, что так редко писал отцу с позиций, за свои коротенькие бесшабашнохвастливые открытки и в особенности за развязные обращения вроде «любезный родитель» или «уважаемый папахен».
А в это время «уважаемый папахен» вздрагивал от каждого звонка почтальона, по ночам тяжело дышал в подушку, не в силах заснуть от ужасных предчувствий, и, стоя на коленях, молился перед образом спасителя и клал поклон за поклоном на старом, потертом коврике.
Слезы подступили к Петиному горлу. Сердце рванулось. Он обхватил руками темную от загара, морщинистую шею отца и все же, вместо того чтобы заплакать и сказать «папочка», смущенно пробормотал:
— Здорово, батя!
А Василий Петрович, уронивший с носа пенсне, все время норовил заглянуть сыну в лицо своими обезоруженными глазами, для того чтобы еще раз убедиться, что сын его жив.
— Куда же это тебя, Петруша, а? — говорил он со слабой улыбкой, которая против воли дрожала на его измученном и вместе с тем счастливом лице. — В ногу, что ли?
— В верхнюю треть бедра, — не без щегольства ответил Петя.
— Навылет? — беззвучно, одними губами проговорил отец.
— Да. Навылет. Осколком гранаты. Вообрази себе, снаряд разорвался буквально под ногами.
Видя, что при этих словах отец побледнел, как полотно, Петя поспешил добавить:
— Но пусть это тебя не волнует. Сейчас все уже в полном порядке.
— А кость? — с трудом шевеля губами, спросил отец. — Кость-то как? Надеюсь, не задета?
«Далась им эта кость», — с неудовольствием подумал Петя.
— Кость не задета, успокойся, — сказал он и уже собирался прибавить: «Пустяки, царапина», — как вдруг почувствовал стыд. — Понимаешь ли, хотя кость, так сказать, не задета, но нагноение порядочное. Так что придется некоторое время полежать.
— А там, гляди, и война кончится, — быстро, с оживлением подхватил Василий Петрович.
— Ну, на это не приходится рассчитывать, — строго поморщившись, сказал Петя и, конечно, сильно покривил душой, так как больше всего рассчитывал именно на то, что авось война какимнибудь образом кончится в то время, пока он будет лежать в лазарете.
— Ну, как же ты? Что? — спрашивал Василий Петрович, вглядываясь в лицо своего сына, своего мальчика, Пети, Петруши, Петушка, который так возмужал, вырос и уже был почти совсем сформировавшимся мужчиной.
Василий Петрович провел рукой по Петиным щекам и подбородку, с веселым удивлением чувствуя легкое покалывание в ладонь: неужели его Петруша уже бреется? Он даже чуть было не воскликнул: «А ты, оказывается, уже бреешься?», — но тактично промолчал.
Петя поймал его взгляд.
— Тебя, кажется, удивляет, что я бреюсь? — сказал он. — Уже давно!
И приврал.
Петя брился всего несколько месяцев и то не регулярно, а от случая к случаю. Он даже не имел еще собственной бритвы. Точнее, его брил раза четыре Чабан, для этого случая «позычив» бритву у одного своего землячка в обозе второго разряда.
— Черт возьми! — сказал Петя, проводя пальцем под носом. — Ужасно оброс за эти дни.
Скрывая счастливую улыбку, отец снова прижал к себе Петину голову и поершил шевелюру.
— Ну, а как поживает наша дорогая тетечка? — спросил Петя развязно.
Он был в том легком состоянии духа, когда все на свете кажется необыкновенно простым.
— Татьяна Ивановна, слава богу, жива, здорова, — рассеянно ответил отец. — Впрочем, ты, наверное, уже слышал: она вышла замуж.
— Да, мне сказали.
— Вот видишь… — Василий Петрович развел руками. — Вот видишь, какое происшествие.
При этом он даже несколько юмористически улыбнулся, как будто был тоже отчасти виноват в столь странном поступке тети.
— Впрочем, — сказал он, — вполне естественно, что Татьяна Ивановна в конце концов решила как-то устроить свою личную жизнь.
Затем Петя узнал, что тетя вышла замуж за преподавателя латыни, поляка-беженца из Привислинского края, немолодого, больного вдовца с двумя детьми и старухой матерью.
Теперь тетя жила вместе с ними в двух комнатах в полуподвале на Нежинской улице.
Это было совсем не похоже на ту романическую историю, которую Петя уже успел себе вообразить.
Петя был не столько неприятно поражен всеми этими скучными, прозаическими подробностями тетиного романа, сколько разочарован.
Ему стало ужасно жаль Татьяну Ивановну, их «милую тетечку», которая так неожиданно и странно устроила свою судьбу.
Было очень трудно представить себе, что она уже перестала быть членом их семьи и сделалась чужой, посторонней.
Как же все-таки это произошло?
Петя вопросительно посмотрел на отца.
— Ты же знаешь нашу Татьяну Ивановну, — сказал отец. — Она всегда была ужасная фантазерка. Все эти домашние обеды, меблированные комнаты и прочие крайности. Наконец, война… Революция… Независимость Польши… Мицкевич… Благородный патриотизм… Угнетенная национальность… И вот результат. Впрочем, я ее понимаю. Это святая женщина. Она перед образом спасителя дала нашей покойной мамочке слово, что воспитает вас — тебя и Павлика. И она это слово сдержала, пренебрегая, быть может, собственным счастьем. Ведь надо тебе сказать, в девушках она была очень хороша собой и имела женихов. Даже очень порядочных. К ней сватался князь Жевахов, фон Гельмерсен… и еще разные… Но она отказала. Она все отдала вам — тебе и Павлику.
«А тебе?» — чуть было не спросил Петя, но вовремя остановился: он понял, что именно об этом-то спрашивать и нельзя.
Ему показалось, что перед ним на миг приоткрылась семейная тайна, тайна тетиной неразделенной любви и папиной верности памяти покойной мамы.
Впрочем, может быть, это была всего лишь догадка.
— Такие-то дела, — со вздохом сказал Василий Петрович.
Вдруг лицо его изменилось, стало испуганным.
— Петруша, — сказал он, понизив голос, — только прошу тебя со всей серьезностью… И всю правду… Как на фронте? Армия еще существует?
Петя хотел улыбнуться снисходительной улыбкой старого фронтовика, которому задают наивный вопрос, но вдруг почувствовал, что улыбки не получается: вопрос отца грубо вернул его в тот страшный мир ужаса, кровопролития, смерти, откуда он только что так счастливо, почти чудом вырвался.
— Ах, какое это имеет значение! — почти со стоном произнес Петя.
— Как! — по-учительски строго спросил отец. — Ты… пораженец?
Но, увидев глаза сына, в которых отразилась тоска, он понял, что напоминанием о войне невольно причинил ему страдание.
— Ну, да об этом можно и потом, — поспешно сказал он. — А вот сейчас поешь-ка лучше груш. Ты ведь большой любитель, я знаю.
Он достал из кошелки лимонно-золотистую грушку и, как-то покрестьянски обтерев ее рукавом, взял двумя пальцами за хвостик и преподнес сыну.
Петя почувствовал давно не испытанное наслаждение, когда холодный, немножко едкий, душистый сок побежал по его подбородку.
Он даже всхлипнул от удовольствия и в тот же миг увидел высокого мальчика-гимназиста, почти юношу, который незаметно появился из-за спины отца и смотрел на Петю радостно-испуганными, шоколадными глазами, полными любви и живого любопытства.
Это был Павлик.
— А, синьор, очень приятно вас видеть! — воскликнул Петя, сразу впадая в привычный иронический тон старшего брата. — Что это у вас, сэр, под глазом?
— Где? — живо спросил Павлик и коснулся пальцем довольно большой разноцветной ссадины. — Это? Ничего особенного. Обыкновенная блямба. Мы вчера дрались с бойскаутами.
— Кто это «мы»?
— Я и Женька Черноиваненко.
— Это который? Мотин братец?
— Он самый.
— А по какому случаю драка с бойскаутами? Чего вы не поделили?
— Да, понимаешь, они все богатенькие сыночки и стоят за Временное правительство и демократическую республику. А мы с Женькой за социалистическую революцию.
— Вы с Женькой?
— Ну да, мы с Женькой… И еще другие мальчики. Преимущественно дети железнодорожников.
— Ты, Павлуша, потише, — сказал Василий Петрович, показывая глазами на спящих офицеров.
— А чего! Если хочешь знать, этих маменькиных сынков надо давить, как клопов, — понизив голос, сказал Павлик, энергично сверкнув глазами. — Может быть, скажешь — нет?
— Видал Робеспьера? — засмеялся Петя, подмигивая отцу, дрыгнул ногой и вдруг почувствовал острую боль. — Ох!
Он прикусил губу и застонал.
— Рана? — спросил Павлик, морщась от жалости к брату.
— Она, проклятая.
— Сильно болит?
— Терпимо.
— Навылет?
— Угу. — Куда?
— В верхнюю треть бедра.
— А кость?
Петя ждал этого вопроса.
— Можешь не волноваться. Не задета, — буркнул он.
Он взглянул на Павлика, на его «блямбу» под глазом, на полинявший красный бант на потертой гимназической курточке и снова не мог удержаться от смеха.
— Ты чего? — глядя исподлобья, спросил Павлик.
— Нет, честное слово, это феноменально: они с Женькой за социалистическую революцию! Видели вы что-нибудь подобное?
Но Павлик, по-видимому, не находил в этом ничего смешного.
— А чего?
Он сердито сузил глаза, и его милое, еще почти совсем детское лицо сразу стало жестким, как-то по-солдатски скуластым.
— С этими бойскаутами цацкаться не приходится. Да и вообще… наша гимназия…
Он не договорил и, сумрачно усмехнувшись, махнул рукой.
— Совсем от дома отбился, — заметил Василий Петрович. — Живет на Ближних Мельницах, у Черноиваненко. Стал настоящий пролетарий.
Однако Пете показалось, что в тоне отца больше одобрения, чем порицания.
Василий Петрович поймал Павлика за выгоревший чуб, притянул к себе и поцеловал в висок, где золотисто курчавились примятые волосы.
— Только без этого, — смущенно сказал Павлик, выскальзывая из отцовских рук, и залился темным, юношеским румянцем.
— Ух ты, какой сердитый! — воскликнул Петя.
— Не сердитый, а просто пора понять, что я не девчонка… и вообще…
Он не договорил, но было понятно, что имеется в виду нечто гораздо более значительное, чем бойскауты, гимназия и нежности отца…
За окном послышался свист.
Павлик крадучись подошел к окну и посмотрел на улицу.
Свист повторился. Павлик сделал таинственный, повелительный знак рукой, довольно странно растопырив пальцы.
— Когда спящий проснется! — крикнул грубый детский голос с улицы.
— Это Женька, — сказал Павлик.
Он высунулся в окно и вкрадчиво провыл:
— Улы-улы-улы-улы!..
— Это они начитались Уэллса, — посмеиваясь, объяснил Василий Петрович. — Что с ними поделаешь?
И тут впервые Петя не только понял, но ощутил всей душой те изменения, которые произошли вокруг за последние годы.
Эти изменения медленно и неощутимо накапливались, почти не останавливая на себе внимания, пока в один прекрасный миг не превратились во что-то совсем новое, ничуть не похожее на то, что было вокруг Пети раньше.
Изменились люди, характеры, судьбы.
Изменилась вся жизнь, и теперь Петя с изумлением — как бы очнувшись после очень глубокого сна — вдруг попал в совершенно новый мир, где его окружили хорошо ему знакомые и все же до неузнаваемости изменившиеся люди: постаревший отец, который с такой тревогой произнес совсем не свойственное ему слово «пораженец»; тетя, вышедшая замуж за какого-то поляка, мечтающего о независимости Польши; девочка Мотя, превратившаяся в жену солдата; Гаврик, таинственно функционирующий где-то на фронте и в тылу; маленький Павлик, оказавшийся теперь длинноруким, рослым гимназистом, начитавшимся Уэллса и ведущим революционную борьбу с контрреволюционными бойскаутами.
Может быть, только яркое небо за окном, быстро летящие сияющие облака и праздничный колокольный звон оставались прежними. Да и то они были теперь слишком волшебными, как выходцы из другого мира, из блаженной страны воспоминаний.
А сам Петя? Был ли он прежним?
Вот он лежит в палате офицерского лазарета с пробитым бедром, молодой прапорщик, только что вырвавшийся чудом из самого пекла войны.
Вокруг революция, народные бури, солдатские митинги. Корниловцы. Меньшевики. Большевики. Будущее неясно.
У него в кармане бриджей книжечка «Боги жаждут», которую он читал перед атакой. Великие тени: Робеспьер, Дантон. Гильотина. Сумасшедший Париж. Он жил несколько дней в этом мире. Он дышал воздухом революции. Но кто он? Эварист Гамлен, член секции нового моста? А кто она, Элоди? О, как мрачно и как странно он ее любит! Но кого?
У него в голове был сумбур.
Что его ожидает? Как он будет жить дальше?
Даже еще проще: не как, а где? Где он будет жить? Ведь, в сущности, ему негде жить.
Все распалось, видоизменилось до неузнаваемости. Он простонапросто бездомный молодой человек с костылем.
Таких вокруг тысячи. Они все хотят жить, а их непременно хотят убить. Они бунтуют на солдатских митингах. Но среди рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, они чужие. Их только терпят. Корниловцы их ненавидят, всех этих вольноопределяющихся и прапорщиков из гимназистов и студентов.
Они их готовы расстреливать при всяком удобном случае, как это Петя испытал на себе в Яссах.
Тогда его спасли солдаты. Спас тот самый Гаврила с хуторка — один из революционных солдат-большевиков, которые готовят новую революцию и требуют земли и мира.
Все же Петя не испытывал от всех этих беспорядочных мыслей никакой душевной тяжести.
Скорее наоборот.
Распались старые связи. Теперь он был свободен от всяких обязательств. По крайней мере, ему так казалось. Он был готов на все, только бы снова не попасть на позиции и не быть убитым в первом же бою.
Но пока он был в безопасности. Он был опьянен ощущением хотя бы временной свободы, независимости. На минуту с него сняли военную лямку.
Для него все начиналось заново в этом мире, потрясенном войной и революцией, расшатанном, но все еще не рухнувшем, который окружал Петю, — скорее призрачный, чем реальный, и вместе с тем такой привлекательный, полный скрытых наслаждений.
Словом, для Пети это было второе рождение.
8 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ
Он провел в лазарете два месяца.
Лазаретное время имело странное свойство совсем не двигаться или, во всяком случае, двигаться маленькими, черепашьими шажками, надолго останавливаясь среди мелких госпитальных событий.
В то же время за стенами лазарета, в городе, в России, проносилось другое, громадное время второй половины семнадцатого года, время революции и пальбы, которые на глазах не только меняли жизнь со всем разнообразием ее вековых форм, но, казалось, каждый день изменяли самый воздух, его химический состав.
Воздух дышал хлором, холодел.
Воздух уже ощутимо дышал солдатскими бунтами, смертью приближающегося фронта, народным гневом.
Петя это чувствовал, но не испытывал страха. Напротив, он все время находился в состоянии какого-то легкого, бездумного опьянения. Мысли скользили по самой поверхности явлений.
Все Петины душевные силы были бессознательно направлены на то, чтобы не позволить им опуститься в глубину, где его день и ночь подстерегал скрытый ужас, которого он во что бы то ни стало хотел избегнуть, как бы «не заметить».
Петя испытывал свойственное всем людям, раненным на войне, особое чувство искупления: они уже пострадали, они уже пролили свою кровь; теперь уже родина ничего не должна от них требовать — они квиты, они честно могут смотреть людям в глаза и пользоваться всеми радостями жизни в тылу, не испытывая угрызения совести.
Чем тяжелее и опаснее рана, тем чище, полнее это почти священное чувство искупления.
У Пети, в общем, была слишком легкая рана. У него даже не была задета кость. Но все же это была рана навылет, и был вставлен дренаж, и были нагноение и временами жар, правда, небольшой, но все же выше тридцати семи, а по вечерам, случалось, и лихорадочное состояние.
Его по утрам возили на перевязку. С таким же успехом он мог бы и сам ходить на перевязку. Но Петя не требовал этого. Его просто возили на перевязку, и он молчаливо этому подчинялся.
Он был здоровый малый, и рана заживала с пугающей быстротой.
Через две недели из раны вынули дренаж. Нагноение почти прекратилось. Пете трудно было признаться, но входное отверстие перестало уже быть кораллово-красным, а стало нежно-розовым, как облатка, естественного телесного цвета.
Издавна было известно, что на Пете все заживает, как на собаке.
Это свойство, которым он раньше так гордился, теперь приводило его в уныние.
Но все же его еще продолжали возить на перевязку, и рана немного побаливала.
— Молодец, прапорщик! — говорил Пете дежурный врач, обходя палату. — Если так дело пойдет дальше, скоро мы вас отправим на комиссию, а там и выпишем из лазарета на фронт.
Петя жадно, хотя и с видимым равнодушием, прислушивался ко всем разговорам о близком конце войны и о мире. Он чувствовал, что в глубине души делается «пораженцем».
Первые дни пребывания в лазарете, когда еще рана была свежей и, казалось, никогда не заживет, а война для Пети навсегда конченной, — эти первые дни для Пети были самым приятным временем в его жизни.
Петя легко вошел в роль скромного героя, раненного хотя и не слишком опасно, но достаточно тяжело.
Это напоминало легкую инфлюэнцу, когда можно было, не посещая гимназии, пользоваться всеми привилегиями болезни, не испытывая при этом никакого беспокойства, потому что даже легкий жар — тридцать семь и два — был так же приятен, как малиновый чай, крошки от сдобных сухарей на простыне, чтение Майн Рида и заботы родственников.
С первых же дней Петю стали навещать знакомые, и эти визиты являлись главной прелестью Петиной жизни.
Чаще всего навещали Петю девушки, или, как они тогда назывались, барышни, — знакомые институтки и гимназистки, из которых иные уже были курсистки, то есть вполне взрослые, самостоятельные девицы, некоторые даже модно одетые, слегка подмазанные и в шляпах, как у настоящих дам.
Это все были его так называемые подруги детства.
Но, боже мой, как все они выросли, как похорошели!
Даже те из них, которые раньше считались дурнушками, теперь если не производили впечатления красавиц, то, во всяком случае, казались заманчиво хорошенькими и волновали Петю тем откровенно любовным, призывным блеском глаз, от которого у Пети замирало сердце и холодели руки.
Обычно в приемные дни, еще задолго до условного часа, Петю «вывозили» на балкон, где, удобно подпертый подушками, он полулежал на камышовом канапе, совсем невысоко над солнечной Маразлиевской улицей, на уровне молочно-белого дугового фонаря в проволочной сетке, который напоминал Пете детство в пору его увлечения электричеством.
Отсюда был также виден Александровский парк в своем сентябрьском уборе, весь в мелких, виноградно-золотистых листочках австралийской акации, за черными стволами которой виднелась знаменитая Александровская колонна и густо, дико синело море с несколькими сонными парусами, заштилевшими на горизонте.
Прохожие шли туда и назад под Петей, и он лениво наблюдал, как у приближающегося человека постепенно скрадываются ноги, сокращается туловище, пока не остаются одни лишь плечи и шляпа, и человек проходит под балконом в пятнистой тени осенних платанов.
По асфальту Маразлиевской, блестя лаком, резиново подскакивая, плавно проносились пролетки, даже иногда кареты, пыхтели автомобили, оставляя за собой облако бензинового дыма и незаконченную музыкальную фразу медного сигнального рожка.
Петя, облокотясь на руку, как бы висел над этой нарядной улицей.
Но вот наступало время приема.
Сверху Петя наблюдал, как посетители входили в роскошную дубовую дверь особняка.
Отдаленные шаги на мраморной лестнице. Оживленные голоса.
— Где он?
— На балконе.
— Ах, на балконе! Как мило!
И вот у его канапе уже стоит девушка или даже две девушки. Как нежно и свежо пахнет от них цветочным мылом, недорогими русскими духами, легкой девичьей пудрой!
— Ну, как вы себя чувствуете?
— О, прекрасно!
Розовая, загорелая щека, и на ней воздушная тень локона, выбившегося из-под соломенной шляпки; на кремовой шейке кораллы или какие-нибудь другие невинные бусы. Короткий рукав прозрачной блузки.
И непременно где-нибудь родинка: возле губы, на щеке, на шейке за ухом или на внутренней стороне руки, возле локтевого сгиба, в том прохладном и никогда не загорающем местечке, слегка влажном от пота, где она спрятана большую часть времени и вдруг бросается в глаза, как маленькая коринка в сдобном тесте, в тот миг, когда рука протягивается для пожатия и раскрываются пальчики с хорошо отполированными, чистенькими ноготками.
Она может быть Люся, или Шура, или Тася, она может быть более изысканная Жермена или совсем простушка, какая-нибудь купеческая Капочка.
Но кто бы она ни была, она теперь самая желанная, самая милая. Она почти невеста со всей своей непорочной свежестью и темнотой не таких уж непорочных, внимательных зрачков, то и дело суживающихся, от попадающего в глаза солнечного луча.
— Вот, я вам принесла…
Она с застенчивой развязностью протягивает сверток, кулек, корзиночку.
Что это? Может быть, шоколадка с передвижной картинкой — шуточное, милое напоминание о детской дружбе, или четверть фунта леденцов, или засахаренные орехи.
И — конечно! — в большом количестве маленькие лимоннозолотистые груши, пора которых уже наступила, и они желтеют по всему городу, сложенные пирамидами на фанерных лотках уличных торговок.
А может быть, это синяя треугольная кисть «малаги» или «дамские пальчики» — сорт винограда продолговатого и прозрачного, «как персты девы молодой».
Затем, конечно, рахат-лукум, или шоколадная халва фабрики Дуварджоглу, в круглой лубяной коробочке.
Но больше всего радости доставляли Пете цветы — несколько чайных роз с коралловыми шипами и чугунно-багровыми листьями, астры, георгины — уже не летние, а осенние, дочерна красные, мясистые, с особым острым запахом тления, напоминающим холодную лунную ночь в облетевшем саду.
Он клал подаренные цветы на одеяло, покрывавшее его ноги.
Потом приходила Мотя и ставила их в воду, бросив на Петю и его посетительницу молниеносный, любопытно-ревнивый взгляд, смягченный добродушной полуулыбкой румяных губ, таких глянцевитых, будто они были напомажены.
Девушки приходили по очерет и стулья возле Петиного ложа всегда были заняты.
Ходить в лазарет навещать раненых был некий обязательный обряд того времени, патриотический долг, и девушки выполняли его свято.
Они мило щебетали, забрасывая Петю вопросами о ранении.
Некоторые чуть-чуть шепелявили, другие еще более мило картавили, стараясь как бы невзначай показать на щечке с ямочкой специально наклеенную крошечную мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, последнюю моду этого последнего сезона.
Они и впрямь чувствовали себя в своих широких шелковых юбках маркизами или пастушками в стиле рисунков популярной художницы Мисс из «Нового Сатирикона».
Петя понимал, что все это довольно пошловато, но ничего не мог поделать с собой, упиваясь столь обольстительной невинной пошлостью.
В то время как барышни щебетали, Петя старался помалкивать и чувствовал себя весьма натянуто. Дело в том, что ему было страшно раскрыть рот, чтобы с его языка нечаянно не сорвалось какое-нибудь солдатское выражение, к которым он так привык на фронте, что перестал отличать их от цензурных.
Это было общее фронтовое поветрие, привычка к грубому мужскому обществу. Кроме того, ведь Петя не сразу стал офицером. Он выслужился из вольноопределяющихся. Около двух лет он провел в солдатской землянке, и его язык приобрел опасную свободу обращения со словом. Через каждые две фразы он совершенно непроизвольно, даже как бы вскользь и незаметно для самого себя, привык, как говорится, пускать ругательство и теперь весьма старательно процеживал каждое слово, чтобы нечаянно не ляпнуть что-нибудь совсем не подходящее для розовых девичьих ушек.
Уже раза два он вовремя успевал закрыть рот в тот самый миг, как из него готово было вырваться ужасное придаточное предложение.
Он даже в последнее время стал краснеть и слегка заикаться, что было истолковано как истинная скромность, даже застенчивость, свойственные настоящему герою.
Некоторые барышни относили это за счет своей красоты.
Кое-кто из них уже был замужем, а одна даже успела потерять на войне мужа, была вдова, и Пете было странно видеть ее хорошенькое, цветущее личико, окруженное черным траурным крепом.
Молодые женщины и девушки, приходившие его навещать, как бы являлись наградой за перенесенные им страдания. Окружая его, они как бы отстраняли от него малейшее напоминание о войне и о тех грозных событиях, приближение которых все явственнее чувствовалось в напряженном воздухе.
Однако они не могли уберечь его от прикосновения с жизнью.
Иногда среди веселого разговора из Александровского парка доносились звуки военной команды, офицерские свистки, топот солдатских ног.
Это производилось полевое учение одного из местных запасных полков: новобранцы делали перебежку, окапывались, применялись к местности.
А бывало, что по фешенебельной Маразлиевской вдруг с грохотом проезжал тяжелый армейский грузовик с вооруженными рабочими.
Часто из города доносился гул митингов, звуки духовых оркестров, пение.
Но Петя большей частью находился в том невменяемо-счастливом состоянии, которое не могли надолго омрачить все эти звуки, врывавшиеся в госпитальный мир с его искусственной атмосферой отрешенности от всех житейских тревог.
9 ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
В конце концов приемные дни в лазарете превратились в маленькие праздники. В них стали принимать участие также и другие раненые офицеры, Петины соседи по палате — все люди иногородние, не имевшие в Одессе ни родственников, ни знакомых.
Их было трое: два пехотинца-подпоручика и гусарский корнет — красавец и тонняга с великолепной, словно нарочно придуманной фамилией Гурский.
Один из пехотных подпоручиков был человек уже немолодой, из запаса, не раненый, а просто желудочный больной, проходивший при лазарете какие-то длительные клинические испытания, по фамилии Хгэщ.
Другой — совсем молоденький, почти мальчик, которого все называли просто Костя, — тяжело раненный в грудь, с осколком, застрявшим где-то возле позвоночника и причинявшим ему нечеловеческие страдания, которые он изо всех сил скрывал, не желая быть в тягость окружающим.
Тайно от врачей Костя где-то доставал морфий и впрыскивал его себе сам, выбирая глубокий ночной час, когда все в палате спали.
Однажды среди ночи Петя проснулся и при слабом свете дежурной лампочки в коридоре увидел Костю, который сидел на своей вечно смятой постели, свесив по-детски худые голые ноги, и, задрав серую лазаретную рубаху, с выражением мучительного блаженства вводил шприц в тощее бедро, подняв вверх совсем прозрачное лицо, окруженное давно не стриженными льняными кудрями, с еще белее, чем обычно, прозрачными глазами, светящимися в полутьме палаты, как фосфор.
Через несколько минут он уже сладко спал, разметавшись на кровати, жарко, со свистом дыша полуоткрытым, ангельским ртом.
Эти офицеры скоро перезнакомились со всеми Петиными барышнями. Завязались ухаживания — небольшие, невинные романчики, то, что на языке того времени называлось «легкий флирт».
Даже пожилой подпоручик Хвощ, у которого в Черниговской губернии были жена и дети, не избег общей участи и первый пал жертвой легкого флирта, который называл на черниговский лад «хлирт».
Он врезался в ту самую Раису, которой велел кланяться Колесничук, расставаясь с Петей на поле боя.
Раиса одна из первых прилетела к Пете в лазарет. Черноволосая, курчавая, черноглазая, со страстно раздутыми ноздрями, с красным бантом на высокой груди, всегда без шляпки и перчаток, она была воплощенным типом одесской революционной курсистки из числа тех, что до хрипоты кричали на всех сходках и митингах, выносили резолюции и протесты, составляли петиции, подвергали общественному порицанию и даже презрению, клеймили позором, иногда носили на рукаве повязку городской общественной милиции, разоблачали скрывающихся провокаторов, вылавливали переодетых городовых, пели революционные песни, охраняли общественный порядок, обедали за двадцать копеек в студенческой столовой «Идеалка» и требовали войны до победного конца — одним словом, изо всех сил «служили восставшему народу».
Однажды она даже приехала в лазарет на грузовике с матросами крейсера «Память Меркурия», и все видели с балкона, как она, подобрав узкую юбку, перелезла через высокий борт.
Это не помешало ей принести Пете зеленую баклажанную икру, или, как она называлась в Одессе, икру из синеньких, собственного приготовления, в глубокой тарелке, завязанной в салфетку.
— Вы фея революции, — сказал подпоручик Хвощ, произнеся слово «фея» как «хвэя». — Вы хвзя революции, вы пронзили мое сердце.
На что Раечка ответила своим сильным, красивым низким контральто, весело блестя бедовыми глазами:
— Вообще я имею успех у товарищей украинцев.
— Она намекает на своего мужа. У нее муж — украинец, мой товарищ прапорщик Колесничук, — сказал Петя, и сердце Хвоща дало сильную трещину.
— А по-моему, вы не фея революции, а, скорее, так сказать, нечто вроде амазонки душки Керенского, — со своим особым кавалерийским шиком проблеял корнет Гурский и, сделав сладострастные глаза, прибавил с небрежной грацией: — У вас, моя кошечка, божественная фигурка, античные ножки — одним словом, как говорится в высшем обществе: «Она вошла в будуар упругой походкой, подрагивая правым галифе».
И затем он пропел не без приятности из Игоря Северянина:
Так процветает Амазония, Сплошь состоящая из дам.— Вы пошляк, — с обольстительно-жаркой улыбкой сказала Раечка, и на щеках ее появились маки. — Ненавижу казарменные комплименты.
— От ненависти до любви один шаг, — меланхолически отпарировал корнет.
— Хвощ, вызовите его на дуэль.
— Запрещено.
— Но раз я так хочу.
— Слушаюсь, мое серденько. Когда прикажете?
Между тем корнет Гурский почти с бальной ловкостью прыгал и поворачивался во все стороны на своих новеньких костылях, вытянув вперед забинтованную ногу, в то время как другая его нога, здоровая, была обута в щегольской хромовый сапог с серебряной шпорой на высоком каблучке, а из-под немного распахнувшегося халата выглядывали алые, сверхмодные гусарские чикчиры со стеганым атласным корсетом.
Петя всей душой презирал миндалевидные глаза корнета Гурского, его крошечные, очень коротко подстриженные усики и злой рот с яркокрасными губками, что не мешало ему страшно завидовать этому офицеру, который почему-то безумно нравился почти всем Петиным барышням.
Его веселая наглость не только обезоруживала. Она просто оглушала. И Петины барышни в присутствии корнета неестественно вспыхивали, глупо хохотали и замирали перед корнетом Гурским, как маленькие колибри перед удавом.
Даже Мотя, входившая в палату со стеклянной уткой или шваброй, как кошечка, ежилась под его взглядом, а корнет делал глазки и страстно мурлыкал вполголоса:
Пупсик, мой милый пупсик, Ду бист майн аугенштерн, Тебя люблю, тебя хочу…— Штоб вы сказились! — краснея, бормотала Мотя, убегая из палаты.
Одним словом, корнет Гурский имел у всех женщин громадный успех, чего Петя не мог пережить равнодушно.
Костя тоже имел успех, но только в другом роде.
Бледный, кудрявый, с детским лицом и прозрачными глазами мученика, придерживая на горле исхудавшими пальцами свою серую лазаретную рубаху с жалкими тесемочками и как-то боком подвернув ноги, он казался совсем ребенком и в то же время как бы не имел возраста, так истерзало его вечное страдание, на которое он был обречен.
В этой легкомысленной компании он был постоянным напоминанием того, что в мире существует ужас, время от времени терзающий землю и людей и от которого нет спасения.
В глазах девушек он был милым братом, нежным отрокомвозлюбленным, женихом, но не настоящим, а каким-то приснившимся.
Скрывая свою вечную боль, Костя принимал участие в болтовне, в легком флирте, с грустной улыбкой говорил армейские двусмысленности, а когда Раиса и Хвощ заводили вполголоса украинские песни, он подпевал довольно приличным баском.
Петя уже успел несколько раз молниеносно влюбиться, разлюбить и снова влюбиться. Он по очереди терял голову от каждой барышни.
В один прекрасный день он даже почувствовал, что влюбился в Раису, и уже не на шутку собирался закрутить романчик, но вовремя спохватился, что это жена его школьного друга, боевого товарища.
Тогда, желая загладить свою невольную вину перед добряком Жорой, он стал с жаром и со страшными преувеличениями рассказывать о своем решении и о благородном поступке Колесничука, который «буквально на руках вынес его из адского огня, а сам, спасши друга, снова бросился в атаку среди свиста пуль и разрывов бризантных снарядов».
Впрочем, трудно было рассчитывать на легкий тыловой романчик с Раисой. Она была непоколебимо верна своему Жоржу. Если же она принимала ухаживания Хвоща и «спивала» с ним «Солнце нызенько», то исключительно ради украинского патриотизма, которым заразил ее все тот же Жора Колесничук, такой же верный сын «ридной Украины», как и подпоручик Хвощ.
Впоследствии Пете трудно было понять и объяснить свое тогдашнее легкомыслие, бездумное скольжение по самой поверхности бытия, полное нежелание, а может быть, и неумение понять, что происходит вокруг, какое-то грубое опьянение жизнью, самым фактом, что он живет, существует…
Можно было подумать, что Петя — вместе со всеми окружающими — полностью утратил ощущение времени и перенесся в какую-то странную нравственную среду, имеющую свои особые законы и понятия о смысле человеческой жизни, о человеческом долге.
А ведь не следует забывать, что приближалось, быть может, и самое трагическое и самое великое время всей русской истории, да не только русской, а истории всего человечества.
Но ничего этого Петя тогда не ощущал.
Он только упивался жизнью и очень торопился, как бы желая наверстать все, что он упустил за время пребывания в действующей армии, и с избытком вознаградить себя за ту смерть, которая не раз щадила его, но все же сотни раз пролетала так низко, что, казалось, задевала его стальную каску своим черным, дымным плащом.
Словом, это был пир во время чумы.
10 НОВАЯ ТЕТЯ
Навестить раненого племянника зашла также и тетя.
Петя с тревогой, с враждебным любопытством ждал этой встречи. Ему было трудно представить себе тетю в новом положении замужней дамы, жены на кого-то чужого господина.
Это казалось невероятным.
Какая она теперь?
Незаметно для самого себя Петя мысленно нарисовал портрет новой тети, гораздо более молодой, наряд ной, красивой, чем в действительности.
В Петином воображении прежняя тетя превратилась в даму с холодноватой, недоброжелательной улыбкой, с незнакомыми кольцами на руках и даже, может быть, с маленьким черепаховым лорнетом и золотым католическим крестиком на шее — одним словом, со всем тем, что подобало польской даме.
Он живо представлял себе, как они встретятся: он — с напряженной улыбкой, а она — вежливая, любезная, торжествующая, но внутренне совершенно равнодушная, лишь бы исполнить долг приличия и навестить раненого племянника.
Возможно, она даже принесет полдесятка пирожных от Печеского, но лишь для того, чтобы показать что, сделавшись женой чужого господина, она стала более состоятельной. А может быть, она даже раскошелится и в знак прежних родственных отношений по дарит ему рублей пять, чего Петя желал всей душой, так как денег у него совсем не было.
Впрочем, он тут же решил от пяти рублей вежливо, но непреклонно отказаться.
Еще не хватало, чтобы она привела в лазарет своего поляка! С нее хватит! А в общем, пусть бы лучше она совсем не приходила.
Каково же было облегчение Пети, его радость, когда в один прекрасный день в палату своей быстрой походкой вошла — почти вбежала — ничуть не изменившаяся, прежняя, милая, добрая тетя с родным испуганным лицом и напудренным носом, покрасневшим от слез, которые она, видимо, изо всех сил сдерживала!
Она, наверное, бог знает что себе вообразила насчет Петиной раны!
Петя в халате сидел на балконе, положив ноги на стул.
Увидев племянника, в особенности его костыль, на который он живописно опирался, тетя сейчас же заплакала и стала промокать щеки и нос своим кружевным платочком, свернутым в комок, как это она всегда делала во время плача, и этот жест, столь знакомый Пете с детства, лучше всяких слов сказал, что тетя нисколько не изменилась и осталась той же самой, прежней тетей.
Петя почувствовал такую радость и в то же время такую горечь, что неожиданно для себя самого сказал нежным голосом:
— Тетечка!
И тоже заплакал. А заплакав, обозлился на самого себя и на тетю и быстро, смущенно посмотрел по сторонам, желая убедиться, не видел ли кто-нибудь его слез.
По в это время на балконе никого не было, и Пети — на честь была спасена.
— Петенька, рыбка моя дорогая! — сразу же закудахтала тетя, явно перепутав от волнения племянников и адресуя старшему те нежные прилагательные, вроде «рыбка» или «курочка», которые обыкновенно применялись к младшему — ее любимому Павлику.
— Ну, вы уже начали свое! — смущенно пробормотал Петя.
— Ах, понимаю! Ты отвык на войне от сентиментов. Ты стал грубый солдат с ледяной душой, закаленный в сражениях, — сказала тетя, быстро переходя на свой обычный иронический тон. — Ну, так дай же мне по крайней мере посмотреть на тебя.
— Смотрите.
— Какой ты громадный! Боже мой, ты, кажется, уже бреешься?
— Тетя! — с упреком сказал Петя.
— Ах, простите, пожалуйста! Я не хотела тебя обидеть. Римские воины тоже брились. Но, однако, я вижу, что ты здесь себя отлично чувствуешь. По-видимому, твоя рана не такая уж тяжелая?
— В верхнюю треть бедра. Навылет, — ответил Петя несколько обиженно.
— Кость задета?
— Не задета. Успокойтесь.
— Судьба Онегина хранила, — сказала тетя. «Нет, она положительно не изменилась, — подумал Петя, — такая же бестактная, и все та же удивительная способность под видом правды говорить людям добродушные неприятности».
— Надеюсь, моя курочка, ты здесь долго не залежишься? Мне даже кажется, что мог бы уже и сейчас взять свой декоративный костыль и пройтись по Дерибасовской. Это было бы страшно шикарно. Да, подожди. Я совсем забыла. Ты, конечно, уже куришь? Так вот, на тебе сотню папирос. — Она протянула Пете сверток. — Сама набивала. Превосходный сухумский табак. Сигизмунд Цезаревич предпочитает курить папиросы исключительно домашней набивки и гильзы непременно фабрики Копельского. Хотя ему врачи категорически запретили, но что поделаешь, что поделаешь! — Тетя беспомощно развела руками. — Ужасно трудно воевать с мужчинами, в особенности такими нравными, как Сигизмунд Цезаревич.
«Кто это Сигизмунд Цезаревич?» — хотел спросить Петя, но в ту же минуту понял, что, по всей вероятности, это именно и есть тетин муж, поляк.
И Петя вдруг почувствовал к тете сильную жалость.
Вскользь, но весьма просто, без тени смущения или жеманства тетя рассказала о бедственном положении, в котором находится семья ее мужа, Янушкевича.
— Теперь моя фамилия Янушкевич, — заметила она как бы в скобках.
Петя узнал о парализованной старухе, матери тетиного мужа, пани Янушкевич, о его неудачных детях — девочке Вандочке, больной костным туберкулезом, и об избалованном мальчике Стасике, о невозможности Сигизмунду Цезаревичу получить приличное место, о каких-то интригах в канцелярии попечителя, о сырой квартире и, наконец, о проекте тети открыть нечто вроде частной библиотеки с маленьким читальным залом, где каждый интеллигентный человек за небольшую плату имел бы возможность в тихой семейной обстановке прочесть свежий столичный журнал, газету, новую книгу.
Петя неосторожно улыбнулся.
Тетя перехватила эту улыбку и немедленно перешла в наступление.
— Ага! Понимаю! Ты, наверное, думаешь, что это очередная фантазия, вроде домашних обедов или хуторка в степи.
— Да нет, тетечка, я ничего не думаю.
— Ну, не ты, так Василий Петрович. Он вообще всегда считал меня фантазеркой. Что ж, может быть. Может быть, и эта библиотекачитальня тоже не больше чем фантазия. Но, друг мой…
Она понизила голос и, округлив глаза, сказала самым рассудительным тоном:
— Надо же нам как-нибудь жить, выкручиваться, особенно в такое время, при такой ужасной дороговизне! — Она помолчала. — Вообще я не представляю себе, чем все это кончится. То есть я даже очень хорошо представляю, — вдруг сказала она, понизив голос, и глаза ее мрачно сверкнули. — Кончится тем, чем и должно было рано или поздно кончиться: настоящей революцией. Не этой пародией на революцию, которую устроили в России твой душка Керенский…
— Он такой же мой, как и ваш.
— Нет, он именно твой. Все прапорщики его обожают. Главковерх! Главноуговаривающий! До победного конца! Во имя чего, я тебя спрашиваю?
Тетя грозно посмотрела на Петю.
— Во имя того, чтобы богатые оставались богатыми? Во имя того, чтобы Польша по-прежнему находилась под русским сапогом? Во имя того, чтобы процветала мадам Стороженко, таки купившая у полоумной, разорившейся дворянки Васютинской ее прелестный хутор? Во имя чумазых охотнорядцев, купчиков, черносотенцев?
Она несколько раз промокнула свернутым платочком свои воспламененные щеки.
— Во имя чего они тебя продырявили? Отвечай!
— Отстаньте от меня, бога ради! — воскликнул Петя, захохотав, как от щекотки.
Нет, положительно, он не ожидал от тети такой прыти.
А она уже разошлась вовсю.
— Ты, конечно, убежденный оборонец, не отрицай!
Петя молчал, любуясь разошедшейся тетей.
— Говори, ты оборонец? Или, может быть, ты пораженец?
Петя поморщился: дался им всем, этим несчастным тыловикам, вопрос: оборонец или пораженец? Все равно, как задета кость или не задета! Осточертело!
— Нет, ты не прячься за улыбочкой! Отвечай! — не унималась тетя.
— Да что вы, на самом деле, ко мне пристали! — не на шутку рассердился Петя. — Если хотите знать, я не оборонец, не пораженец, и кость у меня не задета. Вас это устраивает?
Глаза тети округлились еще больше.
— Чего же ты в таком случае хочешь?
— Жить, тетечка, жить.
— Дорогой мой, все хотят жить. Но как? Как ты хочешь жить? От того, как ты намерен дальше жить, быть может, зависит судьба России! — строго сказала тетя. — Или для тебя это тоже все равно?
Петя с возрастающим удивлением смотрел на тетю. Это, конечно, была прежняя тетя, но только все то политическое, радикальное, что раньше появлялось в ней изредка, вскользь, теперь вдруг стало как бы главным и постоянным содержанием ее личности.
Что мог отвечать ей Петя?
Сказать правду, он совсем не думал о будущем. Для него существовало только настоящее. А что касается судьбы России… то что же? Разумеется, ему всегда хотелось, чтобы Россия была самой могущественной и самой счастливой державой в мире. Он любил ее всей душой, но… Но разве от него могло что-нибудь зависеть?
Он отдал своей родине все, что мог. Он пролил свою кровь; он мог бы и умереть. Понятие России было слишком несоизмеримо с ним самим, с его личностью.
Он был каплей, песчинкой, она — океаном.
Петя не сомневался, что в конце концов все как-нибудь обойдется. И все останется, наверное, по-прежнему.
11 БЕССОННИЦА
— Ты вообще на что, собственно, рассчитываешь? — спросила тетя. — Какие у тебя планы?
— Ах, боже мой, какие планы! Обыкновенные. Поступлю в университет.
Петя говорил с явной неохотой, вяло. Будущее он представлял смутно. Оно было для него абстракцией. Но абстракцией более или менее опасной, быть может, даже смертельной.
— Допустим, — сказала тетя. — А на какой факультет?
— Не знаю. Не все ли равно? Ну, на юридический.
— Я так и думала, что на юридический. Когда не с чего, так с пик.
Тетя иронически улыбнулась. Было известно, что на юридический факультет обычно идут бездельники.
— Что же вы от меня хотите? — спросил Петя.
— Хочу, чтобы ты понял, что Россия летит в пропасть. И мы вместе с ней. И все это по милости бездарного Николая, а потом по милости не менее бездарного Временного правительства и в первую голову вашего хваленого Керенского.
Петя испуганно оглянулся и даже посмотрел через перила балкона вниз, где по солнечному асфальту тротуара ползло несколько золотисто-подрумяненных, свернутых листьев каштана, красивых, как тропические раковины.
— Да, ты прав, — сказала тетя, понизив голос. — Теперь такое время, когда надо быть крайне осторожным. Еще хуже, чем при царизме. Столыпин вешал сотнями. Корнилов расстреливает тысячами. Видишь, до чего мы дожили? Но, может быть, ты корниловец?
— Меня самого корниловцы чуть не расстреляли в Яссах.
— Я так и думала, что ты не корниловец. Нет, друг мой, как хочешь, а я вполне согласна с Павловской, которая считает, что Россию может спасти только превращение империалистической войны в гражданскую. Что ты на меня так смотришь? Тебя удивляет, что я говорю такие вещи?
— Дорогая тетечка, мы на солдатских митингах и не то слышали, да не удивлялись. А насчет Корнилова вы совершенно правы. Это такая сволочь, что дальше некуда.
Петя помрачнел, вспомнив страшную ночь в Яссах, оплывшую свечу, темную комнату, часового в дверях, мрачные глаза и квадратный подбородок дежурного по городу…
Но тотчас же его мысли отвлеклись в сторону, к чему-то грустному и в то же время приятному.
Что-то нежное, позабытое было заключено в тетиных словах, вернее, в каком-то одном слове, мелькнувшем и пропавшем, как падучая звезда.
— Ты что на меня так странно смотришь? — спросила тетя.
Петя не ответил. Он напряженно искал и вдруг нашел это слово: Павловская. Целый мир возник перед ним.
Метель в горах.
Улица Мари-Роз в Париже. Лонжюмо.
Степная ночь. Свеча в окне. Луч маяка.
Девочка в пальтишке, так картинно встряхнувшая каштановыми кудрями: «Чем ночь темней, тем ярче звезды».
Как страшно давно это было!
Да было ли?
— А где сейчас Павловская? — спросил он.
— В Петрограде, конечно. Ты, наверное, уже слышал: Павловскаямать играет какую-то роль у большевиков в особняке Кшесинской, чуть ли не секретарь у Ленина. Там же и Родион Иванович. Я на днях от Павловской получила открытку, но ужасно туман кую. Наверное, они все опять на нелегальном положении.
Петя раздул ноздри.
— Что за проклятая страна, где вечно преследуют порядочных людей!
Петя, конечно, знал, что знаменитый особняк балерины Кшесинской в Петрограде, на Каменноостровском, являлся штабом большевиков, что с его балкона выступал перед рабочими и солдатами вернувшийся из-за границы Ульянов-Ленин, тот самый, к которому Петя вез письмо, спрятав его в свою матросскую шапку. Теперь имя этого человека, вождя большевиков, гремело на всю Россию.
Не было ничего странного в том, что к Ульянову-Ленину имеет отношение политическая эмигрантка Павловская, знакомая с ним еще по Парижу, Женеве и Цюриху.
Но Петю удивила осведомленность тети, а главное, то, что она, оказывается, переписывается с Павловской.
— А Марина? — спросил Петя.
— Вместе с матерью.
Тетя сразу заметила, как оживилось Петино лицо. Знакомая добродушно-лукавая улыбка наморщила тетины губы.
— Что, или вспомнил старую любовь? Так можешь успокоиться. У тебя нет ни малейших шансов.
— Почему?
— Счастливый соперник, — вздохнула тетя.
— Кто?
— Неужели ты не догадываешься?
— Нет.
— Твой старый друг Черноиваненко.
— Гаврик? — воскликнул Петя.
— Друг мой, он уже не Гаврик, а товарищ Черноиваненко, — строго произнесла тетя, но губы ее смеялись. — Неужели ты о нем ничего не знаешь?
Петя действительно ничего не знал о Гаврике, кроме того немногого, что ему сообщила Мотя. Но Татьяна Ивановна коснулась самых заветных струн Петиной души. При имени Гаврика он сразу оживился.
— О, — сказала тетя, — твой Гаврик теперь фигура! Ты с ним не шути. Солдат. Георгиевский кавалер. Большевик. Член армейского комитета. Делегат Румчерода. Гроза мировой буржуазии. Его уже трижды арестовывали и трижды, как говорится, под давлением революционных масс освобождали. В данный момент он делегирован в Петроград. Во всяком случае, Павловская пишет, что очень часто с ним видится, и подожди-ка, я нарочно захватила с собой открытку, тебе будет интересно.
Татьяна Ивановна достала из ридикюля помятую открытку с видом Зимнего дворца и надела пенсне, которого раньше никогда не носила.
— Мартышка к старости слаба глазами стала, — сказала она и, отыскав нужное место, прочитала: — «Марина с ним не расстается, оба все время находятся в экзальтированно-романтическом настроении, по-видимому, старая любовь вспыхнула с новой силой, но, по-моему, все это совсем не ко времени, так как…» Ну, и далее многозначительное многоточие, понимай, мол, как знаешь. Конспирация!
Петя был неприятно удивлен.
— Это какая же старая любовь? На хуторке, что ли? Что-то я не замечал между ними никакой любви. Это скорее у меня с Мариной намечался романчик.
— Фу, какой ты стал пошляк! И что это за армейский жаргон — романчик? — недовольно заметила тетя. — Друг мой, заруби себе на носу раз и навсегда, что влюбленные никогда ничего не замечают. Ты, на пример, до сих пор уверен, что тогда Марина была неравнодушна к тебе. А на самом деле все, кроме тебя, знали, что она как кошка влюблена в Гаврика.
— Для меня это новость, — сказал Петя с таким серьезным, даже несколько драматическим выражением лица, что у Татьяны Ивановны от смеха выступили на глазах слезы, и она стала их промокать своим платочком.
Впрочем, Петя тут же спохватился, сообразив, что с его стороны довольно глупо предаваться любовным переживаниям пятилетней давности, и яркая искорка блеснувшая перед ним при воспоминании о Марине, тут же погасла.
Его очень взбудоражило свидание с тетей.
Впервые за месяц пребывания в лазарете Петя так дурно провел ночь.
Его извела бессонница, всегда особенно невыносимая в молодые годы.
Первый раз за последнее время, а быть может, и за всю жизнь, Петя Бачей со всей серьезностью взглянул на себя со стороны и задумался о своей судьбе.
Он понял, что плывет куда-то «без руля и без ветрил», погруженный в полусонный мир придуманного счастья и воображаемой независимости.
А ведь были же порывы, высокие мечты!
Куда же все это девалось?
Петя ясно представил себе Гаврика таким, каким описала его Татьяна Ивановна: солдат, георгиевский кавалер, большевик.
Петя хорошо знал этот тип фронтовика.
Расстегнутая шинель.
Обмотки.
Сплющенная и сбитая на затылок папаха из бумажной мерлушки.
Резкие движения.
Прищуренные, ненавидящие и недоверчивые глаза.
Именно таким должен быть теперь его друг Гаврик: весь порыв, весь движение вперед, в любой миг готовый драться, неуступчивый, несговорчивый, непреклонный.
Вся жизнь его была подготовкой для этого решительного времени. Он знает, для чего живет и чего добивается. Человек прямой, ясной мысли и такого же прямого действия, родной брат Терентия Черноиваненко, потомственный пролетарий.
Ничего нет удивительного, что он находится в самом центре революционных событий, в Петрограде, в штабе большевиков вместе с Родионом Жуковым, Павловской, Мариной.
Они все там, рядом с Ульяновым-Лениным. У них одно общее дело.
Это понятно. Так и быть должно.
Но вот что удивительно: Павлик! Мальчишка, у которого молоко на губах не обсохло. Он тоже делает революцию.
А что в это время делает он, Петя?
Чем он живет?
Флирт. Романчики. В голове ни одной дельной, устоявшейся мысли. Один ветер. И полное самодовольство.
Он устал?
Да, устал.
Но ведь не он один. Все устали, измучены.
Да, но он проливал кровь.
У него рана.
Ах, какая там рана!.. Пустяковая дырка, которая, говоря откровенно, почти совсем зажила и, если еще немного гноится, то потому, что он ковыряет ее по ночам ногтем.
Трус.
Дезертир.
Петя сильно преувеличивал и сам понимал, что преувеличивает, но в эту бессонную ночь у него разыгрались нервы, и он с болезненным наслаждением унижал себя, мыча в подушку и чуть не плача от презрения к себе.
Он видел, как при слабом свете дежурной лампочки с выражением отчаяния на прозрачном лице несколько раз вскакивал и садился на скомканной постели подпоручик Костя, как он трясущимися руками доставал из-под матраца шприц и, задрав рубашку, впрыскивал морфий.
Петя прислушивался к ночным звукам лазарета, к почти неслышным шагам дежурной сиделки, бульканью воды из графина.
Его измучило сонное бормотание раненых, долетавшее в ночной тишине из самых отдаленных палат, тягостный, отрывистый бред, вскрикивания, стоны.
Под окнами иногда раздавались по-осеннему звонкие шаги поздних прохожих.
Щелкали по мостовой пролетки, и хрустальное отражение их фонарей с утомительным однообразием проплывало по потолку в обратную сторону, и так же, казалось, проплывали в обратную сторону женский смех и мужские уверения.
Это провожали своих дам тыловые офицеры.
Иногда на улице раздавался грубый окрик комендантского патруля или таинственный, зловещий гул грузовика, который, судя по стуку прикладов, вез куда-то вооруженных людей, — может быть, красногвардейцев или матросов, а может быть, и юнкеровкорниловцев.
Ночь тянулась мучительно долго.
Перед рассветом, гремя костылями, явился из гостей подвыпивший корнет Гурский, и Петя слышал, как он срывающимся шепотом бранился с дежурной сестрой, а потом нараспев декламировал:
Я гений Игорь Северянин, Своей победой упоен. Я повсеградно обэкранен. Я повсеместно утвержден!..Потом он скрипел своей кроватью, чертыхался, проклиная какогото капитана Завалишина, и, наконец, захрапел.
Потом в монастыре ударили к заутрене, и Пете снова показалось, что колокол тяжело и звонко поет не снаружи, а внутри комнаты, совсем рядом, громадный, многопудовый, с раскачивающимся языком, а за оконной шторой уже золотился крест на монастырской колокольне, освещенной вверху первыми лучами зябкого солнца.
«Нет, конечно, — думал Петя, ворочаясь на постели. — Теперь я знаю, что мне делать».
У него уже созрел секретный план действий.
Сегодня же он потребует, чтобы медицинская комиссия выписала его из лазарета.
Затем он как можно скорее вернется в действующую армию для того, чтобы в эти роковые дни находиться вместе с народом и разделить судьбу армии при всех обстоятельствах: будет ли это гибель от немцев или полная победа народа над всеми силами реакции- керенщины, корниловщины, — новая революция.
Возможно, что если бы этот план мог осуществиться тотчас же, немедленно, сию секунду, все бы именно так и произошло, как хотел Петя.
Но он так устал после бессонной ночи, что утром заснул крепким, блаженным сном, а когда проснулся, то было уже после обеда и возле его кровати стоял таинственно улыбающийся Чабан, протягивая своему офицеру длинный надушенный конверт из толстой серой английской бумаги с вытисненной маленькой монограммой, запечатанной сургучом сиреневого цвета.
12 РОЛЬ ГОСПОДИНА ПРОСТАНОВА
Петя сразу узнал конверт.
Это было письмо от некоей Ксении Сеславиной, правнучки героя Отечественной войны 1812 года, с которой у Пети года полтора назад завязалось заочное знакомство — явление в то время довольно распространенное.
На позиции, в Петину воинскую часть, прибыли из тыла подарки для солдатиков, и Петя, будучи еще тогда нижним чином, получил на свою долю посылку: восьмушку чаю фирмы К. и С. Поповых третьего сорта, пачку махорки «Тройка», лист курительной бумаги, вязаные зеленые варежки, кисет, литографическое изображение Георгия Победоносца, поражающего змия, и письмо.
Все это было аккуратно зашито в холстинку и пахло духами «Персидская сирень».
В письме нарочно крупными, печатными буквами было написано послание неизвестному дорогому солдатику, защитнику царя и отечества, с просьбой не давать спуску проклятому немцу и почем зря лупить его в хвост и в гриву чем попало — штыком или прикладом, гранатой или пулей-дурой, а в награду за это покуривать родную русскую махорочку и греть руки в зеленых варежках, связанных красной девицей… Или что-то в этом роде. Подписано было: «Молю за всех вас бога, твоя названая сестрица Ксения Сеславина».
Петино воображение сразу нарисовало портрет молоденькой, хорошенькой девушки-патриотки, и, не откладывая дела в долгий ящик, Петя ответил письмом, в котором очень искусно и даже с некоторым грациозным юмором дал понять, что он хотя и защитник отечества, но отнюдь не простой солдатик, а вольноопределяющийся, и туманно намекнул на свое благородное происхождение, а также довольно кстати ввернул французскую фразу, но так как не был уверен, что написал ее без ошибок, то с душевной болью замазал ее чернильным карандашом.
Он просил мадемуазель Ксению как можно подробнее написать ему о себе, упомянул вскользь о своем разочаровании в любви, напустил на себя даже нечто лермонтовское и прибавил, что будет в долгие окопные ночи с нетерпением ждать письма от своего далекого друга, ибо он надеется, что они со временем непременно сделаются друзьями, а может быть… Тут Петя поставил красноречивое многоточие почти на целую строчку.
Насчет долгих окопных ночей Петя приврал, так как в это время их батарея как раз стояла в резерве под Минском и Петя с двумя другими вольноопределяющимися весьма удобно устроился в отдельной халупе, где они втроем усердно и не вполне безгрешно ухаживали за хорошенькой, круглолицей дочкой беженки-белоруски, которая стирала им за паек бельишко.
В это время на фронте было затишье, и ответ получился довольно скоро.
На этот раз правнучка героя Отечественной войны писала уже не на обыкновенной копеечной почтовой бумаге, а прислала письмо в надушенном конверте с сиреневой сургучной печатью.
Письмо это содержало всего несколько строк, правда, довольно любезных, и было подписано всего одной буквой К.
Это привело Петю в восторг. Он сейчас же ответил очень длинным, искусно составленным посланием, цель которого была выудить у мадемуазель Сеславиной как можно больше интересных сведений о ней самой и в особенности разузнать, сколько ей лет и какова ее наружность.
С этой целью он почтительно просил «далекого друга» прислать ему фотографическую карточку для того, чтобы, как писал хитрый Петя, он мог увидеть лицо своего ангела-хранителя.
Расставив сети, Петя стал ждать. Второе письмо пришло также довольно быстро и было уже гораздо более игривое, хотя из него Петя ничего определенного о своей адресатке не узнал, а насчет фотографии вообще умалчивалось. Но зато стояла подпись: «Ваша Кс.». «Моя Кс.!» — так начал Петя свой восторженный ответ.
Но на следующий день Петину батарею двинули на передовую позицию, начались тяжелые бои, потом их перебросили из-под Барановичей в Галицию, из Галиции на Румынский фронт, так что, когда наконец до Пети дошел ответ — все такой же загадочнонеопределенный, хотя на этот раз подписанный уже «Ваша Ксения», Петя успел охладеть к переписке и ответил небрежной открыткой, в которой, впрочем, не забыл упомянуть, что пишет на бруствере окопа между двумя атаками, что и на самом деле соответствовало действительности.
Таким образом, переписка с правнучкой сама собой погасла.
Но, попав в лазарет, Петя вспомнил свою Ксению и на всякий случай послал ей открытку.
Теперь он держал в руках ее ответ.
От письма по-прежнему пахло персидской сиренью. Правнучка в самых нежных выражениях приглашала «своего милого, старого друга», как она писала, навестить ее как-нибудь вечерком в ее тихом уголке, причем выражала надежду, что рана Пети не так серьезна, чтобы «эти противные хирурги» могли помешать их свиданию.
Петино воображение заиграло со страшной силой. Выждав для приличия два дня, которые ему показались двумя месяцами, сгорая от нетерпения, он отправился к своей Ксении.
У него было восхитительное, взвинченное настроение, немного, впрочем, испорченное той легкостью, с которой дежурный врач разрешил ему выйти в город.
— Я пойду с костылем? — спросил Петя, неуверенно глядя на врача.
— Он вам нужен, как мертвому припарка, — сказал врач, посмотрев на прапорщика цинически-веселыми глазами. — Впрочем, можете взять для декорации хоть два костыля. Мне не жалко.
Много возни было с одеждой.
Мотя очень хорошо заштопала на Петиных бриджах дыры, пробитые осколком, и отпарила кровавое пятно, след от которого все же остался.
Френч был тоже отпарен и выглажен. Грязные хромовые сапоги Чабан вычистил до возможного блеска и, войдя на цыпочках, как величайшую драгоценность, поставил их на коврик у кровати.
— Только вы, прапорщик, не разводите с вашей дамой лирики, а сразу же берите ее за корсет и не давайте опомниться, — сказал корнет Гурский.
— Вы циник, — смущенно ответил Петя, но в глазах у него при этом был игривый блеск.
— Бон шанс, как говорят наши союзники-французы! — крикнул вдогонку корнет, и Петя, стараясь не делать слишком быстрых движений, необоснованно кряхтя якобы от боли, спустился мимо санитаров и сиделок по затертой мраморной лестнице и при помощи Чабана сел на извозчика, положив раненую ногу на откидную скамеечку, а костыль — рядом с собой на тиковое полосатое сиденье.
— Николаевский бульвар, целковый! — крикнул Петя гвардейским голосом, сам удивляясь, откуда у него взялись эти барские баритональные ноты, тем более, что в кармане у него лежала всего одна синенькая пятерка, которую он «позычил» у того же хозяйственного Чабана.
— Не посрамите честь нашего лазарета! — раздался сверху голос корнета, и Петя увидел на балконе все население палаты, махавшее ему руками и полотенцами.
— Будьте уверены! — процедил сквозь зубы Петя и, заломив на затылок свою боевую фуражку, сказал извозчику: — Трогай!
Трудно поверить, но Петя впервые в жизни ехал один и совершенно самостоятельно на извозчике.
В семействе Бачей извозчик был такой недоступной роскошью, как первый класс на железной дороге, ветчина фрикандо, квартира в бельэтаже, диагоналевые брюки и многое другое, не говоря уже о паюсной икре, ананасах, меренгах со сбитыми сливками.
К извозчику прибегали в самых крайних, экстренных случаях, так же, как и к телеграфу. Извозчик и телеграмма были составной частью всякого трагического случая. На извозчике посылали за доктором, а телеграмма извещала о смерти.
За всю свою жизнь Петя ездил на извозчике всего два или три раза — на вокзал и с вокзала, — и то вместе с папой, Павликом, багажом и тетей, сидя у кого-нибудь на руках или на козлах.
Теперь же он ехал один — интересный раненый офицер с костылем, и, главное, куда? На свидание с девицей, правнучкой героя двенадцатого года, которая жила в самом аристократическом районе города — на Николаевском бульваре, Воронцовский переулок.
Петя ожидал увидеть богатый особняк или в крайнем случае старинный флигелек времен Дерибаса, спрятанный в зарослях персидской сирени, тихий будуар с розовой шелковой лампой, затем кушетку, козетку или что-нибудь в этом роде, узкую ладонь, прижатую к его губам, прическу «директуар» и длинные алмазные серьги в крошечных алых ушках.
Однако все оказалось совсем не так.
Петя попал в полуподвальную квартиру большого доходного дома, где его встретила худая, рослая, пожилая девушка с черной бархоткой на открытой жилистой шее и с длинными желтыми зубами, в которых она держала тонкую папироску.
Ее глаза, похожие на какие-то крупные полудрагоценные уральские камни, неподвижно сверкали, корсет скрипел, муаровая юбка шумела.
— Вы прапорщик Бачей, я не ошиблась? — радостно сказала она и, прищурившись, выпустила из ноздрей две струйки табачного дыма.
— Так точно, — ответил Петя.
— Я Ксения. Вы как раз кстати. Вы нам крайне необходимы. Вы будете Простаков. Там всего несколько слов и очень несложный костюм. На худой случай можно надеть простую косоворотку с шелковым поясом. Костыль оставьте в передней. Я вижу, он вам совсем не нужен. Месье и медам! — закричала она гусиным голосом, отодвигая поеденную молью портьеру с помпончиками. — Позвольте вам представить моего старого друга прапорщика Бачея. Он ранен, но не настолько сильно, чтобы не сыграть Простакова. Прошу вас, Пьер.
Она взмахнула рукой с папироской, и на Петю посыпался пепел.
Небольшая комната, дурно освещенная стоячей лампой-торшер, похожей на жирафа в зеленой шляпке, с полочкой из пятнистого мрамора, — столовая и в то же время будуар и гостиная — была наполнена гостями, занятыми распределением ролей. У всех в руках были тетрадки.
Затевался любительский спектакль в пользу раненых солдатиков. Почему-то выбор пал на комедию Фонвизина «Недоросль».
Во всем этом было что-то весьма старомодное, манерное, а главное, пресное, и настолько не соответствовало представлению Пети о «пользе раненых солдатиков» и о том, что происходило в России, что Петя даже позволил себе слегка улыбнуться.
— Вы скептик, — сказала правнучка героя и сунула ему в руки роль Простакова — тоненькую, сшитую серой ниткой, залапанную тетрадку с овальным штемпелем театральной библиотеки.
Петя прочел первую фразу, написанную каллиграфическим писарским почерком: «Простаков (от робости запинаясь). Ме… мешковат немного».
Петя посмотрел на окружавших его юнкеров, военных чиновников, гимназистов и прапорщиков — будущих исполнителей Милона, Скотинина, Стародума и прочих персонажей бессмертной комедии — и чуть не заплакал от досады.
Он уже, проклиная все на свете, готов был бежать, но даже и тут ему, как всегда, повезло.
Едва он, притворившись, что углубился в свою тетрадку, собирался незаметно нырнуть в переднюю и драпануть, как вдруг заметил двух прехорошеньких барышень, которые, обнявшись, сидели на подоконнике и делали ему весьма милые гримасы.
Одна была худенькая, другая полненькая. По обе одеты, как близнецы, в совершенно одинаковые английские юбки и фланелевые кофточки с большими атласными бантами на шее и одинаково причесанные по тогдашней моде «директуар», то есть с волосами, забранными вверх и заколотыми на затылке настоящими черепаховыми гребнями, так что нежные шейки и затылки девушек были прелестно открыты и совсем «по-мопассановски» курчавились легкими, как шелк, завитушками, как бы созданными для поцелуя.
И в Петиной жизни опять все волшебно изменилось.
— Вы, собственно, кто? — спросила полненькая.
— Я господин Простаков, — ответил Петя и чуть было не прибавил вводное предложение, но вовремя прикусил язык.
— Так поздравляю: я ваша супруга госпожа Простакова.
— А я нянька Митрофанушки, Еремеевна, — грустно заметила худенькая.
Петя с удовольствием рассматривал хорошеньких девушек, поворачиваясь то к одной, то к другой, не в силах решить, которая лучше.
«Обе лучше», — подумал он легкомысленно и тут же стал напропалую ухаживать за обеими, замолов такой веселый армейский вздор, что даже сам удивился, откуда у него это берется.
Барышни охотно поддержали этот бесшабашный флирт, так что не прошло и двух минут, как Петя Бачей уже сидел на подоконнике между двумя красавицами, которые оказались дочерьми генерала ЗаряЗаряницкого Шурой и Мурой, так же случайно, как и сам Петя, влипшими в эту глупейшую затею с любительским спектаклем.
«Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — весело думал Петя, тайком пожимая ручки то одной, то другой мадемуазель Заря-Заряницкой.
Теперь уже ни о каком любительском спектакле не могло быть и речи. Хотелось как можно скорее втроем улизнуть на свежий воздух, что Петя без замедления и устроил, бесхитростно разыграв на правах раненого острый припадок слабости, почти обморок, а хитрые сестрички вызвались его отвезти в лазарет.
Однако вместо лазарета они втроем попали в кинематограф «Киноуточкино», где в толпе солдат и матросов смотрели «Отца Сергия» с душкой Мозжухиным, в которого обе барышни, разумеется, были давно влюблены. Потом гуляли по Дерибасовской и съели по два шарика орехового мороженого в заведении Кочубея в городском саду…
Одним словом, на другой день после бессонной ночи, проведенной в колебаниях, кому из двух сестричек отдать предпочтение, Петя, скрипя костылем по гравию, по широкой аллее подошел к даче ЗаряЗаряницких.
13 ЧЕТВЕРТАЯ СЕСТРА
Сквозь багровые листья дикого винограда слышались звуки веселого обеда, а на ступеньках террасы присевший на корточки солдат в красных погонах крутил повизгивающую ручку мороженицы.
Уже по одному этому звуку, похожему на шум жернова, с хрустом размалывающего крупную соль, смешанную с битым льдом, Петя сразу понял, что попал на семейный праздник с парадным обедом и мороженым.
Он остановился в нерешительности и уже хотел повернуть назад, как в это самое время был замечен, уличен, подхвачен с обеих сторон под руки и, как бы окруженный душистым облаком лент и, локонов, теплотой нежных оголенных рук, блеском счастливых глаз, таким веселым и таким искренним смехом, был введен на террасу, где сразу очутился в обществе девушек, офицеров и студентов и был представлен нарядной даме, которая милостиво протянула ему руку в кружевном рюше и улыбнулась, как старому знакомому.
— Это наша маман, — сказали в один голос Шура и Мура.
Стараясь держать себя как можно непринужденнее, Петя сделал глубокий поклон и поцеловал кольца, которыми были унизаны худые, легкие пальцы генеральши.
— Так сказать, с корабля на бал, — не совсем кстати, но все же довольно самоуверенно произнес Петя и тут же уронил костыль на какую-то кошку с бантом, которая мяукнула и зашипела на него из-под стола. — Пардон, — сказал Петя с развязной улыбкой, стараясь в то же время, чтобы с его губ не сорвалось что-нибудь нецензурное. — Я, кажется, нечаянно стукнул по башке вашу фаворитку. — Он хотел сказать «левретку», но вовремя спохватился, что к кошкам это не относится… — Хотя вообще все эти маленькие домашние животные довольно милы и создают атмосферу семейного уюта, не правда ли, мадам?
Все это Петя проговорил в отвратительном армейском стиле, сам себя презирая и удивляясь, откуда у него взялась эта пошлость.
Однако хозяйка, еще раз одарив Петю именинной улыбкой, отпустила его милостивым взглядом, и Петей снова завладели нарядные сестрички.
Оказалось, что они двойняшки, хотя и не двойники, и что нынче день их рождения — шестнадцать лет, — и что они нарочно ничего не сказали об этом Пете, чтобы он не тратился на букеты и конфеты.
На террасе царило веселье.
Только что съели бульон с маленькими слоеными пирожками, и теперь солдат в белых нитяных перчатках вносил блюдо с такими же маленькими куриными котлетками, так аппетитно посыпанными зеленой петрушечкой, что Петя едва не издал восклицания, после которого его дальнейшее присутствие здесь, конечно, навсегда бы закончилось. Но он вовремя прикусил язык.
За столом сидело человек двадцать офицеров. Но это не были те случайные офицеры военного времени и маленьких чинов, обычно составлявшие общество Пети. Это были настоящие кадровые офицеры, не ниже поручика, среди которых Петя заметил даже двух подполковников: одного с орденом св. Владимира с мечами и бантом, а другого с георгиевским крестом, но не таким, как у Пети, серебряным, солдатским, а офицерским, белоснежно-эмалевым, так выпукло, неотразимо скромно и одиноко висевшим на груди просторной офицерской гимнастерки, сшитой из самого лучшего штиглицовского материала цвета шанжан, из которого носил свои кителя сам бывший государь-император.
Петя первый раз в жизни был в гостях в богатом генеральском доме. Несмотря на все свое душевное сопротивление, он все же испытывал унизительное чувство бедного человека, попавшего в гости к богачу.
Он изо всех сил старался держаться независимо, но самолюбие его все-таки сильно страдало.
Ему казалось, что все эти кадровые офицеры со всеми их орденами, академическими значками, дорогим походным снаряжением из магазина гвардейского экономического общества, отличными сапогами, кожаными походными портсигарами через плечо, запахом английского одеколона, жестко подстриженными усами, маленькими золотыми и серебряными нашивками за ранение, неприступным и, как казалось Пете, презрительным выражением лица терпят его присутствие только из уважения к хозяйке дома и снисходя к капризу двух виновниц семейного праздника.
Петя заметил, что все они состоят между собою как бы в родстве или, во всяком случае, связаны какими-то особыми узами не только домашней, но и служебной дружбы.
Петя знал, что глава дома генерал Заря-Заряницкий находится в действующей армии, где командует корпусом, а большинство офицеров — его подчиненные сослуживцы.
Здесь был также его адъютант с защитными походными аксельбантами, муж старшей дочери генерала. Он только что приехал на несколько дней с позиций и привез письма.
Это был разбитной поручик, весельчак и душка, который на правах близкого родственника, несмотря на свой небольшой чин, вел себя с развязной уверенностью в своей неотразимости, то и дело целовал генеральше ручки, называл ее «мамочка» и бросал слишком длинные и слишком томные, нескромно восхищенные взгляды миндалевидных армянских глазок на свою молодую жену, которая, впрочем, вполне заслуживала восхищения.
Если Шура и Мура были просто очень хорошенькие, то она была во всех отношениях красавица, с тем преимуществом перед любой обыкновенной красавицей, что хотя и знала себе цену, но не слишком задавалась и вела себя очень просто, прелестно-весело, оживленно, рассыпая вокруг добрые, благожелательные улыбки.
Улыбнулась она также и Пете. Даже слегка по-гимназически подмигнула, как бы желая сказать: «Не смущайтесь, прапорщик, здесь все свои!»
От этой улыбки Петя весь загорелся, заблестел, как новенький грош.
— Инка, не сметь, — в один голос закричали рожденницы, — это наш кавалер! Мама, скажи ей, чтобы она не смела отбивать! А то снова начинается…
— Ну вот, уж ни с кем нельзя и пофлиртовать. Какая скука! Ну ладно, ладно, не буду. Так и быть. Забирайте себе вашего прапорщика, только не плачьте.
И она, еще раз подарив Петю дружеской улыбкой, повернулась в другую сторону.
— Имейте в виду, что вы теперь абсолютно наш, — сказали сестрички и стали с двух сторон накладывать ему на саксонскую тарелку куриные котлеты.
И Петя почувствовал себя вдруг удивительно легко и просто среди всех этих дам и кадровых офицеров, которые еще за минуту перед тем казались ему не только чужими, но чуть ли не враждебными.
Теперь Петю стесняло лишь одно. Он все еще не сделал выбор между своими соседками, хотя уже и был по уши влюблен.
В кого же он был влюблен? Или, вернее, во что? Он был влюблен во все, что его окружало. Он находился в том счастливом состоянии упоения жизнью, которое бывает у человека лишь в первой молодости, да и то не часто.
Оно налетает внезапно, как порыв бури.
Все силы Петиной души были собраны и напряжены, и всеми этими силами он был влюблен в своих соседок; был влюблен в зеркальный блеск уже не очень теплого, но ласкового послеобеденного сентябрьского солнца, который понизу озарял полуоблетевший приморский сад и, сухо сияя слюдой, скользил туда и обратно по длинным паутинкам, растянутым между туй и тамарисков; был влюблен в генеральскую походную бекешу на веревке между яблонь, проветривающуюся перед отправкой на позиции; наконец, он был влюблен в розовые листья, кое-где уцелевшие еще на старой груше; в туманно-голубую полосу заштилевшего моря за садом; в багровые листья дикого винограда, рдеющие как угли, и наполняющие террасу винно-красным, церковным светом; в генеральшу, которую все офицеры называли «мамочкой»; в красавицу Инну и в ее мужаармянина, в густо-желтое домашнее сливочное мороженое и даже в пряные кусочки ванили в этом единственном в мире мороженом — одним словом, он был влюблен во все и сверх этого всего еще во чтото, чего он еще не заметил, но уже чувствовал где-то рядом с собой.
Это было похоже на ощущение человека, который идет однажды вечером ранней-ранней весной по городу и вдруг начинает замечать, что все вокруг как-то необъяснимо прекрасно: прекрасны освещенные окна, витрины, фонари, стены домов, тени людей и еще голых деревьев. Во всем чувствуется какая-то особая, необъяснимая прозрачность, как будто бы ко всему этому примешано еще что-то волшебное, таинственное, но откуда оно, это колдовское, зеленоватое свечение, вы еще не понимаете, и это вас странно волнует. Что же это? Откуда оно?
И вдруг вы случайно подымаете глаза и видите в бездонной высоте, над краем крыши, кусочек лунного неба и месяц — такой ясный, такой зеленовато-прозрачный, такой сказочный и нездешний между трубой и чердаком среди бриллиантового сияния города…
Тогда вы понимаете, что это именно его нежный гелиотроповый свет почти неощутимо присутствует всюду, примешивается ко всем огням, даже к вспышке зажженной спички, от всех предметов положил слабые, пепельные тени, исподтишка отразился в каком-нибудь темном окошке и наполнил мир лилейной прелестью мартовского вечера.
Нечто подобное — случилось с Петей. Он чувствовал присутствие кого-то или чего-то, ко не мог понять, что это, кто это. И странно волновался все время, пока вдруг случайно не повернул голову и не увидел девушку, которая уже давно смотрела на него в упор, слегка исподлобья, темными и, как показалось Пете, требовательными, но вместе с тем нежными глазами.
Это была еще одна дочь Заря-Заряницких, возрастом старше сестер-двойняшек, но младше красавицы Инны.
Петя сначала совсем не обратил на нее внимания, — так незаметна, «неощутима» она была. Теперь же, встретившись с ней взглядом, в один миг понял, что, в сущности, только она одна и существует для него во всем мире.
Обед кончился. Она встала. Петя заметил, что она невелика ростом — гораздо ниже своих сестер — и не так красива, как старшая.
Но в ее лице, кроме общего всем барышням Заря-Заряницким выражения веселого юмора, Петя разглядел еще какую-то черточку на переносице, возле бровей, делавшую ее лицо гораздо более значительным, чем полагалось девушке ее круга…
У нее были крупно вьющиеся волосы бронзового оттенка, маленькие ручки, маленькие ножки, обутые в туфельки на французских каблуках, делавшие ее более похожей на молодую женщину, чем на семнадцатилетнюю барышню.
Ее манеры были более свободны, чем у сестер, но не так развязны, и в ней угадывалась любимица в семье, которой позволялось больше, чем остальным.
Она подошла к Пете, прислонилась к столбику тер расы и некоторое время молча смотрела на него с откровенным любопытством и тайной грустной улыбкой.
— Вы не обращайте внимания, это она вас обольщает! — закричали Шура и Мура, становясь по сторонам Пети, как часовые. — Это наша сестра Ирина. Если хотите доставить ей удовольствие, называйте ее Ирен. Но будьте осторожны. У нее ужасный характер. Она сегодня поссорилась с женихом и теперь будет ему мстить. Не попадайтесь.
Ирен и бровью не повела, слушая болтовню сестер. Она продолжала смотреть на Петю серьезными глазами и улыбалась.
— А я вас давно знаю, — наконец сказала она.
— Каким образом?
— Мы когда-то покупали черешни. Ведь это вы жили на хуторе Васютинской?
Петя смутился. Почему-то ему было неприятно это' напоминание.
— Мы, собственно, не специально торговали… а, так сказать…
— Да, да. Я знаю. Ваш отец должен был оставить службу, и вы бедствовали. Я что-то слышала. Но мне было тогда всего двенадцать лет. Я была еще совсем девочка. Мы ходили к вам с Инной и ее многочисленными поклонниками. Я подставляла корзинку, а вы сыпали черешню. Но вы меня, наверное, совсем не помните?
— Не помню, — сказал Петя, стараясь представить девочку с корзинкой.
Она, наверное, была тогда в коротком платьице, с локонами до плеч. Какого же цвета могли быть банты у нее на голове: белые, шоколадные? А может быть, она была просто Красная Шапочка?
Теперь уже ему казалось, что он ее помнит и никогда не забывал.
— А я вас очень хорошо запомнила. Вы были в летней гимнастической курточке, без пояса и босиком. Черномазый мальчуган! У вас волосы на макушке торчали, как у индейца. И это мне очень нравилось. Еще была какая-то барышня. Во всяком случае, я хорошо помню возле вас какую-то хорошенькую девицу. — Ирен нахмурилась:-Кто она? — спросила она требовательно.
— Я не знаю, о ком вы говорите.
— Нет, вы очень хорошо знаете. Петя покраснел.
— Вы ее любили?
Она спрашивала с таким видом, как будто имела на это непререкаемое право.
— Вы странная, — сказал Петя.
— Она не странная, а она вас влюбляет. У нее такая манера, — сказали Шура и Мура. — Но вы не поддавайтесь, потому что и нас потеряете и ее не найдете и останетесь, как буриданов осел. Впрочем, как хотите.
Шура взяла Муру за талию, и они, морща носики, не оглядываясь, удалились на крокетную площадку, где их ждали новоприбывшие гимназисты.
— Пойдемте в сад, — сказала Ирина и, совсем по-детски взяв Петю за палец, потащила вниз по ступенькам.
Вдруг она вспомнила, что он ранен, остановилась и взяла его под руку.
— Вам больно?
Теперь она смотрела на Петю снизу вверх. Даже на высоких каблучках она была ненамного выше Петиного плеча с погонами.
Он не успел опомниться, как она уже полностью завладела им. Он только жалобно смотрел на нее, как бы желая сказать: «Что вы со мной делаете?»
И с этого мига для Пети началось то мучительное и вместе с тем блаженное состояние, которое называется любовью с первого взгляда.
Как это случилось, откуда она взялась? Не знаю. Причины любви неизвестны. О них можно только гадать. Признаки же разные.
Один писатель сказал, что верный признак начавшейся любви есть потеря чувства времени или нечто вроде лунатизма. Может быть, и так.
Для Пети любовь началась с острого припадка ревности. Еще прежде, чем он понял, что влюблен, он уже, испытывал мучительный приступ ревности.
У нее есть жених. Свет померк в глазах Пети. Брезжила надежда: может быть, о женихе сказано в шутку?
— Это правда, что у вас есть жених? — спросил: Петя.
— К сожалению, правда.
— Почему же к сожалению?
— Потому что я его не люблю.
— Но тогда… Почему же тогда он ваш… жених?
— Теперь об этом поздно рассуждать.
— Почему?
— Слова не вернешь.
— Слова! — воскликнул Петя.
Ему показалось чудовищным, что из-за какого-то «слова», пустого звука, может быть зависимо его счастье, его жизнь. О ее счастье и о ее жизни он даже не подумал.
— Боже мой! Слово… — повторил он.
— Не только слово, — сказала она очень серьезно.
Она сняла с Петиной головы фуражку и осторожно провела рукой по его волосам. Он не видел в темноте выражения ее лица. Оно было того неопределенного, слепого белого цвета, какого бывают летней ночью цветы садового табака.
Несомненно, это была потеря чувства времени.
Наступал поздний вечер, почти ночь; и они стояли в конце аллеи у гипсовой балюстрады над обрывом.
Петя не помнил, как они сюда попали и что было до этого. Во всяком случае, ничего связного. Играли в крокет. Приходили новые гости. Шура и Мура давно забыли о Пете. Он им просто надоел.
Они уже были увлечены кем-то другим.
Вероятно, для всех остальных этот праздничный вечер на даче вполне последовательно располагался во времени. Для Пети же он как бы мелькнул вне времени и пространства, оставив в памяти лишь «Полишинеля» Рахманинова, пробежавшего вприпрыжку по клавишам, быстро звеня и встряхивая всеми своими бубенчиками, а потом звуки сильного молодого меццо-сопрано, летевшего с террасы, — «В саду малиновки звенят и для тебя раскрылись розы» и до слез сжимающее горло «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю».
А в то же самое время на крокетной площадке- кто-то высоко держал в руке зажженную лампу над проволочной мышеловкой, где сошлись два шара — первый черный и третий красный, — и от того, какой из них первый пройдет мышеловку, зависела партия, и мешались тени людей и крокетных молотков.
Но это было неважно. Важно было, что она рядом.
И, когда в саду похолодало и она, извинившись, побежала в дом взять теплый платок, а Петя остался на несколько минут один без нее, то он ужаснулся при одной лишь мысли, что вдруг она уже больше никогда не вернется.
Но она вернулась.
Теперь они стояли над обрывом. Внизу было море. Ночь была черным-черна и вся осыпана траурными звездами. Было слышно, как в темноте вздыхает прибой, еще по-летнему широкий, ленивый.
Один раз по горизонту прошла дымно-голубая полоса военного прожектора.
Вокруг нерешительно поскрипывали последние осенние сверчки. В сентябре они еще доигрывают свою бедную степную музыку. В октябре их уже не слышно, и тогда черную землю охватывает мертвая тишина.
Но в эту ночь сверчки еще подавали свой голос. Гости разошлись. На даче закрывали ставни. Ирен проводила Петю до калитки.
— Послушайте, — сказала она, немного помолчав, тихим, но решительным голосом. — Не шутите. Это все очень серьезно. Может быть, более серьезно, чем вы думаете. Со мной так первый раз в жизни. Верьте мне. Вы верите?
— Верю.
Ему казалось, что с ним происходит что-то небывалое.
— Приходите.
Они простились. Петя не помнил, что они при этом сказали друг другу. Он только знал, что это все очень серьезно. Так еще никогда не бывало. Его душа была в смятении.
Он ковылял со своим костылем по пыльному переулку среди молчаливых, частью уже опустевших дач, осыпанных крупными дрожащими созвездиями, но ему казалось, что он летит на крыльях.
«Начинается новая жизнь. Начинается новая жизнь», — пело в нем на все лады. Иногда он ненадолго останавливался и смотрел в небо, где часто и легко, как светящиеся пчелы, пролетали падающие звезды, и он торопился шепнуть им желание своего сердца.
Ему хотелось поскорее добраться до лазарета и поскорее заснуть, для того чтобы поскорее наступил новый день, когда снова можно будет увидеть ее.
Они только что расстались, а он уже бредил новой встречей.
Но на другой день, когда перед вечером Петя пришел на дачу, то оказалось, что Заря-Заряницкие уже переехали в город: окна были заколочены, а на крокетной площадке среди неубранных дужек лежал дубовый шар с двумя красными оббившимися полосками.
Петя обошел сад и постоял на том месте возле гипсовой балюстрады на краю обрыва, где она сняла с него фуражку и погладила по волосам.
Погода испортилась. По небу гряда за грядой шли серые тучи. Деревья почти совсем облетели. И Пете был виден не только весь сад из конца в конец, но также неубранное кукурузное поле за садом, а за кукурузным полем с высокими золотыми метелками открытая пустая степь, где кое-где на ветру шатался и вздрагивал сухой бурьян и блестели слюдой, как разлитая вода, лиловые иммортели.
Море внизу уже не вздыхало, а со стоном обрушивалось на скалы, протяжно, раскатисто шумело, и белоснежная пена, взбитая штормом, лежала вдоль пустынных берегов.
Петя почувствовал себя одиноким, брошенным, как эти дачи с заколоченными окнами, забытые до будущей весны.
14 «СИЯЛА НОЧЬ! ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД…»
Петя понял, что все кончено.
Но. собственно, что все? Он вообразил себе бог знает что. Теперь он рассуждал вполне трезво. В сущности, между ним и ею решительно ничего особенного не произошло. Был обыкновенный дружеский разговор, может быть, флирт, но не больше.
Все это выросло в воображении Пети до чудовищных размеров: до взаимной любви с первого взгляда, до безумной страсти и прочей чепухи.
Несколько дней ему казалось, что все прошло. Он успокоился.
Но однажды ночью, внезапно, без всякой видимой причины, его охватило жгучее желание увидеть ее немедленно.
Он едва дождался утра.
Не было еще десяти часов, когда он разыскал на Пироговской улице недалеко от штаба, против военного госпиталя, в новых домах общества квартировладельцев, в бельэтаже дверь с большой дощечкой, где красиво прописью с черными нажимами была выгравирована фамилия генерал-лейтенанта Заря-Заряницкого, показавшаяся прапорщику на ярко начищенной меди верхом роскоши и богатства.
Понимая, что он поступает, как мальчишка, но не в силах сладить с собой, он нажал белую фаянсовую кнопку.
Почти одновременно с громким звуком сильного электрического звонка дверь щелкнула и как бы сама собой отворилась.
На пороге, прислонившись головой к косяку и обеими руками прижимая к груди концы шерстяного домашнего платка, стояла Ирен.
— Я знала, что это вы.
— Простите, что в такой ранний час… Петя с трудом перевел дух.
Она смотрела на него нахмурившись.
— Как вы смели так долго не являться? Пойдемте ко мне в комнату, — сказала она шепотом и совсем просто, как-то подомашнему взяла его под руку. — Вчера с позиций приехал отец.
Петя увидел на вешалке генеральскую шинель солдатского сукна на красной подкладке, рядом шашку с темляком на длинной георгиевской ленте и с золотым эфесом.
Под вешалкой стоял большой походный чемодан.
— На фронте что-то ужасное, — продолжала она шепотом. — Полное разложение. Солдатня совсем взбесилась. На какой-то станции отца вытащили из вагона и чуть не растерзали. Он насилу вырвался. Боже мой, что с нами со всеми будет?
Она на цыпочках провела Петю через всю громадную, тихую барскую квартиру с дверями, выкрашенными по последней довоенной моде «модерн» в зеленовато-болотный цвет.
— Мама и папа спят. Инка в госпитале. Девчонки в гимназии. Вы меня в самом деле любите? — сказала она шепотом и посмотрела на него глазами, которые теперь, при дневном свете, показались ему лиловатыми, как полураспустившаяся сирень.
Она села за свой хрупкий письменный столик на тонких модернистых ножках и положила голову на изящный бювар с промокашкой, закапанной чернилами.
Он сел на низкую скамеечку, так как другой мебели, кроме узкой никелированной кровати, застланной белым марсельским одеялом, в этой крошечной комнате с зеленоватыми декадентскими обоями не было.
На спинке кровати висело сахарное пасхальное яичко и овальный образок св. Ирины. На подушку была положена кружевная накидка, сквозь которую просвечивала большая метка гладью.
Петя с жадностью смотрел на все эти вещи, чувствуя, что они как бы делаются частью его души.
Слишком крепко затянутый в талии своим френчем, из которого, как это ни странно, Петя успел уже немного вырасти, он с трудом мог вздохнуть и боялся пошевелиться, чтобы не нарушить тишины, обступившей его со всех сторон.
Он облокотился спиной на холодную батарею центрального отопления, и она резала ему спину.
На стене на ленточках симметрично висели две самодельные гипсовые тарелочки с английскими головками и лошадиными мордами, а немного подальше Петя увидел фотографию офицера с мрачными глазами и квадратным подбородком.
— Это ваш жених? — спросил он чужим голосом.
— Да, — ответила она, не поднимая головы. Петя с отчаянием и нежностью смотрел на ее слабо развитые плечи, завернутые в платок, и на крупные завитки красивых волос.
Ему показалось, что она плачет.
— Что с вами? — чуть дыша проговорил он и нерешительно протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча.
— А что? — быстро спросила она, поднимая голову, и посмотрела на Петю с любопытством. — Может быть, вы подумали, что я плачу? — Она засмеялась. — Вообще я боюсь, что вы себе что-то вообразили. Но все равно. Я вас обожаю.
Она погрузила свою маленькую руку в Петины волосы и слегка их потрепала.
Несходство между той девушкой, которой была Ирина минуту назад, когда так печально сидела, положив голову на стол, и той, которой она стала теперь — банальной кокеткой с хорошо отшлифованными ноготками, — было так разительно, что Петя растерялся. Волшебный мир, который он создал себе, рухнул в одну минуту. От него не осталось и следа. Но сейчас же началось какое-то другое, новое волшебство.
Оно состояло в том, что Петя потерял волю и полностью подчинился Ирине. Она казалась ему обольстительной, как никогда.
Теперь он смотрел на нее как на существо высшее.
Она была на три года младше его. Он мог считать ее девчонкой. Но все равно, теперь она была царица, а он был раб.
В один миг он удивительно поглупел.
— Нет, в самом деле, я вам нравлюсь хоть немного? — жалобно спросил он.
Ирен немного подумала, а потом важно, утвердительно кивнула головой.
— Но чем же, чем?
Она снова немного подумала.
— Вы хороший, — многозначительно сказала она, и в тот же миг он почувствовал себя не то чтобы просто хорошим, но замечательным, необыкновенным, лучше всех на свете.
— А его я ненавижу! — сказала она, в упор посмотрев на фотографию офицера.
И Петино сердце тотчас наполнилось ликованием.
— Где он сейчас? — осмелился спросить Петя.
— Его здесь нет. Я его прогнала. Он уехал на фронт, в Яссы.
— В Яссы?
— Да, он там при штабе Щербачева.
На Петю с ненавистью смотрели мрачные глаза. Теперь он не сомневался, что уже однажды их видел. И твердый, квадратный подбородок. Или, может быть, ему это лишь кажется? Петя еще хотел что-то спросить, но промолчал. В Яссах он научился быть осторожным.
Петя засиделся у Заря-Заряницких и провел у них почти целый день.
Его представили генералу, который уже проснулся и ходил по своей барской квартире, мягко позванивая шпорами.
У него было грубое лицо властного, необразованного человека, хотя на правой стороне его груди Петя заметил значки военной академии.
Как ни странно, но все четыре дочки были очень похожи на отца, что нисколько не мешало им быть удивительно хорошенькими.
В особенности походила на генерала Ирина, и Петя, перенеся всю свою нежность с дочери на отца, стоял перед генералом с преданной улыбкой, держа по привычке руки по швам.
— Какой части? Где были ранены? — спросил генерал, и Петя отвечал с такой аффектацией, словно был готов по первому его слову броситься в огонь и воду.
При этом Петя через каждые два слова называл его «ваше превосходительство», хотя уже полагалось говорить «господин генерал».
Заря-Заряницкий потрепал прапорщика по погону и, другой рукой обняв дочку, с умилением стал целовать ей пальчики. Видно, она была его любимицей.
Генеральша была по-утреннему в кружевном пеньюаре, в бумажных папильотках, с заплаканными глазами и очень густо напудренным лицом.
Пришли из гимназии Шура и Мура, они были в темно-зеленых форменных платьях, черных будничных передниках и с салатными бантами в косах.
Они бросили свои клеенчатые книгоноски на подзеркальник в передней, и сразу же гулкая квартира наполнилась их свежими голосами.
Они принесли городские новости: бросили работу трамвайщики по всей Ришельевской; от Александровского участка до Городского театра стоят пустые вагоны; бастуют рабочие порта, заводов Кранцфельда и Гена, электрической станции.
— Чего же они хотят? — сухо спросила Ирен.
— Иди спроси у них, — ответила Мура.
— Они хотят «Долой смертную казнь!», «Долой войну!», «Мы требуем перемирия на всех фронтах!», «Долой корниловцев, смерть Корнилову!» — сказала Шура.
— Я тебе запрещаю говорить подобные вещи! — крикнула генеральша.
— Это не я говорю, а так у них написано на флагах. За что купила, за то и продаю.
Вскоре вернулась домой из госпиталя, в косынке с красным крестом и в дорогой замшевой куртке, красавица Инна. Она подтвердила, что бастует электрическая станция и вечером придется сидеть без света.
Генерал несколько раз громко говорил по телефону, куда-то сообщал о своем прибытии, и невозможно было понять, приехал ли он в отпуск или просто бежал из действующей армии от солдатского самосуда.
К вечеру собрались гости, те самые, которых Петя видел на даче. Но только теперь, при зареве свечей, отражавшихся в черных стеклах окон и лаковой крышке рояля, они были мало похожи на гостей, собравшихся за чайным столом, а скорее на каких-то заговорщиков.
Даже у Шуры и Муры были сумрачные, озабоченные лица.
— Это что? Конец, гибель?
— Фронта больше не существует.
— Пропала Россия.
— Бог не допустит.
— Но что же нам делать?
— По-моему, Россию может спасти только одно: немедленно открыть фронт и сдать Петроград немцам, чтобы они задушили революцию.
— Сдать Питер?
— А что вы думаете? И дурак будет Корнилов, если не сделает этого.
— Позвольте! Господа! Но ведь это измена!
— Изменой будет, если мы допустим, чтобы солдатня перебила кадровое офицерство и пустила матушку Россию под откос.
— Ну, это вы, знаете ли…
— А вашего душку Керенского на фонарь.
— Это вы чересчур. Я против таких крайних мер. Душке Керенскому надо просто дать — пардон, мадам, — коленом под зад. А на фонарь — Ленина-Ульянова и всю его компанию. И чем скорее, тем лучше.
— Я не спорю. Но зачем такая нервозность?
— Затем, что армия бежит.
— Как! И Румынский фронт?
— Да вы что, с луны свалились? По тридцать верст в сутки драпаем.
— А Щербачев?
— Что Щербачев! Я даже не знаю, где у него сейчас находится штаб фронта.
— В Яссах!
— Не может быть!
— Скажите спасибо, что еще не в Кишиневе.
— А румыны?
— Что румыны! Вы же знаете, что это не нация, а профессия.
— Но все-таки.
— Румынской армии не существует. А если и существует, то лишь для того, чтобы при содействии немцев оттяпать у нас Бессарабию.
— Никогда!
— И даже очень скоро.
— Во всяком случае, штаб одной из наших дивизий уже с божьей помощью находится в Оргееве.
— Так это же почти рядом с Одессой?!
— Не рядом, но все же…
— Позвольте! Выходит, что неприятель на носу.
— Если на вашем, то мы еще успеем пообедать.
— Старо! Не обкрадывайте старика Багратиона.
— Нет, кроме шуток, где же выход?
— Как хотите, господа, а выход один: Центральная рада.
— Это еще что за птица?
— Украинское правительство.
— Что? Самостоятельная Украина? Гоп, мои гречанитси? Только не это.
— А Совдепы лучше?
— Только не самостийная Украина. Сегодня Украина. Завтра Финляндия. Послезавтра Кавказ. Потом Туркестан. А там Курская республика, Тульская республика… Так мы, господа, всю Россию профукаем. Сумасшествие!
— А социалистическая республика не сумасшествие? Все что угодно, но только не это.
— Социализм — это гибель цивилизации.
— Только открыть немцам фронт! Если мы сами не в состоянии справиться с большевистской солдатней, то пусть их приведет в христианский вид Вильгельм Второй.
Если бы Петя не был в невменяемом состоянии влюбленности, он бы, наверное, ужаснулся тому, что он слышит.
Но смысл страшных слов о гибели России, о необходимости открыть фронт, о том, что лучше Вильгельм, чем революция, почти не доходил до его сознания, а если и доходил, то в каком-то странно искаженном виде.
Впрочем, временами к нему возвращалась способность мыслить, и тогда он понимал, что все то, что он слышит, не только ужасно, но просто преступно, что он, как русский офицер и патриот, не должен этого даже слышать.
Но Ирен была рядом. Он касался ее плеча. Свечи отражались в рояле. Время исчезло. Ничего в мире не существовало для Пети, кроме страстного меццо-сопрано красавицы Инны, которое, заглушая звуки аккомпанемента, заставляло дрожать черные оконные стекла:
Сияла ночь! Луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнею твоей. Их сердца дрожали.Потом Ирен и Петя снова сидели в ее комнате, но только теперь поменялись местами. Она сидела на скамеечке, а он на стуле. И она положила голову ему на колени, туго обтянутые бриджами.
— Я вас люблю, — сказала она шепотом и посмотрела на Петю так, что у него потемнело в глазах.
Он понял, что теперь она уже больше не шутит.
Потом она открыла ящик столика и вынула маленький дамский револьвер с никелированным барабанчиком и дулом и перламутровой ручкой.
— Его подарок, — сказала она со странной улыбкой.
Петя понял, что это подарок жениха.
Дверь была полуоткрыта. Из глубины квартиры в темную комнату проникал слабый свет колеблющихся свечей, и Петя видел, как блестят ее глаза и никелевые части револьверчика.
— Как хорошо! — с глубоким вздохом блаженства сказала она. — Лучше уже никогда не будет. Хотите, умрем вместе? Сначала я, потом вы. Вы меня, а потом себя. Нет, нет, ни за что! — вдруг воскликнула она с ужасом, бросила револьвер в стол и захлопнула ящик. — Не слушайте меня. Я сошла с ума. Нам совсем не надо умирать. Мы будем долго, долго жить. Правда?
Она схватила его голову и прижала к груди. Он слышал, как у нее стучит сердце.
— Теперь идите.
Она взяла Петю за руку и вывела по темному коридору в переднюю. Осторожно сняла дверную цепочку и щелкнула американским замком.
— Иди, — шепнула она.
Петя стал спускаться по темной мраморной лестнице, освещенной снаружи слабым светом звезд.
— Подождите!
Она выбежала со свечой и догнала его.
— Я влюблена в вас, как кошка. Вы понимаете это? — сказала она совсем тихо и, обняв его свободной рукой за шею, сильно потянула к себе.
Они поцеловались.
Фуражка упала с Петиной головы.
— А теперь ступай спать. И не приходи, пока я не позову. Через две недели. Мы должны сперва проверить свои чувства. И знай: я не играю больше. Я тебя безумно люблю. Так случилось. Пока об этом никто не должен знать. Дай слово.
— Даю.
Она тихонько заплакала.
Багрово-лазурное, копьевидное пламя свечи вытянулось, метнулось по стене лестничной клетки, расписанной под искусственный мрамор, бросило тени от темной электрической арматуры в виде тюльпанов.
Дверь щелкнула. Петя остался один, в темноте.
«Кто же я теперь: жених или не жених? И что со мной происходит?» — думал Петя, идя по темному, тревожно-пустынному городу в лазарет.
Он забыл у Заря-Заряницких свой костыль, но заметил это, уже ложась в постель. Спал он глубоко и сладко до позднего утра, а когда проснулся, то сразу вспомнил, что случилось вчера, и его охватила жажда деятельности.
15 АННА ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ
Нужно было, не откладывая, что-то предпринять, устроить, обдумать.
Еще никогда Петя не казался самому себе таким рассудительным.
Перед ним сразу же встало множество затруднений и вопросов. Став женихом, он посмотрел на себя со стороны. Положение, в котором он находился, не только неприятно поразило его, но в первую минуту просто ошеломило.
Он совершенно трезво постарался взглянуть на вещи и нашел, что все очень плохо.
В самом деле. Что он собой представляет? Ничего. Офицер военного времени. Даже, в сущности, не вполне офицер, так как «прапорщик не офицер, курица не птица». Нищий молодой человек, без средств к существованию, без перспектив, без надежд на будущее.
Ему даже негде жить, кроме лазарета, так как отец снимает угол. Следующая ступень нищеты — попросту ночлежка.
Может ли Пете чем-нибудь помочь нищий, старый отец?
Быть может, тетя?
Но что в состоянии сделать для него Татьяна Ивановна? У нее своя судьба, своя неблагополучная и тоже, по-видимому, довольно бедная семья.
У Пети в кармане нет ни копейки. Не в переносном, а в буквальном смысле слова. Кроме того, не сегодня-завтра его вызовут на медицинскую комиссию, осмотрят — и пожалуйте обратно на позиции.
Теперь уже Петя не питал никаких иллюзий насчет своей раны. Он ясно понимал, что рана давно уже зажила и он здоров. Боже мой, как быстро! А раньше казалось, что это затянется по крайней мере на полгода.
При мысли снова попасть на фронт, где каждую минуту он может так глупо и бесполезно погибнуть от собственных солдатиков или от немецкого бризантного снаряда, не дотянув нескольких дней до мира, Петя чувствовал самый настоящий, низменный страх за свою шкуру, который невозможно было преодолеть.
Положение казалось отчаянным.
Однако выход понемногу нашелся сам собой, как всегда бывает в жизни.
Во-первых, из части наконец пришел аттестат на денежное довольствие, на который Петя уже перестал надеяться. Он сразу получил жалованье за два месяца.
Но этого мало.
Корнет Гурский надоумил Петю подать два прошения: одно в комитет Красного Креста, а другое в бывшее ведомство императрицы Марии — на предмет получения единовременного пособия в одном месте «за ранение», а в другом-«на лечение».
— Лично я уже оторвал в каждом ведомстве по два раза, — сказал корнет, — дай бог здоровья доблестному Красному Кресту и бывшей августейшей старушке Марии Федоровне, чего и вам желаю от господа бога, ура!
При этом он несколько раз быстро и мелко перекрестился, словно бы отмахиваясь от мух.
— С вас грандиозный магарыч! — крикнул он, когда Петя отправился за ответом.
К своему крайнему удивлению, Петя без звука получил в обоих местах по сто рублей. В Красном Кресте ему дали три невзрачных, куцых керенки какого-то ненадежного буро-коричневого цвета, с плохими водяными знаками и двуглавыми орлами без корон, отчего они напоминали каких-то странных уродливых гусей; две керенки были достоинством каждая в сорок рублей, одна в двадцать.
Зато в ведомстве бывшей императрицы Марии щегольской военный чиновник подал Пете совершенно новенькую, хрустящую романовскую сторублевку с божественными водяными знаками, радужной сеткой и портретом величественно-снисходительной пожилой немки Екатерины Второй.
Петя до сих пор никак не предполагал, что пустяковая дырочка в верхней трети бедра может доставить человеку такие материальные выгоды.
Столько денег Петя сроду не только не держал в руках, но даже никогда не видел.
Правда, это были уже далеко не прежние, довоенные рубли — теперь они стоили гораздо меньше, — но все же Петя почувствовал себя богачом.
Из лазарета он вернулся даже не на простом извозчике, а на так называемом «штейгере», то есть в экипаже на резиновом ходу, с двумя фонарями на козлах и откидным верхом, и подкатил к лазарету с таким блеском, что Мотя, дежурившая внизу, у гардероба, всплеснула руками:
— Смотрите, какой он шикарный!
— Спрашиваешь! — подмигнул ей Петя.
Он понял, что ему опять стало везти. Он знал по опыту, что если раз повезло, то теперь будет везти долго. И он не ошибся. Для него началась полоса везения. Все делалось, как по щучьему велению.
Едва он подумал, что не худо бы послать Чабана в часть за вещами — благо теперь это было совсем недалеко, так как Румынский фронт уже приближался к Днестру, — как в ту же минуту в палату вошла какой-то легкой, несвойственной ей танцующей походкой Раечка, бросилась к Пете на шею — вся красная от непомерного волнения, с полными слез, сияющими, счастливыми глазами, крича на весь лазарет:
— Петька, вообрази себе! Вчера вернулся Георгий! Абсолютно целый, абсолютно невредимый, абсолютно красавчик. Жорка, иди сюда!
И тут же из-за спины Раечки выросла крупная, неуклюжая фигура Колесничука, который втащил в палату так называемый гюнтер — походный офицерский сундучок со складной кроватью — и поставил его перед Петей.
— Получай свои вещи.
— Ты гений, Игорь Северянин! Вообрази, я сижу абсолютно голый и босой.
— Я так и думал, что ты обрадуешься.
— Ну, брат, ты себе не можешь представить, как это кстати. Это, брат…
Петя не находил слов. Это было как раз то, чего ему так не хватало: в сундучке находились парадные выходные хромовые сапоги с маленькими, высокими каблучками и длинная офицерская шинель из хорошего солдатского сукна, на крючках, на байковой подкладке до половины, из числа тех щегольски выкроенных шинелей, которые сразу же делают человеку широкие плечи, твердую выпуклую грудь и стройные, узкие бедра.
Петя и Колесничук застенчиво поцеловались, причем Петя сразу же заметил, что на погонах Колесничука уже не одна звездочка, а две. Значит, за это время его уже успели произвести в подпоручики, и Петя ощутил легкий укол самолюбия.
Но добряк Колесничук тут же сказал:
— Тебя тоже представили.
— А в приказе уже есть?
— В приказе еще нет, но считаю, что уже все равно что есть. На фронте это быстро. Кроме того, тебе дали за ранение клюкву.
— Что ты говоришь?
— Клянусь бородой пророка.
— А в приказе есть?
— В приказе есть. Я даже выписку тебе привез.
— Клюква! Вот это номер!
Клюквой назывался орден «Святыя Анны четвертой степени за храбрость», который носился не на груди, а на эфесе шашки с особым темляком на красной орденской ленточке, почему и назывался «клюква».
Иметь «клюкву» на шашке было мечтой всех молодых прапорщиков.
Петя сейчас же представил себя с георгиевской ленточкой в петлице и с «клюквой» на кортике.
(К сожалению, в то время, при Керенском, большинство офицеров вместо неудобных в бою шашек носили небольшие морские кортики, что, впрочем, тоже имело свою особую прелесть.)
Интересно знать, как он понравится в таком виде своей Ирен?
При одной мысли о ней он залился румянцем и чуть было не воскликнул: «Представь себе, Жора, я женюсь на дочке генерала ЗаряЗаряницкого!»
Но, вспомнив, что дал слово, хотя не без труда, но все-таки промолчал.
Петя смотрел на Колесничука и вдруг со всеми подробностями представил себе день, когда они расстались.
Он вспомнил долговязую фигуру Колесничука с каской на затылке, который, догоняя цепь, бежал зигзагами по гребню высоты, время от времени приседая и бросаясь на землю, пока не скрылся в дыму артиллерийских разрывов.
Теперь Пете не верилось, что он тоже был в этом аду. Как он выдержал? Нет, нет, надо сделать все возможное, чтобы не попасть туда опять.
— Что же было потом? — спросил Петя. — Мы тогда все-таки заняли третью линию или не заняли?
— Занять-то заняли, да не успели закрепиться. К вечеру «он» как навалился, как стал нас молотить… Кошмар! Одним словом, мы потом драпали без передышки восемь дней и никак не могли остановиться. Ты знаешь, Петька, тебе-таки здорово повезло. Ты еще сравнительно легко отделался.
— А ты?
— Ну, брат, я — это просто чудо. Остальных офицеров выбило всех до одного.
— Что ты говоришь! — ужаснулся Петя.
— То, что ты слышишь.
— Прапорщик Иванов?
— Убит.
— Поручик Лесли?
— Убит.
— А командир батальона капитан Колчин?
— Убит.
— Ужас!
— Я ж тебе говорю. Из офицеров почти никого не осталось. А солдат — и не говори! Мамочка-мама! В каждой роте переменилось три-четыре состава.
— Значит, из офицеров только мы с тобой?
— Да. И еще волонтер из пулеметной команды, забыл его фамилию?
— Пустовалов?
— Во-во. Так ему оторвало обе ноги. Но жив. Теперь остатки дивизии в Оргееве на переформировании.
— А ты?
— Перевожусь в украинские части. В первый гайдамацкий курень. Поближе к Раисочке, — прибавил он, обнимая жену и глядя на нее с обожанием. — Не так ли, мое серденько?
— Так, так, добродию, — отвечала она, прижавшись к Колесничуку и блестя своими счастливыми глазами, черно-синими, как виноград «Изабелла».
Петя уже несколько раз слышал слова «Центральная рада», «гайдамацкий курень» и прочие. Но все это казалось ему до сих пор каким-то большим чудачеством, чьей-то наивной выдумкой.
Но вот, оказывается, все это вполне серьезно, а в фантастический «гайдамацкий курень» даже можно перевестись из действующей армии, то есть, выражаясь проще, драпануть с позиции и окопаться в тылу.
— Однако ты, Жора, здорово словчил, — заметил Петя, не ожидавший такой прыти от простодушного Колесничука.
— А як же! — ответил Колесничук подчеркнуто по-украински, или, как тогда называлось, «на мове».
А Раечка вдруг звонким голосом пропела из «Запорожца за Дунаем»: «Теперь я турок, не казак!»
— И вообще, хай живе вильна Украина! — прибавил Колесничук, лукаво прищурился, как бы желая дать понять, что он вовсе не такой простак, как это может показаться с первого взгляда.
И Петя вздохнул с облегчением. Остатки всех его мрачных мыслей рассеялись, как туман. Нет, жизнь такая штука, что всегда можно какнибудь выкрутиться. Уж если судьба так легко выручила симпатягу Колесничука, как будто нарочно для него выдумав «Центральную раду» и какие-то «гайдамацкие курени», где можно без особых хлопот окопаться в тылу, то и Петя тоже с его везением как-нибудь не пропадет.
16 ЦЕНА КРОВИ
Предвкушая встречу с Ириной, предоставленный самому себе для «проверки своих чувств», Петя провел восхитительные две недели, наслаждаясь, как ему казалось, своей последней свободой.
Недолго думая он нацепил на погоны вторую звездочку и повесил на кортик длинный анненский темляк, купленный Чабаном по его поручению в магазине гвардейского экономического общества.
Петя немного поколебался и снова послал удивленного вестового в город, приказав ему на этот раз купить шпоры, ибо кто же из молодых офицеров не мечтает в тылу о шпорах!
Петя же все-таки был артиллеристом, чем-то вроде артиллерийского адъютанта при пехотном батальоне — должность, созданная на фронте в последнее время для взаимодействия пехоты и артиллерии.
И тут Петя чуть было не вскрикнул от приятной неожиданности. Ну да, конечно, он был адъютант. Это совершенно ясно. А раз так, то, значит, он мог, кроме шпор, на самом законнейшем основании носить также и аксельбанты.
Черт возьми! Как он не сообразил этого раньше!
— Стой, Чабан! — крикнул он в окно вестовому, который уже заворачивал за угол. — Вернись! Кроме шпор, захватишь еще аксельбанты, — сказал он, когда Чабан вернулся. — Понятно?
— Так точно.
— А ты знаешь, что такое аксельбант?
— Никак нет.
— Так зачем же ты говоришь, что тебе понятно? Давай я тебе лучше напишу.
Петя разборчиво написал на листке из полевой книжки слово «аксельбанты». Чабан спрятал записку под фуражку, ринулся в магазин гвардейского офицерского экономического общества, и через час прапорщик Бачей уже стоял внизу, возле гардероба, с ног до головы отражаясь в трюмо Ближенских во всей своей красоте: с георгиевской ленточкой, «клюквочкой», шпорами и аксельбантами защитного цвета с металлическими висюльками.
Он себе очень нравился в таком виде. Он ликовал. Хотя в глубине души он и чувствовал смутно, что, может быть, с аксельбантами он слегка перехватил.
Именно в таком нарядном виде Петя прежде всего и предстал перед отцом.
Василий Петрович ютился в маленькой проходной комнате, которую нанимал в семье еврейского портного на Малой Арнаутской, в одном из самых бедных районов города.
Петя, конечно, не ожидал увидеть ничего хорошего, но он был поражен царившей здесь нищетой. В особенности его ошеломил тяжелый, застоявшийся воздух, насыщенный приторными запахами чеснока, фаршированной рыбы и еще чего-то в высшей степени свойственного еврейским портным, быть может, залежавшегося коленкора, конского волоса, холстины или какого-нибудь другого портновского приклада.
Здесь был вечный сумрак.
Чад. Пеленки. Дети. Гудение керосинки «Грец».
На столе с ногами сидел еврейский портной в железных очках и пейсах и шил.
Натыкаясь на детские горшочки и больно ударившись коленкой об угол большой чугунной швейной машины, Петя шагнул за ситцевую занавеску и увидел полуодетого отца, который сидел в пенсне на носу за своим письменным столом и, близоруко наклонившись над кипой бумаг, время от времени делал на полях аккуратные значки.
— Папочка!
— А, это ты, сынок. Садись куда-нибудь. Я сейчас.
Василий Петрович поставил еще один значок, похожий на квадратный корень, снял пенсне и весело посмотрел на сына, но, заметив его щегольской вид, умоляюще замигал глазами.
— Ты что это, Петруша? Уже выздоровел? Неужели опять на позиции?
И все лицо его, даже буро-малиновая шея, побледнело.
— Ну, до позиций еще далеко, — сказал Петя, усаживаясь на железную отцовскую кровать. — Да и вряд ли успею. Видать, война кончается.
Василий Петрович снова повеселел:
— Дай бог. Прекрасно. Ну, Петруша, рад тебя видеть. Спасибо, что навестил. А я тут, видишь ли, совсем недурно устроился. Удобно, а главное, дешево. Вполне по средствам. Тесновато, правда, но много ли человеку нужно?
Он чуть было не сказал «земли нужно», но сам испугался и пропустил слово «земли».
Петя увидел некоторые из их вещей, загромождавших всю эту каморку с грязными, очень старыми обоями со следами клопов.
Здесь были их умывальник с треснувшей мраморной доской, висячая бронзовая лампа из столовой, шкаф со знакомыми, но как бы сильно постаревшими книгами, бельевая корзина в виде бочки с кольцами, стенные часы, те самые, механизм которых отец каждый месяц собственноручно купал в керосине.
Из узлов выглядывали старые носильные вещи, между прочим Петин швейцарский плащ, с цепочкой вешалки, так живо напомнившей Пете бурю в горах, Марину, письмо с адресом.
Петя увидел большой, увеличенный с фотографии портрет матери в черной раме: на Петю слегка раскосыми японскими милыми глазами из-под челки смотрела молоденькая гимназистка в белом переднике и круглом отложном воротничке.
Мать смотрела на сына. И мать была года на три младше сына.
В углу висела семейная икона Бачей — спаситель с двумя поднятыми перстами, в серебряном фольговом окладе, с восковым свадебным флердоранжем за стеклом, и перед ней, совсем-совсем как в детстве, теплилась малиновая лампадка, а на стене слегка колебалась тень сухой пальмовой ветки.
Семья распалась, но Василий Петрович, как улитка, всюду носил на спине свой домик.
— Омниа меа мекум порто, — сказал отец, хрустя пальцами. — Все свое с собой ношу.
Петя хотел сообщить отцу, что женится, но промолчал, почувствовав странную неловкость.
— Получай, — торжественно проговорил он и с треском выложил на стол прямо на корректурные листы новенькую сторублевку.
— Что это?
— Матушка Екатерина.
— Зачем? — нерешительно, даже несколько испуганно спросил Василий Петрович.
— Бери, бери, старик, пригодится, — произнес Петя, изо всех сил стараясь под ненатуральным тоном какого-то доброго молодца скрыть чистое, радостное волнение сына, впервые в жизни приносящего отцу первые заработанные деньги.
Эти деньги были ценой его крови.
Василий Петрович сразу понял, что делалось в душе сына.
— Спасибо, мальчик, — сказал он просто и весело прихлопнул сторублевку своей старческой рукой с набухшими венами и вросшим в палец обручальным кольцом. — Ты меня, признаться, выручил. Теперь, знаешь ли, такая дороговизна, что на базар и не сунься.
Он обнял сына и по старой привычке поерошил ему волосы.
— А как же, так сказать, у тебя отношения с действующей армией? — спросил он, с тревогой заглядывая в глаза Пете. — Я вижу, ты уже поправился, и меня это тревожит. Неужели тебя опять потащат на эту муку?
Для «оборонца» подобные слова были весьма странными. Но, может быть, он уже стал «пораженцем»?
— А! — легкомысленно махнул рукой Петя. — Не думаю. Вряд ли. Дело идет к концу. Во всяком случае, пока меня не трогают. Живу себе в лазарете и в ус не дую.
— Ох, Петруша, Петруша…
Василий Петрович вздохнул, посмотрел на образ Христа-спасителя и перекрестился.
По-видимому, он уже и вправду стал «пораженцем».
— Ну, старик, так будь здоров. Теперь мы будем видеться часто, — сказал Петя, испытывая сильное желание поскорее выйти на свежий воздух, вон из этой трущобы.
Но вдруг что-то рванулось у него в сердце.
— Папочка! — воскликнул он, изо всех сил обняв отца за шею, и припал лицом к его голове, похожей на большое растрепанное гнездо.
Он стал осыпать поцелуями его шею, лицо, руки и, с трудом сдерживая слезы, выбежал по скрипучей лестнице на сумрачный двор, увешанный тряпками, где холодный октябрьский ветер раскачивал высохшие плети дикого винограда, обвивавшего проволоку, натянутую с наружной стороны щелистых, дощатых галерей с кое-где выбитыми стеклами.
Петя вскочил на дожидавшегося его извозчика и, купив на Дерибасовской в новом, военного времени, модном кондитерском магазине «Бонбон де Варсови» (то есть «Варшавские конфеты») десяток замечательных, очень дорогих пирожных, уложенных хорошенькой полькой серебряными щипцами в картонную коробочку, поскакал с визитом к тете.
У ворот на стене Петя увидел самодельную вывеску, извещавшую, что во дворе направо, ход вниз, открылась общедоступная библиотекачитальня для интеллигентных тружеников, спросить мадам Янушкевич.
Тут же по-детски была намалевана какая-то странная птица вроде курицы с растопыренными крыльями, в которой лишь человек с большой фантазией мог угадать изображение раскрытой книги.
От слов «мадам Янушкевич» Петя болезненно поморщился, но все же, решительно звеня шпорами, вошел во двор, повернул направо, спустился вниз, нашарил в потемках дверь, обитую рваной клеенкой, и сразу же очутился перед Татьяной Ивановной, которая в прическе валиком а-ля знаменитая исполнительница цыганских романсов Вяльцева сидела в пустой прихожей за маленьким столиком с ящиком библиотечной картотеки.
По-видимому, она терпеливо ожидала появления хотя бы одного интеллигентного труженика, желающего прочитать хорошую, полезную книгу или же новый журнал.
Сама же она с увлечением углубилась в «Одесскую почту», популярную копеечную газету Финкеля, изучая последний тираж серебряной лотереи, где можно было выиграть серебряный кофейный сервиз или же получить его полную стоимость наличными деньгами в банкирской конторе Бр. Куссис.
Услышав шаги, она проворно спрятала газету под себя и, согнав с лица горестное выражение несбывшихся надежд, посмотрела на Петю с той академической серьезностью, с которой, по ее мнению, должна смотреть владелица идейной библиотеки-читальни на своих интеллигентных клиентов.
— А, это ты! — сказала она таким тоном, как будто видела племянника каждый день, и губы ее тронула легкая, мимолетная улыбка.
Петя сразу понял причину этой улыбки. Она, конечно, относилась к шпорам, «клюкве», аксельбантам и второй звездочке на погонах.
— Да, да, вот представьте себе! — воскликнул Петя с вызовом, как бы отвечая тете на еще не заданный вопрос. — И совершенно не понимаю, чему вы, собственно, улыбаетесь?
— А я не улыбаюсь, — еще больше улыбаясь, сказала Татьяна Ивановна.
— Ах, тетя, вы всегда так! — жалобно промолвил Петя.
— Да я ничего. Валяй. Теперь все можно. Чем хуже, тем лучше.
— Вот… Позвольте вам, так сказать, преподнести, — поторопился Петя, чтобы избегнуть неприятного разговора. — Из «Бонбон де Варсови».
— Мерси. Ах, какая прелесть! Положи на стул. Спасибо, что хоть вспомнил.
— Я всегда…
— Воображаю.
Нет, тетя положительно была неисправима. В ее присутствии Петя всегда чувствовал себя в чем-то виноватым.
Но теперь он решил перейти в атаку.
— Ну, тетечка, как ваши интеллигентные читатели? Ходят в вашу библиотеку или предпочитают сидеть у Фанкони и торговать воздухом?
— Увы, мой друг, — сказала Татьяна Ивановна, печально разводя руками, — как видишь, пустыня.
— За все время ни одного человека?
— Ни одного.
Тут тетя сказала не всю правду. Был один посетитель: гимназист третьего класса из соседнего двора, пришедший в школьное время почитать седьмой выпуск «Пещеры Лейхтвейса». Но так как тетя не держала подобной дряни, то, вежливо шаркнув ногой, гимназист удалился.
— Вы фантазерка! — сказал Петя.
— Это — любимое выражение Василия Петровича, — грустно заметила Татьяна Ивановна. — Ты не знаком с моим супругом? Хочешь, я тебя представлю? Он будет очень рад. Сигизмунд Цезаревич! — крикнула она, постучав кулаком в перегородку. — Идите сюда!
В дверях из-за старой портьеры появился седой усатый поляк на подагрических ногах, в какой-то странной домашней куртке с бранденбурами. Он был похож на Дон-Кихота, но только в комнатных шлепанцах и с палочкой с резиновым наконечником.
Он чрезвычайно учтиво поздоровался с Петей, с явным одобрением осмотрел все его регалии, сказал комплимент с сильным польским акцентом и, милостиво, как король, улыбнувшись, удалился.
Петя сразу увидел, что это бывший светский лев, впавший в ничтожество, неслыханный лентяй и бонвиван, покоривший тетю своей великолепной внешностью и, вероятно, еще какими-то красивыми польскими освободительными идеями, а может быть, «она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» или что-нибудь подобное.
Во всяком случае, тетя смотрела на Сигизмунда Цезаревича с тайным обожанием.
— Сигизмунд Цезаревич, — сказала она, поджав губы, после того, как поляк, взяв двумя пальцами из коробочки один эклер, удалился за портьеру, — Сигизмунд Цезаревич временно не у дел. Но мы надеемся, что когда все это междуцарствие в России кончится и Польша наконец получит автономию, то Сигизмунда Цезаревича вспомнят.
Она говорила о Сигизмунде Цезаревиче таким тоном, каким, вероятно, говорили в придворных кругах о крупном государственном деятеле.
— Извини, я не приглашаю тебя в комнаты, но там парализованная старуха, мать Сигизмунда Цезаревича, неубранные постели, у детей корь и свинка и вообще нерасполагающая обстановка. — Татьяна Ивановна понизила голос: — Посидим лучше здесь.
Петя сел на шаткий стул.
— Кофе хочешь? Нет? Тем лучше. Это такая возня! Но, я думаю, тебе, наверное, не до кофе. Друг мой! — сказала она трагическим тоном, и ее глаза наполнились слезами. — Я не понимаю, что ты себе думаешь? Какие у тебя планы? Одну минуточку помолчи, не перебивай, — быстро сказала она, заметив, что Петя заерзал на стуле. — Я знаю все, что ты мне ответишь: ты получил пособие за ранение, и теперь тебе море по колено. Кроме того, ты, конечно, уже влюблен и собираешься жениться.
— Откуда вы знаете?
— Друг мой, это — общее явление. Кроме того, у тебя на лице написано абсолютно все. Одним словом, я тебе уже говорила и говорю еще раз: ты летишь в пропасть.
— Но если мы любим друг друга? — пробормотал Петя, застенчиво улыбаясь.
— Кто это «мы»?
— Я и дочь генерала Заря-Заряницкого Ирен, — не без хвастовства сказал Петя.
— Боже мой! Святая дева Мария! — в ужасе воскликнула Татьяна Ивановна немного в польской манере.
— А что?
— Ничего. Ты не мог придумать что-нибудь более остроумное? Накануне социалистической революции жениться на дочери известного черносотенного бурбона, подлеца, каких свет не видел, который убежал с фронта от своих же собственных солдатиков! Voilla! — воскликнула тетя, подбросив руку ладонью вверх. — Voillа!
— Позвольте, накануне какой революции?
— Такой самой. Однако, дорогой мой племянник, я не ожидала, что ты так наивен. В самом недалеком будущем нас ожидает такая революция, что еще свет не видел подобной. Ого-го! И, откровенно говоря, давно пора. Хорош же ты будешь, друг мой, когда твоего милого тестюшку благоверное воинство повесит на первом же фонаре на углу Пироговской и Французского бульвара! Кроме того, я совершенно не понимаю, что ты нашел в мадемуазель Ирен? Самая банальная генеральская дочка, спешит поймать жениха, пока еще всех молодых прапорщиков не ухлопали на фронте за веру, царя и отечество, то, бишь, за душку Керенского и доблестных союзничков и так называемую свободу. Нет, нет, ты у меня в этом сочувствия не найдешь, — быстро проговорила тетя, не давая Пете открыть рот. — Я очень извиняюсь, — сказала она, голосом подчеркивая это новое жаргонное выражение «очень извиняюсь», вывезенное беженцами из Царства Польского. — И, наконец, — почти крикнула она, покраснев, — неужели ты не понимаешь, что теперь не время для пошлых романчиков? Очнись! Последний раз умоляю тебя: очнись! Оглянись вокруг! Сделай выводы!
А Петя сидел, поджав ноги, на шатком венском стуле, нюхал воздух, пропитанный запахами каких-то лекарств, уныло смотрел на бамбуковые этажерки, набитые старыми, потрепанными книжками с билетиками на корешках, на разошедшуюся тетю, слышал влажный, переливающийся кашель Сигизмунда Цезаревича за перегородкой и чувствовал, что тетя как будто действительно права и он, Петя, в общем, делает что-то не совсем то.
Но едва попрощавшись с тетей, которая крепко его поцеловала в обе щеки, как мальчика, а потом со слезами на глазах перекрестила и просила кланяться Василию Петровичу, Петя вышел на улицу и увидел у ворот своего извозчика, как тотчас пришел в себя, подумал с облегчением: «Ну, это она, положим, преувеличивает», — и помчался обратно на Дерибасовскую, угол Екатерининской.
Он расплатился с извозчиком и заметил, что денег осталось уже совсем не так много, как он предполагал.
17 ЦВЕТЫ
Возле большого углового дома Вагнера испокон веков шла уличная торговля цветами.
Это был один из красивейших уголков города, где прямо на тротуаре под платанами стояли зеленые рундуки и табуретки, заваленные цветами.
В синих эмалированных мисках плавали розы. Из ведер торчали снопы гладиолусов, белых и красных лилий, флоксов, желтофиолей, тубероз. В плоских тростниковых корзинах густо синели тесно наставленные букетики пармских фиалок, нежно и влажно пахнувших на всю улицу. Пахло сыростью резеды, левкоями, гелиотропом.
Но сейчас уже был октябрь.
Время цветов миновало. Зеленые столы и табуретки цветочниц наполовину опустели.
Но зато был в полном разгаре сезон хризантем. Зеленовато-белые, желто-коричневые, лиловые, кремовые, лимонные, канареечные, с туго закрученными к центру цветка узкими, как лапша, жирными лепестками, они лежали прямо на тротуарах целыми грудами, распространяя в холодном октябрьском воздухе свой особый, ни на что не похожий, не цветочный, а какой-то другой, острый, раздражающий аромат японских духов.
Покупателей совсем не было, и толстая старуха в теплых перчатках с отрезанными пальцами не без удивления посмотрела на щеголеватого не по времени офицерика, который быстро выбрал десятка два самых крупных хризантем и прижал их к груди так, что они заскрипели, как свежие кочаны капусты.
Затем Петя увидел в ведре целый сноп последних осенних махровых гвоздик, громадных, карминно-красных, покрытых холодным, серебряным туманом.
Их продавала, по-видимому, солдатка в стеганом армейском ватнике, со злым, измученным лицом.
Петя, не торгуясь, купил у нее сразу все гвоздики, присоединил к ним хризантемы и в таком виде, почти весь закрытый цветами, пошел по Дерибасовской, отыскивая рассыльного.
Когда он проходил мимо книжного магазина, ему пришла в голову мысль послать Ирине, кроме цветов, еще какой-нибудь роскошный, но интеллигентный подарок.
Он вошел в пустой, унылый магазин и купил великолепное издание «Демона» с цветными иллюстрациями, напечатанными на меловой бумаге.
Книга стоила безумных денег, но Пете уже попала вожжа под хвост.
— Заверните! — решительно сказал Петя приказчику, похожему по крайней мере на Менделеева, и, пока тот ловко заворачивал книгу в хрустящую бумагу и завязывал тугой бечевкой, стоял у лакового прилавка, прижав лицо к мокрым гвоздикам, одуряюще пахнущим молотым перцем.
Петя знал, что на свете существуют рассыльные, так называемые «красные шапки». Их биржа обыкновенно находилась у входа в Пассаж, откуда богатые люди их нанимали и посылали с разными поручениями: отнести именинный торт в круглой коробке, свадебный букет, любовное письмо.
Это были обычно почтенные старики в красных фуражках с галунами, в демисезонных пальто, с большими дождевыми зонтиками под мышкой. Зимой они носили верблюжьи солдатские башлыки. На груди у них была бляха, как у носильщика, а на фуражке — металлическая табличка с надписью «Рассыльный».
У Пети сложилось смутное представление, что «красная шапка» является такой же непременной принадлежностью всякого серьезного и приличного романа, как поездка вдвоем на «штейгере» в Аркадию, страстные поцелуи при луне на Ланжероне, коробка шоколадных конфет от Абрикосова и тому подобный вздор, неизвестно каким образом залетевший в Петину голову.
Но сейчас он был в плену всех этих представлений.
Около Пассажа посыльных не оказалось, а на вопрос Пети, не знает ли он, куда девались «красные шапки», мальчик-газетчик, размахивая перед Петиным носом номером газеты «Одесский пролетарий», сказал с вызовом:
— На! Смотрите на этого буржуя с букетом. Ему-таки надо «красную шапку». А на «Алмаз» вы не хочете?
— Цыц, байстрюк! — крикнул Петя и, выглянув из-за цветов, сделал страшное лицо, после чего на миг онемевший от восторга мальчик, давно уже не слышавший такой настоящий пересыпский язык, долго бежал за Петей, льстиво и преданно пытаясь заглянуть в его лицо.
— Дяденька, вы идите прямо до Фанкони или до Робина, там еще остался один чудак «красная шапка», я, конечно, очень вами извиняюсь…
Петя еще ни разу в жизни не был в ресторане, а кафе Фанкони представлялось ему чем-то сказочно роскошным, безумно дорогим и недоступным для простого смертного.
Но теперь он был все-таки, черт возьми, раненый офицер и даже не какой-нибудь прапорщик, а настоящий боевой подпоручик с аксельбантами и «клюквой». И у него лежали в кармане две керенки.
Преодолевая смущение, даже, сказать по правде, некоторый унизительный страх, Петя толкнул вращающуюся дверь и, бестолково покрутившись среди зеркальных стекол вертушки, толкнувшей его сначала в грудь, а потом в спину, чуть не прищемив сноп цветов, наконец очутился в знаменитом кафе.
Петя был разочарован.
Вместо шика и блеска он увидел почти пустой, запущенный зал с диванчиками, столиками и дубовыми панелями, до бесконечности умноженными большими стенными зеркалами.
Сумрачный воздух отдавал старыми, застоявшимися запахами кухни, кофе и гаванских сигар.
За двумя столиками сидели солдаты в расстегнутых шинелях и пили чай со своим сахаром и хлебом.
Они покосились на прапорщика, но не встали. Петя вспыхнул и уже собрался сделать замечание, но как раз в эту минуту увидел «красную шапку» — седовласого старца с кривым пенсне на вульгарном, бугристом носу.
Он сидел за буфетной стойкой на табуретке и играл в шашки с официантом в засаленном смокинге.
Видно, «красной шапке» давно уже не приходилось носить букеты, потому что, едва Петя подошел к нему, он ужасно обрадовался, засуетился, вскочил на ноги, в одну минуту поразительно ловко завернул цветы в бумагу, предложил Пете тут же у буфета написать записку, для чего раздобыл бумаги и конверт с печаткой фирмы «Кафе Фанкони», и не успел Петя глазом моргнуть, как уже за витриной на Екатерининской улице мелькнула «красная шапка», раскрылся зонтик и посыльный, бережно прижимая к груди букет и книгу, растаял в дождевом тумане, как вестник счастья.
В лазарете Петю ждала неприятная новость. Его вызывали назавтра в медицинскую комиссию.
Он провел тревожную ночь, каждые полчаса просыпаясь и думая, что уже наступило это ужасное «завтра».
На рассвете в палату, держа что-то под халатом, неслышно вошла Мотя, шепотом разбудила Петю и, оглянувшись по сторонам, быстро и ловко поставила ему на зажившую рану крепкие горчичники.
К тому времени, когда надо было идти на комиссию, Петино бедро заметно побагровело, а на месте ран выскочили такие волдыри, что Петя даже сам испугался.
Мотя подала ему костыли, перекрестила его, и Петя в накинутом поверх белья лазаретном халате поскакал, как кузнечик, на комиссию.
— Болит? — спросил главный врач, тыкая в волдыри гладко обструганной сосновой лучинкой.
— Ой! — сказал Петя.
— Так не надо было ставить горчичник, — сказал врач и сделал в списке против Петиной фамилии птичку.
— Здоров. К воинскому начальнику. Следующий! И все было кончено.
— Ну что? — спросила Мотя, когда Петя, держа костыли под мышкой, вошел в отделение.
Но он мог бы и не отвечать. По его слабой улыбке Мотя поняла все.
— К воинскому начальнику.
— Вот шибанники! — закричала Мотя с возмущением. — И вы, Петя, пойдете?
— А что же делать?
— Не ходите. Честное благородное, не являйтесь!
— Как же я могу не явиться?
— А вот просто так: не являйтесь, и годи.
— Нельзя, Мотичка.
— А я вам говорю, можно. Она минуту что-то соображала.
— Слушайте здесь, — быстро зашептала она, увлекая его в глубину коридора, в комнатку, где помещались дежурные «нянечки». — Идите отсюда, прямо как есть, на Ближние Мельницы, а ваши вещи пускай черным ходом забирает Анисим и несет следом за вами. Поживите пока что у нас. Помните, как вы у нас когда-то жили? Вот было времечко!
Ее глаза нежно засветились: наверное, вспомнила подснежники.
— Тем более, что и ваш знаменитый Павличек тоже у нас на Ближних Мельницах живет. А за воинского начальника не беспокойтесь. Войне все равно конец. Позавчера вернулся с Румынского фронта Аким. Он едет в Петроград делегатом от Румчерода на Второй съезд Советов. Так что там, на позициях, делается, и не спрашивайте! Скоро власть Советам, и тогда земля крестьянам, фабрики рабочим, всем трудящимся мир, а буржуазии крышка. И не будет больше никакой войны. Годи! А вы говорите, воинский начальник. Начхали мы на воинского начальника!
Она засмеялась и потом, прижавшись губами к его уху, прошептала:
— Днями начнется.
Петя искоса посмотрел на Мотю, удивляясь, какая она стала бойкая, речистая, с какой легкостью она произносит такие слова, как «буржуазия», «Совет», «Румчерод». А она, не обращая внимания на Петино удивление, начала с увлечением описывать политическую обстановку в Одессе. Хотя все это она говорила с чужих слов, но видно было, что и сама кое в чем разбирается.
— Вы, наверное, Петя, слышали, что на той неделе было объединенное заседание Советов, так подавляющим большинством голосов прошла наша резолюция. Так и в газетке «Одесский пролетарий» напечатано. В этой резолюции говорится, что только переход власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства может прекратить все бедствия, безобразия, дороговизну и войну, так и далее, так и далее. Аким говорит, что делегаты на Второй съезд получили наказ отстаивать лозунг немедленной передачи всей власти в стране Советам. Вот тогда мы, Петичка, заживем. А вы говорите, воинский начальник! Не сомневайтесь, смело идите жить до нас на Ближние Мельницы.
И Мотя простодушно заключила:
— Не прогадаете.
Это, конечно, было очень соблазнительное предложение. Но Петя все еще продолжал чувствовать себя боевым русским офицером, связанным присягой.
— Я не дезертир, — сказал он.
— А горчичники ставили? — бойко спросила Мотя.
— Это ты мне ставила.
— Не имеет значения.
Петя почувствовал затруднение.
— Горчичники, понимаешь, это еще ничего не доказывает, — подумав, сказал он. — Горчичники — это значит ловчиться. А драпать на Ближние Мельницы — совсем другое дело.
— Ну, если вам не жалко своей головы, то как хочете. — Мотя поджала губы. — Все-таки вы, Петя, подумайте. Мамочка будет очень рада. Она вам зараз сготовит такого гарного кулеша! Кулеша нашего вы еще не забыли? — не без кокетства сказала Мотя, глядя на Петю через плечо грустными глазами.
— Ей-богу, господин прапорщик, чего вы чухаетесь? Я не понимаю, — едва не плача от досады, сказал Чабан, который все время стоял в дверях и умоляюще смотрел на своего офицера. — А то отправят нас на позиции и убьют, чего хорошего?
— Тебя не спрашивают! — строго сказал Петя, пошел в палату, скинул халат и лег под одеяло, укрывшись с головой, как будто это могло помочь делу.
Пролежал он так до вечера.
Он понимал, что, как бы он ни решил, это его последняя ночь в лазарете.
Подпоручик Хвощ и корнет Гурский уже выписались. Гурский уехал на Дон, к генералу Каледину, а Хвощ ловчился где-то в гайдамацких куренях.
Теперь в палате помещались только Петя и подпоручик Костя.
Костя был совсем плох.
Пытаясь вынуть осколок, засевший возле позвоночника, ему сделали еще две операции, но ничего не вышло. До осколка невозможно было добраться, и он продолжал причинять Косте нечеловеческие страдания.
Морфий уже почти перестал действовать.
Целыми сутками Костя сидел на койке, поджав под рубаху ноги и прислонившись плечом к стене. Было непостижимо, как он мог молчаливо переносить такую адскую боль.
Он даже не стонал.
Он только дрожал, стиснув зубы, и смотрел по сторонам большими прозрачными глазами на совсем маленьком, добром, измученном, ангельском лице с искусанными в кровь губами.
Среди ночи он внезапно застонал.
Петя еще никогда не слышал его стона. Это был его первый стон.
Петя видел при свете ночника, как Костя торопливо шарил под матрацем, потом делал себе укол в бедро.
Вдруг он вскочил на колени и закинул кудрявую голову с дико остановившимися глазами.
— Отравили! — закричал он изо всей мочи, так что даже задрожали оконные стекла. — Отравили! — повторил он с ужасом, выпрыгнул из кровати и, как зарезанный, стал биться в руках прибежавших санитаров.
Морфий уже совсем не действовал, а лишь причинял еще большие страдания.
Косте казалось, что кто-то тайно подсунул ему вместо морфия склянку с ядом.
Его силой уложили в постель.
Тогда он стал рыдать, содрогаясь всем своим тщедушным телом.
— Господи! — кричал он. — Зачем вы меня мучаете? Дайте мне яду! Я больше не могу жить! Мне больно жить. Понимаете: физически больно! У меня болит каждый кусочек. Убейте меня! Пожалейте! Убейте! Застрелите! Не будьте сволочами! Прапорщик Бачей, не будь сукой! Застрели же меня, застрели!
Он разбудил весь лазарет. В палатах заметались огни. До самого утра уже никто не мог заснуть.
18 АРМИЯ В ГОРОДЕ
Утром Петя отправился к воинскому начальнику, но не только не смог пробиться в канцелярию, но даже дойти до середины двора, наполненного солдатами.
Здесь были и новобранцы, и фронтовики, и старики ополченцы с медными крестами на фуражках, и какие-то матросы.
Всюду Петя натыкался на вещевые мешки, сундучки, узлы вонючего лазаретного белья.
На каждом шагу ему преграждали дорогу двуколки, кухни, обозные фурманки, затянутые брезентом, тюки прессованного сена, давно не чищенные лошадиные крупы, хвосты с репейником.
Толпа куда-то стремилась. Солдаты напирали друг на друга.
Слышались крики, стоны, ругательства.
Крыльцо трещало.
И в первую минуту нельзя было понять, что происходит. Но скоро Петя понял, что это какая-то пехотная дивизия, бросившая орудия, в полном составе покинувшая позиции, пришла к воинскому начальнику, требуя аттестаты на все виды довольствия, жалованье и железнодорожные литеры для возвращения по домам.
Видимо, за последние несколько дней положение на фронте настолько ухудшилось, что теперь было бы просто глупо стараться попасть на позиции.
Все же Петя для очистки совести отправился за предписанием к коменданту города. Но там дело обстояло еще хуже. Толпа солдат осаждала комендатуру, из открытых окон которой кое-где торчали станковые пулеметы и виднелись другие солдаты, в мерлушковых папахах с красным висячим верхом, как Петя сообразил, гайдамаки.
У Пети отлегло от сердца. Он сделал все от него зависящее. Но, к сожалению, всюду опоздал. Совесть его была чиста. Теперь можно было спокойно возвращаться в лазарет.
Но как за эти часы изменился город!
Он был совсем неузнаваем: местами пуст, безлюден, с наглухо запертыми воротами и опущенными железными шторами магазинов, а местами напоминал какую-то странную мрачную ярмарку, наполнявшую улицы, переулки и площади однообразной солдатской толпой.
В иных местах, пробиваясь сквозь толпу, двигались демонстрации с флагами, лозунгами, даже с духовыми оркестрами.
Кое-где с крыш газетных будок или с балконов кричали ораторы.
В одном месте на углу Петя увидел медленно ползущий бронированный автомобиль с матросом Черноморского флота, который стоял на башне, держа на весу винтовку.
В другом месте мимо Пети проехал разъезд гайдамаков, и Петя увидел впереди странно знакомого офицера в бурке с мрачными глазами и квадратным подбородком.
Всякий раз, когда Пете приходилось пробираться сквозь толпу среди настороженных, пронзительных солдатских глаз, которые с грубым недоверием провожали не по времени нарядного офицерика, он чувствовал себя хуже, чем если бы ему пришлось идти через весь город голым.
С моря дул холодный ветер, неся по высушенным тротуарам последнюю листву акаций.
Облетевшие деревья стояли, как железные, и висящие на них поспевшие стручки тоже казались Пете железными.
Пете едва удалось продвинуться в лазарет, так как он был окружен толпой солдат, требующих, чтобы немедленно приняли тридцать раненых нижних чинов, только что привезенных с фронта.
В дверях стоял в своей полувоенной форме Красного Креста молодой человек, Ближенский, сын миллионера Ближенского, владельца особняка, отданного под лазарет, тот самый лицеист, которому некогда Василий Петрович влепил на экзамене двойку и который вместе с отцом приходил давать взятку; на его глупом носу по-прежнему весьма интеллигентно блестело пенсне, и он, строго размахивая руками, кричал жиденьким голосом:
— Это лазарет для господ офицеров, и принимать нижних чинов не положено!
Толпа гудела.
— Не-э пэложен-н-о! — повторял сын Ближенского на гвардейский манер и пытался затворить дверь, но несколько солдат в расстегнутых шинелях с такой силой рванули дверь, что одна бронзовая ручка даже отскочила.
Толпа стала поспешно и, как показалось Пете, весело вносить в лазарет носилки с ранеными.
— Я буду сейчас звонить в комендатуру! — кипятился Ближенский. — Это большевицкое хулиганство, э-э, пора прекратить раз навсегда!
— Идите вы знаете куда? — среди общего шума услышал Петя знакомый голос и увидел Мотю с густо покрасневшим лицом и злыми кошачьими глазами. — У, паразит! — крикнула она, повернулась вполоборота и что есть силы отпихнула Ближенского локтем.
— Что это? Бунт? Анархия? — бормотал Ближенский, почти с ужасом глядя на расходившуюся Мотю и не веря своим глазам, что это именно она, вечно веселая, добрая, хорошенькая «нянечка», так больно, а главное, с такой неистребимой злобой стукнула его локтем в грудь.
— Да вы что на него смотрите, на этого слизняка! — кричала Мотя санитарам. — Несите солдатиков в палаты!
— Перепелицкая, я вас увольняю! — дрожащим голосом сказал Ближенский.
— Круглый дурак, — ответила Мотя и сунула ему в нос складненький розовый кулачок, свернутый фигой.
Ближенский размахнулся и шлепнул Мотю по щеке.
Мотя завыла от обиды, даже затопала ногами. Она чуть не потеряла сознание от ярости.
Тогда из толпы выскочил Петя. Кровь с такой силой ударила ему в лицо, что он на миг перестал видеть. Он вспомнил свое ранение, Яссы, ночь перед расстрелом, трупы солдат, свечу, безумно отраженную в черном стекле, ненавидящие глаза коменданта, казачий разъезд и, уже не рассуждая, а повинуясь только припадку слепой ненависти, вырвал из ножен кортик с анненским темляком.
— Подлец! Тыловая шкура! Окопался! Корниловец! — закричал он, как ему казалось, громоподобным голосом, а на самом деле срывающимся юношеским тенорком и замахнулся на Ближенского кортиком. — Дрянь! Гадюка! Хабарник! Кадет! Убью на месте!
Но на месте он его не убил и кортиком не ударил, а почему-то повернулся к Ближенскому задом и совсем по-мальчишески больно лягнул его ногой в живот.
— Бейте его, братцы! — кричал Петя со слезами на глазах. — Бейте, товарищи!
Еще минута, и, конечно, Ближенского разнесли бы в клочья.
Но в это время на крыльце появился высокий красивый солдат в длинной кавалерийской шинели с ласточкиными хвостами на обшлагах рукавов, с драгунской шашкой и в круглой кубанской шапке на голове.
— Отставить! — сказал он властным, но в то же время спокойным тоном человека, уверенного в своей силе. — Не. будем, товарищи, мараться об эту тыловую сволочь. А ты, морда, гэть отсюдова! И чтоб я тебя больше никогда не видел! — обратился он к Ближенскому, который в тот же миг исчез.
— Что, Мотичка, люба моя, я вижу, он таки успел тебя немного смазать по морде?
Дымчато-синие глаза кавалериста мрачно потемнели.
— Но ты не бойся. Это ему так не пройдет. Мы еще до него дойдем. Только не сегодня. Сегодня еще рано.
Он обнял ее одной рукой за талию и крепко прижал к себе. Она едва доставала головой до его плеча.
— Размещайте раненых по палатам! — сказал он. — А это кто? — повернулся он к Пете.
— Не узнаешь? — спросила Мотя, поворачивая к Пете хорошенькое заплаканное лицо с горящей щекой.
— Петя Бачей?
— А кто же!
— Чтоб тебя! — воскликнул кавалерист, добродушно рассматривая Петю.
— Петичка, вы не бойтесь, — сказала Мотя. — Это мой супруг Аким Перепелицкий, вы его должны помнить.
— Шаланду «Вера» помните? — спросил Перепелицкий.
— Ну как же! — ответил Петя. — Здорово, Аким.
— Здорово, Петя. Смотрите, какой стал вояка. Георгиевский кавалер. А был простой, затрушенный гимназист.
Их окружали санитары, сестры, нянечки.
Петя не без некоторого тайного тщеславного удовольствия, с воинственной небрежностью пожал богатырскую руку Акима Перепелицкого и тут же вспомнил, как этот самый Аким Перепелицкий однажды ночью на хуторе перед костром сказал околоточному: «Вы мене, ваше благородие, не тыкайте. Мы с вами вместе свиней не пасли», — и с непередаваемым презрением сплюнул в костер.
После того, как всех раненых солдат разместили по палатам и в лазарете на некоторое время установилось неопределенное спокойствие, Мотя сказала Пете, насмешливо играя глазами:
— Ну? Были у воинского начальника? И что же он вам сказал? Так как: будем переезжать на Ближние Мельницы или не будем?
— Валяй! — весело воскликнул Петя, у которого вдруг гора упала с плеч.
— А то вы, ей-богу, все равно как маленький. Не понимаете, что на свете делается, — оживленно говорила Мотя.
В присутствии мужа она стала какой-то новой Мотей — рассудительной и даже властной, и сразу было заметно, что она привыкла повелевать своим Акимом Перепелицким.
— Значит, так, — сказала Мотя, — пускай Анисим забирает ваши вещи и везет на Ближние Мельницы, а вы с моим Акимом дойдете вместе до вокзала. Слышишь, Аким? Доведешь Петичку до вокзала, а дальше он сам дойдет, дорогу знает. А вы, Петя, лучше снимите с себя все эти цацки, на черта они вам сдались? Вы и так славненький. И не топчитесь на месте, потому что подлец Ближенский уже вызвал сюда по телефону юнкеров и скоро здесь будет дело. А ты, Аким, слушай здесь, — строго обратилась она к мужу, — на съезде в Петрограде долго не задерживайся.
Мотя положила на грудь Перепелицкому руки, и они стали целоваться.
Затем Перепелицкий с вещевым мешком за спиной довел Петю до вокзала, и тут Петя убедился, насколько Мотя предусмотрительна: на улице, ведущей в сторону Ближних Мельниц, стояла застава рабочей Красной гвардии, пропускавшая дальше только своих.
Аким Перепелицкий сказал начальнику заставы несколько слов, и Петю тотчас пропустили, хотя и покосились на все его «цацки».
— И ходу! — крикнул ему вслед Аким Перепелицкий, направляясь к боковому ходу вокзала, где уже, сидя на ступеньках, его дожидались несколько солдат и матросов Черноморского флота и Дунайской флотилии, его попутчики, тоже делегаты на Второй съезд Советов.
А немного погодя вместе с подоспевшим Чабаном Петя уже раскладывал свою походную кровать в том самои сарайчике, где он однажды некоторое время жил перед войной.
Ему помогала устроиться пожилая женщина в темном старушечьем платочке, Мотина мама, о существовании которой Петя, признаться, совсем забыл, хотя именно она кормила его когда-то таким вкусным кулешом и таким жгучим, огненным борщом с чесноком, и стручковым перцем.
Петя даже забыл, как ее зовут. Теперь ему неловко было об этом спросить, и он называл ее ласково, но неопределенно: мамаша.
Она сильно постарела и по-прежнему была молчаливо-приветлива, все время без устали ходила туда и сюда по хозяйству, а на Петю смотрела с лучистой улыбкой, грустно покачивала головой — ведь это был мальчик Петя, кавалер ее девочки Моги; а теперь Мотя выросла, вышла замуж, а Петя уже офицер — подумать только! Сама же она стала старушкой…
Кроме Пети, в сарайчике помещались еще Павлик и Женька. Они спали валетом на большой деревенской кровати. А в уголке стояла самодельная коечка Чабана.
— А ты, брат, оказывается, большой ловчила! — сказал Петя, с удовольствием рассматривая своего вестового, гладкого, отъевшегося, с томными украинскими глазами, ленивой улыбкой, в новой темнозеленой шерстяной зимней гимнастерке с красной нашивкой за ранение на рукаве.
— Это что за нашивки? — строго спросил Петя., — За ранение.
— Когда же это тебя успели ранить? Чабан замялся.
— Говори.
— Меня ще не ранили.
— Так какого черта ты носишь нашивку?
— А это я с вами за компанию, — простодушно сказал Чабан. — Как вы себе нашили, так и я себе нашил.
— Оригинально.
Петя не мог не засмеяться.
— Ну и арап же ты, братец! Где же ты без аттестата питаешься?
— Где придется, господин прапорщик.
— Подпоручик, — поправил Петя.
— Виноват, господин подпоручик. Так что питаюсь как когда: когда в нашем лазарете что-нибудь возьму себе в бачок, когда туточки, в железнодорожных мастерских, отольют из красногвардейской кухни.
— Ишь ты! То-то, я смотрю, какой ты стал гладкий. Кто же тебе стирает?
— Хиба же вокруг мало дивчат? — нежно промурлыкал Чабан, скромно опустив густые ресницы.
— Так, я вижу, тебе здесь, в тылу, совсем не плохо.
— Як охфицеру, так и его вестовому! — вздохнул Чабан.
— Ну, ты, брат, до меня не равняйся. Обнаглел.
— Так точно!
Вечером, как в былые времена, вся семья собралась к ужину: не было только Моти, дежурившей в лазарете.
Сначала появились Женька и Павлик, ободранные, как коты, голодные, с поясами, надетыми через плечо. Павлик шел впереди с рапирой в руке, а Женька тащил за ним целую вязанку каких-то странных палашей и эспадронов.
— Сваливай в угол. Завтра будем раздавать отряду по списку. А, братуха, здорово! — воскликнул он, увидев Петю, и с весьма независимым видом протянул ему руку.
С того времени, как они в последний раз виделись в лазарете, Павлик еще более вытянулся, возмужал, огрубел. Если бы не гимназическая куртка и фуражка (впрочем, уже с вырванным гербом), то он ничем не отличался от простого рабочего паренька с Сахалинчика.
— Это что за оружие? — спросил Петя, любуясь лицом брата, его грозно сверкающими и в то же время ясными глазами.
— Оружие нашего отряда, — ответил Павлик. — Мы с Женькой только что его реквизировали в нашем гимназическом зале.
— Попросту сперли? — сказал Петя.
— Не сперли, а реквизировали, — строго ответил Павлик, взглянув на брата с неодобрением. — Эспадроны и палаши. Они хотя и учебные, да могут пригодиться.
— Такой штукой кого-нибудь стукнешь по голове — не обрадуешься, — заметил Женька.
— Да кого же?
— Юнкеров, Оойскаутов, гайдамаков, если придется. А что? Скажешь, нет? — спросил, прищурившись, Женька, заметив, что Петя иронически улыбается.
— У нас молодежный отряд при Красной гвардии железнодорожного района, — сказал Павлик. — Я командир. Женька — адъютант. Дай кортик!
— Может быть, тебе еще шпоры дать?
— Шпоры можешь оставить себе. А кортик дай. Тебе он зачем? А для нас все-таки оружие.
— Вы же марсияне. У вас тепловые лучи. Или не марсияне, а… как вас там? Улы-улы-улы!
— Нет, — серьезно сказал Павлик, — мы уже не марсияне.
— Ну, значит, «когда проснется спящий».
— Не спящий. А у тебя револьвера исправного нет?
— Ого! — сказал Петя не без гордости.
Он полез в свой сундучок и вынул из него завернутый в промасленную холстинку великолепный вороненый кольт, полученный накануне ранения и еще ни разу не стрелявший.
— И патроны? — с восторгом воскликнул Павлик.
— Или! — гордо ответил Петя и выложил на стол плоскую тяжелую коробку. — Сто штук!
— Покажь, — простонал Павлик. — Ну, не будь вредный! — Он протянул руку к коробке.
— Не лапай, не купишь, — сказал Петя холодно и снял с коробки крышку.
Павлик и Женька в один голос ахнули. Сто штук толстеньких, тяжеленьких патронов с выпуклыми нетронутыми капсюлями маслянисто блестели в коробочке, тесно прижатые друг к другу.
— Меняюсь на что хочешь! — даже не воскликнул и не простонал, а прямо-таки взвыл Павлик, вцепившись изо всех сил в плечо своего адъютанта, у которого от жадности побелели губы.
Петя с нестерпимым высокомерием согнул руку и показал Павлику локоть.
— На!
Затем он запер патроны и пистолет в сундучок.
— Но имейте в виду, габелки! — строго сказал он, заметив, что мальчики молниеносно переглянулись. — Не думайте сбондить. Оторву руки и ноги.
19 ПРИВЕТ ИЗ ПЕТРОГРАДА
Пришел Терентий в черной кожаной фуражке, с повязкой Красной гвардии на рукаве. Он завел усы, черные, с проседью, отчего его добродушное лицо, побитое оспой, показалось Пете похудевшим, сердитым.
Поверх пальто он был перепоясан офицерским кожаным поясом с наганом в потертой кобуре. Под мышкой он держал буханку солдатского хлеба, завернутую в платок.
— О! — сказал он, увидев Петю, и широко улыбнулся, отчего лицо его стало таким же, как прежде, — круглым, добродушным. — Не знаю даже, как мне теперь называть тебя: чи Петр Васильевич, чи просто Петя?
— Петя, Петя! — весело отвечал Петя, и они обнялись.
Затем все вместе — и Чабан тоже — ужинали жидким супом с толстыми серыми макаронами и большим количеством лаврового листа.
Суп этот раздобыл все тот же Чабан в кухне железнодорожного батальона, где у него оказался земляк-кашевар.
После ужина пили морковный чай «вприглядку». Видно, с продуктами в городе было совсем неважно.
Однако Петя ел с большим удовольствием, по-солдатски подставляя под ложку ломоть хлеба. Впервые за многие месяцы он чувствовал себя просто, покойно, «как дома».
Едва выпили по кружке чаю, как в окно постучали. Терентий засуетился, стал собираться.
— Сейчас! — крикнул он в окно, и лицо его в один миг стало собранным, строгим.
Он оправил пояс, передвинул кобуру и уже с порога обернулся к Пете:
— Ну, теперь я на всю ночь. А ты ложись, отдыхай. Завтра поговорим, решим, что и как.
Следом за Терентием быстро оделись и, сунув в карман по куску хлеба, выскочили на улицу Павлик и Женька.
— Куда же вы? — слабо крикнула им вдогонку хозяйка, но тут же махнула рукой: видно, давно уже к этому привыкла. — Ложитесь, Петичка, отдыхайте, — сказала она, глядя на Петю со своей обычной покорной, несколько грустной улыбкой, чуть заметно покачивая головой, словно не переставая про себя удивляться, как быстро летит время и как быстро из маленького мальчика Пети вдруг получился офицер с погонами, и шпорами, и даже ресничками молоденьких усиков над верхней губой.
— Матрена Федоровна, — сказал Чабан, появляясь в дверях, — я уже зараз натаскал вам воды в кадушку. Ничего больше не потребуется?
— Спасибо, больше ничего.
— Так разрешите, господин прапорщик, ненадолго отлучиться?
Пете стало смешно. В сущности, они оба были теперь дезертирами, но, несмотря на это, связь начальника и подчиненного держалась между ними еще довольно крепко.
— Ладно, отлучайся, — милостиво разрешил Петя, — небось торопишься куда-нибудь к девчатам?
— Так точно. До барышень.
— Валяй!
Теперь, когда Петя вспомнил, что Мотину маму зовут Матрена Федоровна, ему стало легче.
— Такие-то дела, Матрена Федоровна, — сказал он, сладко зевая и кладя голову на стол.
А она смотрела на него, пригорюнившись, как на сироту.
Перед оном Петя накинул на плечи шинель и вышел за калитку постоять.
Было темно, холодно, сыро. Ближние Мельницы спали. На станции Одесская-товарная слышалось кряканье железнодорожных рожков, свистки маневрового локомотива, раскатистое постукивание вагонных буферов.
Эти звуки, которые прежде вызывали у Пети манящие чувства дальних странствий, теперь потеряли всю свою таинственную прелесть и уже ничего не говорили его воображению, кроме того, что вот, наверное, составляется воинский эшелон или санитарный поезд.
Но со всем этим было уже покончено.
Изредка далеко за выгоном, в районе казарм, постреливали, но эти одиночные винтовочные выстрелы доносились как бы из другого мира, не имевшего к Пете никакого отношения.
Петя стал думать о своей любви. Сердце его загорелось. Он очень ясно представил Ирен и себя, поцелуи, свечи, темную парадную. Но, как ни странно, это все тоже происходило как бы в другом мире, отделенном от Пети тишиной холодной ночи.
Посреди улицы прошел патруль Красной гвардии.
Один из патрульных остановился возле Пети:
— Кто?
— Свои.
Патрульный посветил на Петю электрическим фонариком.
— Офицер?
— Так точно.
— Что здесь делаешь?
— Стою.
— Документы.
— Брось, Афоня, не видишь? Это же сын учителя Бачея, прапорщик, живет у Черноиваненок. Я его знаю.
— А! Ну, ничего. Живите. Спокойной ночи. Фонарик погас. Патруль пошел дальше вдоль темных, тихих хибарок Ближних Мельниц.
«Однако как они хорошо все знают, все помнят!» — подумал Петя.
В одном месте над крышами туманный воздух светился. Там были железнодорожные мастерские. Оттуда доносился ровный шум работающих станков. Работали днем и ночью, в три смены. Что там делали? Вероятно, как и на всех заводах, точили шрапнельные стаканы.
Петя улавливал в ночной тишине ровный, непрерывный звук токарных станков и шелест трансмиссий, работавших на оборону.
Неужели эти шрапнели и гранаты еще куда-то полетят и будут разрываться, ломая дома, убивая людей? Неужели еще не все кончено?
Утром прибежала после ночного дежурства Мотя. Петя услышал из своего сарайчика ее возбужденный веселый голос.
Немного погодя она заглянула в сарайчик.
— А хлопчики так еще и не возвращались? — сказала она, увидев, что кровать Женьки и Павлика пуста. — Анисима тоже нема. Ничего себе вестовой. Каждую ночь гуляет. Ну, как вы, Петя, устроились на старом месте? — спросила она, заметив, что Петя не спит.
— Доброе вам утро.
Утро было действительно доброе, ядреное. Ночью сильно похолодало. Из полуоткрытой двери со двора пылала поздняя октябрьская заря, и Мотина фигура в солдатском ватнике, короткой юбке и высоких ботинках вся была охвачена темно-красным угрюмым светом.
Струя ледяного воздуха лилась в сарайчик, и Петя поежился под своей шинелью.
— Смерзли? — спросила она.
— Ничего.
— Как-нибудь перезимуете. Мы вам здесь грубку сложим из кирпича. Ой, Петичка, что делается в нашем лазарете! Пришел взвод юнкеров выкидать обратно из палат раненых солдат. Но ничего у них не получилось. Мы сейчас же вызвали матросов с «Алмаза», и они им дали пить водички. Чуть до стрельбы не дошло. Так что сейчас у нас полно раненых солдатиков. Теперь уж их никто не тронет. Что с возу упало, то пропало. А вы танцуйте!
Не входя в сарайчик, Мотя нагнулась и бросила Пете на постель два письма.
— Еще вчера пришли в лазарет на ваше имя. Одно — двойная открытка из Петрограда от Марины, а другое-секретка, не знаю от кого, принес чей-то генеральский холуй, наверное, от той самой вашей любви с Пироговской улицы, угол Французского бульвара, — сказала Мотя, ревниво скосив глаза, и скрылась, захлопнув за собой дверь.
Маленькая надушенная секретка цвета цикламен была от Ирен. На ней было написано быстрым девичьим почерком: «Е. Б. Петру Васильевичу Бачей». «Е. Б.» обозначало «Его Благородию».
Петя оторвал купон.
«Я никак не предполагала, — писала Ирен без твердых знаков, — что вы окажетесь таким послушным мальчиком. Но две недели еще не прошли, а я уже без вас соскучилась. Вы еще не забыли Вашу Ир.? Ваши цветы все еще живут у меня в комнате в двух больших копенгагенских вазах, а „Демон“ всегда под подушкой. Нам обо многом надо поговорить. Все время думаю о вас. Ир.».
Что-то в этой записке было не то. Петя ждал большего. Когда любят, так не пишут. Разве можно писать так после того, что между ними было?
А, собственно, что было? Что ему еще надо? Она пишет «ваша Ир.». «Значит, она все-таки моя. Нам обо многом надо поговорить. Конечно, но, может быть, случилось что-нибудь непредвиденное?»
Его бросало то в жар, то в холод. Неужели снова появился «он» и они помирились?
Все чувства были в нем возбуждены. Он подул себе под нос и почувствовал жар, как будто у него было по крайней мере тридцать восемь. В то же время голые ноги, вылезшие из-под шинели, были ледяными, в особенности большие пальцы.
Стыдливо оглянувшись, Петя прижал к губам полотняную бумагу, словно отравленную духами, еще раз перечел письмо и сунул его под рубаху на грудь.
Затем, немного успокоившись, он прочел двойную штемпельную открытку из Петрограда с грифом военной цензуры, всю исписанную вдоль и поперек химическим карандашом мелким сноровистым почерком, с недописанными словами.
«Дорогой мой старый друг Петя! Не удивляйтесь, получив эту открытку. Хотя мы так давно не виделись и даже не переписывались, но я Вас всегда помню и люблю, как друга. Ведь Вы — моя юность! Недавно я узнала, что Вы ранены, лежите в Одесском лазарете, и страшно встревожилась. Надеюсь, это несерьезно, да? И вдруг на меня пахнуло прошлым. Помните „наш“ хуторок, прогулки в степи, звездные ночи у костра, когда В. П. так чудесно и поэтично рассказывал нам о Космосе? „Чем ночь черней, тем ярче звезды“. Помните? А ракеты в небе, а большефонтанский маяк? А светлячки? Теперь дело прошлое, но, признаюсь Вам, одно время Вы мне таки здорово нравились. Не знаю, как Вы, а я тогда была наполнена до краев предчувствием грядущей Революции. Видите, я даже пишу это священное для меня слово с большой буквы. И вот она наступила. Еще, правда, не совсем она. Но та, Великая, уже совсем не за горами. Она может вспыхнуть и разыграться каждую минуту, как всеочищающая гроза. Вы, конечно, понимаете, что я хочу сказать. Наверное, Ваша милая тетя Т. И. говорила Вам о нас, где мы сейчас и что делаем. Так что не буду об этом распространяться. Учитесь читать между строк. Больше о себе ничего не могу сказать. Вы помните волшебное слово „Лонжюмо“? Так вот. Да, да. Все, что казалось тогда нам в Швейцарии и в Париже великолепной мечтой, теперь начинает осуществляться. Готовится осуществиться. На наших глазах. Прямо-таки не верится! О, если бы Вы знали, поняли, какое это счастье! Хотя Вы и офицер, но я не сомневаюсь, что Вы с нами. Шлет Вам привет Ваш старый друг Гаврик Черноиваненко. Он теперь самый близкий для меня человек, товарищ, спутник. Понимаете? Поправляйтесь же. Надеюсь, скоро увидимся. Когда все совершится, наверное, увидимся. Ну, до свидания, мой милый, старый друг, моя бывшая любовь, Петя. Ваша Марина. Простите за каракули, но Гаврик вырывает карандаш и мешает писать».
После этого сбоку довольно коряво было нацарапано: «Здорово, Петька! Жму руку. Живы будем, не помрем. Твой Гаврик Черноиваненко. Привет из Петрограда, 22 октября 1917 года, Смольный. Чуешь, чем пахнет?»
20 В СМОЛЬНОМ
Родион Жуков ходил по Смольному, разыскивая Ленина.
Недавно совершилась Октябрьская революция. Было образовано временное рабоче-крестьянское правительство — Совет народных комиссаров.
Теперь Смольный, по-прежнему продолжая оставаться боевым штабом восстания и центром борьбы со всеми силами контрреволюции, начал понемногу приобретать также некоторые черты государственного учреждения с его обычной, не военной, а гражданской суетой, со стуком «ундервудов», звонками телефонов и даже старыми, институтскими служителями, которые чинно разносили бумаги и чай, впрочем, не в стаканах, а в фаянсовых институтских кружках, иногда покрытых ломтем черного солдатского хлеба.
По совету Павловской Родион Иванович сперва отправился в комнату, где временно на казарменном положении жили Владимир Ильич с Надеждой Константиновной.
Часовой — молодой солдат в черных обмотках, с узкими, напряженно-подозрительными глазами — вскинул винтовку, но, узнав известного потемкинца Жукова, тотчас отвел в сторону штык, и Родион Иванович заглянул в комнату. Она была пуста.
Родион Жуков увидел на подоконнике черную дамскую шляпку с воткнутой в нее длинной булавкой с шариком, а на стенедемисезонное пальто Владимира Ильича с потертой бархаткой на воротнике.
Эти самые шляпку и пальто Жуков видел еще до войны в Лонжюмо, под Парижем, где слушал лекции Ленина в партийной школе, и теперь, при взгляде на эти милые, постаревшие вещи, почемуто вдруг с особенной остротой почувствовал все значение того, что происходило сейчас в России.
На лестницах, в высоких, узких, сводчатых, непомерно длинных институтских коридорах, в дортуарах, превращенных в караульные помещения и канцелярии, — всюду беспорядочно толпилось множество самого простого, черного народа: мужиков в армяках и тулупах, в подшитых валенках и лаптях, обросших армейских делегатов, вооруженных рабочих, красногвардейцев с красными повязками на рукавах, матросов из Центробалта и Румчерода, среди которых Родион Жуков нередко узнавал товарищей по эмиграции.
В одном из коридоров на связке солдатских шинелей сидела в короткой жакетке поверх белой блузки с плоеной грудью и в стоптанных ботинках Крупская и, отгоняя от себя рукой махорочный дым, отовсюду плывущий в воздухе, слушала нового народного комиссара просвещения Луначарского, который, топорща большими пальцами коротких рук дряхлый парижский жилет, развивал перед нею план коренной реорганизации народного образования в бывшей Российской империи.
Луначарский вдруг остановился на полуслове и стал близоруко всматриваться в Жукова сквозь мутные стекла старомодного пенсне с пружинкой, в резко-черной оправе, криво сидящего на его крупном дворянском носу.
— Надежда Константиновна, а ведь это Жуков!
— Конечно, — сказала Крупская, подавая Родиону Ивановичу руку. — А вы не знали, что он здесь?
— Пропащая душа! — воскликнул Луначарский. — Когда мы с вами виделись в последний раз? Дай бог памяти: на Капри у Горького в одиннадцатом или на вокзале в Неаполе?
— Не угадали. В Париже, в двенадцатом.
— Верно! В Лувре, не правда ли?
— Да, вы нам показывали Рубенса. Красиво говорили. Мы заслушались.
— Теперь не до Рубенса, — сказал Луначарский.
— Вы не скажете, где Владимир Ильич? — спросил Жуков.
— Какое время! Феноменально! — растроганно и возбужденно проговорил Луначарский, не слыша вопроса Жукова, но разглядывая самого Жукова, его старый, еще времен пятого года матросский бушлат, деревянную полированную кобуру маузера, чем-то напоминавшую новенький школьный пенал, георгиевскую ленту с почерневшей золотой надписью «Князь Потемкин-Таврический». — Да, «Потемкин». — На глазах Луначарского показались слезы. — Вы, Родион Иванович, теперь уже не человек. Вы памятник, легенда. Товарищи, смотрите: это — живое воплощение пятого года! — вдруг воскликнул Луначарский, оглядываясь по сторонам и как бы приглашая в свидетели сотни людей, которые наполняли здание Смольного гулом своих голосов и шагов.
Жуков повторил вопрос, где сейчас находится Ленин, испытывая в то же время не менее сильное волнение, чем Луначарский, но никак не желая поддаться этому волнению.
— Всюду был, — сказал он. — Нигде нет. И никто не знает.
— Володя нынче ездил вместе с товарищем Свердловым в автомобиле в Главный штаб на прямой провод. Вы у Свердлова были?
— Был.
— Так сходите еще раз.
Едва Жуков начал спускаться по лестнице, как увидел Ленина в сереньком в мелкую клеточку пиджачке. Он бежал вверх навстречу Жукову, быстро мелькая по ступенькам ботинками «Вэра» и откинув в сторону руку, в которой держал моток телеграфной ленты.
Они чуть не столкнулись.
— Вы ко мне? — спросил Ленин, не узнавая Жукова в матросской форме. — Я же сказал, чтобы товарищи из армии и флота прежде всего направлялись прямо на третий этаж, к Дыбенко или АнтоновуОвсеенко, наконец, к Кобе.
— Это я, Жуков.
— Ах, черт возьми! Не узнал вас в этом виде. Быть вам богатым.
Ленин подхватил на ходу Родиона Ивановича под руку и потянул за собою вверх по лестнице.
— Ну, что у вас? В двух словах!
— Да вот, хочу проститься: уезжаю. — Куда?
— В Одессу, в Румчерод. Нас тут целая группа черноморцев.
— У Свердлова были?
— Был.
— Инструкцию получили?
— Получил.
— Имейте в виду, там обстановка ой-ой-ой!
— Знаем.
— Люди с вами едут надежные? Члены партии? Кого больше: рабочих или крестьян?
— Крестьян, пожалуй, будет побольше. Но, конечно, есть и рабочие. Настоящие пролетарии: рыбаки, металлисты, железнодорожники. Все делегаты съезда.
— За железнодорожниками посматривайте. Народ ненадежный. Викжель. Соглашатели, меньшевики.
— Мои надежные, — самодовольно усмехнулся Жуков.
Ленин резко остановился, слегка расставил короткие ноги, заложил руки за спину. Его лысая голова с громадным лбом и рыжеватыми волосами на затылке была откинута, глаза строго, недоверчиво прищурены.
— Гм… вот как… Вы думаете, надежны?
Он как бы изучал Жукова, взвешивая слова, сказанные им.
Лицо Ленина не было похоже на лицо того Ленина, которого Жуков хорошо знал по Парижу и по Праге. Не было бородки и усов: они еще не вполне отросли после того, как Ленин их сбрил перед самым переворотом, отчего крупный рот и сильный подбородок Ленина были резко очерчены и делали его лицо еще более решительным, скуластым, простонародным. Если бы не сократовский лоб, его можно было бы смело принять за средних лет мастерового.
— А вы не ошибаетесь? — прищурился Ленин.
— Думаю, нет, — сказал Родион Жуков, любуясь Лениным, всей его маленькой фигурой с крепкой, очень широкой грудью и втянутым животом, на котором морщился жилет.
Все в Ленине нравилось Жукову, в особенности редкие, но стремительные движения рук, которые он то засовывал глубоко в карманы брюк, то закладывал за спину, то выбрасывал вперед.
— Пойдемте ненадолго ко мне, потолкуем. Я хочу у вас спросить одну вещь, — сказал Ленин. — Надя, ты уже виделась с Родионом Ивановичем? Он нынче уезжает на юг, в Одессу. Пришел прощаться.
— Видела, видела!
— Так пойдемте.
Ленин прибавил шагу, стараясь как можно незаметнее проскочить в толпе, которая, увидев его в коридоре, окружила со всех сторон и уже двигалась вместе с ним, с любопытством и гордостью рассматривая этого человека, вождя первой в мире социалистической революции.
Родион Жуков заметил, что Ленин слегка покраснел, но не от смущения, а от какой-то веселой досады.
Наконец они очутились в маленькой комнатке, где обычно работала на своем неуклюжем «ундервуде» Павловская, печатая первые декреты и указы Советского правительства.
Теперь в комнате никого не было. По-видимому, Павловская пошла в столовую обедать.
Они сели на стулья возле окна.
— Вот о чем я вас хотел спросить, уважаемый, — сказал Ленин, сильно упираясь обеими руками в колени, нагнувшись и пытливо глядя Жукову прямо в глаза. Он сделал маленькую паузу. — Скажите, как удержать власть? Что вы об этом думаете? А власть надо удержать во что бы то ни стало!
Этот вопрос через несколько дней после взятия Зимнего дворца, бегства Керенского, ареста Временного правительства — словом, после блестящей, молниеносной и почти бескровной победы пролетарской, социалистической революции — мог показаться весьма странным. Но Родион Иванович слишком хорошо чувствовал Ленина, чтобы не понять всю силу и глубину этого вопроса. В этом вопросе был весь Ленин с его предусмотрительностью, трезвостью мысли, остротой политического анализа, прирожденной нелюбовью ко всем и всяческим общим местам и полным отсутствием позы.
Среди всеобщего восторга великой исторической победы, которую так долго и так страстно ждали многие поколения русских трудящихся, легко можно было потерять голову. Это могло случиться со всяким, но только не с Лениным.
— Как удержать власть? — переспросил Жуков, подумав.
— Да, как? — спросил Ленин.
— По-моему, так же, как это бывает всегда во время революции: драться.
— Совершенно верно! — быстро сказал Ленин. — Я с вами согласен. Драться. Но какими силами?
— Армия, флот… — начал Жуков. Ленин болезненно поморщился.
— Вы же знаете, что армия смертельно, адски устала. И, кроме того, еще многие воинские части находятся под сильнейшим влиянием всяческой контрреволюционной сволочи, а-ля правые эсеры, кадеты, Краснов, Корнилов… Вы знаете, что Керенский с войсками подошел к Гатчине? Так вот! Армию еще нужно повернуть целиком на нашу сторону. На это требуется время, а время не ждет. Флот я уже вызвал. Вот. — Ленин показал моток телеграфной ленты, который уже успел сунуть в карман пиджака. — Из Гельсингфорса идут военные корабли, «Республика» и миноносцы с оружием, десантом и продовольствием. Вот вы, например, военный моряк, правда, бывший. Но у вас должен быть какой-то опыт. Как вы думаете: если миноносцы войдут в Неву около села Рыбацкого с тем, чтобы защищать Николаевскую железную дорогу и все подступы к ней, а «Республика» станет рядом с «Авророй», это даст нам какие-нибудь преимущества?
Ленин повернулся на стуле (стул скрипнул), привстал и посмотрел в окно, вдаль, как будто бы уже видел военные корабли, входящие в Неву.
Вечерело. За окном над Большой Охтой плыл холодный ноябрьский туман. Маячили размытые тени балтийских чаек. На фоне этого плывущего жемчужно-серого тумана и этих косо мелькающих чаек лицо Ленина показалось Жукову вылепленным, как прекрасный барельеф, исполненный несокрушимой воли.
— Как хорош этот город! — мечтательно сказал Ленин, все еще продолжая, напряженно прищурившись, всматриваться в даль, в туман, и вдруг, повернувшись к Жукову, резко бросил: — Ну, есть ли резон отдавать его какой-нибудь шлюхе, вроде Керенского? — И почти без перехода: — Стало быть, вы считаете, что если «Республика» станет рядом с «Авророй», то мы будем иметь достаточный радиус для обстрела любой части города?
— Безусловно.
— Вы не ошибаетесь?
— А как же! Имею опыт. Когда в пятом году мы били с «Потемкина» по Одессе, то свободно хватало до Молдаванки и даже дальше.
— Это убедительно, — сказал Ленин, подумав. — Убедительно. Ну-с, так-с, значит, вы советуете драться? Так и поступим. Повидимому, впереди предстоит еще много боев: нам — здесь, а вам — на юге. По-моему, вам будет даже еще жарче, чем нам. Вы это, между прочим, учтите.
— Учту.
Ленин, блестя в сумерках глазами, коротко засмеялся своим альтом.
— Итак, подытожим: драться.
— Драться, Владимир Ильич.
— А у вас есть чем драться? — лукаво спросил Ленин.
— Вот, — ответил Жуков, похлопав по своему маузеру.
— Мало, — сказал Ленин строго, но в то же время с некоторым любопытством косясь на красивую деревянную кобуру маузера. — Вот вам главное оружие. — Он взял с подоконника газету. — Декрет о земле, декрет о мире. Сколько экземпляров берете с собой?
— Порядочно.
— Покажите, покажите, сколько?
Жуков вынул из бушлата несколько экземпляров газеты.
— Всего! — разочарованно воскликнул Ленин. — Э нет, батенька? Вы меня, вероятно, не поняли. Пойдемте-ка вниз.
Ленин пружинисто поднялся со стула и стремительно, несколько бочком, выскользнул из комнаты. Жуков едва за ним поспевал.
21 БАЛТИЙСКИЕ ЧАЙКИ
Они опустились по нескольким лестницам, где по-прежнему вверх и вниз двигались толпы людей, и наконец очутились в экспедиции.
Как раз в это время здесь несколько рабочих и балтийских моряков вносили со двора и укладывали под лестницу тюки и пачки только что привезенных из типографии листовок с текстом декретов о земле и о мире.
Тут же Родион Иванович заметил Гаврика Черноиваненко и Марину.
Они, видимо, тоже ездили за листовками и теперь помогали выгружать тюки.
Неожиданно увидев перед собой Ленина, Гаврик остановился на месте с двумя тяжелыми пачками на плече.
Он видел Ленина всего один раз в жизни, и то издали, в тот день, когда Ленин появился на Втором съезде Советов, провозгласил Советскую власть и среди бури оваций поставил на голосование съезда те самые декреты, которые теперь держал на плече Гаврик.
— Это, Владимир Ильич, наше новое, революционное поколение, — сказал Жуков, показывая на Гаврика. — Молодой черноморец. Он нам еще в пятом году помогал.
Ленин с любопытством взглянул на Гаврика.
— Сколько же ему тогда было от роду?
— Лет девять, — ответил Жуков.
— Восемь, девятый, товарищ Ленин, — сказал Гаврик, щурясь на Ленина, как будто бы тот светился. — А потом я вам даже один раз письмо от группы одесских товарищей переправлял через одного знакомого человека. Адрес: Париж. Четырнадцать. Мари-Роз. Ульянову. Скажете, нет? — спросил он неожиданно совсем по-детски.
— Верно! — воскликнул Ленин и захохотал. — Был такой случай. Это когда вы никак не могли размежеваться с меньшевиками. — Видя, что пачки сползают с плеча Гаврика, Ленин подхватил их обеими руками и легко бросил на пол. — Вы солдат какой части? — спросил Ленин, искоса поглядывая на складную, аккуратную фигуру Гаврика в короткой и старой, но хорошо пригнанной пехотной шинели с матерчатыми погонами и в кожаной фуражке с облупившейся солдатской кокардой. — Самокатчик?
Ленина ввела в заблуждение кожаная фуражка Гаврика.
— Он у нас товарищ, так сказать, из разных частей, — подмигнул Жуков Ленину. — На все руки мастер, но главным образом по связи. Большую работу проделал в действующей армии. Дважды ранен. В партии с шестнадцатого года.
— Ого! Молодой, да из ранних! — засмеялся Ленин.
— Мой старый друг, — сказала Марина, коротко тряхнув головой в финской шапочке с черным кожаным верхом и кожаной пуговкой, изпод которой красиво выбивались каштановые, немного остриженные волосы. — Мы с ним, дядя Володя, вместе в Одессу едем.
— Мама в курсе? — спросил Ленин. — А то у меня смотри! — И погрозил пальцем.
Он знал ее совсем маленькой девочкой в эмиграции в Париже, в Лонжюмо, в Швейцарии, и теперь ему странно и весело было видеть эту смелую, красивую, независимую девушку с револьвером на поясе, дочь Павловской, по-видимому влюбленную в складного солдатикабольшевика с мальчишескими веснушками и рыжеватыми насупленными бровями, «мастера на все руки, а особенно по связи», здесь, в Смольном, через несколько дней после той революции, которой была посвящена вся его жизнь.
Узнав, что товарищ Ленин находится в экспедиции, сюда повалил народ со всего Смольного.
— А вот еще товарищ из нашей южной группы, делегат Румынского фронта, — сказал Жуков Ленину, заметив в толпе Акима Перепелицкого, накрест обмотанного пулеметными лентами и с двумя ручными гранатами за поясом.
— На! Аким Перепелицкий! Появился наконец! — воскликнул Гаврик. — Где пропадал? Почему я тебя не видел на открытии съезда? А еще делегат!
— Зимний брал с ребятами. Потом трошки постоял на втором заседании, проголосовал за мир и за землю и опять пошел с патрулями по городу, чтобы в случае чего давить любую контрреволюцию на месте. Товарищ Ленин, — сказал Перепелицкий, проталкиваясь к Владимиру Ильичу, — извините, знать вас, конечно, добре знаю и на съезде видел, но лично не имел случая. Так позвольте мне от имени солдат Румынского фронта и вообще от всех трудящихся Юга пожать вам руку.
— Спасибо. Очень приятно. Передайте привет одесским большевикам, — сказал Ленин, крепко потряхивая руку Акима Перепелицкого.
— Передам непременно!
— И пусть одесские трудящиеся, не откладывая, берут власть в свои руки. Надо ковать железо, пока горячо. Да и еще вот что. Там у вас рабочие уже два месяца не получают заработной платы. Казначейство пусто. К сожалению, в настоящее время у нас у самих ничего нету, хотя мы и являемся русским правительством. Банковские чиновники саботируют и не желают давать деньги по нашим ассигновкам. Но можете быть уверены, что мы этот саботаж сломим вооруженной рукой, а саботажников будем беспощадно расстреливать. — Глаза Ленина сверкнули, сухая, желтоватая кожа на скулах натянулась, и крупный рот слегка ощерился, обнажив крепкие зубы. — Тогда мы пошлем вам миллионов шестьдесят, чтобы вы незамедлительно расплатились с одесским пролетариатом и ликвидировали всякую задолженность, потому что это — форменное безобразие. А пока убедите рабочих, что надо немного потерпеть. Они вас уважут. — Ленин улыбнулся. — Значит, товарищи, — прибавил он, обращаясь уже ко всем, — счастливого пути. И берите на дорогу, кто сколько может захватить. Не стесняйтесь. — Ленин стал срывать с пачек обертку, едко пахнущую керосином, брать листовки, аккуратно их складывать и с веселым, каким-то мальчишеским, как подумалось Жукову, озорством совать во все карманы Перепелицкого, Гаврика и Родиона Ивановича. — Берите, товарищи, берите. И помните, что сегодня в нашей стране, да и во всем мире, нету сильнее динамита, чем эти весьма понятные, простые русские слова: хлеб, земля, мир.
Делегаты стали разбирать листовки, класть их в вещевые мешки, ранцы, подсумки.
Ленин снова посмотрел на Жукова и вдруг как бы впервые увидел на его бескозырке георгиевскую ленту с золотыми, потемневшими буквами.
— А знаете, это очень хорошо, что вы надели свою старую форму. Носите ее, не снимая. Это тоже, знаете, своего рода динамит. «Потемкин-Таврический». Вы когда уезжаете?
— Ночью.
— Через Москву? — Да.
— Там сейчас восстание юнкеров, уличные бои, опять Пресня, как в пятом. Вопрос: пропустит ли вас Викжель?
— Не пропустит — сами пробьемся!
— И верно. На бога надейся, а сам не плошай. Лучшая революционная тактика — наступательная. — Ленин взял Жукова под руку. — Одна из самых крупных наших ошибок в пятом году состояла в том, что мы не довели дело до конца. Коли уж начали, то надо было драться и наступать до полной победы. Нерешительность — смерть восстания. Вы это должны хорошо знать на опыте «Потемкина». Надо было тогда идти до конца. Учтите это на будущее. Я думаю, вам предстоят уличные баррикадные бои.
— А мы надеемся на бескровную революцию, как здесь у нас, в Петрограде.
— Ну, не думаю, — сказал Ленин. — Еще неизвестно, что ждет нас здесь, в Петрограде. Не исключена крупная драчка. А у вас, на юге, дело не обойдется без большой крови. Это я вам предсказываю. Сейчас ситуация такова, что контрреволюция, потерпевшая поражение в центральных областях России, объединится и попытается взять реванш на периферии. Там к ее услугам всякие буржуазно-националистические организации, вроде Центральной Рады, «Сфатул-цэ-рия», дашнаков и прочее. Это все маски, под которыми будут выступать капитализм и кулачество. Буржуазный помещичье-капиталистический национализм — вот вам враг номер один. И запомните: лучшая и единственная тактика — наступательная. Зайдите ко мне несколько попозже, я вам дам письма к одесским большевикам и подпишу мандаты.
Когда, взяв у Ленина письма и мандаты, еще раз повидавшись со Свердловым и получив от него последние инструкции, самые новые сведения о положении в стране, взяв в канцелярии военного отдела железнодорожные литеры, попрощавшись с Павловской, Родион Жуков с вещевым мешком за плечами вышел мимо часовых — красногвардейцев и солдат петроградского гарнизона — во двор, под арками его уже ждали делегаты-южане с тем, чтобы всем вместе идти на Николаевский вокзал.
Марина, только что простившаяся с матерью и расстроенная этим коротким, деловым прощанием, в сапогах и в своей старой гимназической шубке с дешевым меховым воротником, подпоясанная солдатским ремнем с тяжелым наганом, сидела на своем швейцарском чемоданчике перед костром и, протянув к огню растопыренные пальцы, сушила варежки.
Гаврик стоял перед ней, опершись спиной о край трехдюймовки, и смотрел на ее милую, немного сутулую фигурку, на ее финскую шапочку, сапоги и блестящие от слез глаза, в которых отражался костер.
— Южная группа, становись! — скомандовал Родион Жуков.
Он проверил их всех по списку и вывел за ворота Смольного мимо освещенных кострами дежурных пулеметчиков, мимо броневика, в тусклых гранях которого угрюмо отсвечивал огонь, мимо ящиков с патронами, мимо артиллерийских передков, и их поглотил туман холодного балтийского ноября, плывущий над тревожно настороженным Петроградом.
А через неделю желтый пассажирский вагон второго класса с размашистой надписью мелом «Делегатский. Южная группа», задержавшись на несколько дней в Москве, где шли бои с юнкерами и горел большой дом на углу Никитской и Тверского бульвара, простояв двое суток в Киеве, захваченном гайдамаками, застрявши на сутки в Казатине, наконец прицепившись в Бирзуле к санитарному поезду, мимо горящих помещичьих экономии, сахарных заводов, станций, забитых солдатами с Румфронта, мимо дубовых рощ с еще не опавшей ржавой тяжелой листвой, мимо черных замерзших украинских полей, белеющих по межам ранней порошей, мимо длинных ометов желтобурой прошлогодней соломы, мимо митингов, дымов, набатов, красных флагов, разбрасывая пачки ленинских декретов о земле и мире, которые стаями разлетались во все стороны вокруг поезда, охваченный темно-красной, как раскаленное железо, поздней утренней зарей ноября, наконец прибыл на станцию Одесса-товарная и остановился.
22 БОГ НЕ ДОПУСТИТ
Любовь к Ирине теперь уже потеряла свою новизну, вошла в берега и текла спокойно, как неглубокая и небыстрая речка, правда, очень живописная, местами просто восхитительная.
В доме Заря-Заряницких в последние дни все как-то потускнело.
Сам генерал отбыл в ставку Щербачева. Знакомые офицеры разъехались. Остался лишь муж красавицы Инны, который окопался в штабе военного округа, в контрразведке — местечке безопасном и на виду.
Шура и Мура притихли, сидели у себя в комнате и занимались. По вечерам за стол уже не садилось по двадцать человек, а были только свои и пили скромный чай на будничной клеенке под большой столовой люстрой, где горело всего два рожка, и то если был ток.
В девять часов уже всем хотелось спать.
Прислуга грубила, уходила на митинги, перестала мыть посуду, пропадала в гостях, так что часто некому было подать на стол. Один из денщиков, самый надежный, Степан, сверхсрочный ефрейтор, седоватый и степенный, к общему удивлению, первый дезертировал — без спросу ушел в деревню делить помещичью землю.
Ирина заметно изменилась. Теперь она уже не казалась Пете такой неразгаданной, пугающе-прекрасной. Она стала понятней, проще. В домашних туфлях, узкой английской юбке, в сером вязаном свитере с глухим круглым воротом вокруг нежной шеи, она садилась к Пете на колени, легко обнимала за шею и долго смотрела на него своими серовато-лиловыми глазами.
В это время он тоже рассматривал ее лицо, слегка блестевшее от кольдкрема, ее розоватые, как бы нарумяненные веки с густыми ресницами, ее красивые волосы, небрежно поднятые вверх и заколотые черепаховым гребнем.
Она уже не казалась такой недоступной, как раньше, но все же была по-прежнему обольстительной.
Со стены исчезла фотография жениха. На ее месте Петя однажды увидел пришпиленную к обоям свою маленькую глянцевитую карточку с аксельбантами и глупо раскрытыми глазами, в которых отпечатались яркие точки лампочек электрофотографии «Молния» на Дерибасовской против «Бонбон де Варсови», где Петя специально снялся по просьбе невесты. Да, теперь она была уже его невеста.
Он осторожно трогал ее крупно вьющиеся волосы, проводил пальцем по шелковистым бровям, подолгу рассматривал ее сухие темно-розовые потрескавшиеся губы.
Теперь он уже не так сильно боялся ее потерять, как раньше. Он был уверен в ее любви. Ведь она решительно отказала жениху! Пете в голову не приходила мысль, что, может быть, это он ее бросил. Он настолько привык к своему счастью, что временами переставал понимать это счастье.
Они мало разговаривали и много целовались, утомляя друг друга этими молчаливыми, однообразными, ни к чему не приводящими поцелуями.
Теперь Петя ходил к Заря-Заряницким ежедневно.
Именно в один из этих дней пришла весть об Октябрьской революции. По дороге к Заря-Заряницким Петя заметил, что в городе странное оживление, радостное и в то же время грозно-тревожное.
На углу Куликова поля и Пироговской у газетчицы-старухи, которую Петя помнил еще с детских лет, он взял с табурета, выставленного у ворот, жиденький номер «Известий Одесского Совета» и стал жадно читать газету, надувшуюся в его руках, как парус. Над черным, как всегда пустынным Куликовым полем на разные лады свистел сухой, холодный ветер, уже почти по-зимнему неся пыль, перемешанную с редкими снежинками.
У штаба мерзли часовые.
Из всего того, что было напечатано в газете, стало ясно одно, самое главное — мир!
Петя понял, что теперь новое, Советское правительство наконец-то заключит мир, и он, прапорщик Бачей, уже не должен идти на убой. Он уже не дезертир. Он свободный гражданин новой России. У него было такое чувство, как будто ему подарили жизнь. И подарили не гденибудь, а именно здесь, сейчас, на углу Куликова поля и Пироговской в десять часов утра. И Петя тут же представил себе Петроград, в котором он никогда в жизни не был, Смольный, новое правительство- простых людей, большевиков, министров, называвшихся теперь народными комиссарами, и среди них того самого Ульянова-Ленина, который в последнее время где-то скрывался, а теперь вдруг появился и возглавил новое, социалистическое, рабоче-крестьянское правительство России.
Нет, они просто молодцы, эти большевики: выгнали Керенского, взяли Зимний, отдали землю крестьянам, а фабрики — рабочим, то есть в течение нескольких дней сделали то, что до них не могли сделать многие поколения русских революционеров! А самое главное, они провозгласили мир. Как завидовал Петя Марине и Гаврику, которые, наверное, были в это время в Смольном, все видели собственными глазами и во всем участвовали! Аи да Гаврик! Молодец! Ведь, в сущности, это он, Гаврик Черноиваненко, его старый друг, солдат, большевик, протянул Пете руку помощи и спас его от гибели.
Ну, теперь все пойдет по-другому!
— Господа, вы слышали: Временное правительство пало, Керенского по шапке, и теперь безусловно конец войне! Мир! Ура! — воскликнул Петя, входя сияющий к Заря-Заряницким.
Он еще хотел прибавить, что большевики — молодцы, что Ленин — настоящий русский патриот, что в Смольном собрались энергичные, сильные, простые люди, подлинные министры, хотя и называются народными комиссарами, что именно они, только они, и не кто другой, спасут Россию… Однако, увидев лицо генеральши, полосатое от слез, смешанных с пудрой, прикусил язык.
— Я только что получила от мужа письмо с нарочным из штаба Румынского фронта, — сказала она сильно вибрирующим голосом. — Он пишет, чтобы мы не волновались. Здесь, на юге, никакая большевистская опасность нам не угрожает, потому что в Румчероде в большинстве хотя и социалисты, но умные, умеренные люди и патриоты. А войска Центральной Рады прекрасно вооружены, боеспособны и преданы генералу Щербачеву. Что же касается большевистского Петрограда, то он нам не указ, тем более, что не нынче-завтра его возьмут немцы и прежде всего повесят Ленина со всеми его народными комиссарами.
— Да, но… — сказал Петя нерешительно.
Не слушая его, генеральша подошла к Пете вплотную.
— Бог не допустит! — строго сказала она с таким видом, как будто бог находился в распоряжении генерала Щербачева и был сослуживцем мужа, примерно в равных с ним чинах, ну, может быть, на одну звездочку старше. — Тем более, — сказала она, сделав большие глаза, — что у нас в Волынской губернии полторы тысячи прекрасных пахотных земель. А «они» собираются отдать всю землю мужикам. Вообразите себе, без выкупа! Если бы с приличным выкупом, можно было еще подумать. Но просто так, за здорово живешь… Нет уж, пардон. Конечно, это нас окончательно не разорит, потому что у меня есть в сейфе Азовско-Донского банка — антр ну суа ди — ценные бумаги, драгоценности, бриллианты… Все это принадлежит девочкам. — Она ласково, поощрительно посмотрела на Петю, потом на Ирину. — Впрочем, ужас, ужас, — тут же добавила она со свойственной ей непоследовательностью, — но я твердо надеюсь, что генерал Щербачев и Центральная Рада сумеют сохранить порядок и не позволят черни взламывать сейфы. — Затем она почему-то перекрестила Петю и, зарыдав, удалилась к себе в комнату, величественная, как вдовствующая императрица.
— Бог не допустит, — в последний раз послышалось из будуара, и все смолкло: по-видимому, генеральша стала приводить в порядок разрушения, которые причинили ее лицу слишком продолжительные рыдания.
А Ирина и Петя снова провели весь день вместе, мучая друг друга поцелуями, недоконченными фразами, полуулыбками. И конца этому не предвиделось. Генеральша Заря-Заряницкая оказалась права. Несмотря на то, что подавляющее большинство рабочих Одессы, многие солдаты и матросы уже твердо стояли за Советскую власть, все осталось по-прежнему. Время еще не пришло.
23 СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ
Петя почувствовал во сне, что его душат. Он хотел повернуться на другой бок, но не мог пошевелиться. На него навалилось что-то тяжелое и не пускало. Он сделал над собой усилие и проснулся. Но кошмар на этом не кончился. На Пете продолжал кто-то сидеть и даже слегка подпрыгивал.
Петя сорвал с головы полу шинели, которой укрывался, еще раз попытался вскочить, вырваться, но жиденькая походная кроватьсороконожка разъехалась, и Петя очутился на земляном полу вместе с тем, кто на нем сидел верхом.
В ту же минуту Петя увидел чью-то зимнюю солдатскую гимнастерку, матерчатые погоны на крепких плечах и знакомое лицо с наморщенным веснушчатым носом, рыжеватыми бровями и такими же усиками.
Это был Гаврик.
— Пусти, босяк! — закричал Петя дрыгаясь.
— От такового слышу, — прошипел Гаврик, еще сильнее наваливаясь на Петю.
— Засушишь!
— Мала куча! — раздался грубый голос Павлика. — Женька! Вперед! В атаку! Дави их, гадов!
— Наших бьют!
И сверху на барахтавшихся приятелей с воплями и сиплым смехом упали Женька и Павлик.
— Пустите, эфиопы! — глухо стонал Петя где-то в самом низу кучи.
— Жми его, я его знаю! — кричал Гаврик.
— Ты! Нижний чин… Серая порция… Ты как смеешь сидеть верхом на офицере? — кряхтел и отплевывался Петя, стараясь вылезти из кучи.
— Видали мы таких офицеров.
— Я раненый.
— Видали мы таких раненых.
— Стать как полагается!
— А раньше! Кончилось ваше времечко!
— Не скажи, брат…
При этом Петя ухитрился схватить Гаврика за ногу в рыжем солдатском башмаке и зеленых вязаных обмотках.
Гаврик крякнул, но не удержался и отлетел в сторону.
Не на шутку озлившись, Петя без особого труда расшвырял мальчишек и теперь сидел посреди сарайчика в бязевой рубахе и подштанниках с тесемками, с вихром на макушке, потный, разгоряченный битвой.
Петя великодушно протянул поверженному противнику руку:
— Дай пять, будет десять, — и поднял Гаврика с земли.
— Смотри, какой стал сильный. Прямо Лурих второй, Эстляндия, — сказал Гаврик, поправляя распустившиеся обмотки. Лурих второй был знаменитый борец. — А ну, покажись, какой ты есть офицер.
— Гляди.
— Шик!
— Ты откуда взялся? Прямо из Петрограда? Давно?
— Три дня назад.
— Где же ты пропадал?
— По делам всяким. Мы устроились в гостинице «Пассаж».
— А я, как видишь, тут, у вас, на Ближних Мельницах.
— Судьба играет человеком, она изменчива всегда: то вознесет его высоко, то в бездну кинет без следа.
Они стояли друг против друга, не скрывая радости и любопытства. Ни Петя, ни Гаврик не нашли друг в друге особых перемен, хотя эти перемены были налицо.
Так всегда бывает с друзьями детства. Лишь в первый миг поразит какая-нибудь новая, незнакомая черта — пробивающиеся усики, другая прическа, чужая интонация, повадка…
Но глаза, а в особенности та вечная, никогда не изменяющаяся у человека световая точка в зрачке, единственное, неповторимое выражение лица, манера морщить нос, запах кожи — все это прежнее, хорошо знакомое, вечное, как их взаимная приязнь и дружба на всю жизнь.
Они еще не сказали друг другу ни одного толкового слова, а уже между ними установилось то глубокое, безошибочное понимание, которое связывает лишь людей, съевших вместе, как говорится, пуд соли. Они молчали, многозначительно улыбаясь, и время от времени поглаживали друг друга по спине.
— А где же Марина? — спросил наконец Петя.
— Тут, — ответил Гаврик, показывая большим пальцем на дверь.
Когда в два счета, по-военному, одевшись, Петя шагнул из сарайчика во двор и вдруг увидел Марину в финской шапочке, с наганом, в первый миг она показалась ему совсем неузнаваемой, даже чужой.
— Здравствуй, — сказала она, с открытым любопытством рассматривая Петю, и протянула ему руку.
— Здравствуй, — ответил Петя.
Их рукопожатие было крепким, но вместе с тем осторожным.
Они оба смутились. Петя продолжал с удивлением ее разглядывать.
— Не удивляйтесь. Это я, — сказала Марина, переходя на «вы». — Не узнали?
Он действительно ее не узнавал.
Но вот она как-то слегка набок повернула голову, нахмурилась, и в тот же миг Петя узнал прежнюю Марину.
Сердце его вздрогнуло.
— Вы получили мою открытку? — спросила она.
— Да, — ответил Петя.
— Почему-то я очень хотела вас видеть.
— Я тоже.
— Вы были ранены. Но, надеюсь…
— Да, да. Кость не задета. Но теперь это уже не имеет значения.
— Почему?
— Мир!
— Какой мир?
— Который вы привезли из Смольного.
— А!
Смущение не только не проходило, но даже усиливалось.
— Я вам, кажется, писала, что мы собираемся сюда. Вот мы приехали, — сказала она после небольшого молчания. — Вы рады? Вы, конечно, поняли из моей открытки, что Черноиваненко — мой муж.
Теперь она снова из знакомой девочки превратилась в незнакомую молодую женщину.
Она смотрела на него с преувеличенной независимостью.
Петя догадался, что она смущена, так как опасается с его стороны ухаживания. Может быть, она думает, что он до сих пор в нее влюблен? Петя грустно улыбнулся.
Она по-своему истолковала его улыбку.
— Вам странно?
— Что?
— Что мы с Гавриком теперь вместе?
— Ничуть.
Но ему действительно было странно. Он еще не знал, что это всегда сначала кажется странным.
— «Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами! — вдруг запела она небольшим, но каким-то свободным, даже слегка вызывающим голосом. — Нам не пели ни гимнов, ни обрядов венчальных». — Она красиво тряхнула каштановыми кудрями и снова превратилась в ту Марину, которая некогда сидела с Петей у костра. — Ну, а вы? Что вы? — спросила она с оживлением.
В этом вопросе заключалось все.
Петя понял. Ему стало не по себе. Что он мог ответить?
— Ничего. Живу, — ответил он с неловкой улыбкой.
— Но все же? — настойчиво сказала Марина. — Вы с кем?
Он понял, что она спрашивает о его политических убеждениях.
Ответить было очень трудно. Вернее, даже невозможно.
— Что ты, Марочка, с места в карьер пристала к человеку? — нежно сказал Гаврик. — Не видишь, что он еще не совсем проснулся. Дай ему очухаться. Держись, Петя! Ты ее еще не знаешь. Хлебнешь горя.
— Хорошо, не буду, — послушно сказала Марина. — Об этом потом. В кого влюблен? — спросила она Петю, резко изменив тон.
— Почему ты думаешь, что я непременно в кого-нибудь влюблен?
Они снова незаметно перешли на «ты».
— Я тебя знаю. Ты всегда в кого-нибудь влюблен. Скажешь, нет?
— Допустим.
— Ага, сознался!
— Сознаюсь. Влюблен.
— Что? Серьезно страдаешь? — оживился Гаврик.
— Не страдаю, но…
Петя посмотрел на Марину и громко вздохнул, даже слегка повернул глаза вверх.
Вздохнул он исключительно для того, чтобы слегка подразнить Гаврика.
К его крайнему удивлению, Гаврик так и взвился.
— Ты это брось, старик, — сказал он тяжело и медленно. — А то знаешь… Лучше не трожь! — У него совершенно неожиданно неприятно оскалился рот и по-волчьи засветились глаза.
— Чудак, я же пошутил! — сказал Петя, слегка даже струхнув.
— Ну и я пошутил, — сказал Гаврик.
— Он у меня просто зверь, — заметила Марина не без гордости. — Ты его лучше не дразни.
— Ладно, проехало, — добродушно сказал Гаврик. Ему уже было неловко за свою глупую вспышку.
— Одначе, Петька, — сказал он решительно, — давай условимся так: ты вздыхай перед своей, а перед моей я сам буду вздыхать. Ну, не серчай. Это я потому, что сильно-таки ее люблю. Понимаешь, какое дело! Ты со мной согласна, любушка? — обратился он к Марине, слегка обнимая ее за плечи.
Она ничего не ответила, но одобрительно улыбнулась ему открыто, жаркой улыбкой.
— А ты ревнючий, — засмеялся Петя.
— Значит, любит, — сказала Марина. Гаврик оживился.
— Понимаешь, Петя, какое дело: мы сюда торопились как на пожар, боялись, что попадем к шапочному разбору, а у вас тут, в нашей знаменитой Одессе-маме, даже не чухаются.
— Ты насчет чего?
— Насчет того самого. Пора, братишка, брать власть в свои руки. В Петрограде, как ты знаешь, все прошло как по маслу. Почта, телеграф, телефон, Зимний — четыре сбоку, и ваших нет.
Гаврик говорил не без некоторого удовольствия, щегольнув новой поговоркой, которую сам только недавно услышал на станции Раздельная от одного морячка-дезертира из Дунайской военной флотилии.
— Здесь совсем другая ситуация, — многозначительно сказал Петя, немного задетый слишком лихим тоном Гаврика и не желая ударить перед ним лицом в грязь, для чего даже употребил в дело слово «ситуация».
— А именно? — сразу же насторожился Гаврик.
— В Румчероде засели хотя и социалисты, но в общем умные люди и патриоты…
— Ты что, соображаешь, что говоришь?
— А что?
— Это какие-такие патриоты сидят, по-твоему, в Румчероде? Меныпевистско-эсеровская сволочь, примазавшаяся к революции? Так, что ли? Постой… — Слова Гаврика вдруг стали медленными, тяжелыми. — Постой, милейший. Да ты, собственно, сам кто такой? Может быть, ты сам из их шайки? А то еще хуже — кадет? Тогда я тебя поздравляю. А я было тебя посчитал за своего. Отвечай, не крути.
У Гаврика неприятно сузились глаза.
Петя уже был не рад, что, не подумав, повторил слова генеральши. Он понимал, что, желая не ударить лицом в грязь перед Гавриком, а особенно перед Мариной, сморозил глупость, и теперь виновато смотрел на них, пытаясь улыбкой загладить неловкость.
Но они не принимали его улыбки: смотрели на него в упор холодно, недоверчиво.
— Я не понимаю, чего вам от меня надо? Я ведь это не свои слова сказал. Другие так говорят. За что купил, за то и продаю.
— А ты чужую, контрреволюционную пропаганду не распространяй. Имей на плечах собственный котелок. А если хочешь знать, какая у вас тут «ситуация», — сказал Гаврик спокойно, но ядовито подчеркнув слово «ситуация», — то я тебе могу сказать в двух словах. В Румчероде действительно есть еще кой-какая дрянь, но это ненадолго. Мы ее оттуда с божьей помощью попрем. Главное же заключается в том, что революционные рабочие, матросы и солдаты Одессы показали всем, что они знают, чего хотят и что делают. Верно, Марина?
Она подумала и коротко кивнула головой.
— Они показали, — продолжал Гаврик, — что попусту бряцать оружием считают ниже своего революционного сознания, но когда нужно будет, то найдется сила, которая станет на защиту своих грозных лозунгов. У нас в Одессе найдется кому отстоять революцию и ее органы — Советы.
Марина одобрительно улыбнулась.
Петя с удивлением и даже с некоторой завистью смотрел на Гаврика, который так свободно и речисто, как по-писаному, развивал свои мысли.
Изредка он косо рубил перед собой кулаком — жест, без которого не обходился ни один оратор-большевик того времени.
— Стало быть, на сегодня картинка такая: Румчерод, Украинская Рада и Революционный комитет смотрят друг на друга и подсчитывают силы. Общее настроение чрезвычайно благоприятно для большевиков. Ты меня понял?
— Вполне.
— Так вот. В этом и заключается весь гвоздь.
— А ты говоришь, ситуация, — прибавила Марина и дружелюбно улыбнулась.
Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
24 ЛУННАЯ НОЧЬ
В ночь на 14 января небольшой отряд красногвардейцев и матросов, посланный военно-революционным комитетом занять штаб военного округа, где находилось командование войск контрреволюционной Центральной Рады, прошел от Торговой улицы через весь город и остановился возле Куликова поля в тени Павловского здания. Отрядом руководил Гаврик Черноиваненко, или, как его теперь называли, Черноиваненко-младший.
Здесь Гаврику был с детства знаком каждый камешек, каждая ямка под стеной. Прежде чем двинуться дальше, он решил сделать короткую остановку, для того чтобы осмотреться и сообразить, как действовать дальше.
С ним была и Марина. Кроме маленькой кавалерийской винтовки, надетой через плечо, у нее на боку висела санитарная сумка.
Последнее время Марина и Гаврик совсем почти не разлучались. К этому все привыкли, и теперь никто не удивлялся, что Марина идет вместе с Гавриком в бой.
Впрочем, боя не предвиделось. Гайдамацкие караулы, сагитированные накануне большевиками, обещали не оказывать сопротивления и добровольно сдать посты Красной гвардии.
Но все же надо было сохранять осторожность.
Гаврику было известно, что военно-революционный комитет, кроме его отряда, послал также и другие с тем, чтобы захватить остальные важнейшие стратегические пункты: телефонную станцию, вокзал, почту, банки и прочие учреждения — по плану, разработанному накануне так называемым «комитетом пятнадцати», или же, иначе говоря, ревкомом.
Вокруг все было тихо, то есть где-то на окраинах, в районах казарм и складов, конечно, изредка постреливали из винтовок или пускали осветительные ракеты, но это было обычное явление: развлекались часовые, коротая длинную зимнюю ночь.
Хотя среди немолодых рабочих-красногвардейцев и усатых матросов с «Синопа» и «Ростислава» Гаврик и Марина были самыми младшими по возрасту, все относились к ним с уважением. Все знали, что они приехали из Петрограда, из Смольного, от самого Ленина, брали Зимний, присутствовали на Втором съезде Советов, то есть были товарищами, причастными к той великой социалистической революции, которая недавно совершилась, но еще до сих пор не успела произойти в Одессе. Гаврик и Марина казались как бы ее вестниками, выходцами из нового, небывалого мира, где вся власть уже принадлежит Советам, где действовало первое в мире рабочекрестьянское правительство — Совет народных комиссаров — во главе с самим Лениным и откуда во все стороны летели по радио, потрясая мир, первые декреты нового государства.
Кроме Петрограда, Советская власть уже была установлена в Москве, Туле, Орле, Смоленске, Могилеве, Минске, Харькове, Ростове, Воронеже, Екатеринославе и в десятках других городов бывшей Российской империи. Это было поистине триумфальное шествие Советской власти. Теперь наступила очередь Одессы.
Ночь была морозная, бесснежная. Острый ветер посвистывал в телефонной проволоке. Маленькая, очень яркая луна стояла в глубине головокружительно высокого неба, мозаично обложенного белыми облачками, которые как бы двигались всем своим перламутровым полем вокруг ее неподвижной точки. Черные тени акаций так отчетливо лежали под ногами на добела освещенном асфальте, как будто бы каждая ветка с прошлогодними сухими стручками, каждый самый маленький сучок были нарисованы углем.
Сделав отряду знак не трогаться с места, Гаврик, осторожно ступая, дошел до ракушнякового забора родильного приюта, заглянул за угол и сразу же наткнулся носом на ствол маузера, блестящий от масла, слегка потертый, отливающий каленой синевой при лунном свете. Гаврик увидел голую матросскую шею, полосатый треугольник тельняшки, карий глаз, соколиные брови и концы георгиевской ленты с золотыми якорями.
— Руки вверх!
— Не может быть, — ответил Гаврик, сморщив нос.
— А, это ты, Черноиваненко! Виноват, обознался, — сказал матрос, пряча пистолет.
— Смотрите, какой он нервный! — засмеялся Гаврик.
— Приходится.
— Ну, что тут у вас слышно? Сопротивляться будут?
— А кто их знает!
— Вчера договорились, что не будут.
— То было вчера, а сегодня ихнее командование, видать, что-то почувствовало и назначило караул от другой части.
— С часовым не балакали?
— Зачем? Балакали, — сказал, выдвигаясь из тени в лунный свет, другой матрос в солдатской шинели, на бескозырке которого на георгиевской ленте легко можно было прочесть яркую золотую надпись «Ростислав».
Это был патруль, высланный вперед, для того чтобы разведать обстановку.
— А где отряд? — спросил Гаврика первый матрос.
— Рядом. За углом.
— А ничего не было слыхать. Аккуратно подошли.
— Спрашиваешь!
— Так что же: будем брать штаб нахалом или как?
— Зачем же нахалом? Черноиваненко-младший задумался, отставив ногу и глядя на пустынное, пепельно-черное Куликово поле и на Афонское подворье, которое в лунном свете казалось сделанным из воска.
— Идем еще раз посмотрим.
Они дошли до следующего угла, повернули на Пироговскую и остановились возле белого здания штаба, ярко освещенного луной.
У подъезда стояли парные часовые в новых папахах с красными шлычками, из чего можно было заключить, что караул несет один из надежных гайдамацких куреней.
— Здравствуйте, товарищи украинцы! — сказал Гаврик, но так как часовые не ответили, то он по своему обыкновению наклонил голову, как будто собирался бодаться.
— Какого куреня? — спросил он, немного помолчав.
— А ты кто такой, что нас пытаешь? — сварливо сказал один из часовых и поднял винтовку. — А ну, гать видселя!
— Стрелять будешь? — прищурился Гаврик.
— А хотя бы, — сказал другой гайдамак таким густым, ленивым голосом, как будто бы слова глухо исходили из глубокого погреба.
— Смотри, какой сердитый! Кум-мирошник або сатана в боции.
— Часовому не полагается разговаривать с посторонними.
— Так чего ж ты со мной разговариваешь, чудило?
— Я с тобой не разговариваю. Это ты до меня чипляешься.
— Нет, ты.
— Нет, ты.
— Вот-вот, — сказал Гаврик. — Все равно, как той турок и той хохол поспорили, чей бог лучше: наш или ваш.
— А як они поспорили? Я не разумею.
— Долго рассказывать.
— Ничего. Мы почекаемо.
— Тогда слухайте, — сказал Гаврик и сел на ступеньки у ног часовых. — Сидят турок и хохол на приз-бочке и спорят, чей бог лучше: наш или ваш? Турок говорит: наш. Хохол — наш. В это время ударил гром. Тогда турок каже: бачь, це наш бог бьет вашего. А хохол ему отвечает: так нашему богу и надо, нехай с дурнем не связывается.
— Так и отрезал? — захохотал второй гайдамак своим подземным басом.:- Так и отрезал, — подтвердил Гаврик.
— Ну, с тем и до свиданьичка, — сказал первый гайдамак, — сидеть на посту посторонним не разрешается. Вставай отсюда.
Гаврик с видимой неохотой встал и отошел на шаг.
— Слушайте, братишки, что я вам скажу, — вкрадчиво начал Гаврик, — во избежание лишнего кровопролития предлагаю вам добровольно сдать посты, как мы об этом еще вчера договорились.
— Мы не знаем, кто с кем договаривался.
— Наши представители с вашими представителями.
— Какие-такие ваши представители?
— Представители военно-революционного комитета.
— Мы таких не знаем. У нас своя Центральная Рада.
— Вот именно, — сказал Гаврик. — Рада. Она рада, только мы не рады.
— По какому случаю?
— По такому случаю, что за вашей Центральной Радой все останется, как при Николае: земля помещикам, а вам дуля с маслом.
— А при вашем революционном комитете что будет?
— У нас, товарищи громадяне, — строго сказал Гаврик, — вся власть Советам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, долой войну, немедленный мир, а помещиков и капиталистов — в Черное море.
Гаврик чувствовал себя удивительно легко, свободно, уверенно.
Душа его горела. В эту минуту, казалось, для него нет на свете ничего невозможного. Он чувствовал себя как бы хозяином не только этой Пироговской улицы вместе со штабом и часовыми у входа, но также и всей этой сказочной лунной ночи над Куликовым полем, угольно-черной, лилейно-белой, этого морозно-перламутрового небосвода, движущегося над головой, наконец, всего мира, который как бы заново рождался на его глазах.
Вместе с тем все казалось удивительно простым, легко исполнимым. Это чувство чистой человеческой правды незаметно передалось часовым, и они уже перестали смотреть на Гаврика и на матросов как на врагов, пришедших сюда сделать им зло. Какие же это враги? Свои люди.
— Ну так как же, товарищи гайдамаки, договорились?
Но в это время послышался шум и фырканье, вдоль мостовой легла прыгающая полоса автомобильных фонарей, заиграл рожок, и к подъезду подкатила серая штабная машина.
Часовые встрепенулись, вытянулись и коротким полудвижением отвели в сторону штыки винтовок, сделав «по-ефрейторски на караул».
Из машины выскочил генерал в высокой гайдамацкой папахе и, стуча кавалерийской саблей по ступеням, на которых только что сидел Гаврик, вошел в тяжелые дубовые двери, как бы сами собой открывшиеся перед ним на своем медном, цилиндрическом пневматическом запоре.
За ним последовала генеральская свита, наполнив прямую улицу бряцаньем шпор.
Свет автомобильных фонарей описал полукруг, озарив по очереди ряд уличных деревьев, дубовые бочки у ворот завода искусственных минеральных вод Калинкина, плантацию садоводства Веркмейстера с рядами согнутых штамбовых роз в соломенных футлярах; потом он уперся в глухие железные ворота штаба, которые бесшумно отворились, пропустив во двор машину, потом затворились, и на улице снова сделалось тихо.
Но чувство чистой человеческой правды уже было разрушено.
— Ну, так как же, товарищи? — спросил Гаврик. Часовые промолчали. Когда же Гаврик снова сделал попытку подойти поближе, они, как на пружине, вскинули винтовки.
— Стой, будем стрелять!
— Да что мы с ними на самом деле цацкаемся! — с досадой сказал тот самый матрос, который советовал действовать «нахалом».
Рванувшись вперед, он припал на колено и поднял над головой ручную гранату.
Гаврик едва успел схватить его за руку.
— Алеша, ша! Пока еще я здесь командую. Ну, громадяне, не хотите — как хотите, — сказал он с ангельской, миролюбивой улыбкой, обращаясь к часовым. — Вам же хуже. Пока вы здесь охраняете генеральскую контрреволюцию, там, на селе, без вас всю землю поделят. Бывайте здоровы! За мной, братишки!
Он сделал знак рукой и не спеша, вразвалочку, с самым невинным видом пошел назад и завернул за угол. Здесь он преобразился — куда девалось его наигранное добродушие, миролюбивая ленца.
— Чуете? — спросил он отрывисто матросов.
— А чего?
— А то, что раз генерал Заря-Заряницкий приехал ночью в пустой штаб со всей своей шайкой, то это не случайно. Я не знаю, что у них на уме. Может, они хотят нас опередить и перейти в наступление. Стало быть, первым делом надо лишить штаб связи. Это дело возьмет на себя товарищ с «Ростислава». Будь ласков, Гриша, — обратился Гаврик к одному из матросов, — полезай на столб и перекуси им все телефонные и телеграфные провода. А ты, дядя Данило, приведи сюда отряд и размести людей поблизости на случай, если придется гайдамацкий караул заменить нашим. Лично я постараюсь зайти в штаб с черного хода и поговорить с караульными, может быть, они согласятся не валять дурака и добровольно сдадут нам посты. В случае, если я с ними не договорюсь, даю три выстрела из нагана, и тогда идете всем отрядом на штурм.
В ту же минуту, не теряя времени, Черноиваненко-младший кошачьим шагом обошел угловой дом и очутился позади штаба.
Это был тот самый дом на углу Куликова поля и Канатной, в котором когда-то жил Петька Бачей, и тот самый пустырь, где когда-то застрелился часовой и куда выходили окна, откуда добрые штабные солдаты бросали Гаврику в подставленную рубаху куски черного хлеба и вчерашнюю гречневую кашу.
Давненько это было, но Гаврику казалось, что вчера.
25 ПРО КОТА И ВОЛКА
Гаврик стал на камень и заглянул в полузамерзшее окно караульного помещения. Как всегда, на подоконнике сушились солдатские луженые бачки, ложки и кружки.
Даже куски житного солдатского хлеба с каштановой корочкой показались Гаврику теми же самыми, что лежали здесь когда-то давно, в детстве.
Теперь Гаврик увидел висячую электрическую лампочку слабого накала и среди махорочного дыма — шинели и папахи часовых, отдыхающих перед столом.
Проще всего было влезть в окошко, но на нем была железная решетка.
Тогда Гаврик решил перемахнуть через каменную ограду.
Недолго думая он разбежался, прыгнул, повис на руках, подтянулся и очутился верхом на высокой стене.
Отсюда он увидел весь штабной двор с гимнастическими приборами, деревянным грибом для постового, гаражом, небольшим строением типографии, офицерскими цветниками, погребом и домиком караульного помещения.
Всюду было пустынно. Ни одной живой души. Царила холодная луна.
«Ничего себе вояки!» — неодобрительно подумал Гаврик, потуже затянул пояс и лихо сбил на затылок кожаную фуражку.
Прежде чем спрыгнуть на низкую крышу погреба, оказавшуюся под ним, он посмотрел на улицу и увидел телефонный столб с сидящим на нем на фоне лунного неба матросом, который рубил тесаком провода.
«Гоп ля!» — произнес про себя Гаврик и спрыгнул на дерновую крышу погреба.
Затем завизжала дверь на блоке, и Черноиваненко-младший вошел в караульное помещение.
На него никто не обратил внимания, потому что как раз в это время молодой чернобровый и черноусый красавец унтер-офицер в белой домашней бараньей папахе, сбитой набок, с шашкой между колен, сидя на нарах, рассказывал сказку и, по-видимому, дошел до самого интересного места.
— Тоди вовк наився добре, вылез из-под стола, сил посреди комнаты и каже: хочу спивать!
— И правильно сделал, — сказал Гаврик, присаживаясь на нары. — Здравствуйте, товарищи караульные!
Рассказчик остановился. Караульные посмотрели на Гаврика. Впрочем, без особого удивления. Время было такое, что воинской дисциплины придерживались немногие; все привыкли к тому, что в казармах и караульных помещениях постоянно находятся солдаты из других частей или даже посторонние, вольные — какие-нибудь представители, делегаты, уполномоченные.
Достаточно было Гаврику мельком взглянуть на караульных солдат, чтобы сразу понять обстановку.
Караул как караул. Солдаты как солдаты. Фронтовики, побывавшие, видать, в разных переделках, на разных участках: и на Стоходе, и под Сморгонью, и в Августовских лесах, и в Добрудже.
Многие, судя по нашивкам на рукавах, по два, по три раза раненные, контуженные, отравленные газами. Люди, смертельно уставшие от войны и продолжающие тянуть военную лямку скорее по привычке добросовестно служить, чем по каким-нибудь другим причинам, а сказать проще, неизвестно за каким чертом!
Были они нижними чинами в царской армии, потом гражданами — солдатами Керенского, а теперь нашили им на старые, сплющенные пехотные мерлушковые папахи красные висюльки — шлыки, — и они уже считаются вооруженными силами Центральной Рады, гайдамаками, а что она за Рада — бис ее знает!
И вот теперь вместо того, чтобы делить у себя в деревне землю, спать на грубке с бабой, они сидят в караульном помещении, курят махорку «Тройка» и слушают сказку про вовка, который пришел лютой зимой к своему другу коту Ваське, худой, голодный, жалкий, и попросил, чтобы кот Васька во имя старой дружбы накормил его ради Христа чем-нибудь. Кот Васька пожалел своего друга, впустил его в хату и спрятал под стол. «Придут до хозяина гости, станут пировать, — говорит, — тогда я буду тебе бросать со стола что попадется — косточку, кусочек сальца, хвист ковбаски, грудочку кашки, вот ты и накушаешься. Только ты смотри, вовк, сиди под столом смирно и за ради бога не рыпайся, потому что я тебя добре знаю: пока ты голодный, ты тихий, а как накушаешься, так сразу вылезешь из-под стола и начнешь спиваты. Не дай тебе боже! Потому что тогда ни тебе, ни мне не сносить своей шкуры». Вовк поклялся страшной клятвой, что будет сидеть под столом смирно и тихо, давал святой истинный крест. И не удержался. Как только наелся, сейчас же вылез из-под стола, сел посреди хаты, посмотрел на гостей и сказал: «Хочу спиваты».
— Это уже конец сказки, — спросил Гаврик, — или же с тем вовком еще будет какое-нибудь дело?
— Не. Еще не совсем конец. Еще его будут убивать вместе с его дружком котом Васькой, — ответил рассказчик красавец унтерофицер. — А ты что за человек и как сюда попал?
— Я уполномоченный, — сказал Гаврик.
— Так я и сгадал. До нашего берега что ни прибьет, то либо уполномоченный, либо делегат. От кого уполномоченный: от самокатчиков? — спросил унтер-офицер, косясь на кожаную фуражку Гаврика.
— Не угадал. От военно-революционного комитета, солдат Черноиваненко. А вы кто?
— Караульный начальник от 2-го гайдамацкого куреня.
— Так вот, вы мне, товарищ, как раз и нужны.
— Об чем речь? — строго спросил караульный начальник и застегнул воротник шинели на крючки.
— Слухай здесь, — сразу переходя на дружеский тон, доверительно, даже с некоторой нежностью в голосе сказал Черноиваненко. — Вчера наши представители сговорились с вашими представителями, что вы добровольно и мирно сдаете нам свои посты, а мы сегодня приходим со своим караулом, а ваши хлопцы не хотят сменяться. Тебя как звать?
— Василий.
— Так что же это, Вася, получается? Льете воду на мельницу помещиков и капиталистов? За кого вы стоите?
— Мы стоим за народ, за крестьянство, за Центральную Раду.
— Чудак человек, какая же она, твоя Рада? Народ? И где она находится? Ее давно уже сбросили! — воскликнул Гаврик. — Теперь, с конца декабря, есть Украинское советское правительство, и никакого другого. Так называемый Народный секретариат. Слыхал?
— Ну, слыхал. Какая разница?
— Разница та, что Центральная Рада — это власть помещиков и капиталистов, а Народный секретариат- власть Советов рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов.
— Очень может быть.
— Так в чем дело? Давай, Василий, обойдемся без кровопролития. А то получается нехорошо: мы в октябре совершили в Петрограде переворот, взяли Зимний, все государственные учреждения, арестовали Временное правительство, вышибли Керенского и всего потеряли ровным счетом десять человек с обеих сторон.
— А ты считал?
— Считал. Если хочешь знать, я сам брал Зимний. У меня мандат подписан лично товарищем Лениным.
— А ну покажь.
Гаврик быстро — помня, что надо ковать железо, пока горячо, — расстегнул шинель, вынул из кармана гимнастерки потершуюся на сгибах бумагу, бережно ее развернул и приблизил к глазам караульного начальника беглую, разборчивую подпись синим канцелярским карандашом: В. Ульянов (Ленин).
— Верно. Очень может быть, что и так, — сказал караульный начальник, после чего бумажка пошла по рукам и когда возвратилась обратно, то Черноиваненко уже не сомневался, что бой выигран.
— Ну, так как же? — спросил он. — Давайте по-товарищески, побратски произведем смену караулов. Или, может быть, подеремся? Вы за Центральную Раду и за царского генерала Щербачева, палача и контрреволюционера, а мы за власть Советов и за Ленина? Так или не так?
— Что скажешь, караул? — уклончиво ответил Василий, которому уже самому смертельно надоело воевать и хотелось домой, в Вознесенский уезд. — Как, хлопцы, будем сменяться чи не будем? — спросил он караульных.
— Почему же не смениться? Можно и смениться, — послышались рассудительные голоса. — Только надо знать, какие будут со стороны революционного комитета условия.
— Условия такие, — поспешил ответить Гаврик, чувствуя, что победа уже в кармане, — немедленная демобилизация — раз; увольнение в запас — два; железнодорожный литер до станции назначения — три; все виды денежного, вещевого довольствия, также приварок и прочее, что полагается, за два месяца вперед на руки — четыре.
— Это подходяще, — послышались голоса.
— Стало быть, решение принимается?
— Постой, — подумав, сказал караульный начальник, по-хозяйски сведя над переносицей свои красивые, бархатные брови. — Ты не это… не то самое… Как насчет оружия?
— Оружие сдадите под расписку военно-революционному комитету для передачи частям рабочей Красной гвардии, — быстро ответил Гаврик и еще не договорил до конца, как понял, что совершил грубуйг ошибку.
— Э, ни! — сказал караульный начальник. — Це не той… Це выходит еще хуже, чем с тем котом Васькой, который послухал вовка и пустил его в хату.
— Сдавать оружие мы не согласны, — послышались голоса караульных.
— Нема дурных возвращаться на село без оружия!
— Винтовки не сдадим!
— Да и шашки не сдадим!
Довольно равнодушные до сих пор лица караульных вдруг оживились, глаза сердито заблестели, папахи упрямо полезли на лоб.
— Бачь якой! У самого на поясе наган, а мы сдавай оружие!
— Це, громадяне, провокация!
— Без оружия земли не поделишь!
— Не согласны. Видели мы таких быстрых!
— Цього не буде!
— Давай лучше мы тебя самого будем разоружать. А ну, снимай наган!
И уже несколько бурых мужицких рук с желтыми ногтями потянулись к Гаврику.
— Но! — сердито сказал он, подходя к окну. — Рукам волю не давать. А то я сейчас три раза пуляю в белый свет, как в копейку, и ваших нет!
Он решительно вынул из кобуры револьвер.
— Смотри, якой вин моторный, — не без некоторого даже удовольствия сказал красавец караульный начальник, любуясь Черноиваненко-младшим. — Маленький, а злой! Ты нас своим револьвером не пугай. Мы добре пуганые. Ты один, а нас, бачь, сколько. Мы тебе в два счета задницу набьем и выкинем за ворота.
— Еще неизвестно, кто кому набьет. Вот сейчас дам сигнал своему отряду… А ну, отойдите от двери!
— Постой, — сказал унтер-офицер. — Ты чего все время дергаешься, как будто у тебя в… шило? Мы тебе по-товарищески говорим, как представителю, что без оружия нам идти до дому нема никакого расчета. Можешь это понять?
— Могу.
Гаврик спрятал наган в кобуру.
— Вы бы так и сказали, а то сразу начинаете хватать человека руками. Я к такому обращению не привык. Не хотите сдать оружие — как хотите. Оставляйте его у себя.
— Вот это другой разговор!
— А чем вы поручитесь?
— Святой истинный крест, — с чувством сказал Гаврик и проворно перекрестился.
— А как мы в бога не веруем?
— Тогда могу дать расписку.
— Пиши.
— Так по рукам?
— Если оружие оставляете, то по рукам.
Со стороны можно было подумать, что эти взрослые, вооруженные, измученные войной люди, фронтовые солдаты, играют с Гавриком, как дети, в какую-то игру вроде считалки: кто быстрей ответит, тот и выиграл.
Но в этом не было ничего удивительного. Слишком ясен и давно уже для всех в душе был решен вопрос, который теперь решался: вопрос о войне и мире, о земле, о революции, о судьбе России и Украины.
— Ну, где ваш караул? — спросил унтер-офицер.
— Тут, за углом, — поспешно ответил Гаврик, опасаясь, как бы караульный начальник не раздумал сдавать посты.
— Вызывай.
— Стрелять неохота. Я лучше обратно тем же ходом через забор — и приведу свой отряд прямо на Пироговскую к главному подъезду. А ты выходи туда со своим разводящим, и будем честь по чести сменяться. Договорились?
— Договорились.
— Правильно. Разве может быть такой случай, чтобы два солдата между собой не пришли к соглашению? А генерал пускай как себе хочет.
С этими словами Гаврик легкой походкой вышел во двор, перемахнул через стену и сразу очутился в руках матроса с «Синопа», который вместе с Мариной и двумя красногвардейцами уже давно поджидали его в черной тени стены на пустыре, тревожно прислушиваясь к каждому звуку и уже начиная не на шутку беспокоиться.
Едва Гаврик, крепко стукнувшись в промерзшую землю подкованными каблуками своих бутсов, присел, поправил съехавшую набок фуражку и вытер рукавом лоб, как Марина рванулась было к нему, но сейчас же усилием воли удержалась на месте.
Гаврик близко от себя увидел ее неподвижное, белое, ярко освещенное луной лицо с капельками пота на лбу, темные, неподвижные глаза, сжатый рот.
— Ну… ты… — с напряжением выговорила она, с трудом выжимая улыбку на замерзших губах. — А мы уже думали…
— Так не думайте то, что вы думали. Шутишь!
Он сказал это «шутишь» с таким непередаваемым черноморским шиком — «шютишь», — с такой легкостью, с такой уверенностью, как будто бы в эту волшебную лунную ночь для него не существовало ни опасности, ни самой смерти.
Он обнял Марину за плечи и прижал к себе.
— Что, мое серденько? — ласково спросил он, заглядывая ей в глаза.
Она отстранилась, но, прежде чем отстраниться, успела на миг легонько прижаться к нему и шепнуть:
— Дурак, разве так можно рисковать?
В это время в Ботанической церкви пробило одиннадцать, и этот ночной звон — таинственный, серебристый, как бы принесенный ледяным ветром из страны детства, — казалось, на некоторое время поколебал лунный свет над пустыней Куликова поля, над вокзалом, откуда доносилось пыхтение маневренного паровоза.
Остальное произошло так же легко и просто, как все, что делалось в эту ночь.
Когда караульный начальник гайдамаков вместе с разводящим вышли на крыльцо главного подъезда, отряд Гаврика, кое-как выстроившись, стоял уже перед штабом.
Караулы сменились быстро, весело, деловито, без лишних формальностей.
Скоро вместо гайдамаков на крыльце уже стояли два красногвардейца с красными повязками на рукавах.
У ворот, куда раньше въехал серый автомобиль, Черноиваненко поставил дополнительно двух матросов.
Затем отряд вместе со сменившимся караулом гайдамаков вошел в здание штаба. В коридоре у двери дежурного генерала был тихо поставлен еще один усиленный караул — два матроса и красногвардеец, — после чего все отправились через двор в караульное помещение, где была сдана, и принята, и подписана старым и новым караульными начальниками постовая ведомость.
Новым караульным начальником Гаврик назначил того самого матроса, который раньше все время нервничал и требовал действовать «нахалом».
— Теперь будешь служить, как положено по уставу, без анархии, — сказал ему Черноиваненко, весело играя глазами.
26 ВЗЯТИЕ ШТАБА
Арест генерала Заря-Заряницкого произошел также весьма мирно.
— Что здесь за шум? — сердито спросил Заря-Заряницкий, выходя в коридор из помещения дежурного генерала, где вместе со своей свитой составлял шифрованное телеграфное донесение Центральной Раде в Киев, требуя немедленной присылки подкреплений. В противном случае он не ручался за последствия. А при наличии подкреплений ручался в два дня справиться с большевиками и тем самым навсегда покончить с Советами и Румчеродом.
Все это было изложено вполне убедительно, в воинственнолаконичном штабном стиле, но имело тот существенный недостаток, что в это время Центральной Рады в Киеве уже не существовало, о чем генерал Заря-Заряницкий ввиду плохой связи не имел понятия.
— Что здесь происходит? — спросил он и вдруг отшатнулся, увидев на пороге кабинета вместо гайдамаков матроса и красногвардейца, приставивших штыки к его груди.
В тот же миг в кабинет вошел своей валкой черноморской походочкой Гаврик Черноиваненко с солдатским наганом в руке.
— Руки вверх! — крикнул он. — Именем военно-революционного комитета вы арестованы!
Но так как генерал и офицеры от неожиданности замешкались, то Гаврик, переложив револьвер из правой руки в левую, выхватил из-за пояса гранату-лимонку, отскочил назад за дверь и размахнулся ею. Генерал и офицеры поспешно подняли руки.
— Оружие на стол! — скомандовал Гаврик.
— Позвольте, кто вы такой? — спросил генерал, сердито подергивая щекой, но все же не опуская толстых рук, которые слегка дрожали.
— Я кому говорю: оружие на стол! — заревел Гаврик, в упор уставившись на Заря-Заряницкого ненавидящими глазами. — Или хочешь, чтобы я тебя отправил в штаб Духонина и разнес в клочья всю вашу лавочку?…Теперь можете убираться на все четыре стороны, пока шкура цела, — сказал он после того, как все офицерские револьверы, шашки и кортики были положены на массивный письменный стол с алюмициевым календарем скобелевского комитета и никелированным шрапнельным стаканом, откуда торчали разноцветные карандаши. — Василь, выведи этих вояк на Пироговскую и дай им коленом под зад.
— Разрешите хотя бы протелефонировать в Румчерод, — сказал адъютант генерала, глядя на Черноиваненко сладкими, миндальными глазами и стараясь быть как можно более корректным.
— Телефонный провод перерезан, — сухо ответил Гаврик. — Штаб окружен. В Румчероде большевики. Власть в городе находится в руках Советов.
— В таком случае, — сказал генерал, — разрешите хотя бы воспользоваться штабным автомобилем.
— Хватит! Покатались! Теперь будете ездить на одиннадцатом номере!.. Постойте! — сказал Гаврик, что-то вспомнив. — Садитесь за стол. Берите бумагу. Пишите, что отныне вы отказываетесь от всяческой политической деятельности и вооруженной борьбы против Советской власти и Народного секретариата Украинской республики. — Он остановился и немного подумал. — А иначе расстреляем на месте, как собаку.
Толстое лицо Заря-Заряницкого налилось кровью. Под серебряным ежиком волос стала просвечивать багровая кожа. Щеки затряслись. Казалось, его тут же хватит кондрашка.
Они смотрели друг на друга — солдат и генерал, — и такая неистовая ненависть светилась в их глазах, что им самим становилось страшно.
Генерал понял, что от этого напористого молодого солдатабольшевика с рыжеватым пушком под носом и твердо отставленной ногой в желтом, подкованном башмаке и вязаных зимних обмотках пощады не будет.
Не глядя на Черноиваненко, генерал подошел к столу, придвинул большой блокнот фирмы «Отто Кирхнер» и стоя написал требуемую бумагу.
— Год, число и подпись, — сказал Гаврик.
Прежде чем подписаться, Заря-Заряницкий помедлил, но затем всетаки подписался и так рванул пером по бумаге, что во все стороны брызнули чернила.
Гаврик стоял рядом, скосив глаза на покрытую кляксами бумагу, и лицо его с небольшими веснушечками вокруг носа было неподвижно, как каменное. Только чуть дрожал уголок рта.
— А теперь катись! — сказал он, складывая в полевую сумку бумажки, написанные офицерами. — И чтоб мы вас здесь больше не видели! Гэть!
— Виноват, — звякнув шпорами, вкрадчиво проговорил армянинадъютант. — После восьми часов вечера движение по городу запрещено под страхом расстрела. Как прикажете быть?
— А мне какое дело?! — жестко ответил Черноиваненко.
— Это с вашей стороны неблагородно, — скорее жалобно, чем грозно сказал Заря-Заряницкий. — Так настоящие военные не поступают даже со своими врагами, тем более, что мы дали расписки. У меня семья: жена и четыре дочери… — Голос его задрожал.
Несмотря на всю ненависть и презрение, которые вызывал этот бывший царский генерал, известный своей грубостью и зверским отношением к нижним чинам, человек, который однажды уже побывал в руках разъяренных солдат и лишь чудом спасся на Румынском фронте от самосуда, Гаврик все же почувствовал какую-то странную неловкость и ничего не мог с собой поделать.
Проклиная себя за слюнтяйство, Гаврик подошел к столу и на том же самом блокноте «Отто Кирхнер» написал своим собственным химическим карандашиком, предварительно его послюнив: «Пропустите эту обезоруженную сволочь по домам. Уполномоченный военно-революционного комитета солдат Черноиваненко 2-й».
— Возьмите, только не плачьте! — с презрением сказал он, протягивая пропуск генералу. — Но имейте в виду, если нарветесь на солдат вашего бывшего корпуса, то уже никакой пропуск не поможет, и от вас останутся только одни родственники.
Выпроводив на улицу остатки командования местных вооруженных сил бывшей Центральной Рады, проверив свои караулы, Черноиваненко приказал исправить связь и, как только провода были снова соединены, позвонил по городскому телефону в штаб военнореволюционного комитета.
Центральная ответила, что номер занят.
— Барышня, — сказал Гаврик, — подождите. Не выключайтесь. Один вопрос.
Он торопился, так как хорошо знал скверную привычку одесских телефонисток выключаться, не дослушав до конца.
— Говорите, — произнесла телефонистка.
— Кто на Центральной? — спросил Гаврик.
— Не понимаю вас, — высокомерно ответила телефонистка подчеркнуто бодрым, ночным голосом.
— Кем занята Центральная?
— А вам не все равно? — после некоторого молчания сказала телефонистка еще более высокомерно.
— Значит, не все равно, если я спрашиваю!
— Я не понимаю, что вы от меня хотите? — немного помолчав, спросила телефонистка.
— Я хочу знать, в чьих руках находится Центральная телефонная! — отчеканил Гаврик, теряя терпение.
— Ох, если бы вы знали, как вы мне все надоели! — со вздохом простонала телефонистка и, прежде чем окончила фразу, выключилась.
Гаврик стукнул по вилке.
— Ну, вы еще здесь? г- послышался голос телефонистки.
— Я вас спрашиваю: в чьих руках Центральная?
— Какое это имеет для вас значение? — сказала телефонистка.
— Слушайте, барышня! — заорал Гаврик, потрясая наганом. — Я уполномоченный военно-революционного комитета.
Телефонистка оживилась.
— Так почему же вы говорите из штаба военного округа? — спросила она с интересом. — Там же только что были гайдамаки и генерал Заря-Заряницкий.
— Были, да все вышли!
— Что вы говорите! — воскликнула «барышня» и выключилась.
Гаврик стал терпеливо стучать по вилке.
— Перестаньте стучать! — раздался голос телефонистки. — Я не понимаю, почему вы нервничаете.
— В чьих руках Центральная? — спросил Гаврик.
— Ну, в ваших, в ваших! На посту стоят какие-то матросы с «Алмаза». И что из этого? Теперь вам легче?
— Спасибо! — сказал Гаврик.
— Не за что, — ответила телефонистка. — Мы вне политики. Наше дело — соединять абонентов, а вы себе как хотите.
— Чудачка, — воскликнул Гаврик, — в городе же гражданская война!
— Это нас не касается.
— Подождите. Не выключайтесь. Дайте штаб Красной гвардии.
— Это где: особняк Руссовой, Торговая, четыре? — Да.
— А ваш штаб разве еще там?
— До сих пор был там.
— А я слышала, что он собирается переходить в Воронцовский дворец.
— Давайте.
— Это для меня новость. Даю.
И Гаврик тотчас услышал знакомый, охрипший от бессонной ночи голос:
— У аппарата дежурный член временного военно-революционного комитета Жуков.
— Здравствуйте, Родион Иванович. Это я, Черноиваненкомладший.
— Ну, как у тебя там дела?
— Только что заняли штаб.
— Потери есть?
— Нет. Все обошлось тихо и благородно.
— Ну, так могу тебя поздравить с полной победой Советской власти в городе Одессе, — сказал Родион Жуков. — Вокзал занят полчаса назад. Почта, телеграф, телефон то же самое. В банках наша охрана. В данный момент в типографии «Одесских новостей» набирается наше обращение к населению города. Чуешь?
— Чую, Родион Иванович! — воскликнул Гаврик.
— Транспорт у тебя есть?
— А как же: номер одиннадцать! — сказал Гаврик, но тут же вспомнил про штабной автомобиль. — Стойте! — закричал он в трубку. — Брешу. Совсем забыл. Имеется шикарная штабная машина.
— Утром мы собираем пленум Совета. Треба экстренно оповестить все организации и предприятия. Возьмешь на себя привокзальный район: Ближние Мельницы, Чумку, Сахалинчик, железнодорожные мастерские. Если хочешь, можешь тем же часом заскочить на вокзал. Там довольно успешно действует твой братан. Ну, до свидания, орудуй. Извини, я занят.
Черноиваненко отправился в гараж. Дежурный штабной шофер блаженно храпел прямо в машине, высунув наружу ноги в желтых английских крагах и положив под чубатую голову гайдамацкую папаху с красным шлыком. Он не имел ни малейшего представления о том, что произошло в штабе и в городе.
— А ну, хлопче, за работу! — сказал Гаврик и потряс его за плечо. — Вставай, проклятьем заклейменный! Заводи свою шарманку.
— Что? В чем дело? — пробормотал спросонья шофер, глядя кислыми глазами на Гаврика. — Какого биса? Это машина генерала Заря-Заряницкого, и я ее подаю только по приказанию дежурного по штабу.
— А теперь будешь подавать по приказанию уполномоченного военно-революционного комитета. Или же исполкома Румчерода, если это тебе больше нравится. Будем голосовать или принимается так? — спросил Гаврик, поигрывая наганом.
Немного погодя, скользнув фарами по Пироговской улице, длинный штабной автомобиль с брезентовым верхом, откинутым, как у экипажа, выехал из ворот, где матросы уже устанавливали новенькие пулеметы «Максим», найденные в штабном складе.
— Мариночка, серденько мое, тебя там на генеральском месте не сильно трясет? — ласково спросил Гаврик, обернувшись назад.
Он на всякий случай сел рядом с шофером и держал в руке оружие.
Марина промолчала, и Гаврик увидел ее улыбающееся лицо и белки глаз, сильно освещенные луной, которая теперь казалась еще ярче.
Рядом с Мариной сидел старый рабочий-красногвардеец. Судя по тому, что он все время вертелся на скользких кожаных подушках, можно было заключить, что он едет в автомобиле первый раз в жизни.
А на крыле машины лежал матрос в бушлате, выставив вперед винтовку.
Это была чудесная, ни с чем не сравнимая ночь победы. Над самой головой невероятно ярко, обложенная мозаикой облаков, горела луна. Помертвевший город был весь как бы освещен сверху синим бенгальским огнем.
Крепчайший норд-ост разыгрался вовсю. Он стремительно лился на город из степных просторов, из-за Жеваховой горы и лиманов. Он летел через Пересыпь и Молдаванку, сгибая в дуги молодые тополя Дюковского сада, шатая старые акации. Он уже не свистел, а гремел, звеня в трамвайных проводах, срывая вывески и валя с ног ночные патрули, притулившиеся в парадных подворотнях.
У вокзала горели костры. Багровый дым валил вдоль привокзального сквера, обнесенного узорчатой чугунной решеткой.
Искры летели с такой силой, что насквозь пронизывали дрожащие туи. Дымное пламя отражалось в черных окнах здания судебных установлений.
Гипсовая статуя Фемиды с завязанными глазами, мечом и покачнувшимися весами стояла вся розовая от зарева.
На ступеньках главного входа в залы первого и второго классов были установлены пулеметы. Угрюмо блестели цинковые ящики с патронами.
— Здорово, ребята! — закричал Гаврик, выскакивая из автомобиля. — Наша взяла! Да здравствует Советская власть! Ура!
Шагая через две ступеньки среди солдат, матросов и рабочих, половина которых состояла из людей, хорошо знакомых ему с детства, он быстро прошел мимо пассажирских и багажных касс, мимо весов, тележек, больших почтовых ящиков, билетных автоматов.
Марина со своей санитарной сумкой и небольшой кавалерийской винтовкой за плечом с трудом поспевала за ним.
У всех входов и выходов, у дверей начальника станции Одессаглавная и военного коменданта на часах уже стояли красногвардейцы с повязками на рукавах, а гайдамаки в вольно расстегнутых шинелях и бараньих свитках сидели в буфете первого класса и вместе со своими победителями весьма мирно закусывали житным хлебом и мясными консервами, полученными от красногвардейцев из расчета одна банка на троих.
Марина и Гаврик переглянулись.
Они уже настолько привыкли понимать друг друга с первого взгляда, что часто обходились без слов. У них уже появились общие мысли. Теперь эта общая мысль была примерно такой: вот мы идем по вокзалу, который совсем не изменился, все те же дубовые диваны и высокие стулья с вырезанными на спинках вензелями «Ю.-З. ж. д.», громадный самовар со множеством медалей, как у старого рыжего городового, буфет, похожий на орган, султаны крашеного розового и голубого ковыля в вазах, искусственные пальмы с пыльными войлочными стволами, бронзовые люстры и бра, а между тем только что произошло событие, переменившее всю жизнь, осуществилась мечта, которая еще недавно казалась такой далекой, почти невозможной! И мы любим друг друга.
Они рассмеялись.
Терентий сидел на прилавке газетного киоска, свесив ноги в коротких солдатских сапогах и сильно ссутулившись, пил чай из самодельной жестяной кружки с рваными краями.
Гаврик понял, что он не спал несколько ночей, озяб и теперь согревается кипяточком, раздобытым из станционного куба.
Газетный киоск агентства Суворина был тот самый, куда пять лет тому назад впервые привезли из Санкт-Петербурга газету «Правда».
Гаврик живо вспомнил, как он вместе с Петькой Бачеем бежал за багажной тележкой с пачками новой рабочей газеты.
— С победой тебя, Тереша, — торжественно, почти сурово произнес Гаврик, протягивая брату замерзшую руку. — Взял штаб без боя. Город в наших руках. Я только что звонил в штаб на Торговую и разговаривал с Родионом Ивановичем.
— Знаю, — ответил Терентий и, аккуратно поставив дымящуюся кружку на прилавок рядом с собой, притянул к себе Гаврика, и они с такой силой поцеловались, что у Терентия сползла на ухо черная каракулевая шапка.
— Дожили наконец! — сказал он и вытер ресницы ребром ладони. — Так-то, братик мой дорогой.
Он держал Гаврика за плечо и всматривался в его лицо с нежной гордостью. Он, наверное, в эту минуту вспомнил его маленьким мальчиком с облупленным носиком и босыми ногами, темными, как картошка.
— Добились-таки своего! А, сестричка, и ты здесь! — сказал он, заметив за спиной Гаврика Марину. — Все время ходите вместе?
— А как же! — весело ответила Марина. — Куда он, туда и я.
И, обняв Терентия, несколько раз поцеловала его в густые висячие усы с проседью.
— С победой вас!
Терентий взял ее за плечо своей большой рукой с плоскими желтоватыми ногтями и все с тем же выражением нежной гордости стал всматриваться в ее немного отекшее, побелевшее от мороза, оживленное и вместе с тем немного виноватое лицо, как бы все еще озаренное лунным светом.
— Гляди! — сказал Терентий ласково и погрозил ей пальцем. — Ты бы лучше дома сидела: в твоем положении бегать по городу не слишком полезно.
— А какое у меня положение? — засмеялась Марина. — Весьма обыкновенное. Другие женщины в таком положении целый день не отходят от плиты или от корыта, рожь жнут — и ничего. Всего четыре месяца.
— Ну не знаю. Тебе видней. Как думаете назвать хлопчика?
— Марат, — сказала Марина. Видимо, вопрос был уже решен. Помолчали.
— Ты зачем сюда явился? — спросил Терентий брата.
— Родион Иванович послал посмотреть обстановку. А сказать правду, здорово-таки захотелось тебя побачить и лично поздравить с нашей победой.
— Добре. Побачил. Поздравил. Посмотрел обстановку. За это тебе спасибо. А теперь езжай дальше, занимайся своими делами, а мы будем заниматься своими: тут у нас на путях целый эшелон с оружием, нужно его учесть и принять по акту. Потому что, хотя мы сегодня и победили, неизвестно еще, что будет завтра. Не так ли?
— Надеюсь, завтра будет то же, что и сегодня.
— И я тоже надеюсь.
— Хотя умные люди говорят: не кажи «гоп», пока не перескочишь, — сказала Марина.
— Мы уже перескочили, — сказал Гаврик.
— Давай бог, — вздохнул Терентий.
— Так до завтра.
— Утром пленум Совета.
— Знаю. Еду по району известить людей.
— Езжай.
— Счастливо оставаться!
— До завтра!
Когда они вышли на привокзальную площадь, небо в зените совсем расчистилось, но со стороны Дофиновки на город двигалась сплошная белая туча. Она лежала, как громадная плоская льдина, над озаренными луной крышами Пушкинской улицы и колокольней Андреевского подворья.
Мирно, по-дореволюционному светился циферблат вокзальных часов.
Гаврик засмеялся. Марина вопросительно посмотрела на него.
— Ты что?
— Понимаешь, Марочка, я по этим часам, когда был маленький, учился узнавать время. Считал по пальцам: одна, две, чечире… Девять и еще трошечки…
Она прислонилась на миг к его плечу.
Освещенная кострами, стояла в лунном небе каланча Александровского участка с коромыслом для вывешивания черных шаров. По их числу можно было узнать, в каком районе города горело. Шаров не было. Нигде не горело.
Все спокойно.
Гаврик и Марина подумали и поцеловались. От мороза у них были совсем твердые щеки.
Штабной автомобиль проехал вдоль пустынного в этот поздний ночной час Александровского базара, мимо крытых павильонов мясников, мимо рыбных рядов, даже и сейчас на всю площадь воняющих рыбой.
Гаврик опять засмеялся. Именно здесь он когда-то продавал бычки мадам Стороженко.
В лесном ряду, освещенные лунным светом, белели длинные тесины, косо прислоненные к почерневшему кирпичному брандмауэру с пожарной лестницей, где на большом выбеленном квадрате было написано аршинными буквами: «Дрова и уголь».
27 В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ
В центре города улицы были пустынны, окна темны, железные шторы магазинов опущены, ворота заперты, в подворотнях дежурили насмерть перепуганные, замерзшие члены «домовой охраны», всюду враждебная, настороженная тишина, лишь изредка нарушаемая одиночным выстрелом или Шагами патруля.
На окраинах, напротив, несмотря на позднее время, во многих окошках светился огонь. На углах трещали костры. По улицам ходили люди, кое-где образуя небольшие митинги. Слышалось дребезжание Извозчичьих пролеток.
Изредка проезжал грузовик с матросами и солдатами.
Там и тут мелькали электрические фонарики.
В общем, все это чем-то отдаленно напоминало таинственное возбуждение пасхальной ночи.
Люди бежали за автомобилем, и Гаврик, стоя впереди рядом с шофером и держась за медный край ветрового стекла, время от времени кричал:
— Товарищи и граждане! Час назад вся власть в городе перешла в руки временного военно-революционного комитета Советов при Румчероде. Последний оплот буржуазной контрреволюции пухнул. Да здравствует Советская власть! Да здравствует союз рабочих и крестьян всех национальностей! Да здравствует международный социализм!
Он размахивал своей кожаной фуражкой и так громко кричал, желая перекричать свист норд-оста, что сразу же сорвал голос и теперь лишь открывал и закрывал рот, откуда вылетало сипение.
Но народ, в общем, понимал его.
Потом ему стала помогать Марина.
— Товарищи и граждане! — кричала она. — Соблюдайте спокойствие! Собирайтесь утром возле своих районных Советов! Посылайте представителей на первое пленарное заседание Одесского Совета в Воронцовский дворец! Долой буржуазию и контрреволюционную Центральную Раду! Да здравствует Советская власть! Да здравствует великая бескровная Октябрьская социалистическая революция и ее вождь товарищ Ленин!
Она с упоением произносила это имя — Ленин — и мысленно видела его — дядю Володю, — и Смольный, и маму, и Надежду Константиновну, и туман над Петроградом, и трехтрубную «Аврору» против Зимнего дворца, и балтийских чаек, скользяще взлетающих изпод мостов Невы, и октябрьские тучи над аркой Генерального штаба, над Александровским столпом, над ангелом с крестом, бессмысленно поднятым над суровым, революционным городом.
Рабочие окраины — Чумка, Сахалинчик, Ближние Мельницы, Дальник, — несмотря на ночное время, кипели. У хорошо знакомых ворот железнодорожных мастерских Гаврик увидел красный открытый автомобиль с солдатом за рулем.
— Посмотри, Марочка.
— Что?
— Знаменитая машина братьев Пташниковых. «Бенц», девяносто лошадиных сил. Ее реквизировали еще летом. Теперь на ней ездит товарищ Чижиков. Обрати внимание на сигнальный рожок: играет матчиш. Не веришь? А ну, братишка, сыграй, — обратился Гаврик к солдату.
— Пожалуйста, — лениво согласился сонный солдат и сжал резиновую грушу автомобильного рожка: видать, ему уже порядком надоело всем и каждому демонстрировать знаменитый сигнал, некогда спьяну купленный младшим Пташниковым в Париже.
Действительно, рожок довольно музыкально запукал, выдувая одну за другой резкие ноты, в целом составлявшие игривый кафешантанный мотивчик: «Мат-чиш пре-лест-ный та-нец… Там-там, там, там-там. Привез его испанец…»
— Ну так и далее, так и далее, — сказал не без некоторого самодовольства солдат, повернулся спиной, положил голову на руль, прикрыл ухо шапкой и снова заснул.
— Слыхала, Марочка? Так что теперь все одесские буржуи бегают от этого матчиша, как черт от ладана.
Гроза буржуев, начальник Красной гвардии Чижиков приехал в железнодорожные мастерские осматривать строящийся бронепоезд.
Две бронированные площадки со следами сварки на стальных плитах, с вращающимися орудийными башнями, из которых торчали стволы трехдюймовок, совсем уже готовые, стояли на рельсах во дворе мастерских, а паровоз еще находился в цеху, где на нем заканчивали клепку брони.
Товарищ Чижиков — сам по профессии котельщик с судоремонтного завода Равенского — стоял возле паровоза, наблюдая за тем, как молодой рабочий в фартуке поверх солдатской телогрейки нес в длинных щипцах раскаленный, малиново-красный грибок клепки, в то время как другой рабочий — старик в треснувших грязных очках, с ремешком на голове, как у сапожника, — держал в жилистых руках, обнаженных по локоть, пудовую кувалду, ожидая момента, когда надо будет ударить по клепке.
— Последняя? — излишне громко спросил Чижиков у старика и подставил большое волосатое ухо.
— Чего?
— Последняя клепка, спрашиваю?
— А! Последняя, — ответил старик также излишне громко.
Чижиков кивнул головой.
— Дай-ка, папаша, мне разок клепануть, — попросил он густым голосом и, сноровистым движением переняв из рук старика кувалду, покачал ее.
— Напоследок.
— Давай показывай.
Молодой рабочий всунул с задней стороны в отверстие толстой брони угрюмо светящуюся клепку, подставил молот, и Чижиков, размахнувшись, очень точно — как показалось, даже не слишком сильно — ударил по головке клепки.
Звук был негромкий, вязкий, но сильный. Чижиков зло, с удовольствием крякнул.
Это был широкий, коренастый человек в старой капитанской фуражке, сплюснутой, как блин. Несмотря на мороз, он приехал в одном синем кителе — тоже капитанском — с потертым стоячим воротником, едва сходившимся на его могучей шее.
У него были угольно-черные широкие брови и такие же усы, опущенные вниз, как подковы, и то напряженно-внимательное выражение темных на белом лице глаз, какое бывает у глухих.
Как почти все котельщики, он был сильно туг на ухо.
Окончив клепать, он опустил на землю кувалду, и она, закачавшись, стала рукояткой вверх, как ванька-встанька.
Гаврик заметил, что Чижиков, и без того не отличавшийся веселым характером, стал теперь еще мрачнее. Его глаза светились злобно, и резкая, косая черта поперек низкого лба казалась еще чернее под треснувшим козырьком капитанки.
Чижиков до сих пор мучительно переживал смерть своего друга начальника штаба Красной гвардии Кангуна. Кангун был убит на его глазах гайдамаками выстрелом из окна Английского клуба, где тогда помещался штаб войск Центральной Рады.
Убийство Кангуна, всколыхнувшее все рабочие окраины, явилось сигналом к началу последней, решительней схватки с контрреволюцией.
Но сегодня эта схватка внезапно и бескровно кончилась, так и не начавшись. И кончилась она победой. Теперь уже бронепоезд, в сущности, был не нужен. Но Чижиков все-таки приехал его принимать.
С его лица не сходило выражение чувства неудовлетворенной мести; глаза блестели, как антрацит; под скулами лежали синие тени.
Тут же, возле паровоза, Гаврик увидел Петю.
0н не сразу его узнал. Петя был в новенькой черной кожаной куртке без погон, в скрипящих ремнях, в офицерской фуражке с проколом на месте кокарды, в своих фронтовых бриджах, из кармана которых поднимался к поясу плетеный револьверный шнур.
Если бы не слегка отросшие волосы, которые по-студенчески лежали сзади на отложном воротнике кожанки, он мог бы показаться образцом молодого кадрового офицера, службиста.
«Не долго же ты продержался в дезертирах», — подумал Гаврик весело и, толкнув исподтишка Марину локтем, показал глазами на Петю: дескать, видала нашего красавца?
— Вы командир бронепоезда? — спросил Чижиков, небрежно, как со своими людьми, здороваясь с Гавриком и Мариной и подозрительно, в упор глядя на Петю.
— Так точно, — ответил Петя, щеголевато стукнув шпорами.
Он остановился за два шага от Чижикова и кинул вверх полусогнутую руку в шведской перчатке, на артиллерийский манер, не донеся ее до козырька.
Гаврик заметил недоброжелательный взгляд Чижикова, устремленный на Петю.
— Это свой человек, — поспешил сказать Гаврик. — Я его знаю.
Чижиков не расслышал.
— Как? — спросил он, поворачивая к Гаврику ухо.
— Мой кореш! — крикнул Гаврик.
— Понимаю, — кивнул Чижиков, но не улыбнулся и продолжал по-прежнему неодобрительно и даже еще более придирчиво разглядывать Петю.
— Из богатых?.
— Какой черт! Голодранец. Бывшего учителя сын. Петя поморщился.
— Кто рекомендовал в Красную гвардию?
— Терентий рекомендовал. Я рекомендовал. Его и Родион Иванович знает. При нем теперь Аким Перепелицкий, политический комиссар.
— Офицер?
— Да. Бывший. Прапорщик, — сказал Гаврик.
— Ну, курица не птица, прапорщик не офицер, — пробормотал Чижиков.
— Я подпоручик, — обидчиво поправил Петя Гаврика.
— Нехай так, — добродушно заметил Гаврик.
— У нас в Красной гвардии нет никаких прапорщиков и подпоручиков, — строго, внушительно, глухим голосом сказал Чижиков. — И вы эти офицерские замашки бросьте к едреной бабушке. Теперь ваше воинское звание — товарищ командир. Вам это, наверное, товарищ Перепелицкий уже разъяснил?
— Так точно! — сказал Петя, краснея еще больше.
— Здравствуйте, — сказал Чижиков, немного смягчаясь, и протянул Пете руку с черными ногтями. — Можете принимать бронепоезд.
— Слушаюсь!
— Начнем с паровоза.
— Так точно!
Пока Чижиков и Петя в сопровождении цехового мастера, представителя рабочего контроля, машиниста, кочегара и нескольких котельщиков — специалистов по броне осматривали паровоз, поднимаясь по лестничке в будку машиниста и подлезая под колеса, Гаврик и Марина присели в сторонке на скат и по своей привычке делиться впечатлениями заговорили о Пете.
— Ну? — сказал Гаврик.
— Я ж тебе всегда говорила.
— А я думал, не раскачается.
— Да нет, ты его не знаешь.
— Я не знаю?!
— Знаешь… Но не так, как я… Все-таки он… Мне кажется…
— Да, да. Я тоже так думаю…
— Нет! Но что ты скажешь: каков вид!
— Вполне.
— Тонняга.
— Он все-таки боевой. Это видно по всему. Только ленивый. Но уж если возьмется… А Чижиков?
— Я думаю, Чижиков это понял. Чижиков — мужик умный.
— Грубый.
— Грубый, но умный. А Петька все же ничего. Мне даже понравился… Нет?
— Я не говорю: нет. Скорей, да. В общем, побачим.
Они не видели Петю несколько недель. За это время в его жизни произошла одна очень важная перемена: он пошел служить в Красную гвардию.
28 ПОРАЖЕНЦЫ И ОБОРОНЦЫ
Все произошло весьма естественно и незаметно.
Живя отшельником на Ближних Мельницах и всецело занятый своим романом с Ириной, Петя сперва, скорее от нечего делать, стал обучать местных мальчишек военному делу.
Они занимались на том самом выгоне, где когда-то Петя и Мотя играли в «дыр-дыра», собирали подснежники, пускали змея.
Мальчишки смотрели на Петю, как на бога. Он был настоящий военный, герой, у него был кольт. У него были кортик, патроны, полевая сумка, компас. У него было бедро пробито осколком.
Они видели этот осколок, медный треугольник с рваными краями и выдавленной цифрой, завернутый в бумажку. Петя носил его на память в нагрудном кармане френча. Однажды он показал его Павлику и Женьке. Им страшно было дотронуться до острых краев осколка.
В их глазах Петя был недосягаем. И в то же время он был «глубоко свой». Это было верно. В сущности, после госпиталя на Ближних Мельницах Петя был своим. А свои почти все служили в Красной гвардии, в отряде железнодорожных мастерских.
Даже Павлик и Женька считали себя красногвардейцами.
Они ходили за Петей по пятам, каждую минуту отдавая честь и поворачиваясь направо, и налево, и кругом, или мчались дробной солдатской рысцой, прижав локти к туловищу, стоило Пете сделать лишь одно движение рукой.
Они представляли себя чем-то вроде его адъютантов или ординарцев.
Образовалась целая рота мальчишек. Раздобыли саперные лопаты, и Петя стал учить свою роту окапываться.
По его свисту мальчишки, как настоящие солдаты, делали перебежку цепью, применялись к местности и со всего маху падали на живот возле сусличьих норок, прячась за земляные бугорки.
За неимением винтовок они держали в руках палки, а вместо ручных гранат швыряли пустые консервные банки и грудки замерзшей земли. Петя учил их наступать взводами и отделениями, загибать фланги и оставлять некоторую часть роты в резерве.
Они маршировали по выгону и по улицам Ближних Мельниц и пели совсем по-солдатски, с криками и разбойничьим присвистом: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет», «Эх, эх, горе не беда», а также революционные песни, среди которых особенно нравилась «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой».
У них и вправду был братский союз: молодежный отряд Красной гвардии железнодорожного района.
Петя вкладывал в военные занятия с ребятами всю свою энергию. А главное, у него было много свободного времени. Обучение молодежного отряда помогало ему хоть на время отвлечься от смутных мыслей и чувств, связанных с его любовью, которая теперь, кроме радости, причиняла ему неопределенное душевное беспокойство, даже временами тяжесть.
Кончилось это тем, что когда однажды Терентий с грубоватой шутливостью сказал, что хватит бить баклуши и пора его благородию идти служить народу, в Красную гвардию, где не хватает военных специалистов, Петя не возразил.
К тому времени в железнодорожных мастерских стало под ружье более двух тысяч рабочих. Потребовались офицеры.
Железнодорожный районный Совет рабочих депутатов утвердил Петю начальником штаба сводного отряда, то есть воинского подразделения вроде батальона.
Петя был коренной артиллерист, и ему хотелось бы командовать батареей. Но в Красной гвардии железнодорожного района еще не было пушек.
Петя прикинул на дореволюционную мерку и пришел к выводу, что начальник штаба сводного отряда — это по чину никак не меньше поручика, а то и штабс-капитана. Можно, с натяжкой, считать, что он теперь капитан.
Было, конечно, жаль, что в рабочей Красной гвардии не существовало погон и других знаков различия, например, аксельбантов. Они бы теперь могли здорово пригодиться. Зато можно было носить шпоры. Это в значительной степени утешало Петю.
Ни с кем не советуясь, Петя решил по-прежнему носить свой офицерский кортик с анненским темляком. Хотя этот темляк и был принадлежностью царского ордена «Святыя Анны четвертой степени за храбрость», ведь можно было его рассматривать не как темляк, а просто как красную ленточку, привязанную к кортику.
Кто мог возразить против красного банта или красной ленты? Напротив. В этом было даже что-то революционное.
Петя уже подумывал, не надеть ли ему свой скромный солдатский георгиевский крестик, но все же не рискнул.
Теперь он все время проводил в конторе железнодорожных мастерских, где были отведены две комнаты под штаб.
Командиром сводного отряда назначили Акима Перепелицкого, с которым Петя отлично сработался.
Они даже подружились. И, хотя Аким Перепелицкий по старой памяти смотрел на Петю в общем как на молокососа, все же они оба были фронтовиками.
Они знали друг друга еще до революции. А главное, их сближала Мотя, которая по-прежнему относилась к Пете с нескрываемым обожанием.
Быстро, легко и естественно вступил Петя в новую жизнь.
Через неделю ему казалось, что он уже давным-давно служит в Красной гвардии, а то время, когда он лежал в госпитале, представлялось ему незапамятным.
Новая жизнь была серьезной, суровой и в то же время полной какой-то горячей, напряженной радости.
Петя чувствовал себя не просто профессиональным военным, а солдатом революции, несущим, может быть, и незаметную, но великую службу, по сравнению с которой все его военное прошлое казалось пустяками.
Прежде чем поступить на службу в Красную гвардию, он сходил к отцу посоветоваться. Он был уверен, что отец не одобрит его решения. И ошибся. Василий Петрович посмотрел на сына снизу вверх слезящимися глазами, в которых — за стеклами пенсне — блестела какая-то странная для него, твердая решимость, по-видимому созревшая в последние дни.
Он обнял Петю обеими руками за плечи и, немного выставив вперед нижнюю челюсть с корешками стершихся зубов, сказал:
— Ты прав. Одобряю. Молодец. Хотя, может быть, это и не похристиански, но так и надо поступить. Честный, порядочный человек должен быть всегда вместе с народом. А большевики — это именно и есть народ. Ты, пожалуйста, не думай, что я на старости лет стал пораженцем. Нет! Я не пораженец!..
«Ну, так и есть, — подумал Петя, — отец сел на своего любимого конька: оборонцы, пораженцы».
Он не мог скрыть улыбки.
Увидев эту добродушную, легкомысленную улыбку, отец нахмурился, повертел шеей, как будто бы ее тер воротничок.
— Да! — запальчиво сказал он. — Теперь я вижу, что ты еще не созрел до понимания того, что происходит в России. Пораженцы стали оборонцами и оборонцы — пораженцами. Теперь твои Керенский и Корнилов — пораженцы! — крикнул Василий Петрович так визгливо, что семья еврейского портного в соседней комнате затихла и даже дети перестали плакать.
— Во-первых, они не мои и никогда не были моими, — успел вставить Петя, но отец не дал ему договорить.
— Они хотели открыть немцам фронт и сдать Петроград. Они изменники и предатели вроде Стесселя, Мясоедова и Сухомлинова. Для них личные интересы выше интересов народа. Для того чтобы сохранить привилегии ничтожной горсточки богачей, они готовы бросить весь русский народ под сапог Вильгельма. Подлецы!.. А пораженцы-большевики стали теперь оборонцами. Это сейчас единственная сила в стране, которая способна отстоять Россию от гибели и разграбления. Это — истинные патриоты. И я рад, что ты с ними! Если бы я был способен держать в руках винтовку, я тоже был бы с ними. Послушай, — вдруг сказал Василий Петрович, понизив голос, — ты знаешь, кто такой Ленин?
— Конечно, — сказал Петя и стал перечислять все то, что знал о Ленине: Владимир Ульянов, председатель Совета народных комиссаров, организатор партии большевиков, брат Александра Ульянова, повешенного царским правительством…
Василий Петрович перебил его:
— Нет. Это все верно, конечно. Но, понимаешь ли ты, кто Ленин? — еще раз настойчиво повторил он, напирая на слово «кто». — ЛенинУльянов — это великий преобразователь России, — торжественно проговорил Василий Петрович. — Такие люди рождаются раз в столетие. Ленин и Петр. И я даже думаю, что Ленин выше. Петр при всем своем величии был все-таки не более чем простой русский царь. А Ленин — сард народ! Реформы Петра бледнеют перед реформами Ленина. Ленин в корне переделывает русскую жизнь. В основе его политики лежит великая народная правда. Ленин и большевики посягнули на так называемую священную частную собственность, которая уже давно не священна и не более чем гниющий труп, заражающий своими миазмами жизнь людей на земном шаре. Земля крестьянам, фабрики рабочим — вот настоящая правда. Только она одна истинно моральна. Остальное все — ложь. Я не знаю, понимаешь ли ты меня, но несколько поколений лучшей части русского народа, русская революционная интеллигенция, начиная с Радищева и декабристов, мечтала о том, что сейчас с такой гениальной смелостью и таким гениальным умом совершает в России Владимир Ульянов. Грядет новая, освобожденная, счастливая, воистину народная, трудовая Россия и несет новые заповеди всему человечеству. Мы живем в величайшую историческую эпоху. На наших глазах преображается мир. Понимаешь ли ты, Петруша, что это значит? Преображение!
На его глазах блестели слезы. Пенсне свалилось с носа. Василий Петрович смотрел с тревожным восторгом на сына. Потом он перевел глаза на икону спасителя, перед которой уже не горела лампадка, и перекрестился.
— Господи, благодарю тебя, что ты дал мне счастье дожить до преображения! Ныне отпущаеши раба твоего по глаголу твоему с миром.
Пете показалось, что отец хочет стать на колени. Но Василий Петрович боком сел на шаткий стул и опустил голову. Он улыбался. А слезы продолжали блестеть на его глазах.
Петя был поражен. Революция — преображение, а Ленин выше Петра. Впервые и неожиданно для себя Петя ощутил все, что происходило вокруг, как Историю. Он сразу как бы вырос в своих глазах. Он уже больше не колебался. Он понял, что, став командиром Красной гвардии, он служит народу и защищает Родину.
Петя оказался неплохим организатором и быстро сформировал из рабочих железнодорожных мастерских небольшие летучие отряды и роты, подвергая придирчивым экзаменам местных унтер-офицеров и простых солдат, прежде чем назначить их командирами.
Он привлек на службу в Красную гвардию несколько знакомых офицеров из бывших гимназистов или студентов, в том числе Колесничука, которому уже смертельно надоело ловчиться в гайдамацком курене. К тому времени Колесничук разочаровался в Центральной Раде. Он понял, что все разговоры о «вильной» Украине, о независимом украинском государстве, отделенном от Советской России, есть не что иное, как пустая болтовня, за которой скрывалось намерение во что бы то ни стало сохранить за помещиками землю, за фабрикантами — заводы и за братьями Пташниковыми — свою фирму, оставив в ней Колесничука маленьким, униженным, нищим и бесправным приказчиком, каким был его отец.
Ненависть к «господам» была у Колесничука в крови.
Он страстно любил свою «ридну Украину», но Украину простых, трудящихся людей — рабочих, крестьян, приказчиков, ремесленников, учителей, — а вовсе не помещиков вроде Потоцких или заводчиков вроде Бобринских.
Он быстро понял, что с Центральной Радой ему не по пути. Раечка же сообразила это еще раньше его. Они оба понимали, что свобода и независимость Украины тесно связаны с Советской властью, с большевиками, с Лениным.
В конце концов сражаться «за владу Рад» или за власть Советов было одно и то же.
Жора Колесничук так же, как и Петя Бачей, устал ловчиться, устал чувствовать себя дезертиром, даром есть народный хлеб.
Когда он случайно встретился с Петей возле Чумки, он уже вполне созрел для Красной гвардии.
Они поняли друг друга с двух слов.
Колесничук с облегчением спорол со своей честной боевой папахи красный шлык, с шинели — узенькие дурацкие погончики, снял кокарду и через два дня, оставив все свои вещи пока что в гайдамацкой казарме, уже был у Пети помощником по стрелковой подготовке.
Скоро Петя стал командиром строящегося бронепоезда, а Колесничук — начальником стрелкового десанта.
Все становилось на свое место.
29 ИЗМЕНА
— Приняли бронепоезд?
— Приняли.
— Как будет называться?
— «Ленин».
— Ну вот, а еще кричал, что в жизни больше не будешь воевать! — сказал Гаврик, когда Петя вернулся, вытирая руки куском пакли. — Страшные клятвы давал. А теперь что мы видим? Кожаная куртка. В кармане бриджей кольт. Усы. Тонняга красногвардеец!
Марина с нескрываемым удовольствием смотрела на Петю. Она угадала, что в конце концов он будет с ними. С ее лица не сходила милая улыбка, не лишенная, впрочем, легкой иронии.
Из-под низко надвинутого на брови козырька фуражки на нее смотрели непривычно серьезные глаза Пети, полные решимости.
— Можно подумать, что ты не рад, — сказал Гаврик.
— Чему?
— Победе.
— Победа будет, когда мы разобьем немцев, — сухо, упрямо и както слишком по-офицерски сказал Петя. — И я совершенно не понимаю, почему торжество. Немцы под Псковом. Макензен подошел к гирлу Дуная. Румыны продали нас. По-моему, положение хуже губернаторского. Россия трещит по всем швам. А ты радуешься, что победил каких-то затрушенных гайдамаков! Тоже вояки!
Петя сел на деревянный ящик с веревочными ручками от трехдюймовых снарядов, поставил локти на колени и уперся подбородком в ладони.
— Устал, — сказал он, неподвижно глядя перед собой сонными глазами.
Гаврик положил ему руку на плечо, другой рукой обнял Марину. Сбил фуражку набок. Задумался.
— Нет, — сказал он решительно. — Рабочий класс не допустит. Ты не понимаешь, что такое русский рабочий. Он недооценивает силу рабочего класса, верно, Марина?
— Он просто не понимает, — сказала Марина.
— Чего я не понимаю? — спросил Петя.
— Неизбежности мировой революции.
— Пока наступит мировая революция, немцы нас слопают со всеми потрохами.
— А вот как раз не слопают.
— Почему?
— Подавятся.
— Неизвестно.
— Известно. Немцы разные. Есть немцы — пролетарии и есть немцы — капиталисты, помещики, прусские юнкера. Большинство немцев — пролетарии. Они нас не предадут.
— Кого — нас?
— Русский пролетариат.
— Они-то, может быть, и не предадут, да беда в том, что власть у них находится в руках кайзера и его генералов.
— Не сегодня-завтра кайзеру дадут по шапке, как нашему Николашке.
— Все равно. Останутся генералы, капиталисты, ихние Корниловы и Рябушинские.
— Ну, брат, со своими генералами и капиталистами немецкие рабочие как-нибудь справятся. Дело наглядное. Лиха беда — начало. У нас будут учиться. Теперь покатится. По всему миру. Не остановишь.
— Ты, брат, не слишком заливай, — сумрачно сказал Петя и сплюнул под ноги.
— Ничуть! Знаешь, как мы научились управляться с нашими генералами? Они нас теперь ух как боятся! Чуть что — сдаются. Не веришь? — сказал Гаврик, заметив недоверчивую улыбку Пети, и прищурился одним глазом, словно прицелился. — Марина, показать ему?
— Покажи.
Гаврик вынул из полевой сумки пачку бумажек и, послюнив пальцы, достал одну. Протянул Пете.
— Грамотный?
Петя прочел забрызганную кляксами бумажку с подписью ЗаряЗаряницкого.
— Видал? — сказал Гаврик, похлопывая по генеральской шашке с золотым эфесом и георгиевским темляком, которую взял себе как трофей и повесил через плечо. — Не серчаешь, что пришлось так грубо обойтись с твоим будущим родственником?
О Петином романе, конечно, было известно всем. Да он его и не скрывал. Напротив. Ему было лестно, что слух о его победе над Ирен долетел даже до Ближних Мельниц. Тому же, что она дочка генерала, он не придавал значения. Вернее, он об этом как-то не удосужился серьезно подумать.
Он не ожидал, что дело может обернуться таким образом. В сущности, он не представлял себе, что Заря-Заряницкий может играть какую-то — как теперь выяснилось, довольно крупную — роль в политике, в лагере контрреволюции, в войсках Центральной Рады.
Петя простодушно думал, что генерал служит где-то у гайдамаков, ловчится вроде того, как ловчился Жорка Колесничук.
Однако дело вышло посерьезнее.
Любовь любовью, но ведь генерал Заря-Заряницкий и впрямь его будущий родственник.
«Тесть, свекор, зять, свояк или как это в таких случаях называется», — думал Петя, совсем по-солдатски растирая сапогом окурок, и морщился.
— Что же ты от меня хочешь? — спросил он Гаврика напрямик, хотя и с некоторой напряженностью, но все же смело глядя в глаза своего друга.
— Хочу тебя предупредить, что твой Заря-Заряницкий — болыпаятаки сволочь.
— Во-первых, он не мой, а во-вторых, лично мне неизвестно, что он сволочь.
— Это я тебе говорю, — сухо сказал Гаврик, нажимая на «я». — Редкая контрреволюционная гадина. Кадет, корниловец, изменник… Солдаты один раз его уже чуть не отправили в «штаб Духонина». К сожалению, тогда ему удалось спасти шкуру. Сегодня ему очень сильно повезло. Я бы мог поставить его к стенке, да не захотелось мараться. Я просто забрал у него оружие, заставил дать подписку и отпустил к чертовой матери. И, слышь, ты ему передай, что если он, не дай бог, нарушит данное слово, то пускай тогда не пускает сопли, потому что все равно не поможет.
— Это меня не касается, — сказал Петя.
— Не знаю, — сказал Гаврик. Петя вспыхнул.
— Во всяком случае, я никому не позволю вмешиваться в мои личные дела!
— Молодец, — сказала Марина. — Вот именно за это я тебя и уважаю. Не говорю «люблю», потому что не знаю, как на это посмотрит он.
Марина мельком взглянула на Гаврика, как бы слегка поддразнивая.
— Валяй, валяй, — сумрачно сказал Гаврик.
— «Коль любить, так без рассудка». Верно, Петя? — сказала она, красиво встряхивая головой, как всегда, когда цитировала стихи или говорила о чем-нибудь возвышенном. — Тут я целиком на твоей стороне. Никто не смеет влезать в чужую душу.
Помолчали.
— Она тебя сильно любит? — спросила Марина вдруг, пристально глядя своими блестящими, темными, немного мрачными глазами, и Пете трудно было понять, чего здесь больше — дружеской прямоты или женского любопытства.
Он молчал.
— Для настоящей страсти нет преград, — сказала она, не дождавшись ответа, а глаза ее продолжали пытливо блестеть. — Если она по-настоящему любит, то перешагнет через все преграды и пойдет за любимым человеком хоть на край света. Что ей отец, мать, семья, если за любимым человеком правда и… В конце концов Софья Перовская была дочь генерала…
Она не закончила фразу. Ее глаза стали еще ярче.
— Не так ли, товарищи? — спросила она, гордо глядя попеременно то на Гаврика, то на Петю.
В другое время этот разговор о любви возле только что одетого броней паровоза, среди гудения переносных горнов и масляного чада остывающей клепки, на виду у рабочих-красногвардейцев и матросов, обмотанных пулеметными лентами, мог показаться невероятным.
Но сейчас, в ночь победы, в мире, казалось, ничего не могло быть невозможного.
— Верно, Марина! — сказал Гаврик, поддаваясь ее настроению. — Не дрейфь, Петя! Плюй на генерала. Жми. Воюй. Не выпускай из рук своего счастья.
Со двора в цех валил народ.
Придерживая кобуру маузера, Чижиков взбирался на тендер.
Вносили профсоюзные и партийные знамена железнодорожного района, полотнища лозунгов.
Начинался митинг.
На другой день, поставив караул возле нового бронепоезда и хорошенько выспавшись, Петя отправился к Ирине.
В их отношениях всегда было что-то недоговоренное, странное. Он был ее женихом, а между тем она юг разу не поинтересовалась, где он живет и что намерен делать в дальнейшем.
Они не строили никаких планов на будущее, как обычно делают влюбленные. Они жили минутой. Будущее как бы подразумевалось само собой: после войны он останется в кадрах и генерал будет его «тащить», возьмет в адъютанты или что-нибудь подобное.
Причем Петиного мнения не спрашивали.
Вероятно, Заря-Заряницкие очень удивились бы, если бы узнали, что Петя живет в сарайчике на Ближних Мельницах, что Петин отец снимает угол у еврейского портного, а сам Петя служит в Красной гвардии.
Но теперь все это должно объясниться.
Идя к Заря-Заряницким, Петя вспомнил, как недавно он встречал у них Новый год.
Электричества не было. В холодной квартире горели свечи, погребально отражаясь в черных стеклах, тронутых морозом.
Было много гостей. Блестели ордена и погоны. Дамы были в бальных платьях. У Ирины в розовых ушках блестели маленькие бриллиантовые серьги. От нее пахло французскими духами. Он взял ее за руки. Они были ледяные. На ней было белое шелковое платье, тоже ледяное. Под ним угадывалось разгоряченное тело, и, когда Ирина притянула его к себе, Пете стало страшно от этого двойного ощущения холода и тепла. Ее глаза за решеткой ресниц блестели неестественно расширенными зрачками, как будто бы в них накапали атропина.
Часы стали бить двенадцать, и Петя с Ириной поцеловались через стол, через какое-то длинное рыбное блюдо, залитое майонезом с зелеными каперсами.
— С Новым годом, с новым счастьем! — сказала она чопорно.
Она играла роль строгой невесты, и, по-видимому, это ей доставляло удовольствие.
— Почему ты без погон? — спросила она строго.
Петя пожал плечами. Теперь многие офицеры принуждены были снять погоны. Он впервые в жизни попробовал шампанского, которое ему налили из бутылки с золотой головкой, облепленной двумя скрещенными зелеными лентами.
— «Кордон вер», — сказала Ирина, — марки «Моэтишандон».
Неприятно холодное вино защекотало Петин язык, ударило в нос. Петя чуть не поперхнулся.
Вокруг целовались, поздравляли друг друга с Новым годом. Звенели бокалы. Пили за генерала Щербачева, за Корнилова, Каледина, за единую, неделимую Россию.
Петя решил дальше не откладывать объяснения с Ириной. Он почему-то был уверен, что она поймет его. Ему казалось, что в ней есть что-то свое, независимое. Может быть, даже революционное. Слишком дерзко смотрели иногда ее серо-лиловые глаза, и слишком презрительно улыбался ее рот, когда пили за Учредительное собрание, которое наконец прекратит революцию.
— Послушай, Ирина, нам надо поговорить. Выслушай меня, — сказал он решительно.
Но вокруг было слишком шумно, пьяно. Она не услышала. Она в это время тянулась своим плоским бокалом с пузырьками к матери, и ее отставленный мизинчик с отделанным перламутровым ноготком казался против свечи полупрозрачным.
И Петя не сказал ей тогда ничего.
Но сегодня он скажет все, что у него на душе. Сегодня он, как никогда, верит, что для настоящей страсти нет преград. Он верит, что она пойдет за ним, перешагнув через все преграды, как сказала Марина. Нет, он не выпустит из рук свое счастье. Он будет за него бороться. Все-таки победа была за ними. И он прибавил шагу.
Но едва он дошел до угла Пироговской и Куликова поля, как услышал орудийный выстрел и немного погодя разрыв снаряда.
Стреляла трехдюймовка, гранатой. Это Петя определил без труда, на слух. Но за сильным ветром, не перестававшим дуть со вчерашней ночи, трудно было понять, откуда и куда стреляют.
Второй и третий выстрелы заставили Петю остановиться и прислушаться. Ему показалось, что бьют из района Среднего Фонтана, а снаряды ложатся где-то за вокзалом. Не было сомнения, что огонь ведет целая батарея.
Разрывы гремели, как связки кровельного железа, с силой брошенные о землю, и эти звуки — не в поле, на позициях, а в городе, среди домов, — казались особенно зловещими.
Душа Пети окаменела.
Он инстинктивно подтянул голенища сапог, пробежал замерзшими пальцами по застегнутым пуговицам кожаной куртки, пощупал в кармане пистолет.
В тот же миг он увидел Колесничука, который в расстегнутой шинели, подхватив под руку Раечку, бежал навстречу ему по Канатной улице, со стороны Ботанической церкви.
— Назад! — крикнул он Пете не останавливаясь. Петя повернул и зашагал рядом с ними.
— Что случилось? Кто стреляет?
Щеки Раисы горели. Черные брови были сдвинуты. Она то и дело рукой в яркой варежке поправляла волосы, выбившиеся из-под вязаной шапочки. Вся она, даже концы ее пунцового вязаного шарфа, разлетевшиеся за плечами, выражали возмущение, тревогу, смятение.
Она давно не виделась с Петей, но теперь даже не поздоровалась.
— Эти мерзавцы таки выступили! — говорила она возбужденно.
Ветер вырывал из ее рта клочки пара.
— Гайдамаки? — спросил Петя.
— Вот именно. Ни чести, ни совести. А еще называются «щирие украинцы»! Украинский народ позорят. Мы сами только что оттуда. Пошли в гайдамацкую казарму за Жоркиными вещами и насилу ноги унесли. А вещи пришлось покидать. Там собралась вся ихняя свора во главе с генералом Заря-Заряницким.
— Ты шутишь! — воскликнул Петя побледнев.
— Побей меня бог! — подтвердил Колесничук.
— И ты сам видел Заря-Заряницкого?
— Собственными глазами.
— Он же дал подписку, что не выступит против Советской власти!
— Чихал он на подписку.
— Это измена!
— А ты думал?
— Подлая, наглая измена!
Петя не находил слов… Он задыхался от ярости и стыда.
— Слышишь, бьет? Это горная батарея. А на город наступают два броневика и пластунский курень.
Пока Петя, Колесниччук и Раиса добежали до станции Одессасортировочная, артиллерийская стрельба прекратилась.
Теперь над городом стояла та гнетущая, подавляющая тишина, которая обычно предшествует чему-то ужасному.
Переходя через железнодорожный мостик, Петя сверху увидел свой бронепоезд, уже выведенный на пути. Дегтярно-черные шпалы, наполовину занесенные снегом, железные подковы стрелок, тускло отсвечивающие рельсы, закопченная длинная ракушняковая стена с крупной черной надписью «Пиротехническое заведение „Фортуна“», полосатый шлагбаум, темные фигуры вооруженных людей вокруг бронепоезда, со свежей брони которого еще не сошла сизая окалина, — все это в сочетании с низким, недобрым, январским небом, холодным ветром и минутным перерывом в артиллерийской стрельбе, в этой тяжелой тишине, нависшей над миром, наполнило душу тревогой.
Снова выстрелила пушка. Где-то далеко застучал пулемет.
Петя и Колесничук серьезно переглянулись. Для них снова начиналась война. Их лица онемели.
Они побежали к бронепоезду.
30 ПИСЬМО МАРИНЫ
«Дорогая мамочка, — писала Марина, — не знаю, получила ли ты наши последние послания, но от тебя вот уже второй месяц ни слуху, ни духу. Не сомневаюсь, что ты аккуратно пишешь, но только твои письма просто не доходят. На почту по нынешним временам надежда плохая. Видать, революция ^не слишком подходящее время для сентиментальной переписки между добродетельной мамашей и ее своенравной дочкой. Как тебе нравится мое „видать“? Ты, конечно, догадываешься, что это — влияние моего Гаврика с его совершенно невозможным черноморско-украинско-питерским языком. Он тебе шлет почтительный привет. Все-таки ты ему как-никак „теща“. Вот уж, наверное, не ожидала! У нас тут, как ты уже, конечно, слышала от приезжих товарищей, последние месяцы шла упорная борьба на два фронта. Во-первых, с меньшевиками, а во-вторых, с украинской буржуазно-националистической сволочью в стиле „писателя“ Винниченко из Центральной Рады. Мы их разбили, и таким образом с сегодняшнего дня наша богоспасаемая Одесса — советский город. Давно пора!
Сейчас я нахожусь в штабе Красной гвардии в помещении военнореволюционного комитета на Торговой, 4, в бывшем особняке Руссова, где, помнишь, раньше была картинная галерея и, между прочим, висела картина Репина „Гайдамаки“! Как тебе нравится этот исторический парадокс?! Пожиная плоды бескровной победы, я засела наконец за обстоятельное письмо к тебе, моя золотая, в Питер. Надеюсь, что моя цидулка придет быстро, так как на днях несколько наших товарищей военморов едут в Питер по вызову Центробалта и, надо полагать, успешно пробьются сквозь железнодорожный хаос.
Ты ничего не пишешь, а слухи ползут очень и очень тревожные. Правда ли, что немцы наступают и уже заняли Псков? Неужели они возьмут Петроград, колыбель нашей революции? Нет! Не могу этому поверить. Как-то вы все живете там? Мысленно представляю себе Смольный и дядю Володю в своей кепке, в пальто внакидку, его быструю походку, бессонные, сухие морщинки возле прищуренного, раскосого глаза. Я так привыкла его называть дядей Володей, что теперь мне иногда кажется, что дядя Володя и товарищ Ленин — два разных человека. Ленин! В этом имени воплотилось все то, что мы называем Великой Октябрьской социалистической революцией. Ленин — ее сила, воля, разум, ее непреклонность, непримиримость, ее бессмертие в веках! Я думаю, еще никогда не было в мире такого воистину великого человека. Что по сравнению с Лениным все эти Александры Македонские, Наполеоны… Нет, на самом деле, мамочка! Даже Робеспьер… Не говорю, Марат, потому что…
Ну, да это пока секрет. Впрочем, ты, наверное, догадываешься. У нас в скором времени будет маленький Марат, твой внучек. Радуйся!
Я часто вспоминаю Париж, дождливые улицы и дядю Володю, с подвернутыми брюками, на велосипеде по дороге из Монсури в Национальную библиотеку. Однажды он меня взял с собой на полеты. Я сидела на раме его велосипеда, и мы ехали по шоссе среди фиакров и автомобилей, и легкий биплан „Фарман“ косо и совсем низко пронесся над нами и потом сделал вираж над Виль Жюиф, и авиатор в желтом кожаном шлеме помахал публике рукой, а дядя Володя зазевался, и мы чуть было не угодили под чей-то шикарный мотор, набитый господами в цилиндрах и дамами в громадных шляпах со страусовыми перьями — а-ля Тулуз-Лотрек… Что-то я нынче в лирическом настроении и предаюсь воспоминаниям… Но это простительно. Во-первых, все-таки маленький Марат…
Да! Чуть не забыла! Угадай, кто явился сегодня утром на заседание? Держу пари, не угадаешь. Василий Петрович Бачей! Вообрази, он пришел вместе с делегацией железнодорожного района, окруженный своими бывшими учениками по нашему хуторскому кружку, в солдатских башмаках и обмотках, в старом демисезонном пальто и широкополой шляпе а-ля Сеченов или Менделеев, в пенсне, с давно не стриженной, сильно поседевшей бородой, сердитый, вдохновенный, решительный — одним словом, наш великолепный учитель Василий Петрович, но только в каком-то новом, революционном, что ли, качестве. Многие его узнали и стали хлопать. Скоро зааплодировал весь зал. Некоторые даже встали. Это была дань глубокого общественного уважения человеку, пострадавшему за идеи при старом режиме. Пролетариат приветствовал в день своей победы честного русского интеллигента, учителя. И, представь себе, Василий Петрович не растерялся, хотя и немного сконфузился. Он как-то осанисто выпрямил согнутые плечи и весело посмотрел на аудиторию. Снял шляпу и помахал ею над головой. К нему из президиума потянулись руки и втащили раба божьего на помост. Тут он произнес великолепнейшую речь о праве трудящегося народа на верховную власть, о мечах, которые мы должны теперь перековать на орала, о великой общечеловеческой революционной миссии русского народа, о Петре Великом, Прометее, Ломоносове и Ленине. Да, да! Можешь представить! Он каким-то образом умудрился поставить их рядом — Петра и Ленина — и даже присоединил к ним Льва Толстого.
Помнишь его лекции на хуторе? Это было и тогда очень хорошо, возвышенно, чисто и по-своему революционно. Но теперь, среди подлинно революционной толпы матросов, солдат, красногвардейцев, крестьян и городской бедноты из предместий, речь Василия Петровича произвела большое впечатление. Когда же он вдруг замолчал, посмотрел на слушателей и низко поклонился на все стороны, благодаря трудовой народ — истинного хозяина жизни — за ту поддержку, которую он ему оказал в трудное для него время, в мрачные дни столыпинской реакции, не берусь тебе описать, какая буря поднялась в зале: крики, аплодисменты, шум, гром! Некоторые горячие головы сделали попытку качать Василия Петровича и один раз даже подбросили его, так что с его носа свалилось пенсне и закачалось на черном шнурке с шариком, и серые волосы взметнулись и развалились на две стороны, как у подгулявшего семинариста. Но Родион Иванович, председательствовавший на заседании, быстро водворил порядок, крепко пожал руку Василию Петровичу, и они, к общему удовольствию, расцеловались, причем Василий Петрович плакал. Я это описываю немножко в юмористическом стиле, но на самом деле это было действительно трогательно. Жаль, что этого не мог видеть дядя Володя. Для него это была бы настоящая радость, наглядный пример, как на сторону пролетарской революции переходят лучшие люди из старой интеллигенции.
Вообще, мамочка, все население города в одну минуту резко размежевалось на две антагонистические группы. Одна, революционно-пролетарская, на Николаевском бульваре возле бывшего Николаевского дворца, где помещался Румчерод, а другая буквально в сотне шагов — вокруг городской думы. В то время, как у нас шло торжественное заседание, недорезанные буржуи бушевали в городской думе, требуя передачи всей власти городскому самоуправлению. И ты знаешь, кто там разорялся больше всех? Мадам Стороженко! Да, да, та самая.
Оказывается, пока шла война, она сильно нажилась на различных военных поставках, снюхалась с Союзом городов, развила бурную спекулятивную деятельность, участвовала в каких-то темных махинациях Земсоюза и в конце концов к началу семнадцатого года настолько разбогатела, что слопала со всеми потрохами мадам Васютинскую, не солоно хлебавши вернувшуюся из-за границы, купила у нее „наш“ хуторок со всеми его угодьями, садами, виноградниками да плюс к этому по дешевке понахватала у солдатских вдов и сирот десятин пятьсот крестьянской пахотной земли и стала в полном смысле слова барыней-помещицей, к чему, конечно, всю жизнь стремилась ее кулацкая, мещанская душонка. До последних дней сия дама играла в городской думе крупную роль. Под ее дудку плясали все гласные из района Крытого рынка, Привоза, Первого христианского кладбища и прочих мест. Кроме того, она уже „заворачивала“, как здесь выражаются, делами нескольких банкирских контор и уже протянула свои ненасытные лапы к городскому банку. В политическом же отношении она являлась ультра-„самостийницей“ и что есть сил воевала против большевиков, за так называемую „вильну Украину“, разумеется, отнюдь не пролетарскую или крестьянскую, а помещичьекулацкую с сильным креном в сторону капиталистической Европы, а вернее всего, кайзеровской Германии.
Я сама в городской думе не была, но мой Гаврик, который с мандатом ревкома и отрядом морячков с „Алмаза“ явился туда закрыть всю эту лавочку, с большим юмором описал мне свою старую знакомую мадам Стороженко, раздувшуюся, как жаба. Почему-то она была в костюме сестры милосердия, с красным крестом на необъятной груди. С седыми усами, тремя подбородками и алчными глазами, она представляла из себя нечто омерзительное. Она была окружена синежупанниками гайдамацкой гвардии и вообще, как сказал Гаврик, разыгрывала из себя какую-то гайдамацкую богородицу, воительницу против большевиков и защитницу „вильной Украины“. Она ужасно разоралась, стучала зонтиком и требовала немедленного перехода всей власти в городе в руки управы. Гаврик вошел со своими хлопцами в зал заседаний и так цыкнул на господ гласных, что они „наложили полные штаны“ (выражение Гаврика!), в два счета закрыли свой базар и, как говорится, скрылись в неизвестном направлении. Представляешь сцену, когда Гаврик очутился нос к носу с бушующей мадам Стороженко! Вот это был номер! Конечно, они узнали друг друга. Не знаю, чего здесь было больше — комедии или драмы. Так совершилось историческое возмездие и социальная справедливость востор…»
На этом месте письмо прерывалось.
Затем торопливым почерком было приписано: «Подожди, мамочка. Я слышу орудийные выстрелы. Сейчас узнаю, в чем дело. Так и есть! Несмотря на свои миролюбивые заверения и якобы капитуляцию, только что штаб войск Центральной Рады предъявил нам ультиматум немедленно очистить занятые советскими войсками учреждения. И вот в чем подлость: ультиматум еще не был фактически передан, как значительные силы гайдамаков и юнкеров начали наступление на город. В настоящий момент, нам только что сообщили по телефону, они наступают со стороны Среднего Фонтана, где расположены их казармы… Вот опять пушечный выстрел… Трехдюймовка… Оказывается, у них есть артиллерия. Слышу шаги Гаврика. Ну, пока прощай, мамочка. Потом допишу. Наш дежурный отряд выступает…»
Письмо это так и осталось недописанным, потому что Марина была убита через час после этого на углу Пушкинской и Троицкой, где небольшой отряд матросов и красногвардейцев начал строить баррикаду, пытаясь остановить гайдамаков, которые к этому времени вместе с юнкерами внезапным ударом захватили здание штаба военного округа, вокзал и теперь, выйдя на главные улицы — Пушкинскую, Ришельевскую и Екатерининскую, — под прикрытием броневиков быстро продвигались к центру города.
31 НА БАРРИКАДАХ
Держа винтовки под мышкой, они тащили на середину мостовой что попало: уличные скамьи, ящики, железные вывески, ставни.
Два рабочих с завода Гена выволокли из галантерейного магазина довольно длинный ясеневый прилавок и поставили его поперек мостовой, но шальной артиллерийский снаряд разнес его в щепки, прежде чем они успели притащить пулеметы.
Потом им удалось с невероятным трудом повалить круглую афишную тумбу, состоявшую из трех бетонных колец, каждое высотой аршина в полтора.
Тумба была оклеена толстым слоем старых афиш, порванных пулями. Громадными буквами были напечатаны слова: «Аида», «Трильби», «Труцци», «Цирк».
Когда бетонные звенья покатились по тротуару, слой старых афиш, склеенный затвердевшим клейстером, начал отваливаться большими кусками. Ледяной ветер погнал их по улице, и они стали подпрыгивать и взлетать, напоминая своими движениями перекати-поле.
Ветер нес в глаза пыль, смешанную со снегом, острую, как битое стекло.
Пули свистели вдоль улицы, отскакивали от гранитных обочин, от чугунных крышек канализационных колодцев и уносились, рикошетом выбивая из стен домов штукатурку, с визгом, звоном, скрежетом, завыванием, ударяясь в железные фонарные столбы.
Вокруг был каменный город, пустая гранитная улица — место, не приспособленное для войны. Не за что зацепиться.
Красногвардейцы и матросы прятались в подворотнях и стреляли оттуда боком вдоль улицы в сторону вокзала. Они стреляли стоя, с колена, наконец, лежа, упираясь локтями в булыжник и плитки лавы.
Они старались вести прицельный огонь и ловить на мушку маленькие фигурки гайдамаков в новых оранжевых полушубках и юнкеров в аккуратных башлыках. Фигурки эти перебегали зигзагами от дерева к дереву и мелькали за серыми стволами акаций своими новенькими, желтыми винтовками.
Снаряд попал в угловой дом и с блеском разорвался, окутав улицу облаком бело-лимонно-желтой ракушняковой пыли. Из окна брызнули стекла, в одну секунду покрыв осколками весь тротуар.
Гаврик побежал по этому битому стеклу, как по насту, поскользнулся и едва удержался, схватившись красной, отмороженной рукой за погнутую железную решетку у входа в ренсковый погреб.
Он видел, как Марина споткнулась, упала вниз головой и покатилась по обледенелым ступенькам, уткнувшись шапкой в дверь ренскового погреба, запертого на засов с пудовым замком.
Гаврик ожидал, что она сейчас же встанет, но она продолжала лежать неподвижно.
Теперь она была до такой степени не похожа на себя, что Гаврику в первое мгновение показалось, что на лестнице лежит кто-то другой в Маринином пальто, осыпанном штукатуркой, а сама Марина спряталась за углом и сейчас выйдет оттуда, живая, со своей короткой кавалерийской винтовкой и тяжелым подсумком на поясе.
Гаврик увидел, как на нее сверху, немного покачавшись, упало колено водосточной трубы, а потом железная вывеска табачной лавочки с пестрым турком в чалме и с дымящимся кальяном. Затем с четвертого этажа, кувыркаясь, свалилась порыжевшая разобранная и выставленная на балкон рождественская елка с обрывом серебряной бумажной цепи и маленьким сиамским флажком — белый слон на алом поле.
Из этого хлама наружу торчали ее нетронутые ноги в туго натянутых фильдекосовых чулках и зашнурованных высоких ботинках с кожей, кое-где добела потертой. Эти ботинки Марина лишь сегодня надела вместо сапог, от которых давно уже устала.
В каблуки этих ботинок с новыми набойками были врезаны и привинчены маленькие, стершиеся стальные ромбики — пластинки для коньков. В их отверстия, похожие на замочные скважины, набились пыль и сухой, мелкий снежок.
Гаврик забросил винтовку за спину и, все еще не веря своим глазам, бросился вниз по лестнице к Марине.
На железном кронштейне висел, покачиваясь, молочно-белый стеклянный фонарь в форме большой виноградной кисти с надписью черными печатными буквами «Ренсковый погреб».
Хрупкий, как елочная игрушка, фонарь этот был почти цел, лишь вместо одной выпуклости зияла черная дыра.
Гаврик схватил Марину за плечи и стал поднимать, стараясь высвободить ее тело из-под железного хлама.
Сухая елка оцарапала ему лицо.
Голова Марины тяжело откинулась и стукнулась о перила. Гаврик подхватил ее под затылок и тут только увидел ее помертвевшее, неузнаваемое лицо с небольшой треугольной ранкой на переносице и крупным желто-лиловым синяком под неподвижно открытым глазом. Из ранки тек по лицу тоненький ручеек крови, которой уже были запачканы горло, ухо и старенький мех воротника.
Гаврику показалось, что это всего лишь ссадина. Он вытащил Марину наверх, положил за углом дома в безопасном от пуль месте и стал вытирать рукавом лицо Марины. Он его целовал и вытирал. Но чем сильнее он его тер, тем обильнее текла кровь, и Гаврик увидел не ссадину, а треугольную дырочку, откуда, как из пробитой склянки, выливалась, пузырясь, кровь.
— Марина! — с ужасом закричал Гаврик. Теперь он понимал, что с ней произошло что-то страшное. Но он еще не понимал, что она уже мертва. Мелькнула ужасная догадка, но он ее сразу же с возмущением отверг: так невероятна, противоестественна она была.
Он приподнял ее и стал трясти, как бы желая разбудить.
— Марина, Мариночка! — звал он. — Ну, что же ты, честное слово?.. Ты меня слышишь? — спросил он и, так как она не отвечала, крикнул ей в ухо: — Ты меня слышишь? Чего же ты молчишь, я не понимаю!
Ее голова тяжело моталась, падала, и Гаврик вдруг увидел, что ее перемазанное кровью, неузнаваемое лицо с синяком вокруг одного открытого глаза и с другим глазом — закрытым — меняет цвет.
Сначала оно было просто очень бледное, потом стало сизое, потом через него как бы прошла лилово-багровая волна и вдруг схлынула, оставив свинцовые тени вокруг обесцвеченных, твердых губ.
Ее лицо стало таким однотонно белым, как будто из него вылились все тепло и все краски.
Гаврик беспомощно оглянулся.
Он увидел недалеко от себя накрест обмотанного пулеметными лентами матроса, того самого, который позавчера сидел возле штаба на телефонном столбе, на фоне лунного неба, и рвал провода.
Теперь этот матрос сидел на тротуаре, прислонившись широкой спиной к стволу акации, и неумело бинтовал свою правую руку левой, пытаясь потуже затянуть узел зубами.
Его бескозырка сидела на белобрысой голове боком, так что георгиевские ленты с золотыми якорями на концах лезли в глаза, и он все время сердито откидывал их локтем.
Он схватил левой рукой винтовку и побежал, пригибаясь, назад, за угол, к тому месту, где был ранен и откуда слышался прерывистый стук не совсем исправного «Максима».
— Слышь, братишка! — крикнул Гаврик. — Забыл, как тебя. Прими вместо меня команду. Видишь, что делается?
Матрос на бегу обернулся, взглянул на Марину в руках Черноиваненко-младшего и кивнул головой.
— Сделаю.
— Я мигом, — как бы извиняясь, сказал Гаврик.
— Ховай, — ответил матрос, скрываясь за углом.
Гаврик взвалил Марину на плечо и, чувствуя пугающую тяжесть ее тела, побежал на безопасный тротуар к Ришельевской, где на углу была аптека.
Иногда он останавливался и смотрел по сторонам, как бы ожидая откуда-нибудь помощи. Ведь это же все-таки был город. Вокруг жили люди. В каждом доме люди. Тысячи, десятки тысяч людей. Но теперь улица была пустынна. Ворота и парадные подъезды наглухо заперты, заколочены. Ставни заперты изнутри.
Обыватели, наверное, сидели сейчас на полу в отдаленных комнатах или прятались в подвалах и дровяных сараях, с ужасом прислушиваясь к пулеметным очередям, пушечным выстрелам и звону стекол, содрогающихся от броневиков.
Может быть, кто-нибудь даже слышал крик Гаврика:
— Эй! Помогите! Помогите раненому человеку! Помогите же, мать вашу… перемать…
Может быть, и даже наверное, кто-нибудь слышал стук приклада в железные ворота или в дубовые двери парадного хода.
Но ни одна живая душа не откликнулась. Гаврик бежал по мертвой улице, мимо парадных и подворотен, окруженных множеством разных табличек и вывесок: «Зубной врач Харлин», «Портной Цудечкис», «Акушерка Подлессная», «Нотариус Тарасевич», «Присяжный поверенный Рафалович», «Каллиграфия Россодо», «Уроки музыки», «Кройка и шитье», «Ставлю пиявки», «Кабинет машинописи», «Корсеты Лизетт»…
Тысячи раз в жизни проходил Гаврик мимо всех этих вывесок, за каждой из которых был человек. Множество людей. Кой-кого из них Гаврик знал даже в лицо. Но теперь все эти живые люди исчезли. Гаврика окружали лишь их имена и профессии — странные абстракции, фантомы врачей, настройщиков, акушеров, докторов. Докторов!
Они ничем не могли или не хотели ему помочь. Они просто боялись.
— У, подлецы, гады, сукины дети! — бормотал Гаврик, облизывая пересохшие, потрескавшиеся губы.
О, как он ненавидел всех этих людей!
Он слышал позади, за углом, беспорядочную, лихорадочную пальбу пачками, из чего заключил, что пулемет, наверное, подбили и он уже не работает. Потом он услышал звуки пулемета. Но это уже был другой пулемет, исправный, новый и звонкий «кольт», по всей вероятности, с гайдамацкого броневика. Он слышал громыханье этого броневика и щелканье пуль о его броню.
Потом наступила недолгая тишина, и вдруг быстро, одна за другой взорвалось несколько ручных гранат. Заскрежетало железо, что-то, громыхая, рухнуло, раздались редкие крики «ура», и Гаврик понял, что это его хлопцы только что подорвали гайдамацкий броневик.
Но у него не было времени обернуться.
Немного не добежав до Ришельевской, он остановился, переложил Марину на другое плечо и стал всматриваться из-за акации, желая убедиться, что на углу Ришельевской и Троицкой еще нет гайдамаков.
Он увидел опрокинутый вагон электрического трамвая и на нем небольшой красный флаг — знамя Одесского городского комитета партии.
Несколько красногвардейцев, среди которых Гаврик заметил коренастую фигуру Чижикова, кто лежа на поваленном трамвайном вагоне, кто из-за него с колена, стреляли из винтовок в сторону Александровского участка, откуда наступали гайдамаки.
Пули летели по Ришельевской в ту и другую сторону, сбивая с акаций сухие, замерзшие ветки и отрывая куски коры.
Звуки винтовочных выстрелов как бы не укладывались во всю длину улицы от Александровского участка до городского театра. Казалось, что они ломались о дома и были оглушающе громкими.
Всюду виднелись кучи стреляных гильз, цинковые ящики из-под патронов, пустые пулеметные ленты, окровавленные бинты.
Над угловым входом в аптеку, на том месте, где при старом режиме находился золоченый двуглавый орел с державой и скипетром, сброшенный во время Февральской революции, теперь на длинной палке торчал самодельный флаг с красным крестом, показывая, что здесь перевязочный пункт.
Но, по-видимому, гайдамаки не обращали на это внимания, потому что несколько пуль попало в витрину аптеки, оставив в толстом стекле зловещие звездообразные пробоины.
Гаврик бросился к двери аптеки, и как раз в это время новая пуля влетела в витрину и отбила горло громадного грушевидного графина с ядовито-зеленой жидкостью, обычно выставляемого в окнах аптек. Литая фигурная пробка со звоном покатилась, и в графине закачалось отражение улицы, на которой шел бой.
Первой, кого увидел Гаврик в аптеке, была Мотя, и он понял, что это перевязочный пункт санитарной дружины Красной гвардии железнодорожного района.
Ничего не спрашивая, с остановившимися глазами, побелевшая от ужаса, Мотя помогла Гаврику переложить Марину с плеча на носилки. Несколько таких же носилок было в беспорядке расставлено на зашарпанном, местами окровавленном полу аптеки, и четыре обросших студента-медика, с повязками Красного Креста на рукавах зимних шинелей, хрустя галошами по битой аптекарской посуде, оказывали раненым первую медицинскую помощь.
Одна из пуль попала с улицы рикошетом в шкаф с медикаментами: из разбитых фаянсовых банок сыпались белые и желтые порошки. Резко завоняло йодоформом.
Мотя стала на колени и куском гигроскопической ваты, смоченной в эфире, вытерла лицо Марины, очистив ранку на вздувшейся переносице.
Ее руки задрожали, и она едва не выронила склянку с эфиром.
— Что? — спросил Гаврик. — Плохо? Мотя заплакала.
— Выживет? — спросил Гаврик торопливо.
Мотя глазами, полными слез, посмотрела на Гаврика, не понимая, как он может не понимать, что Марина уже умерла и начинает остывать.
— Идите, — беззвучно сказала Мотя.
— А Марина?
— Идите, — умоляюще повторила Мотя. — Управимся без вас. Идите, дядечка, я вас прошу.
Она показала рукой на улицу, где кипел бой. Гаврик стоял в оцепенении, не в силах отвести глаз от Марины, от ее худого, задранного вверх подбородка. Он ждал, что она вздохнет, пошевелится.
— Не стойте тут! — закричала Мотя плача. — Не путайтесь. Не видите, что делается? Гайдамаки наступают. Сейчас будем эвакуироваться!
Студенты уже начали вытаскивать носилки с ранеными через внутренние комнаты аптеки во двор, где боком стояла санитарная линейка и две реквизированные пролетки с лошадьми, но без извозчиков на козлах.
— Как же я вас потом найду? — растерянно спросил Гаврик, так и не дождавшись, чтобы Марина пошевелилась. — Прощай, Мотя, я пошел!
— Ой, дядечка! — вслед ему крикнула Мотя и опять заплакала, вытирая лицо вывернутой кистью руки, в которой продолжала сжимать кусок окровавленной ваты.
На ходу перезарядив винтовку, Гаврик побежал обратно к своему отряду, но, пробежав четверть пути, вдруг остановился как вкопанный.
Только сейчас до его сознания дошло, что за все время Марина ни разу не пошевелилась. Как потерянный, он бросился назад в аптеку, желая убедиться, что она жива.
Но на углу Ришельевской и Троицкой все уже изменилось. Цепочка красногвардейцев и матросов, отстреливаясь, медленно отходила в сторону городского театра.
Красного флага над оставленной баррикадой уже не было, хотя несколько человек, продолжая лежать на поваленном вагоне, все еще стреляли залпами. На этот раз Гаврик заметил среди них Терентия, дядю Федора и еще кого-то из горкома.
Позади вагона на мостовой лежал, раскинув руки, убитый матрос.
В аптеке уже никого не было. За это время в нее, видимо, попала пулеметная очередь, разворотившая несколько кружек разных благотворительных обществ, прибитых возле кассы: общества спасания на водах, в виде лодки, голубой кружки с шестиугольной звездой — щитом царя Давида — в пользу бедных евреев, скобелевского комитета и многих других.
На полу вместе с черепками аптекарской посуды под ногами звенели медяки и шуршали почтовые марки, заменявшие в то время серебряные деньги, высыпавшиеся из развороченных благотворительных кружек.
Посреди пустого двора лежала, конвульсивно подергивая задней ногой, убитая лошадь. Раненых уже увезли.
Почему-то это успокоило Гаврика. Раз увезли, значит, Марина теперь в безопасности.
Он сильным рывком затянул на себе пояс с опустевшими подсумками и снова побежал на угол Троицкой и Пушкинской.
Гаврик увидел, что его отряд продолжает держаться, превратив подбитый гайдамацкий броневик в баррикаду. Но все же к вечеру пришлось отступить до Ланжероновской, где и закрепились между бывшими Английским клубом и Археологическим музеем с двумя каменными бабами при входе.
К ночи бой затих.
Теперь город был неправдоподобно молчалив и темен. Кое-где на перекрестках горели костры, возле которых грелись гайдамацкие или красногвардейские патрули.
Между отрядами Красной гвардии, действующими отдельно, теперь устанавливалась связь. Это была передышка до утра. Ночью не воевали.
Для Гаврика эта ночь была ужасна.
32 ДЕНЬ И НОЧЬ
На рассвете бои возобновились.
За ночь на стенах домов было расклеено воззвание военнореволюционного комитета, спешно отпечатанное на сером газетном срыве: «На улицах Одессы идет кровавый бой между защитниками Советов рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов и сторонниками Центральной Рады. В этой решительной схватке вам, граждане, необходимо занять твердую и решительную позицию. Все, кому дорога революция, должны открыто и честно стать на сторону стражей революции — Советов рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов».
Это воззвание Гаврик собственноручно набрал и тиснул в пустой типографии «Одесского листка», при свете двух электрических фонариков, которые держали, стоя возле наборной кассы, связные Пересыпского района, присланные Чижиковым из штаба Красной гвардии с подлинником воззвания, написанным синим карандашом на листке из полевой книжки рукой Родиона Жукова.
Гаврик давно уже не набирал и теперь, взяв в одну руку верстатку, а другой рукой на ощупь беря из кассы тяжелые крупные литеры, почувствовал на короткое время успокоение, как будто бы вокруг ничего особенного не происходило, а Марина на минуту отлучилась из наборной и сейчас воротится.
Он уже вторые сутки ничего не ел, но голода не чувствовал, а только совсем легкое головокружение, от которого все его мысли потеряли тяжесть и как бы легко скользили, ни на чем особенно не задерживаясь.
Но, сделав набор, завязав его шпагатом и положив на цинковый стол с тем, чтобы тиснуть корректуру, он на одну секунду, на один самый короткий миг, вернулся к действительности. Он с пугающей ясностью представил себе остановившееся лицо Марины с опухшим, заплывшим глазом, тусклый блеск этого глаза, и ужас пронзил его до самого дна души. Но сейчас же все заволоклось приятным туманом, и, когда Гаврик набивал на набор пахнущей керосином щеткой мокрый лист срыва, а потом снимал его, разглядывая серый оттиск, ему уже казалось, что Марину, наверное, давно привели в чувство, хорошо, надежно забинтовали ей голову, и теперь она ищет его по всему городу — все такая же в своей финской шапке, с короткой кавалерийской винтовкой за спиной.
Напечатав на американке штук пятьсот воззваний, Гаврик велел отнести их как можно скорее в штаб Красной гвардии товарищу Жукову, а сам попытался из пустого кабинета редактора соединиться по телефону с городской больницей, где, по его предположению, должны были находиться раненые красногвардейцы. Может быть, вместе с ними там была и Марина.
Центральная телефонная станция долго молчала, а потом грубый мужской голос сказал:
— Слухаю!
Гаврик понял, что станция занята гайдамаками.
— Заткнись, жупанник! — крикнул Гаврик в трубку и вышел из редакции «Одесского листка».
Город был темен, гулок, неприветлив. На углах догорали ночные костры. Шаги звонко отдавались в каменных стенах домов.
В воздухе немного потеплело. На домах выступила изморозь, и полукруглый фасад городского театра с черными скульптурными группами в нишах кое-где побелел от инея.
Очень медленно светало.
В коридорах улиц мелькали электрические фонарики патрулей. Цокая и срываясь подковами со скользких гранитных камней мостовой, проехал разъезд, но гайдамацкий или красногвардейский — нельзя было понять.
Стрельба усилилась. Недалеко за углом ударил пулемет. Отовсюду слышались тревожные фабричные гудки, как бы целый лес разнотонных гудков, и посиневший утренний воздух дрожал, как от звуков громадного, приглушенного органа.
Полулежа в маленьком пулеметном окопчике, вырытом прямо посреди клумбы в палисаднике Археологического музея, Гаврик прислушивался к фабричным гудкам, живо представляя себе, как сейчас рабочие Пересыпи, Молдаванки, Дальника, Пишоновской, Раскидайловской собираются в цехах и на заводских дворах и разбирают оружие.
Но Гаврик знал, что их еще нужно разбить на отряды, накормить, снабдить патронами, ручными гранатами, пулеметными лентами; нужно еще своевременно развернуть перевязочные пункты, организовать эвакуацию раненых в лазареты и госпитали.
Вчера гайдамаки напали на них врасплох, и теперь очень нелегко было наверстать упущенное время.
В конце концов исход сражения зависел от того, как скоро сумеют рабочие вооружиться и выступить. А пока приходилось сдерживать во много раз превосходящие силы прекрасно вооруженных гайдамацких куреней, имеющих в своем распоряжении даже броневики и артиллерию.
Наступило утро, и опять целый день на улицах шли бои.
К концу дня гайдамаки, как узнал Гаврик от пробравшихся к нему связных ревкома, уже занимали больше половины города — от Среднего Фонтана до Полицейской, где в трактире помещался горком партии.
Отдельные их отряды прорвались на Дерибасовскую и Думскую площадь, которую оборонял со своим отрядом Гаврик, отступив на Николаевский бульвар и поставив пулеметы: один у памятника Пушкину, другой на крыше Лондонской гостиницы, откуда можно было держать под обстрелом сквер между городским театром и Английским клубом, а третий у подножия знаменитой исторической чугунной пушки — для того, чтобы в случае надобности можно было открыть огонь по гайдамакам с фланга.
Гаврик отрыл себе совсем близко за памятником Пушкину, прямо посреди аллеи Николаевского бульвара, глубокий окопчик и отсюда руководил боевыми действиями своего отряда.
Недавно он получил подкрепление: человек двадцать из большевистски настроенных солдат 46-го запасного пехотного батальона и Ахтырского полка — злых, потрепанных солдатфронтовиков с вещевыми мешками и котелками, которые гремели по мостовой, когда они ложились в цепь.
Они пробрались на позицию к Черноиваненко-младшему кружным путем, через порт по бульварной лестнице, со своими патронами, которые тащили в цинковых ящиках.
Они передали Гаврику записку, нацарапанную химическим карандашом: «Здравствуй, Черноиваненко! Как дела? Посылаю тебе людей — сколько мог мобилизовать на первое время. Ребята надежные, в основном революционное крестьянство в солдатских шинелях. Посылаю также двух телефонистов из Ахтырского полка с катушкой провода и полевым телефоном Эриксон — на тот случай, если придется устанавливать связь со штабом. А пока что приказываю именем Советской власти держаться во что бы то ни стало и больше не уступать этим подлецам, предателям юнкерам, и жупанникам ни одного шага. В наших руках пока что больше половины города и рабочие окраины. Так что положение не такое плохое. Бей гадов хорошенько, но патроны береги. Скоро все переменится, и мы сметем с лица земли всех предателей и контрреволюционеров. С большевистским приветом. Чижиков».
Из выбитых окон городской думы вылетали и кружились на ветру клочья канцелярской бумаги; под изящной колоннадой с белыми статуями в нишах ползали по каменным плитам обгорелые папки, обертки дел и отчетов, черно-синие, как бы зловеще обугленные куски копирки.
Съежившись в своем окопе, Гаврик потирал озябшие руки, дул на кулаки с белыми косточками, искоса поглядывая на городскую думу и с удовольствием вспоминая, как выгнал оттуда всю сволочь во главе с мадам Стороженко, которая разорялась больше всех.
Неужели они опять вернутся? Нет, ни за что! Лучше расстрелять все патроны, а последний пустить в себя.
От этих мыслей Гаврик взбодрился, разгорелся, скрипнув зубами, сплюнул из-под молоденьких, еще как следует не выросших, золотистых усиков.
Перед вечером, по обыкновению, стрельба стала мало-помалу утихать. Наступила длинная пауза. Гаврик осторожно приподнялся, выглянул из окопчика.
Над ним в мутном предвечернем небе с желтыми и розовыми светящимися полосами заката чернела большая курчавая голова Пушкина с бакенбардами, посаженная на маленькое безрукое туловище, задрапированное широкой мантией.
Днем голова Пушкина была сплошь белая от инея, а теперь потемнела, и только большие выпуклые глаза продолжали оставаться белыми.
Изо ртов бронзовых дельфинов на углах цоколя над чугунными раковинами висели сосульки.
За спиною Гаврика тянулся пустой Николаевский бульвар со старыми громадными платанами, среди оголенных сучьев которых разорялись стаи зимних воробьев, от чего платаны звенели, как люстры.
Еще дальше над знаменитой лестницей чернел памятник дюку де Ришелье с простертой рукой, маленький, изящный, как статуэтка. А если повернуть налево, то можно было бы увидеть другой памятник — Екатерине Второй, а еще дальше за городским садом, на Соборной площади, третий памятник — смертельному врагу Пушкина — Воронцову.
Гаврик невесело улыбнулся. Он подумал о том, что вокруг было много памятников — как на кладбище! — знаменитых зданий, дворцов — хотя бы тот же Воронцовский, в самом дальнем конце бульвара со своей знаменитой полуциркульной античной ротондой из семи белоснежных колонн на дымном фоне Пересыпи и керосиновых цистерн, которые всегда напоминали Гаврику карусели, закрытые на ночь чехлами.
Это был его город, и он теперь дрался в нем за Советскую власть.
Дальше отступать было некуда, разве что в море с белыми маяками на конце мола и длинным брекватором, о который, все время разбивались пенистые волны шторма, казавшиеся издали неподвижной полосой снега.
На рейде в разных местах стояли на якорях военные корабли, по временам окутываясь зловещей тучей каменноугольного дыма.
Гаврик мог безошибочно даже в сумерках узнать каждый из них: «Громадный», «Синоп», «Ростислав» и посыльное судно «Алмаз», то самое, о котором пелось в матросской песенке того времени «Яблочке».
Ой, яблочко, Куда котишься? На «Алмаз» попадешь, Не воротишься.Немного в стороне, ближе к нефтяной гавани под желтоблакитным флагом Центральной Рады стоял крейсер «Память Меркурия», и Гаврик знал, что его команда объявила себя нейтральной и выдала весь запас оружия Красной гвардии.
Теперь на всех стих кораблях в темноте бурной январской ночи то и дело мигали световые сигналы фонарей Ратьера, и Гаврик понимал, что это судовые комитеты ведут между собою переговоры — выступать или не выступать.
Иногда на одном из кораблей вспыхивал прожектор, и эфирнофиолетовый сигнал света со скоростью переставляемой минутной стрелки проносился по крышам города, выхватывая из темноты колокольни, чердаки, стеклянные ателье фотографов, купол городского театра и верх как бы добела раскаленного фасада вокзала со светящимися часами.
С моря дул черный ветер, каждые полчаса принося с собой громкие звуки колокола — это в портовой церкви Святого Николая продолжали отзванивать время.
33 ЗНАМЯ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ
Около полуночи бульвар наполнился шорохом башмаков, позвякиванием манерок, визгом пулеметных колесиков. Это пришло большое пополнение, которое привел с Пересыпи некто Синичкин, старый товарищ Терентия.
Время от временл начиная кашлять и сдерживая свой глубокий, сухой кашель, Синичкин шепотом передал Гаврику приказ штаба Красной гвардии принять командование над всей колонной, которая будет наступать по Пушкинской в направлении вокзала, а пока ничего не предпринимать самостоятельно и ждать сигнала общего наступления.
Он сообщил также, что по железнодорожной линии в сторону Большого Фонтана, где находятся тылы гайдамаков, направлен бронепоезд под командованием прапорщика Бачея при комиссаре Перепелицком.
Синичкин нащупал в темноте руку Гаврика и крепко пожал ее своей большой, влажной, горячей рукой с жесткой кожей.
— Сочувствую, — сказал он глухо. — Но что поделаешь!
Гаврик понял, что Синичкин говорит о Марине.
— Знаете, — сказал Гаврик, — я и глазом не успел моргнуть, как она свалилась. Еще слава богу, что не насмерть зацепило. Только кожу на переносице сорвало осколком.
— Вот как?.. — помолчав, спросил Синичкин и хотел еще что-то прибавить, но ничего больше не сказал и стал пристально всматриваться в лицо Черноиваненко-младшего, на короткое время озарившееся лучом прожектора, который в это время пролетел туда и назад по крышам и балконам Пушкинской улицы.
— Да… Так… — пробормотал Синичкин и замолчал надолго.
В первом часу ночи по общему сигналу началось контрнаступление.
Сначала отряды Красной гвардии и революционные воинские части двигались медленно, так что лишь к рассвету Гаврик со своей колонной дошел до угла Пушкинской и Троицкой.
Он стал осматриваться и увидел возле входа в ренсковый погреб шерстяную варежку Марины, полузасыпанную снегом, который сносило ветром с крыш и белыми облаками крушило на перекрестках.
Варежка уже успела крепко примерзнуть к тротуару. Гаврик с усилием оторвал ее и сунул за борт шинели — ледяную, твердую, колючую.
И тут он вдруг как бы очнулся от странного душевного оцепенения, в котором находился последние два дня. Впервые он понял всю правду. Он подбежал к Синичкину и лег рядом с ним за подбитым, опрокинутым гайдамацким броневиком, обледеневшим и уже покрытым сугробом молодого снега.
— Дядя Коля… Слушайте…
Синичкин повернул к нему свое худое, костлявое лицо с побелевшими от снега усами.
— Чего тебе?
— Вы мне правду скажите: что там было слыхать про мою Марину?
В нем еще все-таки теплилась надежда.
— Нет больше твоей Марины, — глухо, через силу, сказал Синичкин, дыша в обледенелый башлык.
Долго молчали.
— Стало быть, так, — сказал Гаврик, неподвижно глядя вперед, вдаль, туда, где между домами струилась белая муть пурги. — Кто ее видел?
— Я сам видел, — сказал Синичкин.
— Где?
— В Валиховском переулке.
— А там что?!
— Университетская клиника.
— Мертвецкая, что ли? — спросил Гаврик, отчетливо произнеся это ужасное слово. — И она там находится?
— Да. Лежит там. Вместе с другими нашими товарищами. Их там человек двадцать. Пересыпские, слободские, с Сахалинчика есть. Два матроса.
— А она… какая? — немного помедлив, с усилием спросил Гаврик.
— Какая? Маленькая. На вид совсем девочка, подросточек. Аккуратная, как гимназистка…
Гаврик странно задвигался на снегу, сорвал с головы фуражку, звякнул винтовкой, ткнулся давно не стриженной золотистокаштановой головой в сугроб и замычал.
Потом он внезапно вскочил на ноги, во весь рост рванулся вперед, выхватил из-за пояса лимонку и швырнул ее далеко туда, где возле пулемета копошились мутные силуэты гайдамаков.
Через несколько мгновений граната разорвалась, послышался человеческий крик, и Гаврик снова лег рядом с Синичкиным, положив лицо в снег.
— Ну брось, брат… брось… не убивайся, — бормотал Синичкин и осторожно потрогал его за плечо.
— Отстаньте! — злобно сказал Гаврик, отворачиваясь, и затрясся.
Через некоторое время по Пушкинской улице со стороны Николаевского бульвара подъехал автомобиль, та самая штабная машина, которую Гаврик три дня назад реквизировал в штабе округа.
За рулем сидел все тот же шофер, а рядом с ним на сиденье во весь рост стоял матрос с «Алмаза» в расстегнутом бушлате, размахивал над головой белым флагом и кричал в жестяной рупор-мегафон:
— Прекратите стрельбу! Отставить! Отбой!
Сзади сидели на кожаных подушках пожилой рабочий в черной каракулевой шапке и двое моряков, из которых один был Родион Жуков.
Стрельба с той и другой стороны мало-помалу стихла. Автомобиль медленно доехал до перекрестка и остановился.
Гаврик увидел, что его ветровое стекло в медной раме в нескольких местах пробито пулями.
Гаврик и Синичкин подошли к автомобилю и узнали, что это делегация судовых комитетов «Синопа», «Ростислава» и «Алмаза», которая везет командованию войск Центральной Рады ультиматум с решительным требованием прекратить военные действия и увести гайдамацкие части в казармы.
— Мы им заявляем, — сказал Жуков, перэгнув-шись через борт автомобиля и пожимая руки Гаврика и Синичкина, — что нам больно, что гибнут наши жизни. Да, братишка, больно… — Он крепко ухватил своей крепкой рукой с маленьким вытатуированным якорем Гаврика за плечо и потряс его. — Больно… Больно, но не воротишь! Крепись, дружок!
Гаврик понимал, что о смерти Марины уже знают все.
— Но, — решительно сказал Родион Жуков, повысив голос, уже не только Гаврику, а всем другим и показал рукой с письмом вперед, в сторону вокзала, — но погибнут и те, кто стремится потопить свободу в крови наших братьев. Пусть так и знают. Поехали, товарищи! — решительно сказал он и, наклонившись к шоферу, добавил: — Давайте, помалу, в штаб военного округа, не объезжая, а прямо через Куликово поле.
И машина медленно двинулась дальше по Пушкинской улице мимо гайдамацких позиций, но через пятнадцать минут промчалась обратно, теперь уже нигде не останавливаясь, и Гаврик видел, как Родион Иванович, повернувшись назад и став коленом на сиденье, с изуродованным от ярости лицом стрелял из своего маузера, и георгиевские ленты его бескозырки, отсвечивая тусклым золотом надписи и якорей, вились и щелкали на ветру.
Ультиматум был отвергнут.
Бои по всему городу возобновились. Но теперь уже дело пошло подругому. Вмешался флот. Не прошло и часу, как матросыкорректировщики с «Ростислава» и «Синопа» выскочили из моторных катеров на пирс Карантинной гавани и, разбившись на несколько групп, побежали по каменным лестницам, узким портовым переулкам вверх в город.
Скоро на крышах наиболее высоких домов, на пожарной каланче Херсонского участка, на куполе городского театра показались маленькие фигурки с развевающимися матросскими воротниками, замелькали флажки сигнальщиков и стали вспыхивать фонарики Ратьера.
В это время портовый катер под красным флагом военнореволюционного комитета отвалил от Платоновского мола и, обогнув брекватор, сразу же был подхвачен штормовыми волнами.
Родион Жуков стоял, навалившись широкой грудью на рубку машинного отделения, откуда через открытый люк несло жарким воздухом, и сжимал в твердых губах прямую английскую трубку.
Другие члены военно-революционного комитета и делегаты Румчерода сидели на корме с поднятыми воротниками шинелей и пальто, в шапках, надвинутых на уши.
Небо было сумрачное, темное.
Море на горизонте казалось зубчатым, как пила, и оттуда, из-за маяка, крепкий ветер нес в лицо брызги и ледяную крупу. Катер валяло. Из черной трубы густо полз черный дым, и в лица сыпалась сажа.
Удаляющаяся панорама города то поднималась высоко, то проваливалась. Глядя на город, трудно было представить, что там уже третий день идет кровопролитие. Лишь изредка доносились против ветра далекие, слабенькие выстрелы трехдюймовок — это, повидимому, бронепоезд «Ленин» со станции Одесса-товарная обстреливал позиции юнкеров на Французском бульваре.
Одна за другой катились крутые, очень высокие, бутылочнозеленые волны с пеной на гребне, и в глубоких провалах между ними качались сотни чаек, которые скользили по склонам волны вниз и вверх и вдруг оказывались на самом гребне среди пены.
Тогда они начинали хлопать крыльями, взлетать, кружиться целыми тучами на ветру, наполняя воздух резкими криками, а потом снова падали на воду и скользили вниз, в глубину водяных ям, и качались там, как поплавки, повернувшись спиной к ветру.
Родион Жуков смотрел на чаек, и ему казалось, что здесь тоже идет какая-то своя беспощадная война между ними, ветром, волнами, пеной.
Чайки напоминали ему туман над Невой, Смольный и Ленина. Он представил себе секретариат председателя Совета народных комиссаров — маленькую комнатку, где прежде ютилась какая-нибудь пепиньерка, и Павловскую, наклонившуюся над своим неуклюжим, разбитым ундервудом с длинной кареткой. Она еще ничего не знает, а тело ее Марины уже третий день лежит в университетском морге на мраморном столе, с завалившейся набок головой и белым, совсем не похожим на себя лицом, на котором так заметны ужасные тени провалившихся щек и хрящеватого носа.
Но вот, наконец, перед катером выросла громадная, высокая стена броненосца «Синоп», вся в крупных желто-коричневых разводах камуфляжа.
Став на борт катера, который с размаху бросало то вверх, то вниз, как на качелях, Родион Жуков привычно схватился руками за канат и сноровисто полез вверх по шторм-трапу.
За ним тяжело поднимались ревкомщики, таща за руки и подталкивая сзади молодого человека в штатском, в очках на песочножелтом, золотушном лице, в глубоких резиновых галошах, с наганом поверх драпового пальто, члена Румчерода, старого социал-демократа Рузера, возвратившегося недавно из эмиграции со второй партией большевиков.
Ползя вверх, он умудрился крепко держать под мышкой большой рулон, аккуратно завернутый в газетную бумагу, — план города Одессы, где красным карандашом были отмечены все пункты, занятые врагами.
Давно не ступала нога Родиона Жукова на палубу военного корабля. Теперь же, очутившись среди орудийных башен, шлюпбалок, увидев на большой, как площадь, носовой палубе с узкоколейными рельсами медный корабельный колокол — рынду и минные аппараты, увидев вокруг себя матросов в брезентовых робах, их синие развевающиеся воротники, Родион Жуков почувствовал душевное волнение..
Подошли члены судового комитета.
Им уже было известно, что штаб войск Центральной Рады отказался прекратить кровопролитие и отверг ультиматум. Они были готовы в любой момент открыть огонь, только дожидались прибытия на борт делегации военно-революционного комитета с планом города.
Они окружили Родиона Жукова. Он был для них как бы знаменем двух революций — пятого года и Октябрьской, броненосца «Потемкин» и «Авроры». Он был политический «эмигрант», социалдемократ большевик, участник штурма Зимнего дворца, делегат Второго съезда, человек из легендарного Смольного, посланец Ленина. И в то же время он был свой брат черноморский моряк.
Родион Жуков знал, что они ожидают от него каких-то слов, может быть, даже речи, но в этот момент он ничего не мог сказать, потому что его мысли были далеко: он видел Одесский рейд, белоснежный маяк, город на горе с колоннадой Воронцовского дворца и раковинообразным куполом театра, и ему вдруг удивительно ясно вспомнился тот жаркий июньский день двенадцать лет назад, когда «Потемкин» остановился на рейде и навел орудия на купол городского театра, где как раз в это время под председательством седоусого, осанистого генерала из немцев фон Каульбарса заседал военный совет против мятежников — так называли в те дни революционный, восставший народ.
Жуков вспомнил, как один и другой раз выстрелило его орудие по театру — недолет и перелет, а в третий раз, когда купол был взят в вилку, уже не выстрелило. Кто-то дал отбой. И восстание захлебнулось.
Так живо, как будто бы это все происходило сейчас, почувствовал Родион Иванович жгучую боль обиды.
— Эх, гады, продали нас тогда! — сказал он, глядя на окружавших его матросов «Синопа» маленькими, острыми глазами, твердо сидящими под сдвинутыми бровями с легкими искорками седины. — Надо было Кошубу послушаться. Зря дали отбой. Надо было бить по городу, гвоздить, не останавливаясь, высаживать десант. Весь бы юг подняли, может быть, всю Россию. Ну да теперь, я думаю, не ошибемся. Верно, товарищи?
— Не ошибемся! — послышались голоса.
— Добре, кройте. Не жалейте, братишки, снарядов. Чтобы всю контрреволюцию вымести с советской земли. Генерала Каульбарса тогда не достали, зато теперь генерала Заря-Заряницкого достанем. Достанем, товарищи?
— Достанем, Родион Иванович!
— Именем революции! — крикнул, натужив грудь, Родион Жуков, снял старую потемкинскую бескозырку и махнул ею над своей круглой, по-матросски остриженной головой.
— Ревун! — скомандовал он и стремительно мягкой, флотской походкой, легкой и цепкой, побежал вверх по трапу на ходовой мостик, где командир корабля, судовой комитет и делегаты Румчерода склонились уже над развернутым планом города, прикладывая к нему масштабную линейку и готовясь к пристрелке.
Родион Жуков был еще на половине трапа, как взревела мрачная сирена корабельного ревуна.
— Огонь!
Ударило башенное орудие и ослепило, как будто из его поднятого ствола выдернулась и улетела простыня ослепительного пламени.
Дрогнул рейд.
И первый пристрелочный снаряд потек над городом с напористовкрадчивым шорохом, с шелестом, со звуком токарного станка. С кажущейся медлительностью снаряд двигался по своей траектории, и в городе под ним все смолкло, прислушиваясь к его грозному полету.
Прислушивался Гаврик, приподняв голову от сугроба на углу Пушкинской и Троицкой; прислушивался Терентий; прислушивался Василий Петрович, перевязывая раненых в аптеке Гаевского на Садовой; с ужасом прислушивались гайдамаки, один за другим отступая цепочкой к вокзалу; прислушивался генерал ЗаряЗаряницкий, стоя во весь рост в холодном мраморном вестибюле штаба и рассматривая себя в сумрачном штабном зеркале; прислушивался Петя, высунувшись по пояс из люка бронепоезда, который, осторожно попыхивая и постукивая на стыках, пробирался по окружной железнодорожной ветке между Одессой-товарной и Одессой-сортировочной.
Снаряд невидимкой убежал по дуге куда-то за город, стих, и сейчас же послышался глухой, расползающийся грохот чудовищного разрыва в районе за выгоном Ближних Мельниц, возле двенадцатой станции, в гайдамацких тылах.
Едва смолк грохот разрыва и сигнальщики на крыше городского театра отмахали своими флажками, как ударил второй выстрел на «Ростиславе», и новый снаряд пошел высоко над городом.
Пристрелка шла медленно, обстоятельно. Казалось, между двумя выстрелами лежит вечность. После каждого разрыва все гуще и чернее становилось облако на окраине города.
Мучительно долго тянулся этот короткий зимний день.
Наконец стемнело.
Теперь военные корабли уже били на поражение по всем целям, нанесенным красным карандашом на плане города.
Город гремел, вспыхивал, дрожал.
Наступила ночь.
34 БРОНЕПОЕЗД «ЛЕНИН»
Черный ветер дул с моря.
Он уже не был таким ледяным, режущим, как накануне, но все же Петя, Колесничук и Перепелицкий, которые вот уже двое суток не выходили из башен бронепоезда, озябли до костей и для того, чтобы хоть немного согреться и отдышаться на свежем воздухе от пороховых газов, влезли на паровоз и стояли там, держась за поручни и поворачиваясь то спиной, то грудью к горячему котлу.
Пользуясь отбоем, команда бронепоезда тоже вылезла из холодных башен и казематов и, по примеру своего начальства, облепила паровозный котел, его жаркое железное туловище.
Бронепоезд стоял на переезде против Чумки, между водопроводной станцией и вторым христианским кладбищем.
Наблюдатели и телефонисты были высланы в сторону от железнодорожной линии по направлению к фонтанам с тем, чтобы засечь новые цели.
Вокруг было темно, тихо.
Изредка из паровозного поддувала падали угольки, и тогда рельсы и шпалы ненадолго озарялись рдяным светом. И каждый раз, как падали угли, Петя стучал кулаком в окошечко машиниста и простуженным, еле слышным голосом кричал:
— А ну, вы, там, железнодорожники, Викжель, прикройте поддувало! Сколько раз вас просить?
— Ты их не проси, а ты командуй, — ворчал Перепелицкий. — Тоже мне прапорщик, интеллигент!
— Подпоручик, — поправил Петя.
— Одна сатана.
— Жора, объясни этому типу разницу, — пожимая плечами, сказал Петя, обращаясь к Колесничуку, уткнувшему свой длинный нос в наставленный воротник полушубка.
— А хиба ж вин шо небудь тямит — цей нижний чин, серая порция, — сказал Колесничук. — Деревенская темнота. А ще называется комиссар!
Пока Колесничук служил у гайдамаков, он из чувства протеста говорил по-русски, но как только перевелся в Красную гвардию, то из того же чувства хохлацкого упрямства старался говорить «на мове», в особенности в тех случаях, когда хотел быть язвительным.
— А вы кто такие против меня? — молодцевато спросил Перепелицкий, становясь боком и подкручивая усы.
— Во-первых, мы против тебя офицеры, ваши благородия, и ты перед нами должен стоять, как полагается по уставу, каблуки вместе, носки врозь, руки по швам, — сказал Петя, играя глазами.
— Мы таких офицеров в два счета отправляли на фронте в штаб Духонина, а здесь — на «Алмаз» и головой в топку.
— Таких, да не таких, — сказал Колесничук, — то были золотопогонники, кадровики, а мы с Петей красные командиры, служим пролетарской революции.
— Ну когда так, то давай закурим, — ответил Перепелицкий и вытащил из голенища свой знаменитый кисет, вышитый руками Моти, предмет восхищения и зависти всего бронепоезда.
— Табачок фабрики Асмолова, дерет глотку здорово. Налетай, офицеры!
— Только приказываю курить аккуратно и огонь прятать в рукав, — строго заметил Петя.
— Слушаюсь, ваше благородие! — вытянулся Перепелицкий.
Ему нравилось, что в бронепоезде, где он комиссаром, подобрались такие подходящие командиры, хотя и бывшие офицеры, но ребята славные, в особенности Петька Бачей, бывший Мотин кавалер, что, с одной стороны, немного мучило ревнивого Перепелицкого, а с другой — непонятным образом как бы слегка льстило его самолюбию: дескать, у его Мотички такой интересный кавалер из бывших офицеров.
Перепелицкий этим немного бравировал и даже позволял себе иногда при случае заметить вскользь:
— Это командир нашего бронепоезда, прапорщик Бачей Петя, кавалер моей Матрены Терентьевны, конечно, бывший!
Простой и добрый малый Колесничук, назначенный помощником Пети, а также командиром пехотного десанта, пришелся по душе всей команде бронепоезда, в особенности Перепелицкому.
В свободные минуты Колесничук и Перепелицкий весьма красиво и чувствительно «спивалы у двох» украинские песни.
В бронепоезде царила атмосфера семейная, так как почти вся команда состояла из рабочих с Ближних Мельниц, знакомых Пете еще по хутору Васютинской.
Машинистом бронепоезда был тот самый старичок железнодорожник, который в прежние времена захаживал к Терентию на партийные собрания прямо с дежурства вместе со своим фонарем и сундучком.
Воевали весело и зло, все время потихоньку двигаясь вокруг города, переходя с ветки на ветку, — поддерживали огнем из своей пары трехдюймовок отряды Красной гвардии и матросов.
Регулярной связи со штабом Красной гвардии не было, и действовали большей частью на свой риск и страх: высылали собственных телефонистов и наблюдателей, а то и просто били прямой наводкой по крышам и колокольням, где жупанники и юнкера выставили свои пулеметы. Город знали как свои пять пальцев, потому что почти все были местные, одесситы, и стреляли наверняка. Цели не записывали и не слишком надеялись на угломер, а Петя просто командовал, высунувшись из люка:
— А ну-ка, Гриценко, дай раза два бризантной по колокольне Андреевского монастыря, а то, сдается мне, там они опять поставили свою машинку.
Или кричал, стоя на контрольной площадке с биноклем в руке:
— Взводом! По Новорыбной, угол Ришельевской, против Александровского участка, недалеко от иллюзиона «Двадцатый век», по скоплению юнкеров два патрона беглых, гранатой, огонь! Первое! Второе!
И наводчики, одесские парни, коренные черноморцы, очень хорошо понимали его: они быстро отмечались по какой-нибудь знакомой трубе или тополю, ставили прицел и азартно палили, причем почти никогда не мазали.
Несколько раз бронепоезд попадал в засаду под кинжальный огонь вражеских пулеметов, но спасала хорошая, на совесть приклепанная броня.
Потеряли всего лишь шесть человек убитыми и ранеными из числа десантников, не успевших перейти с контрольной площадки в блиндированный каземат.
Один раз десантники под командой Колесничука ходили в атаку на отделение юнкеров, окопавшихся возле станции Одессасортировочная, выбили их из окопчиков, взорвали небольшой склад боеприпасов, который они охраняли, и быстро вернулись назад, приведя десяток пленных — насмерть перепуганных мальчишек — юнкеров и гимназистов в своих светлых шинелях и верблюжьих башлыках.
Отобрав у них винтовки, подсумки, башлыки, сорвав погоны и кокарды, переписав их фамилии в полевую книжку и собственноручно набив им морды, Перепелицкий велел им отправиться по домам и сидеть там под юбкой у мамы, предупредив, что если кого-нибудь из них поймает еще раз, то чтобы тогда не плакали и не пускали сопли, потому что все равно не поможет.
При этом Перепелицкий так свирепо, изобретательно и надрывно ругался, что Петя сказал, поморщившись:
— Ну, Аким, ей-богу, как тебе не совестно… На что Перепелицкий гаркнул:
— А ты не встревай! Еще скажи спасибо, что я не поснимал с них сапоги и не отправил их всех к едреной бабушке в штаб господа бога, только неохота марать руки об этих байстрюков!
И тут только Петя понял впервые, какое бешенство кипит все время в Перепелицком и сколько нужно было ему иметь силы воли, чтобы сдержать в себе порыв ненависти, от которого у него мутилось в глазах и судорожно подергивалось красивое, побледневшее лицо.
Теперь, на исходе третьей ночи, на железнодорожном полотне вдруг мелькнула солдатская фигурка.
— Стой, кто идет? — крикнул часовой с контрольной площадки.
— Свои, — ответил нежный украинский тенорок.
— Каки-таки свои? А ну, стой где стоишь, не двигайся, вражий сын!
И часовой со звоном вогнал патрон в ствол винтовки.
— Та це же я! — проговорила солдатская фигурка, и Петя узнал голос Чабана, который несколько дней назад куда-то исчез, и Петя был уверен, что он наконец-таки подался до дому на станцию Бобринская, где у него были батька и матка, хата и дивчина Фрося, с которой он заручился незадолго до призыва в солдаты.
— Это ты, Чабан? — спросил Петя.
— Так точно, господин прапорщик! — радостно крикнул Чабан. — Я так и думал, что це наш бронепоезд. Разрешите доложить, — продолжал он, вскарабкавшись на паровоз.
— Постой, братец, — строго сказал Петя, — сначала доложи: где это ты пропадал?
— Так я ж вам про то и докладываю. Был я, значится, в казармах первого пластунского полка, там у меня найшовся, как бы сказать, один землячок с нашего села, только по другую сторону от церкви, чи седьмая, чи девятая хата с краю.
И Чабан стал с увлечением рассказывать, как он на днях заскочил в пластунские казармы сменять два куска стирочного мыла на подошвенную кожу и вдруг нашел там кашевара-землячка.
В этом не было ничего оригинального, так как у Чабана всюду были землячки-кашевары или каптенармусы.
— Постой, — сказал Петя, и лицо у него налилось кровью. — Ты ходил в пластунские казармы?
— Так точно, господин прапорщик! — ответил Чабан, с выражением сытой невинности глядя на Петю.
— Во-первых, я тебе не прапорщик, а подпоручик, если уж тебе так хочется, черт бы тебя подрал! — закричал Петя. — И уже, во всяком случае, не господин. Господа на «Алмазе» сидят. Не забывай, что ты обращаешься к командиру Красной гвардии, а не к какому-нибудь корниловцу. А во-вторых, как же ты посмел в военное время оставить свою часть и своего офицера и пойти в гости в казарму к врагам? Знаешь, как это называется?
— Никак нет.
— Измена!
— Виноват, ваше благородие.
— А вот я тебя сейчас, сукин сын, собственноручно перед всей командой бронепоезда отправлю в штаб Духонина, — сказал Петя, искоса глядя на Перепелицкого.
— Правильно, — одобрительно кивнул головой Перепелицкий.
Петя полез в карман за кольтом. Однако вопреки ожиданию Чабан не только не испугался и не стал молить о пощаде, а, напротив, вдруг страшно рассердился:
— Что вы на меня кричите, как при старом режиме? Сначала выслухайте, а потом хватайтесь за леворвер. Я привел до вас целую делегацию от гайдамаков.
— Это еще какую делегацию?
— От пластунских куреней. Да вы с неба упали, чи шо? Сидите здесь на своем поезде и не знаете, что вокруг робится!
Оказывается, в гайдамацких частях все время шло брожение, еще более усилившееся под влиянием агитации, которую вели среди гайдамаков захваченные ими в плен во время уличных боев красногвардейцы, матросы и солдаты. Так что когда оборотистый Чабан попал в казармы первого пластунского полка менять мыло на подметки, там уже второй день не прекращался митинг с участием представителей остальных трех полков, а также пленных красногвардейцев.
Чабана охватила митинговая лихорадка. Забыв и подметки, и мыло, заодно с ними и своего землячка-кашевара, Чабан более суток простоял в толпе солдат на казарменном дворе, волновался, кричал, несколько раз взбирался на походную кухню и держал речь, требуя от имени трудящегося крестьянства Бобринского уезда немедленно прекратить братоубийственную бойню, арестовать гайдамацких офицеров, контрреволюционные элементы, «цих старорежимных жупанников, чтоб им на том свете повылазило», признать Советскую власть и с божьей помощью отправляться по домам, где до весны уже недалеко и надо готовиться пахать, боронить и сеять, также, наконец, закончить раздел отобранной помещичьей земли.
Примерно в таком же духе выступали и все остальные, так что вечером была принята резолюция и выбрана делегация, которая должна была доставить ее в военно-революционный комитет.
Но так как в городе еще шел бой и никто не знал, где находится красногвардейский штаб, то Чабан взялся провести делегацию к «своим», то есть на бронепоезд, к товарищам Бачею и Перепелицкому, откуда уже нетрудно будет связаться со штабом военнореволюционного комитета.
— Так что же ты нам начал морочить голову подметками и мылом? — сказал Перепелицкий. — Ну, где же они, твои делегаты?
— А туточки, под переездом, в холодочке, — с готовностью ответил Чабан.
— Так зови же их!
— Господин прапорщик, разрешите? — обратился Чабан к Пете, давая понять Перепелицкому, что хотя тот и комиссар и уполномоченный ревкома, но прапорщик Бачей для него все еще остается единственным признанным начальством.
— Разрешаю, — сказал Петя.
Чабан свистнул, и тотчас из-под переезда на железнодорожное полотно вылезло пять или шесть пластунов-гайдамаков, неся над папахами лист бумаги, сложенный вдвое.
Перепелицкий посветил им электрическим фонариком, они вскарабкались на паровоз, и при свете того же фонарика была прочитана бумага, где стояло следующее: «Мы, рабочие и крестьяне первого пластунского, второго, третьего и четвертого полков и пленные рабочие, солдаты и матросы, посылаем нашу делегацию в военно-революционный комитет с братским предложением прекратить кровопролитную братскую бойню. Мы все — украинцы — простираем к нашим братьям руку и заявляем, что все контрреволюционные элементы, находящиеся в нашей среде, будут арестованы. Да здравствует рабоче-крестьянская революция! Да здравствуют Советы рабочих и крестьянских депутатов! Да здравствует социалистическая революция!»
Команде бронепоезда стало ясно, что Советы победили всюду.
Посовещавшись с Перепелицким и Колесничуком, Петя постучал в будку машиниста и приказал потихоньку двигаться к вокзалу «Одессапассажирская», который, по общему мнению, уже должен был быть занят частями Красной гвардии.
И действительно, едва бронепоезд очень медленно и почти бесшумно подошел к дебаркадеру и остановился против входа в зал первого класса, как его окружили красногвардейцы и матросы, только что штурмом взявшие вокзал.
Как это ни странно, но железнодорожная электрическая станция работала, и на вокзале кое-где горели уцелевшие электрические фонари, и при их предутреннем, утомленном свете как-то особенно внушительно и грозно маслянисто чернели поцарапанные пулями и осколками башни бронепоезда и небольшой красный флажок с белой самодельной надписью «Бронепоезд „Ленин“, по-видимому задетый пулей и покосившийся на своем сломанном древке.
Как Перепелицкпй и предполагал, весь штаб военнореволюционного комитета уже прибыл на вокзал, и пластунских делегатов без промедления отвели в бывшую комнату военного комендантг., где временно обосновался Чижиков, который и принял капитуляцию гайдамацких куреней.
35 У ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ
Обросший, с небритыми щеками и подбородком, с воспаленными глазами, сидел Гаврик на полу в зале первого класса и, положив рядом с собой винтовку, торопливо переобувался.
Еще вчера он почувствовал, что у него натерта нога, но не было времени расшнуровать грубый башмак и перемотать портянку.
Иногда начиналась такая адская боль, что казалось, будто нога возле щиколотки протерта до кости. Но шел бой, надо было целиться, стрелять, перебегать от подворотни к подворотне, бросаться с разбегу на мостовую, швырять ручные гранаты, выламывать запертые ворота и бежать через проходные дворы с тем, чтобы внезапно появиться в тылу противника, — и тогда жгучая, непереносимая боль на короткое время забывалась.
Кроме того, Гаврик простудился, у него началась ангина, его терзал сухой, рвущий кашель, выворачивающий душу. У него был сильный жар. Все его вспотевшее тело чесалось.
Ему трудно было командовать, и он кричал из последних сил осипшим, еле слышным голосом.
Но мучительнее всего была та ни с чем не сравнимая душевная боль, та незаживающая рана, которая ни на миг не давала ему покоя. Это была мысль о смерти Марины, которая терзала его своим неустранимым, устойчивым постоянством.
К этому душевному мучению присоединилось другое мучение: мучение чувства своей вины в ее гибели. Постоянно мысль о том, что не отпусти он под расписку Заря-Заряницкого, то, быть может, не было бы предательского восстания гайдамаков, и Марина была бы теперь жива, доводила Гаврика до исступления.
Временами он терял всякую власть над собой и, как бы ища немедленной смерти, бросался во весь рост на гайдамацкие пулеметные гнезда.
Как он мог поверить Заря-Заряницкому, царскому генералу, матерому контрреволюционеру, вешателю и подлецу?!
Он его должен поймать и уничтожить собственными руками, иначе жить немыслимо!
Постепенно эта мысль стала главной. Она руководила всеми действиями Черноиваненко-младшего.
Теперь он стал крайне осторожен, почти труслив. Он боялся, чтобы его не скосила пуля, прежде чем он не рассчитается с ЗаряЗаряницким. А он с ним непременно рассчитается, он покарает его своею собственной рукой от имени революции.
Руководя боевыми действиями своей колонны, Гаврик преследовал одну цель: как можно скорее, первым ворваться в здание штаба, где должен был находиться Заря-Заряницкий. Поэтому, дойдя с боем до самого привокзального сквера, Гаврик совершенно неожиданно повернул отряд налево, на Новорыбную, в обход Куликова поля, где стояла батарея юнкеров, предоставив брать вокзал Терентию и Чижикову, наступавшим по Ришельевской и Екатерининской.
Никто, кроме Синичкина, не догадывался, для чего Черноиваненко-младший это делает. Но Синичкин понял сразу: Гаврик хочет выйти на Пироговскую улицу через дачу „Отрада“ и Юнкерский переулок, задами и частью берегом моря, с тем чтобы внезапно, с незащищенного тыла, атаковать штаб и взять живьем ЗаряЗаряницкого.
Теперь, когда все это уже совершилось, Гаврик не испытывал облегчения.
Он машинально переобувался, а перед его глазами все время стояла одна и та же картина, вызывавшая мучительную душевную тошноту.
Хотя ему первый раз в жизни пришлось застрелить человека в упор из револьвера и это не могло его не потрясти до глубины души невероятной, сводящей с ума простотой, все же он не испытывал ничего даже отдаленно похожего на угрызения совести.
Напротив, он сознавал свою полную правоту и высшую справедливость того, что он сделал с генералом Заря-Заряницким, и душа его, хотя и дрожала от боли, но в то же время оставалась ясной. Но он был поражен мгновенным превращением на его глазах и по его воле живого человека в мертвеца, что уже находилось как бы по ту сторону человеческого сознания.
Вот как все это произошло.
Едва Гаврик подбежал по Пироговской улице со стороны госпиталя к подъезду штаба, уже со всех сторон окруженного его отрядом, как увидел, что опоздал.
Внутри здания штаба раздавались глухие выстрелы, и сверху полетело битое стекло из окна, вырванного взрывом ручной гранаты.
Вдруг распахнулась входная дверь, и два матроса, обмотанные пулеметными лентами, вытолкали прикладами на улицу генерала ЗаряЗаряницкого.
Он был без шапки, в шинели, с одним оторванным, а другим полуоторванным погоном, который висел на плече, с разбитым пенсне, болтающимся на ухе на золотой цепочке, в хорошо начищенных хромовых сапогах с маленькими шпорами, царапающими каменные ступени крыльца.
— А… — сказал Гаврик.
Матросы толкнули генерала к стене здания возле водосточной трубы с одним вырванным, запачканным известью костылем.
Все это происходило с чудовищной быстротой и неотвратимостью.
Гаврик поднял наган.
— Погоди, еще не стреляй, — сказал Синичкин, легким повелительным движением остановил Гаврика.
Матросы отошли в сторону.
— Генерал Заря-Заряницкий, — сказал Синичкин сурово и поправил на носу свои маленькие железные очки. — Вы контрреволюционер и предатель! Мы таких людей караем! Не взыщите. Именем революции!
Заря-Заряницкий, по-видимому, хотел что-то сказать, но Гаврик выстрелил, и он, раскинув шинель на красной генеральской подкладке, упал затылком на цинковую водосточную трубу, и его грубое, злое, испуганное лицо с серебряным ежиком волос над низким лбом тотчас стало равнодушно-отчужденным.
Теперь это мертвое, нечеловечески-неподвижное, белое лицо все время стояло перед глазами Гаврика, и он ненавидел Заря-Заряницкого вдвойне, как врага-контрреволюционера и как человека-предателя, заставившего его, Гаврика, запачкать свои руки кровью и взять на душу убийство.
— Ты уже здесь, вояка! — сказал Петя, входя в зал первого класса. — Ну, поздравляю с победой. А где же Марина?
Он привык, что Гаврик и Марина всегда были вместе.
— Разве ты ничего не знаешь? — спросил Гаврик со странной, остановившейся улыбкой.
— Нет. А что?
Гаврик продолжал смотреть на Петю воспаленными глазами с золотистыми ресницами. Петя почувствовал, что холодеет.
— Нету больше Марины, — сказал наконец Гаврик с усилием и жалко улыбнулся.
Он механически быстро замотал и заправил обмотку, встал на ноги и положил Пете на плечо обмороженную руку.
— Ты шутишь, — прошептал Петя. Это было выше его понимания. — Когда? — спросил он.
— Позавчера, на углу Пушкинской и Троицкой, — ответил Гаврик, продолжая все так же грустно, просительно улыбаться.
— Нет! — воскликнул Петя, отступая на шаг.
— Да, брат, — сказал Гаврик, глядя в глаза Пете слезящимися, красными глазами.
Они сели рядом на прилавок газетного киоска.
Трое суток назад, ночью, в день победы, на этом самом месте сидел Терентий и грозил Марине пальцем: „Гляди! Ты бы лучше дома сидела. В твоем положении бегать по городу не слишком полезно“.
С того времени мало что изменилось в зале первого класса. Те же искусственные пальмы с пыльными войлочными стволами, буфет, похожий на орган, громадный самовар с медалями, дубовая мебель. Лишь в одном месте отвалился кусок лепного потолка, и паркетный пол был по всем направлениям испятнан известковыми следами солдатских ног, да кое-где были выбиты стекла, так что по всему залу летели сквозняки.
— Ты знаешь, — сказал Гаврик, — у нас с Мариной готовился хлопчик, Марат.
Петя снял фуражку с пятном от кокарды и вертел ее в руках, не зная, что сказать. Слова были бессильны. Он боялся раскрыть рот, чтобы не зарыдать.
— Ты ее когда-то любил, верно? — спросил Гаврик, пристально рассматривая белые следы на полу.
— Любил, — ответил Петя.
Теперь ему казалось, что он любил всю жизнь только ее одну.
Он сказал о ней, как о мертвой, но все же никак не мог поверить, что ее уже действительно больше не существует на свете. К этой мысли еще надо было привыкнуть.
Петя ничего не чувствовал, кроме странной душевной опустошенности. Он не знал, что сказать еще Гаврику и следует ли вообще что-нибудь говорить.
Они долго молчали.
Вдруг Гаврик очнулся, заторопился, соскочил на пол и своим обычным, решительным, коротким движением подтянул пояс.
— Я пошел, — резко сказал он.
— Куда?
— В Валиховский переулок.
— А там… что?
Гаврик с удивлением посмотрел на Петю.
— Там она.
— Где?
— В университетской клинике. В морге, — сказал он отчетливо и отвернулся.
— Я с тобой.
— Нет!
Он закинул за спину винтовку и, не оборачиваясь, пошел к выходу.
Петя смотрел ему вслед, на его подпрыгивающую винтовку и никак не мог до конца понять всего, что случилось. Это была первая смерть близкого человека, друга, сверстника. Петя попытался представить себе Марину такой, какой он видел ее в последний раз, но никак не мог. Она все время ускользала. И еще должен был быть Марат. Этого Петя совсем никак не мог вообразить. Она все время представлялась девочкой, подростком, с черным шелковым бантом в каштановых волосах, в коротком летнем пальтишке, с репейником в чулках. Он вспомнил, как она спала в катакомбах на ящике от „американки“, положив голову на колени матери и поджав ноги в маленьких пыльных башмачках на пуговицах, из которых один просил каши.
И вот теперь она лежит где-то в Валиховском переулке, окоченевшая, с пробитой головой, неузнаваемая, несуществующая, мертвая…
Нет, это было так страшно, чудовищно, что никак не укладывалось в сознании Пети.
Но недаром говорится: пришла беда, отворяй ворота. Едва скрылся Гаврик, как на Петю свалилась еще одна ужасная новость.
К Пете, стуча сапогами, подбежал Чабан и встал смирно, глядя широко открытыми глазами. Петя сразу понял: случилось что-то страшное.
— Товарищ командир, — проговорил Чабан с усилием. — Разрешите доложить… Только не знаю, как вам сказать…
— Что? — спросил Петя.
— Только что воротились хлопцы, которые брали пятую гимназию…
— Ну?
— Так там во дворе под стеной нашли троих наших расстрелянных…
— Ну? — повторил Петя, чувствуя, как у него гнутся и холодеют ноги.
Страшная догадка мелькнула у него в голове.
— Кто же такие?
— Якись наши хлопчики. Одного уже опознали — це Женька Черноиваненко, другой, неопознанный, в рыжих штанцах, а за третьего хлопчика гадают: чи это ваш Павел, чи ктось другий — невозможно разобрать, бо у него вся голова сквозь пробита пулями.
Петя молчал.
— А, мабуть, це и не Павел, — тихо сказал Чабан, как бы желая смягчить удар, который наносил своему офицеру. — Люди кажут, что на том хлопчике гимназическая шинелька и старые юфтовые сапоги.
Петя продолжал молчать, чувствуя в душе странную, холодную пустоту, почти равнодушие.
Последнее время он совсем не думал о Павлике, не имел понятия, где он живет и что делает. Слышал, что вместе с Женькой Черноиваненко они организовали какую-то молодежную боевую дружину, воюют с бойскаутами и помещаются где-то в своем штабе на казарменном положении.
Но Петя не относился к этому серьезно.
Казалось невероятным, что это он, Павлик, тот самый маленький мальчик с челкой и невинными зеркально-шоколадными глазками, который некогда пошел по городу за „Ванькой рутютю“ и потерялся, тот самый Павлик, который на хуторе поигрывал за сараем в картишки, который с Женькой Черноиваненко изображал марсиан и кричал: „Улы-улы-улы!“ — теперь лежит под забором во дворе пятой гимназии с неузнаваемо изуродованной головой.
— Товарищ командир, — жалобно сказал Чабан, — вы сходите туда. Мабуть, и не опознаете. Може, це и не вин.
— Да-да.
36 ХЛОПЧИКИ
Уже рассвело.
Утро было будничное, серое, морозно-сырое. С моря продолжал дуть темный, неприятный ветер. Улицы были покрыты какими-то тряпками, обрывками солдатской амуниции, обломками домашней мебели, сбитыми сучьями акации, стреляными гильзами, цинковыми ящиками из-под патронов, битым стеклом, штукатуркой, кусками расплющенных водосточных труб. Казалось, по городу пронесся ураган или наводнение.
На чугунной ограде привокзального сквера висел труп гайдамака в синем жупане, и его красноверхая папаха лежала рядом на газоне, примерзшая к луже. Наверное, он хотел перелезть через ограду, уже занес ногу — и тут его срезала красногвардейская пуля.
Рядом, поперек мостовой, припав на побитое колесо, стоял пустой, остывший броневик с пулеметом, повернутым в небо.
Бои кончились. Но жители города еще не решались выходить из домов, и на улицах было пустынно.
На Ришельевской догорал иллюзион „Двадцатый век“, и тротуар возле него был весь усеян осколками разноцветных крашеных лампочек, как скорлупой пасхальных яиц.
В Афонском подворье звонили к заутрене.
Трупы расстрелянных хлопчиков были уже перенесены со двора в гимнастический зал.
По-видимому, здесь шел сильный бой, потому что многие окна гимназии были выбиты, вырваны вместе с рамами, и двор, покрытый отборным морским гравием, был усеян битой лабораторной посудой и разными приборами из физического кабинета, выброшенными во двор взрывной волной, в том числе хорошо знакомая Пете электрическая машина с уцелевшим стеклянным диском, радиально оклеенным полосками серебряной бумаги, похожими на восклицательные знаки.
Трупы лежали рядом на черном асфальтовом полу между параллельными брусьями и длинной кожаной гимнастической кобылой, и Петя, едва лишь вошел в знакомый с детства гимнастический зал с желтой, ясеневой шведской стенкой, стопкой пыльных стеганых матов и деревянным трамплином для прыганья, сразу увидел свою старую гимназическую шинель со светлыми пуговицами, докрасна протертыми посередине, которую донашивал Павлик.
Петя увидел торчавшие из-под шинели худые, почти детские ноги в солдатских сапогах и руку, откинутую в сторону, с небольшой, неестественно повернутой кистью, совсем белую, окоченевшую, с голубыми ногтями, запачканную засохшей кровью.
Лицо Павлика было прикрыто положенной сверху папахой.
Но если бы Петя ничего не увидел, кроме этой руки — их фамильной, бачеевской, маленькой руки с короткими пальцами, точно такой, как у самого Пети и покойной мамы, — то и тогда не могло быть сомнения, что это тело Павлика.
Петя не мог оторвать взгляда от этой руки, как бы искусно выточенной из кусочка совершенно белого мрамора. Он подошел, но у него не хватило мужества открыть лицо брата.
Вокруг были какие-то люди, которых он сначала не заметил. Вдруг среди них Петя увидел Мотю и Терентия Черноиваненко, а потом своего отца.
Василий Петрович стоял в изголовье младшего сына без шапки и медленно крестился, с силой прижимая пальцы ко лбу, к груди, к плечам, а потом низко кланялся, роняя полуседые волосы, и кроткие глаза его с беспомощным изумлением смотрели на Павлика.
Мотя сидела на полу рядом с Женькой, гладила его по голове и рыдала, мелко трясясь всем своим телом.
— Папа, — шепотом, как в церкви, сказал Петя и тронул отца за плечо.
Василий Петрович увидел старшего сына, и лицо его совсем постариковски сморщилось.
— Вот, Петруша… Нет больше на свете нашего мальчика…
Он обнял Петю за шею и стал перебирать его волосы, совсем как в детстве, а сам все время продолжал, не отрываясь, смотреть на Павлика и бормотал со вздохом:
— Какое счастье, что господь еще раньше взял к себе нашу мамочку! Как бы она это могла пережить! Теперь ты, один ты остался у меня, Петруша. Умоляю тебя — береги себя.
И Василий Петрович заплакал.
А через несколько дней в городе состоялись похороны жертв революции.
Хоронили всех вместе — в одной общей могиле посредине Куликова поля.
Наступила оттепель.
День был мокрый, гнилой, как поздней осенью, а не в конце января.
Низко над городом шли темные тучи. Иногда начинался мелкий дождик. Похоронная процессия, растянувшаяся на несколько кварталов, двигалась через весь город, поворачивая с Херсонской на Преображенскую, с Преображенской на Дерибасовскую, оттуда на Пушкинскую и дальше по прямой, как стрела, Пушкинской, по ее мокрой синей гранитной мостовой, к вокзалу, на белом фасаде которого на месте знакомых часов зияла черная круглая дыра от артиллерийского снаряда, попавшего прямо в циферблат.
Около сотни обернутых кумачом гробов, как вереница красных лодок, медленно покачиваясь, плыли один за другим над толпой, длинной и молчаливой, как тяжелая, черная туча.
Рабочие окраин, воинские части, остатки гайдамацких куреней, судовые команды, рыбаки, ремесленники, крестьяне из пригородных сел, хуторов и слободок, студенты несли на плечах или на вытянутых руках над головой своих покойников.
Почти за каждым гробом шли родственники, а на тротуарах стояла неподвижная стена горожан, мимо которых двигалась процессия, неся красные знамена и полотнища с белыми и желтыми самодельными надписями: „Вся власть Советам!“, „Да здравствует мировая революция!“, „Вечная память борцам за коммунизм!“
Иногда в толпе раздавался женский плач, истерические выкрикивания, рыдания. Кое-где провожающие начинали петь хором „Со святыми упокой“ или „Вы жертвою пали“. Издалека слышались звуки военного оркестра, с торжественной медлительностью, такт за тактом, отбивавшего своими тарелками и литаврами траурный марш.
Но все эти звуки не могли нарушить громадной, подавляющей тишины, повисшей над городом.
А сам город, без вывесок, сорванных с его домов, казался незнакомым, как будто в него вселилась какая-то новая душа — строгая, суровая, простая.
Это была уже не прежняя Одесса Ришелье и Дерибаса, а новая, только что в муках рожденная, пролетарская, советская.
Часть убитых несли в открытых гробах, часть — в закрытых. Открытых гробов было больше, и перед ними несли красные крышки, которые как бы удваивали число покойников.
Марину несли на полотенцах, в открытом гробу, Гаврик, Родион Жуков, Рузер, Ачканов и несколько матросов и красногвардейцев из отряда Черноиваненко-младшего.
Тут же виднелись фигуры Старостина, Мизикевича, Хмельницкого.
Она лежала глубоко, так что над краем гроба виднелся лишь ее бесцветный лоб и прядь каштановых волос. Все остальное было покрыто ветками туй и мирт, наломанных Гавриком в Александровском парке.
Гаврик шел в ногах покойницы, а так как он был ростом ниже остальных, то гроб покосился и все время как бы слегка нырял.
Дождевые капли текли по лицу Гаврика и серебрились на непокрытой голове Родиона Жукова с заметной сединой на подбритых висках.
За ними, также в открытом гробу, несли Павлика с белой, сплошь забинтованной головой и тонкой, юношеской шеей, белевшей над воротником суконной солдатской гимнастерки, застегнутым на две зеленые пуговицы.
Павлика несли Василий Петрович, Петя, Татьяна Ивановна, ее муж-поляк, Чабан и несколько подростков из молодежного красногвардейского отряда.
В наспех сшитой траурной шляпке, размокшей под дождем, на каждом шагу спотыкаясь, роняя зонтик и неловко держа свободной рукой подол юбки, забрызганный грязью, шла, почти бежала своими мелкими шажками» хватаясь за край гроба, Татьяна Ивановна, а по другую сторону шел Василий Петрович, и Петя с изумлением смотрел на отца, который за последние дни как-то неожиданно изменился: исчезла его дряхлость, он ступал твердо, голову держал высоко поднятой, и на его лице была написана гордость, решимость, странное упрямство, даже вызов.
И только по дрожанию его пепельных губ Петя понимал, как мучительно он страдает.
На груди у Василия Петровича был пришпилен революционнотраурный черно-красный бант, и, когда вокруг него запели «Вы жертвою пали», он решительным тенором стал подтягивать, то и дело подергиваясь головой, как бы желая избавиться от какого-то хомута, натершего ему шею.
Дальше следовал гроб с телом Жени Черноиваненко. Красивая, гладко причесанная головка мальчика плавно покачивалась на пухлой домашней подушке с красной меткой, и Мотя не могла оторвать глаз от лица брата. А с другой стороны гроба неотрывно смотрела на сына Матрена Федоровна, до глаз, совсем по-старушечьи, повязанная темным платком, и по ее худым, запавшим щекам, не переставая, точились слезы, собираясь вокруг посиневшего, морщинистого рта.
Терентий одной рукой мощно поддерживал гроб, а другой вел под руку Матрену Федоровну, как бы желая ее провести как можно осторожнее, а сам, не таясь, тоже плакал, и слезы блестели, как соль, на его обкусанных усах.
На Куликовом поле была уже вырыта громадная четырехугольная могила, куда стали опускать на канатах и полотенцах гробы, устанавливая их один поверх другого в два ряда, штабелями.
Слышался стук молотков. Это забивали гвоздями крышки.
Какая-то обезумевшая женщина в мокрой котиковой шапочке рванулась вперед и хотела броситься в могилу, но поскользнулась на мокрой глине, упала, и ее оттащили под руки назад, но она снова вырвалась, подбежала к яме и швырнула туда обручальное кольцо, тускло блеснувшее в синеватом дождливом воздухе.
Матрена Федоровна все время хваталась за угол гроба, и ее тоже отвели под руки в сторону.
Татьяна Ивановна стояла на коленях в грязи, перемешанной сотнями ног, ломала руки, и ее с двух сторон пытались поднять Сигизмунд Цезаревич и Василий Петрович, который все время сердито, раздраженно повторял:
— Я прошу вас… Я прошу вас…
И Пете казалось, что он сейчас скажет: «Вы не умеете себя держать».
На лице Василия Петровича продолжало держаться выражение гордости. Он гордился своим мальчиком, погибшим, как герой, во имя счастья народа. Но, когда гроб заколотили и красная крышка медленно скрылась в яме, Василий Петрович опустил голову, сказал:
— Ну вот и все, — и приложил к глазам большой белый свежевыглаженный платок.
Но вот замелькали вымазанные мокрой землей и глиной лопаты, затрещал ружейный салют, потом из-за вокзала ударило несколько холостых пушечных выстрелов — это палил бронепоезд «Ленин», где за командира оставался Колесничук, — тучи галок и голубей взлетели над колокольнями и куполами Афонского и Андреевского подворья, над обгорелой крышей пятой гимназии, над вокзалом с выбитыми часами, потом все смолкло, и в наступившей тишине явственно послышался ужасающе редкий, дисгармоничный похоронный звон. Это из Ботанической церкви начался вынос тела генерала ЗаряЗаряницкого.
Оттуда ветер принес ангельски-высокие, воющие звуки хора архиерейских певчих; издали мелькнули синие кафтаны с кистями этих певчих.
В переулке стали двигаться зажженные хрустальные фонари и слабо пылающие при дневном свете смоляные факелы, потянуло ладаном, блеснули как бы осыпанные слюдой ризы духовенства, митра архиерея, черные клобуки монахов, и медленно выступили вороные лошади погребальной упряжки, в белых сетках и с черными страусовыми перьями над головой, а за ними показался весь разубранный перьями и зажженными фонарями, заваленный фарфоровыми венками с георгиевскими лентами, белый, покачивающийся на рессорах катафалк с высоким серебряным гробом генерала Заря-Заряницкого, а за ним — траурные вуали и нарукавные повязки родных и знакомых.
В то же самое время на земляном холме над братской могилой, выросшей посреди Куликова поля, каменщики в белых фартуках поверх пальто и шинелей уже успели сложить большой цоколь из брусков светло-желтого одесского ракушняка, приготовленных заранее.
Потом подъехал грузовик. На нем стояли несколько рабочих завода Гена, и среди них Петя узнал высокую, костлявую фигуру товарища Синичкина в маленьких железных очках, с впалой грудью.
Они привезли большой двухлемешный плуг с коваными ручками, крюками и кольцами, выкрашенными ярким суриком.
Они подняли этот красный плуг, сняли с грузовика, перенесли на плечах к братской могиле и установили на каменном цоколе — первый революционный памятник, открытый Советской властью в городе Одессе.
Может быть, это был первый советский памятник во всем мире.
Потом начался митинг.
Ночью, разливая вокруг розовое зарево, горел хуторок мадам Стороженко.
37 СВИДАНИЕ
Однажды, придя домой (теперь они вместе с отцом занимали две комнаты в бывшей так называемой барской квартире, брошенной хозяевами на Маразлиевской в доме Аудерского, куда их вселил по ордеру новый городской Совет), Петя нашел под дверью узкий конверт с черной траурной рамкой, надписанный знакомым почерком и надушенный французскими духами «Лориган» Коти.
Отца не было дома, он еще не возвратился с заседания комитета преподавателей и учащихся бывшей одесской пятой гимназии, теперь превращенной в железнодорожный техникум, где Василий Петрович исполнял обязанности заведующего учебной частью. Соседка по квартире, жена слесаря Толубьева, тощая, чахоточная женщина, не привыкшая еще после ужасающего подвала на Молдаванке к такой громадной, роскошной квартире, деликатным шепотом сказала Пете, что письмо принесла какая-то девушка в платочке, видать, горничная.
На листке полотняной бумаги с такой же траурной каймой было написано: «Нам необходимо увидеться. Завтра возле Александровской колонны ровно в пять. Ир.».
И все то, что казалось погребенным навсегда и забытым, вдруг воскресло в душе Пети.
Александровская колонна, памятник «царю-освободителю», стояла в Александровском парке на вершине искусственной горки, куда вела дорожка, обсаженная низким парапетом из стриженых мирт и туй.
Цоколь и ступеньки памятника были сделаны из красного полированного гранита с черной капителью, а самая колонна из черного полированного Лабрадора, блестящего, как зеркало, с чугунной шапкой Мономаха на ней.
Шапка Мономаха с крестиком наверху обозначала тяжкий жребий «царя-освободителя», убитого революционерами.
С высокой площадки вокруг колонны открывался широкий вид на море, и на порт, и на стену со сквозными арками — остатками турецкой крепости Хаджи-бей, — и это уединенное возвышенное место было одним из тех, где обычно назначались наиболее значительные любовные свидания.
После январских оттепелей внезапно ударили настолько сильные морозы, что море замерзло до самого горизонта, что случалось обычно один раз в четыре года, не чаще.
Птицы падали на землю, убитые на лету морозом.
Хорошо еще, что не было ветра, иначе невозможно было бы дышать. Чистое небо было того нежного, телесного цвета с еле заметной лиловатостью на горизонте, один вид которого как бы перехватывал дыхание и заставлял леденеть ресницы.
Разнообразные деревья парка, обросшие инеем, были похожи на белые облака, севшие на землю, над которыми легко рисовалась верхушка Александровской колонны с шапкой Мономаха и купол обсерватории.
Ледяное красное солнце садилось где-то в снежной степи, далеко за городом, за обгорелыми постройками хутора мадам Стороженко, а высоко над головой белел детский ноготок новорожденного месяца.
Петя шел по аллеям парка, по их белым глухим коридорам, и слышал, как у него бьется сердце — так тихо было вокруг.
Это было не обычное молчание безветренного морозного вечера, а тишина, удвоенная неестественным, мертвым безмолвием замерзшего моря.
Петя шел затаив дыхание и прислушивался, не послышатся ли под заиндевевшими сводами деревьев знакомые шаги.
Но вокруг все было безмолвно.
Он был единственным живым существом в этом огромном, белом, оцепеневшем мире Александровского парка. Но едва он поднялся на вершину горки, как тотчас увидел Ирину.
Она стояла, отражаясь в зеркально-черных лабрадоровых плитах громадного цоколя, маленькая, как девочка, но по-женски стройная, в котиковом коротком жакете, в узкой английской юбке, серых фетровых ботиках с мехом, и, откинув с лица траурный креп, неподвижно смотрела в замерзшее море, прижимая к груди руки, спрятанные в муфту.
Петя остановился, чтобы перевести дух.
Она с живостью обернулась на скрип гравия и быстро пошла к Пете, протягивая к нему маленькие руки в черных лайковых перчатках и отбрасывая коленом муфту, болтающуюся на шелковом шнурке.
Петя увидел ее бледное, освещенное инеем деревьев, осунувшееся, как бы вымытое ледяной водой лицо, такое простое, будничное, с небольшими веснушечками, которых он никогда раньше не замечал, с глазами по-прежнему прелестными, но не такими фиолетовыми, какими он привык их всегда представлять, с горестно сложенными губами и маленькими морщинками в углах этих бледных, почти бесцветных губ, — и душа его задрожала от жалости и любви.
Прежде чем она успела, мелко перебирая ногами, связанными узкой английской юбкой, добежать до него и положить руки ему на грудь, Петя оказался весь во власти ее очарования.
— Друг мой, — сказала она, — вот видишь…
Ее лицо сморщилось, она сняла одну руку с Петиной груди, полезла в муфту и стала вытирать платочком уголки глаз, где слиплись обледеневшие ресницы.
— Бедный мой папа. Бедный твой брат. Сколько за это время случилось горя!
Она перекрестилась и заплакала, продолжая сквозь слезы грустно и нежно смотреть на Петю, на его фуражку без кокарды, на его черные бархатные наушники.
Он крепко сжал ее руки и стал целовать лайковые перчатки.
— Я так боялась!
— Чего?
— Что ты меня забыл.
— Как ты могла… О, как ты могла!
Теперь ему казалось невероятным, чтобы он мог ее когда-нибудь забыть.
Он взял ее за мягкие плечи. Она отцепила длинную черную вуаль, зацепившуюся за крючок его шинели, закинула голову и жадно поцеловала его снизу озябшими влажными губами открытого рта.
— И ты на меня не сердишься, дорогой?
— За что же?
— За то, что я тебя ненавидела. Нет, я говорю правду. Святую правду. Ты знаешь, одно время, совсем недавно, я тебя ненавидела. Не переставала любить и ненавидела. Я ведь про тебя все узнала.
— Но что же ты узнала? — нахмурился Петя.
— Ах, боже мой, все.
— Именно?
— Что ты служишь в Красной гвардии, что ты командовал их бронепоездом.
— Я этого не скрывал.
— Да, ты не скрывал. Но ты и не говорил. И я, твой самый близкий человек, должна была узнать об этом от других. Но не будем больше об этом говорить, — быстро сказала она. — Все забыто.
Она взяла его под руку и с грустной улыбкой сказала:
— Я ведь тебя, оказывается, не на шутку люблю. Ты для меня все… А ты? Надеюсь, ты меня не разлюбил? Нет, нет. Молчи. Не отвечай. Я знаю, что ты меня любишь по-прежнему. Иначе бы не пришел. Пойдем походим, а то у меня замерзли ноги.
Она потопала о землю своими ботами, серыми, как зайчики, а он постучал своими тонкими хромовыми сапогами, начищенными до блеска ради этого свидания.
Ноги его одеревенели, и он с радостью пошел рядом с Ириной по аллеям, в последний раз взглянув на мраморно-белое море, где на горизонте виднелся вмерзший в лед транспорт с розоватым дымком над трубой.
На дорожке лежала замерзшая птичка. Ирина поддела ее ногой, и она покатилась, подпрыгивая, словно камешек.
— Жуткий мороз, — сказала она.
— Как на полюсе, — ответил он.
— Я только что об этом подумала. Как звали этого сумасшедшего…. — Капитан Гаттерас.
— Ты читаешь мои мысли. А помнишь, когда нужно было выстрелить из ружья и больше не было пуль?
— Да, да. Тогда они разбили термометр и вынули замерзший ртутный шарик.
— Вот это был холод!
Они гуляли под руку по непроницаемым аллеям, среди обросших инеем деревьев, иногда напоминавших белые страусовые перья.
Вечерело.
— Знаешь, — сказала она, — еще совсем недавно мне казалось, что я тебя никогда не прощу. Но теперь я понимаю, что ты был прав. Ты поступил совсем не глупо. При твоем простодушии это даже удивительно.
Он с недоумением посмотрел на нее.
— Было бы неразумно идти против стихии, — продолжала она. — К чему это могло привести? Бедный папочка погиб именно потому, что пошел против стихии. — Она снова при упоминании перекрестилась я вытерла слезу. — Теперь же, когда все успокоилось, можно рассуждать хладнокровно и принять умное решение. Нет, ты даже не представляешь, как я тебя люблю, как ты мне бесконечно дорог. Чистый, нежный, простой. Я вся, вся твоя. На всю жизнь…
Петя плохо вникал в смысл ее слов. Он только понимал, что она признает его правоту, любит его по-прежнему и отдается ему на всю жизнь.
— Дорогая, — бормотал он, изо всех сил прижимая к себе ее локоть. — Любимая, единственная… Как мне было без тебя тоскливо, одиноко…
— Правда?
— Клянусь тебе.
— Теперь все пойдет по-другому.
— Я так счастлив, что ты поняла, что я прав, и согласна идти со мной…
— Хоть на край света! — горячо и поспешно сказала она.
— Родная моя. Пойми, пойми…
Он хотел передать ей все свои чувства и мысли, но не находил слов. Все это было так сложно и так великолепно!
— Какой ужасной жизнью мы жили до сих пор! То есть не мы лично… Но народ, Россия… Мне трудно тебе объяснить. Нищая, несчастная, голодная, полуколониальная Россия… Бездарный царь! Мрак, азиатчина, холера, тиф… «Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». А потом этот Керенский. Нет! Только сейчас начинается настоящая история России. И, знаешь, мой папа трижды прав, когда утверждает, что Ленин — величайший преобразователь и что он даже выше Петра. Ты согласна?
— Однако ты большой выдумщик, — сказала Ирина, и в ее все еще нежном, ласковом голосе Пете послышались какие-то странные нотки раздражения.
— Разве я не прав? — спросил он, стараясь заглянуть ей в глаза, но она отвернулась и опустила на лицо черную вуаль.
Петя тотчас отвел эту вуаль в сторону.
— Послушай, друг мой, — сказала она. — Мы не дети. И я пришла сюда вовсе не затем, чтобы выслушивать от тебя всякие глупости. Я понимаю: «Боги жаждут», Робеспьер, Эварист Гамлен, Элоди… Толпы на площадях… Может быть, это и очень романтично, но нам в России не ко двору. Поиграл в революцию — и будет. Хорошенького понемножку. Не забывай, что ты все же офицер русской армии.
Она строго и прямо взглялула на него.
Они шли по дорожке вокруг розария, обсаженного коротко остриженным кустарником, черно-проволочным на фоне чистого вечернего снега.
— Или, может быть, это не так?
Она продолжала смотреть на него в упор потемневшими глазами, и Петя видел, как она разительно похожа на своего покойного отца.
— Чего ты от меня хочешь?
— Ты не понимаешь?
— Нет.
— Очень жаль. Тогда я буду говорить прямо. Во-первых, ты обязан порвать все связи с этой — как она у вас называется? — Красной гвардией. Русский офицер, поступивший на службу к большевикам, — больше не офицер, а изменник. А я слишком… А ты мне слишком дорог, чтобы я могла пережить одну лишь мысль, что ты измэнник. Ты меня понимаешь?
Она подошла и припала к его плечу.
— Я лучше застрелюсь, — прошептала она, с силой прижимая муфту к груди.
Он нерешительно обнял ее, но она отстранилась.
— Подожди. Все же ты меня, наверное, не совсем понял. Ты запятнал свой офицерский мундир. И есть лишь один способ очиститься. Если ты порядочный человек и честный русский патриот, ты должен ехать с нами на Дон к генералу Каледину.
— С кем — с нами?
— Со мной и со всеми нашими друзьями. Теперь мы уже больше не будем дураками. Мы слишком дорого заплатили за свою глупость. Никаких Керенских, никаких центральных рад, никаких республик — демократических или социалистических — безразлично. Бедный папа, какую непоправимую, трагическую ошибку он совершил, примкнув к Центральной Раде, и как жестоко поплатился…
Ее голос задрожал, но она взяла себя в руки.
— Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздернуть на первой осине.
— Не смей так говорить, раз ты ничего не пони* маешь! — сказал Петя, повысив голос.
Она посмотрела на него широко открытыми глазами, как бы только что пробудившись от сна.
— А, так ты… — медленно сказала она, отбрасывая за спину черную вуаль, успевшую местами поседеть от ее дыхания. — Значит, правда, что мне сказали про тебя. А я, дура, продолжала надеяться…
— На что ты продолжала надеяться? — нахмурившись, спросил Петя.
— На то, что с твоей стороны все это лишь тактика, военная хитрость…
— Подожди… не продолжай…
— А ты, оказывается, продался своим большевикам не только телом, но и душой.
— За кого же ты меня принимала?
— Теперь мне все понятно. Человек, которого я имела слабость так искренне полюбить, — изменник и предатель. Замолчи! — закричала она, хотя Петя молчал. — На что ты польстился? На красногвардейский паек? На ржавую селедку и восьмушку чая? Ах, я понимаю. Ты польстился на солдатских потаскух, как их там зовут: Мотька, Маринка…
— Замолчи! — крикнул Петя с такой силой, что у него почернело в глазах.
Впоследствии ему было трудно в точности припомнить, как все это произошло, в каком порядке.
Он только помнил, что кровь ударила ему в голову и помутился рассудок. Он видел перед собой искаженное, ставшее грубым, как у юнкера, лицо Ирины, ее ненавидящие глаза, закушенные до крови губы.
Теперь между ними уже ничего не было, кроме обнаженной, неистребимой ненависти, яростного желания уничтожить друг друга, испепелить.
— Подлец! Нищий! Изменник! Я тебя убью как собаку!
Она вырвала руку из муфты и несколько раз выстрелила в Петю из маленького, знакомого ему дамского револьвера. Очень близко от Петиного лица вспыхнули синие свистящие язычки выстрелов. Фуражка соскочила набок.
Петя схватил Ирину за руку и стал ее крутить, выворачивать, пытаясь вырвать револьвер, но она не выпускала его из судорожно сжатых пальцев, и тогда Петя несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул ее по щекам, приговаривая:
— Ах ты, дрянь, ах ты, генеральская тварь… Она тонко завыла от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Черная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней…
Петя бросился за ней. В небе уже довольно ярко светился месяц. Тени бегущих скользнули по зеленоватому снегу. Месяц казался Пете таким же никелированным и перламутровым, как маленький дамский револьвер Ирины.
Она бежала стремительно. Ее невозможно было догнать.
— Стой, — кричал Петя, — стой!
Теперь он преследовал ее, как зверя. Он хотел ее поймать, потащить в комендатуру, в штаб Красной гвардии, в ревком, на «Алмаз», чтобы с ней немедленно поступили так, как следовало поступить с врагом, чуть не застрелившим командира Красной гвардии.
— Остановись!
— Помогите! Спасите! Господа, сюда! — громко кричала Ирина, и Петя вдруг понял, что они в парке не одни.
Ирина звала тех самых «наших друзей», о которых недавно упомянула. Конечно, она пришла сюда не одна.
Едва Петя успел об этом подумать, как увидел несколько офицерских фигур, выступивших из-за высокой пирамидальной туи. Ирина бросилась к ним, и Петя слышал, как она, тяжело дыша, сказала:
— Убейте его, он изменник.
Петя бросился назад и услышал за спиной выстрелы, но не слабенькие, еле слышные выстрелы из дамского револьверчика, а грозные, раскатистые в мертвой тишине зимнего парка, железные выстрелы из офицерских наганов.
Пули летели рядом с Петей вдоль аллеи, сбивая с деревьев и кустов иней, повисший в воздухе легкой кисеей.
Петя как бы чувствовал спиной ненавидящие взгляды, в особенности мрачные глаза из-под надвинутого на самые брови козырька приземистого офицера с квадратным подбородком.
Кто-то кричал ему вслед:
— Ага! Бежишь! Спасаешь свою продажную шкуру? Краснозадый!
Петя остановился, повернулся боком и, вытащив из кармана одеревеневшими пальцами свой тяжелый кольт, выпустил в своих преследователей, не целясь, всю обойму.
Крупные кольтовские пули защелкали по стволам и скамейкам, поднимая облака снега. Зазвенели стреляные гильзы, автоматически вылетая одна за другой в сторону.
Петя вложил в рукоятку пистолета новую обойму и опять всю ее выпустил в облако снега, мерцавшего в месячном свете, как привидение.
Он прислушался. Вокруг все было тихо. Где-то далеко послышались приглушенные голоса, звуки прыжков, потом мягкий топот ног. Петя понял, что его враги перелезли через ракушняковый забор парка и через монастырский пустырь ушли в город.
Не он, а они спасали свою шкуру: звуки перестрелки могли привлечь красногвардейский патруль, и тогда бы им не поздоровилось. Петя был командир Красной гвардии, и на него с оружием в руках напали контрреволюционные офицеры. Их бы не помиловали.
Перезарядив пистолет и сунув его на всякий случай за борт шинели, Петя прошелся по аллеям, чтобы успокоиться.
Месяц светил уже ярко.
Тень Александровской колонны лежала косо поперек розария, где фосфорически дымились снежные холмики над согнутыми на зиму штамбовыми розами, отчего в мертвенном месячном сиянии розарий напоминал маленькое кладбище.
Вокруг этого розария Петя в детстве гулял летом с покойной мамой. Она вела его за ручку, а он, глядя снизу вверх, старался увидеть ее милое лицо, до половины завязанное вуалью в крупную мушку, ее шляпу с орлиным пером, и возвышалась эта же самая Александровская колонна, и, окруженный чугунной оградой, рос тот же самый ветвистый дуб, выросший из желудя, собственноручно посаженного царем.
Боже мой, как давно, как страшно давно это было! Как с тех пор переменился мир!
Петя скоро успокоился. Теперь он даже не думал, что его могли убить. Его душа была чиста, спокойна, прозрачна. А главное — тверда.
38 НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Он обошел весь парк, очутился возле Ланжерона, спустился вниз, где в лунном свете на десятки верст молчало замерзшее море и друг на друге лежали плоские льдины, отсвечивая зеленым золотом.
Сделав громадный крюк по берегу, где светящийся снег был испятнан заячьими следами, через дачу «Отрада», через Французский бульвар, мимо третьей гимназии, по Троицкой он вышел на Маразлиевскую.
У ворот его встретил Чабан.
— Ты чего здесь околачиваешься? — спросил Петя.
— Вас дожидаюсь, товарищ прапорщик.
— Подпоручик.
— Виноват. Так точно.
— Чего ж ты меня дожидаешься у ворот? Что я тебе, барышня?
— Никак нет: Не барышня. Только я боюся, чтобы часом какаянибудь контра в вас не стрельнула из-за угла.
— Вот как?
— Так точно.
— Охраняешь?
— А як же.
Петя сумрачно усмехнулся.
— Почему же ты думаешь, что в меня кто-нибудь мог стрельнуть?
— Так что, товарищ командир, как вы, значится, пошли на свидание с барышней Заря-Заряницковой, а у них в доме целая корниловская шатия… — начал Чабан, по своему обыкновению, крайне обстоятельно.
— Постой! Откуда тебе все это известно? То есть почему ты думаешь, что я ходил на свидание?
— Так боже ж мий! — воскликнул своим певучим «хохлацким» тенором Чабан, глядя восхищенными глазами на Петю. — Хиба же я не знаю, шо до вас приносили от барышни Заряницкой якусь манесенькую цидульку?
— А ты что, следишь за мною? — мрачно спросил Петя.
— Та боже ж меня сохрани! Я тилько вас жалею и смотрю, чтобы эта Заряницкая охвицерия вас часом не подстрелила. А тут аккурат часа два назад в Александровском парке такая перестрелка поднялась, что я уже подумал, что это вас убивают. Даже собирался бежать к вам на подкрепление.
— Ну и почему же не побежал?
— Потому как стрельба вскорости затихла, — виновато моргая своими густыми, девичьими ресницами, сказал Чабан. — А тем часом и вы сами пришли, только с другого боку.
— Эх ты, герой! На тебя понадейся.
— Никак нет, — жалобно сказал Чабан. — Я за вас всегда готов отдать жизнь. Помните, как я вас тогда на Румынском фронте на своих руках вынес из боя?
Чабан уже давно был самым искренним образом убежден, что это именно он спас прапорщика Бачея и с опасностью для жизни вынес его из боя. Он так часто об этом рассказывал знакомым девчатам и землячкам, так часто напоминал о своем подвиге Пете, что Петя и сам временами начинал этому верить.
— Так ты говоришь, что слышал в парке стрельбу?
— Так точно.
— И что же, сильная была стрельба?
— Еще какая!
— Ну, значит, слава богу, что меня там не было, — с легкой улыбкой сказал Петя. — Что же ты стоишь, Чабан? Иди до дому. Ты где ночуешь сегодня? Небось у госпитальных девчат? Спокойной ночи.
Но Чабан не уходил, переминался с ноги на ногу, видимо собираясь еще что-то сказать.
— Чего тебе? — спросил Петя, хорошо изучивший все повадки своего вестового.
— Разрешите обратиться.
Петя с удивлением посмотрел на Чабана, стоявшего перед ним смирно, руки по швам, каблуки вместе, носки врозь, с вылупленными по-старорежимному глазами, в белках которых отражался синий лунный свет.
— Ну? Обращайся. Говори по-человечески: что? Только без этих старорежимных фокусов. Стой вольно.
— Разрешите мне податься до дому?
Только теперь Петя заметил, что у ворот стоит прислоненная к стене винтовка и на тротуаре виднеется туго набитый вещевой мешок с котелком и фляжкой.
— Ну что ж, — сказал Петя. — Ты человек свободный, демобилизованный, можешь идти куда угодно, никого не спрашивая.
— Никак нет, — твердо произнес Чабан. — Как вы есть мой прямой, непосредственный начальник и боевой командир, то я обращаюсь к вам, по команде.
— Чудак человек! Во-первых, я уже давно не твой командир, а вовторых, из того, что ты за мной когда-то увязался с фронта в тыл, еще ничего не следует, тем более что старая армия демобилизована.
— Никак нет, вы всегда есть мой прямой начальник! — сказал Чабан.
Лицо его покривилось, и Пете даже показалось, что он сейчас заплачет.
— Хорошо, — сказал Петя, — пусть будет так, если это тебе нравится. Но ведь ты все равно — и так и этак — пойдешь домой, независимо от того, что я тебе прикажу?
— Так точно. Все равно пойду домой. Там у нас давно уже всю землю графов Бобринских поделили, одни мы остались неподеленные.
— Так с богом, — сказал Петя и неожиданно для самого себя почувствовал на глазах слезы. — Желаю тебе счастья.
— Покорнейше благодарим, товарищ начальник! — Глаза Чабана сияли. — А вы, Петр Васильевич, не сомневайтесь. Если опять начнется какая-нибудь заварушка, я тем же часом прибуду в вашу часть, служить, как бы сказать, за власть Советов под вашей командой.
— Спасибо, Чабан.
— Рад стараться.
Они обнялись и поцеловались.
От Чабана так вкусно пахло молодым чистоплотным солдатом, юфтовой кожей, грубым сукном, овчиной, махорочкой, салом, ржаным хлебом.
И Петя так живо вспомнил этот знойный июльский день в Румынских Карпатах, когда его, раненого, несли из боя и вокруг сухо трещали сверчки.
— Счастливо оставаться, — сказал Чабан, подхватил свой вещевой мешок, винтовку и, позвякивая котелком, быстро пошел под редкими в лунном небе трескучими февральскими созвездиями по пустынной Маразлиевской, наполовину черной в тени и наполовину синей от месячного света.
А Петя отправился домой, где уже давно его дожидался отец, и, подымаясь по мраморной лестнице, думал о том, что сегодня закончилась какая-то очень большая, значительная, неповторимая часть его жизни.
Начиналась новая жизнь.
И Петя встречал эту новую жизнь одинокий, свободный, уверенный в правоте того дела, которому он служит.
Отец сидел за своим старым письменным столом со старомодными точеными перильцами, в обширной чужой комнате, и при свете керосиновой лампы под зеленым абажуром работал, то и дело наклоняя голову, поправляя пенсне и делая пометки синим карандашом.
Но он не исправлял ученические тетрадки. Это был черновик отчета учебной части нового железнодорожного техникума Одесскому губнаробразу, который Василий Петрович тщательно проверял и исправлял, прежде чем переписать набело своим бисерным почерком.
В отчете содержались очень важные мысли о пересмотре всего учебного плана в духе старых идей Василия Петровича о воспитании юношества, почерпнутых им у Жан-Жака Руссо и из педагогических сочинений Льва Толстого.
Для осуществления реорганизации нужны были средства, и Василий Петрович добивался крупных ассигнований и заранее сердился, так как подозревал, что не получит не только крупных, но даже самых маленьких средств ввиду того, что Одесса переживала очередные финансовые затруднения и денег в казначействе не было даже для выдачи рабочим зарплаты.
— Это ты, Петруша? А я уже начал за тебя беспокоиться.
— Напрасно.
— Ты откуда?
— Из штаба, — как можно небрежнее сказал Петя, не желая тревожить отца, и незаметно сунул пробитую пулей фуражку в темный угол.
— Как у вас там дела? — спросил отец.
— Хорошо. Полным ходом.
Речь шла о работе по созданию вооруженных сил, которая широко развернулась после опубликования в январе декрета Совнаркома о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и декрета Советского правительства Украины об организации народно-революционной социалистической армии на Украине.
Недавно началась вербовка добровольцев в Красную Армию, куда влились красногвардейские отряды. Части Красной Армии создавались также из состава бывших войск Румынского фронта. Петя принимал во всех этих формированиях большое участие и, как бывший офицер, теперь работал в отдельной комнате в штабе, где под общим руководством Черноиваненко-младшего составлял списки личного состава вновь создаваемых частей.
Петя начал было рассказывать отцу о том, как у них в штабе идут дела, но Василию Петровичу, видимо, было не до этого. Он весь кипел при одной мысли, что в ассигнованиях откажут.
— Нет, Петруша, это черт знает что! Вообрази себе: я иду в комиссариат финансов к товарищу Рузеру, к милейшему, интеллигентнейшему, европейски образованному человеку, старому большевику, женевцу, товарищу самого Ленина, и как ты думаешь, что он мне сказал?
— Он тебе сказал, что денег нет.
— Ты угадал. Но это еще не все. Он сказал, что денег нет, но при этом любезно направил меня в комиссариат труда к Старостину. Трамваев нет. Извозчиков нет. Иду по способу пешего хождения к товарищу Старостину. Прихожу. Он меня принимает вне очереди, усаживает, говорит всяческие комплименты. Милейший человек. Политический ссыльный. Старый большевик. Интеллигентнейший, умнейший, — в простой рабочей блузе, с такой, вообрази себе, донкихотовской эспаньолкой. И как ты думаешь, что он мне сказал?
— Что нету денег?
— Да, но направил меня с собственноручной запиской в краевой совнарком к самому товарищу Юдовскому. Ты имеешь понятие, что из себя представляет товарищ Юдовский? — строго спросил Василий Петрович, подняв вверх указательный палец. — Руководитель всего нашего края!
— Старый большевик. Интеллигентнейший чело век. Принял тебя вне всякой очереди и усадил в мягкое кресло, не так ли? — сказал Петя.
— Откуда ты знаешь?
— Догадываюсь. Но при этом сказал, что денег нет.
— Вообрази!
— Легко воображаю.
— Нет, это действительно, черт знает что! — вдруг закричал Василий Петрович. Он вскочил и ударил кулаком по столу с такой силой, что зеленая лампа вздрогнула и пустила струйку копоти. — Я буду писать Ленину!
— Да ведь что делать, если денег действительно нет?
— Как это нет? Вздор! Чепуха! Отговорка!
Василий Петрович забегал по холодной полуосвещенной комнате, оклеенной дорогими обоями, в старом пальто, накинутом на сюртук, стуча новыми башмаками, полученными в отделе народного образования по ордеру.
— Как это нет денег, когда сейфы банков набиты драгоценностями одесской буржуазии!
— Да, но они опечатаны ревкомом.
— Так их надо распечатать, вскрыть. Черт возьми, взломать, наконец! Употребить все ценности для великого, святого дела народного образования!
— Необходим специальный декрет, — сухо сказал Петя.
— Ты просто формалист, как и вообще все ваши комиссары! — воскликнул Василий Петрович. — Сейфы надо вскрыть. Вскрыть немедленно, без всяких там декретов и прочей формалистики. Вскрыть, взломать, взорвать динамитом…
— Значит, ты проповедуешь анархию?
— Да-с. Анархизм.
— Не думал я, что ты из оборонца так быстро сделаешься анархистом, — не мог удержаться, чтобы не съязвить, Петя.
Но Василий Петрович пропустил мимо ушей эту шпильку.
— Да. Я анархист и горжусь этим. Князь Кропоткин тоже анархист.
— Но ты не князь.
— Все равно.
— Впрочем, это даже не анархизм, а простой грабеж.
— Да-с. Грабеж!
Глаза Василия Петровича грозно блеснули. Очевидно, ему очень понравилось это слово- «грабеж».
— Грабь награбленное! — сказал он и победно посмотрел на сына.
— Ишь, старик, как ты развоевался, — добродушно заметил Петя, с нежностью глядя на взлохмаченную голову отца, на всю его петушистую фигуру в коротком учительском сюртучке с блестящими на локтях рукавами.
— Да. Развоевался, как ты изволишь выражаться.
— Воюй, пожалуйста. Но грабить нельзя.
— Ты думаешь? Даже на святое дело? Петя замялся:
— Во всяком случае, до особого декрета.
— Хорошо, — подумав, сказал Василий Петрович. — В таком случае надо незамедлительно обложить местную буржуазию самым жестоким налогом: банкиров, купчишек, домовладельцев, епархиальное духовенство. А если будут саботировать, то — к стенке! — вдруг крикнул он снова, еще сильнее стукнул кулаком по столу. — К стенке! Безжалостно ставить к стенке. Или публично вешать на фонарях!
— Ну, папа, ей-богу, ты больше роялист, чем сам король.
Но отец, высказав столь решительные и столь жестокие мысли, сам испугался.
— Ты думаешь? — кротко спросил он и снова, отбросив в стороны фалды сюртука, уселся за стол.
Петя лег спать в соседней комнате, на своей офицерской раскладушке, укрывшись поверх одеяла старым швейцарским плащом. Он долго не мог заснуть в этой чужой, холодной, богатой комнате с незнакомой мебелью. В полудремоте он слышал, как в комнате у отца быстро дрожит стеклянный абажур лампы — это Василий Петрович, строча пером, переписывал свой отчет.
Потом звуки дрожания абажура прекратились, и к Пете на цыпочках подошел отец. Он наклонился над ним, как бывало в детстве, поерошил своей большой, уже по-стариковски высохшей рукой его шевелюру, потом перекрестил и поцеловал в висок, подсунул под ноги съехавшее одеяло и плащ.
— Я не сплю, папочка, — сказал Петя.
— А ты спи, сынок, спи, — прошептал Василий Петрович. — Сон укрепляет. — И, став на колени, положил на плечо сына голову, от которой пахло сухими волосами, керосиновой копотью, нетопленной комнатой.
— Ты знаешь, — сказал он со вздохом, — это ведь я только так… бодрюсь… А на самом деле швах. Жизнь моя кончается, Почти уже кончилась… Береги же себя, Петруша. Мамочку твою уже давно призвал к себе бог. Теперь он призвал нашего Павлика… А я все еще живу… Стою, как старое дерево с наполовину обрубленными ветвями… И живу… Ах, Петруша, если бы можно было нам никогда не расставаться…
Видимо, он предчувствовал близкую разлуку с сыном.
39 ВОЛНЫ, ЧАЙКИ, ВЕТЕР
В феврале немецкие войска начали наступление по всему фронту. На Украину вторглась почти полумиллионная армия германских и австро-венгерских оккупантов.
Через несколько дней в газетах был напечатан декрет Совета народных комиссаров, написанный Лениным: «Социалистическое отечество в опасности!».
В нем говорилось: «Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой „порядок“ в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности».
В начале марта советские войска, защищавшие Одессу, уже дрались с немцами и австрийцами под Бирзулой и Балтой. Но силы были слишком неравны. Советские части вынуждены были отступить.
Петя снова вывел с запасных путей свой бронепоезд и, курсируя по железнодорожной линии Раздельная — Гниляково, бил по неприятельским эшелонам до тех пор, пока хватало снарядов, после чего по приказанию Перепелицкого взорвал бронепоезд и со всем его экипажем отошел в Ближние Мельницы.
Тем временем Одесский Совет вывозил из города военное имущество, ценности, архивы.
Из порта уводились караваны торговых судов.
Матросские и красногвардейские отряды уходили из города по Николаевскому шоссе, мимо Пересыпи, Лузановки, Крыжановки…
На дорогах появились беженцы.
Эвакуацию прикрывали военные корабли «Ростислав» и «Синоп».
В шквалистую, ветреную ночь на четырнадцатое марта германские и австро-венгерские части заняли город. Утром одесситы увидели в мглистом тумане на привокзальной площади колонны немцев и австрийцев в серо-зеленых шинелях, в глубоких стальных касках с маленькими рожками отдушин, в толстых сапогах с двойными швами, с незнакомыми, тяжелыми винтовками за плечами.
В привокзальном сквере, среди поломанных туй, дымились немецкие походные кухни и расхаживали немецкие кашевары с лужеными черпаками в полотняных, окровавленных фартуках поверх шинелей, делавших их похожими на толстых мясников.
Петя обошел стороной центральную часть города, уже занятую неприятелем, и через глухие приморские переулки вышел на берег между дачей «Отрада» и Малым Фонтаном, о чем было договорено еще ночью, когда Петя с остатками своего экипажа занимал последнюю позицию на выгоне за Ближними Мельницами.
Возле большой рыбачьей шаланды, приготовленной к спуску на воду, в утреннем тумане ходили несколько человек, среди которых Петя узнал Гаврика, Акима Перепелицкого и Мотю в теплом сером платке на голове. Здесь же был и Родион Иванович в своем обычном флотском бушлате. Его Петя узнал раньше всех, еще издали, по оранжево-черным георгиевским лентам, вьющимся на ветру.
— Бачей! Что же ты? Давай! — крикнул Гаврик.
Петя прыгнул с невысокого обрывчика прямо на прибрежную полосу и побежал по звенящей, гладко отшлифованной гальке, по кучам хрустящих мидий, перемешанных с матовыми кусочками бутылочного стекла, вытертого прибоем, к шаланде, куда Мотя бросала связки твердой, как дерево, тараньки, буханки солдатского хлеба, узелки с вареной картошкой.
После всего она сунула в ящик под кормой плоский дубовый бочоночек с пресной водой, заткнутый чобом, завернутым в тряпочку.
— А где же Колесничук?
— Он отходит со своими десантниками по Николаевской дороге.
Гаврик и Петя подошли к шаланде.
— С батькой попрощался? — спросил Гаврик.
— Где там! Не успел. Уже весь центр оцеплен немцами, а на Маразлиевской проверка документов и офицерские патрули. Не рискнул.
— И хорошо сделал. Попал бы в руки кому-нибудь из своих Заряницких — они бы тебя не помиловали. Ты вот что, Мотя, — обратился он к племяннице, — как только нас проводишь, прямо отсюда ходу на Маразлиевскую и передай Петькиному батьке, что все в порядке, а то он будет волноваться. Переправишь его на Ближние Мельницы, там ему будет спокойнее. А здесь, на Маразлиевской, его тоже не помилуют.
— Я сделаю, дядечка, — сказала Мотя тем тоненьким голосом прилежной девочки, который появлялся у нее всякий раз, когда она разговаривала с Гавриком по делу.
— Ну, товарищи, вира помалу и с богом, — сказал Терентий, выходя из-за ноздреватой, слоистой скалы с ящиком, который он с усилием приподнял и свалил в шаланду. — Имейте в виду, что это остатки архива городского партийного комитета, все, что удалось вынести с улицы Карангозова. Берегите как зеницу ока.
— А вы разве не с нами? — спросил Петя.
— Нет. Я остаюсь.
Терентий произнес это удивительно просто, как бы даже вскользь, но вместе с тем с такой категоричностью, которая исключала всякие дальнейшие вопросы.
Впрочем, Пете не надо было ничего больше спрашивать. Он понял, что Терентий остается в подполье.
Высоко в небе, ныряя в мутных облаках, появился хорошо знакомый Пете еще по фронту немецкий военный моноплан «Таубе» с черными крестами на хищно загнутых назад крыльях.
«Таубе» сделал круг над Ланжероном, над маяком, над портом и скрылся из глаз.
Это было как бы сигналом к спуску шаланды.
Взявшись с двух сторон за борта, за уключины, тяжелую шаланду чуть приподняли и потащили по гальке в воду. Громадная мутнозеленая закрученная волна, в середине которой, как в литой стеклянной трубе, крутились мелкие ракушки и тина, отбросила шаланду вбок со своего пути и пенисто побежала по песку, выкупав всех по колени.
Они с усилием удержали и повернули тяжелую шаланду носом в море, и в то самое мгновение, когда следующая волна накатилась и выросла перед лодкой, Петя вместе с другими, присев и натужившись, налег плечом на борт, и общими усилиями плоскодонка была вытолкнута на верх волны, прежде чем она успела закрутиться и снова отбросить шаланду.
Теперь уже шаланда бежала по воде, и, воспользовавшись удобной минутой, все с рыбачьей ловкостью и сноровкой на ходу попрыгали в шаланду и разобрали длинные, неуклюжие весла с пудовыми вальками.
Заскрипели буковые уключины.
Родион Жуков не без усилий надел тяжелый деревянный руль, набил румпель и крепко взялся за него своей мускулистой матросской рукой. Почувствовав хозяина, шаланда послушно повернулась носом против волны, прямо в открытое море.
— Весла на воду! — скомандовал Родион Жуков. И шаланда тяжелыми рывками, как бы перескакивая с волны на волну, стала удаляться от берега.
— Будь здорова, Матрена! — крикнул, приставив ладони ко рту, Перепелицкий в своей длинной кавалерийской шинели и кубанке, изпод которой курчавился молодецкий чуб., Он лишь сейчас сообразил, что так и не успел проститься с ней на берегу.
— Береги себя, серденько мое!
— До свидания, Аким! Поскорее вертайся! — крикнула Мотя, но ветер отнес в сторону ее голос, и Перепелицкий услышал лишь слабое «айс-айс-айс».
Но он догадался, о чем кричала ему Мотя, и, натужившись изо всех сил, закричал:
— Скоро вернемся!
Мотя поняла и закивала, а потом размотала свой серый теплый платок и замахала им над головой:
— Попутный ветер!
Но шаланда была уже далеко, ветер дул с моря, и вряд ли Мотин голос долетел до него.
Терентий крупными шагами пошел вверх по обрыву.
Мотя осталась одна.
Она снова по-бабьи закутала голову платком, крепко завязав его на затылке узлом, и села на холодный ноздреватый камень, наполовину зеленый от тины, возле большой, еще не растаявшей льдины, похожей на белого медведя.
Мотя видела, как на шаланде поставили мачту и сунули в железный выдвижной киль, выкрашенный суриком, а потом подняли паруса: большой грот и два кливера.
Темный, отсыревший парус тяжело, как бы нехотя надулся, шаланда накренилась, показав половину своего рубчатого просмоленного днища.
За кормой побежала пена.
Белое солнце, которое несколько раз пыталось выглянуть из-за темных мартовских туч, теперь совсем пропало. Ветер сделался резче и холодней. На горизонте, почерневшем, как антрацит, виднелся дым эскадры, готовой сняться с якоря и идти в Севастополь.
Шаланда взяла курс на этот дым.
Мотя не плакала и не вздыхала. Она неподвижными, прозрачными глазами удивительной чистоты и голубизны смотрела в море на парус, на чаек, на черные точки бакланов, качающихся среди волн, на пенистые барашки и жадно глотала холодное дыхание мартовского моря, которое еще совсем недавно лежало безмолвное, замерзшее до горизонта, а теперь очистилось от льдов, разыгралось, но было еще совсем без запаха.
Петя и Гаврик полусидели на носу, положив рядом с собой винтовки. Их то и дело обдавали брызги. Шаланда шла шибко, но эскадра все еще казалась очень далекой.
Гаврик расстегнул шинель, вынул из нагрудного кармана гимнастерки большие часы и отколупнул крепким ногтем крышку.
— Ого!
— Сколько?
— Без четверти девять.
Петя узнал эти часы и с недоверием посмотрел на Гаврика.
— Те самые, — сказал Гаврик.
— Шутишь!
— Святой истинный! Помолчали.
— Ну что, брат? — спросил наконец Гаврик, по своему обыкновению, потуже затягивая пояс, на котором висела полевая сумка.
Петя хорошо понимал, как много всего кроется за этим неопределенным вопросом.
— А что? Живем… — так же на первый взгляд бессодержательно ответил он.
Что он мог еще ответить? Жизнь их только что началась понастоящему, и могли ли они знать, как она сложится дальше?
Тяжелые испытания ожидали Одессу, которой еще предстояло в течение двух лет быть ареной ожесточенных боев.
Но самое главное уже было позади: впервые на земле была установлена Советская власть и родилось первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.
На этом можно было бы проститься навсегда с моими героями Петей и Гавриком, если бы не те великие исторические события, которые снова через четверть века свели их в родном городе, когда судьба первого в мире Советского государства была поставлена на карту.
Но пока оставим их на шаланде, среди бурного, шквалистого моря, осыпаемых с ног до головы брызгами, бьющими из-под носа шаланды.
1960 год.


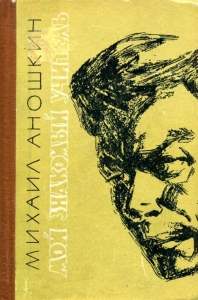

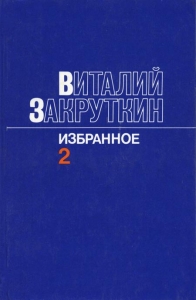
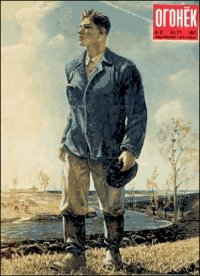

Комментарии к книге «Зимний ветер», Валентин Петрович Катаев
Всего 0 комментариев