Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Карась-идеалист
***
Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:
— Но ведь это подлость! На что ерш возражал:
— Вот ужо увидишь!
Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.
Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.
Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.
Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что, однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. СПЛЫВУТСЯ где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.
Первым всегда задирал карась.
— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!
— Дожидайся! — иронизировал ерш.
Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце… ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».
— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне благодаря новейшим исследованиям можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!
— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?
— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.
— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!
Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.
— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась. — Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добрг замыкается.
— Держи карман!
— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?
— Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!
— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущею силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.
— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.
— Не посрамлены еще, но будут посрамлены, — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?
— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?
— В какую такую уху? — удивлялся карась.
— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь… заколю!
Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.
— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.
— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?
— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим уплыла.
— Что же мне теперича делать?
— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!
— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват…
— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!
— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.
— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!
Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.
— Вот кабы все рыбы между собой согласились… — загадочно начинал карась.
Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврется, а тут голавель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».
— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать; можно и шепотком что нужно сказать.
— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда…
Но тут ерш грубо прерывал своего друга.
— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.
И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст, — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об голавлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!
— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости, — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!
— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.
— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились… А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?
Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.
— Но ракушки — ведь это… — пробормотал он смущенно.
— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.
Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.
— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были, — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.
— Кто же тебе это сказал?
— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал, — ну, тогда, конечно…
— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.
— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.
— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил… Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?
— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: йно их съели, йно в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!
— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!
Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами пи задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.
— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторстсовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!
— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.
— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!
— А ну-тка, скажи!
— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?
— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?
— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути! Или:
— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!
— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?
— Все-таки…
— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?
— Не в тине, а вообще… «
— Например?
— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!
— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую… Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!
Или еще:
— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.
— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.
— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать!
— А ежели тот закон исполняться не будет?
— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.
— И ладно будет?
— Полагаю, что многие устыдятся.
Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему голавель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!
Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.
Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она… добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!
Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.
— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.
— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине» пускай полежит.
— Гм… и ты думаешь, что такому делу статься возможно?
— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.
— Например: плыву я, а рядом со мною… карась?
— Так что же такое?
— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то… съем?
— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели… Но не рыбы.
— Маловато для меня. Голавель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к голавлю.
— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся голавель.
— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?
— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловчее — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!
— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?
— Как прочие, так и ты.
— В первый раз слышу. Поди проспись!
Проспался ли, нет ли карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.
— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.
— Все друг от дружки… от общих, взаимных трудов…
— Понимаю: «друг от дружки»… а между прочим, и от меня… гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Голавель! как по-нынешнему такие речи называются?
— Сицилизмом, ваше высокостепенство!
— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай лучше сама послушаю… Ан вот ты каков!
Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.
— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте.
— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.
Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.
Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили голавли и взяли под караул.
Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.
Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.
— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!
При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:
— Знаешь ли ты, что такое добродетель?
Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.
Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:
— Вот они, диспуты-то наши, каковы!



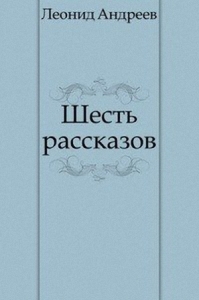
Комментарии к книге «Карась-идеалист», Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Всего 0 комментариев