Александр Степанович Грин Лошадиная голова
Он умер от злости…
ШатобрианI
Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и «местный житель», как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко.
Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп[1]. Сквозь пьянство светилось удручение. «Вы знаете, что произошло здесь?! – встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка: – Добб упал в пропасть».
Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотря на нее, Фицрой поймал мысль «Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?» Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.
Перед тем, как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. «Как громом поразило меня», – сказал он Пульту, – солгал и знал, что солгал. «Да, подумайте! – закричал Пульт, – кроме того, что жалко, – Добб был моей правой рукой».
– Прекрасный, энергичный работник! – с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. – «И не все ли равно теперь, – подумал он, – не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу». – И он сказал почти правду: – Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.
– Как?! – переспросил Пульт. – Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.
– Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?
– Да, жила в мозгу. А что?
– Мокрое полотенце, – сурово ответил Фицрой, – купанье и молоко.
Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.
– Дикий, безобразный шутник! – сказал он, вытирая усы кистью. – Я пью, но… Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.
Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.
– Только три дня, Пульт, – сдержанно заговорил он. – В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места.
– Впрочем, – рассеянно перебил Пульт, – побудьте пока с Доббами. Им очень тяжело.
– И мне тоже, – сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казались царапинами, сделанными тупым ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.
Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. «Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка».
Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней – могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества.
II
Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, – как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: «приход Добба», – Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля.
Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, – не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу, – Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника, – черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад».
– Мой рад, масса, – сказал негр, внося кофейник. – Твой приехал, не захворал.
– Рад? – переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.
– Очень рада, был хорошо здоров.
– Ты врешь, черная собака, – сказал Фицрой, вдруг посинев от злобы и тоски.
Негр, съежившись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и сморщенные от страха глаза еще более обозлили Фицроя.
– Лжешь, – повторил он. – Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили.
– Уфф! – сказал негр, пятясь. – Масса больной. Твой пьет кофей, горячий; хороша будет.
Фицрой рассеянно отвернулся. «Все мы говорим так», – пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба.
У колодца ему пересек дорогу Энох Твиль, махая рукой. Он бежал, но перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло сродством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся, с острым носом, лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестьюдесятью годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы и остроконечной шапке из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружье, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его исподлобья не покидал глаз Фицроя.
– Вернулись? – сказал он. – Да, было дело. Все знаете? Это произошло на том месте тропы, на повороте, как раз против Головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал. Как он вскрикнул, – было уже поздно, хотя я все понял. Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему, как на коньках. Еще при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было еще тише, чем всегда. Не сразу я пошел назад. А самое страшное, – что он здесь только что был.
– Был? – повторил Фицрой.
– Да. Он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. Она не могла пойти туда смотреть вниз, но если сказать – может пойти, и тогда он умрет для нее второй раз.
– О! – Фицрой улыбнулся. – Что же написал Добб?
– Ничего такого. На него, должно быть, нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, – различные нежности.
– Это похоже на него, – сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил: «Конхита». – Я иду к нему… к ним.
– Я любил парня. – Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы. – У него был такой вид, как будто он здесь прожил сто лет. Ну… и песни, – поет, бывало… Прощайте.
Твиль коротко давнул холодную руку Фицроя горячей, старой рукой, и его согнутая упруго спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед; впервые сладкая, терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. «Все вы любили его, и я тоже, и может быть больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нем. – Он посмотрел еще глубже в себя: – И вот, – нет тебя, милая влюбленная суета, легкое и горячее дыхание с глаза на глаз, улыбка по моему адресу… а она должна была быть». – Вскипев, он сжал кулаки, но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Конхите.
Но лишь он увидел ее, все лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчета на действие времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем, напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах. Невольно – и неудачно – подбирались они мертвой схемой, их тон был глух и неясен.
Фицрой представил трагедию в угнетающе-театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы; в их отсвете, при опущенных занавесках окон, лицо Добба казалось розовым.
– Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо. – Прямой взгляд молодой женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не все и есть еще о чем горько и трудно сказать.
Всматриваясь в нее, он старался понять ее состояние. Всегда она производила на него впечатление того отчасти умилительного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо-хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди как ребенок. Случись это теперь, он все простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда, выслушав его до половины, Конхита сжала руку Фицроя, быстро сказав: «У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Добб. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам».
Она была в черном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло; то лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясением и жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слез, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицрою уходящей в глухой туман чертой падающего тела.
Он не мог просто сидеть и молчать с нею; это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг. Поэтому он заговорил:
– Ужасно! Ужасно, Конхита, вот все, что я могу вам сказать.
Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней, хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо.
– Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба.
– Можно ли говорить об этом?
– Вам нужно.
– Я буду слушать вас. Вы ходили туда?
– Я не в силах. А вы знаете, – она нагнулась к нему, странно блеснув глазами, – если думать только о нем и не дышать, может быть, можно было бы на миг увидеть его; потом – все равно.
– Там тьма, глухая тьма! – вскрикнул Фицрой. – Выбросьте это из головы!
– Быть может, есть иной свет, Фицрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе, в пятницу, пришел Твиль. Когда только я догадалась по его лицу, – он сказал прямо в чем дело.
– Ужас, – сказал Фицрой. – Если бы вы знали, как мне вас жаль.
– Я все хожу и думаю. Но нечего и не о чем думать. Его нет. Странно, не правда ли?
– Крепитесь, Конхита. – Он искал горячих, бурных и твердых слов, но не нашел их. – Постепенно это пройдет, станет легче.
– Ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко.
Он смолк, осваиваясь со смыслом ее слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далеким, неизобличенным намеком истину своих чувств.
– Жестоко, – подтвердил он, – и правильно. Все проходит, все гаснет в собственной своей тени.
– Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом; думать так.
– Простите меня, – покорно сказал Фицрой.
Ее волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула, тихо улыбаясь, Фицрою.
– Вам это будет очень приятно, – прошептала она, – берите, это от него на память, и думайте о нем хорошо. И ради бога не потеряйте.
Приподняв руку, Фицрой отпрянул всем существом, непримиримо волнуясь, – столько наивной беспощадности было в этом, так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение, они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их.
– Но… – Фицрой напряженно улыбнулся, – я не знаю… Вы можете пожалеть.
– Это вам, – сказала она, не понимая его колебания.
Тогда он решительно положил руку на портсигар и на ее пальцы, сжав все в затрепетавший комок, и тихонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо.
– Что значит… это? – Вырвав руки, Конхита отвела их и спрятала за спиной. – Говорите.
– Я не возьму подарка, – сказал Фицрой, радуясь, что перешагнул в пустоту. – Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать.
– О! я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?
– Да, и я не спрячу его.
– Тогда… вы обманули Добба. Вы – враг.
– Я – враг, – сказал как в тумане Фицрой, – враг, и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам.
– Еще удар. – Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка. – Слава богу, удар этот, – ничто в сравнении с тем ударом.
Фицрой взял фуражку.
– Мне ничего не осталось, – задумчиво проговорил он, – я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймете меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего – поставить себя на мое место. Знайте, что и мне не сладко. Однако простите. Вместо разговора о вас произошел разговор обо мне. Я не хотел этого.
– Низкая, низкая ненависть! – крупные, тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты. – Фицрой, не смейте ненавидеть его!
– Я ненавижу, – грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь, – но так же я могу и любить. Мир его праху! Я сказал искренно. Пожелайте, – о! пожелайте и вы, Конхита, – мира ненависти моей.
Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти.
Фицрой вышел, осторожно прикрыв дверь.
III
Не думая о направлении, он шел в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как будто не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого еще гудело в ушах. Он был потрясенно тих, как после спасения. К отвратительному впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание правды, хотя бы брошенной в исступлении.
Подойдя к опушке леса, зеленым дымом охватывавшей низы гор, Фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек, и в мирной чистоте этого отдаления от людей, как над ручьем, сторонними глазами увидел свое внутреннее лицо, каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине, – как будто занес нож. Большее, чем стыд, свернуло шею его волнению. Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть речи, – и он не мог, теперь уже никогда, видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Некогда он честно боролся, намечая все фазы успокоения; смерть, жертву, путешествие, но твердая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую, черную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безысходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью.
Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств, переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнесся к нему с вниманием удивления, – почти испуга, хотя, едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, оступясь во тьме и идя далее. Вначале он счел это любопытство сопоставлением – не больше. Ни опровергнуть, ни проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью Добба не было никаких средств, однако неустранимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл. – «А если? – сказал Фицрой. – Странный мир – мысль, и велика сила ее. Тогда… Все равно, – мысленно я убивал его. Это одно и то же».
Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз; снизу, через склон леса, ярко развертывалась долина с ее насыпями, палатками и строениями; вился дым труб. Это была картина мысли Пульта: он сам, Фицрой, служил там потому, что так думал Пульт. На почти вневременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач, затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нем полной уверенности, что он придет к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого, – завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром; через них, влево, лежал лесистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом.
Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далекие плоскогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть, – что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук, но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне Фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь. Только через нее мог идти сливающий все в одно свет. Фицрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь в лунном свете, хребты горной цепи были неудачной ловушкой его душе – второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу которой тянулся род неровной террасы, осыпанной глыбами. Справа, в расселину, бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно, по мере того как все ближе подступали они к пропасти «Лошадиная Голова», сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана, отверстого где-то в скале, – то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд, или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу, и, заглянув туда, Фицрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуна тенисто освещенную глубину ста – ста двадцати футов, с веером пены среди черных и зеленых камней.
На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком и звеньями небольших пропастей стену гранитных махин, почти лишенных растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди неподвижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен с полным шороха шагов низом; под сапогами Фицроя сухо трещал щебень, это безжизненное яркое место тревожило, как раскаленная печь. Наконец, он увидел справа неровно раздернутое пространство, пересеченное туманными облаками высот, и вышел на край.
IV
Он был здесь два раза – раньше – для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей, – он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в том особенно не располагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарику, катающемуся по раскаленному добела железу, – двигается, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоял перед направленным дулом.
Смотря вперед, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искаженных и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погружался в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника мельканием неразличимо малого смешанного пятна, как горизонтальная перспектива, мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, сплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего.
На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Ее стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны, касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением черного неба, какое видят аэронавты, подымаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены, уходя от лучей, мерцали все тусклее и глуше, пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком.
Столетия опасных передвижений, утрамбовав и сравняв обрывки естественного карниза, тянувшегося по левой стороне скал, образовали узкую тропу, оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья. Ступив на эту тропу, Фицрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встречном ветре, – ощущение своего тела достигло силы самовнушения; бессознательно его плечо все время касалось скалы, и он особым усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва взглянуть вниз. К тому времени его нервы были напряжены, как в крупной игре.
Он медленно обошел выступ, впадину и стал приближаться к щели, за аркой которой тропа тянулась еще не более как на триста футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний, здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи о которой говорил Твиль.
Она остановила его, когда он прошел щель.
V
Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождем выпуклому карнизу, Фицрой прочел мелкую строку последних слов Добба жене: «Стою здесь и думаю о теб…». «О тебе», – машинально договорил Фицрой.
Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении все – и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои, – той минуты, – сам Добб, будь Фицрой тогда с ним. Погибший остановился, захваченный острой глубиной впечатления; сияющий горный мир хлынул в него всей силой собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть, один, той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним. Он написал это в порыве, похожем на мальчишеский крик в лесу – бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка.
– Значит карандаш и пустота были рядом; так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого, – сказал Фицрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчетливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и легкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стер все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение, – вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли еще некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание, мгновенно осветив все, все поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим все кончилось.
Фицрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души – мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины сплошным зрачком.
Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.
Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, – горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем. Он чувствовал, что если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: «Засмейся, Фицрой!»
Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого «все равно».
Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: «Думаю и люблю. И умираю – потому что носил Зло».
Затем не более, как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте, – к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицроя било и трепало кинувшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» – От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.
Примечания
1
Креп – здесь: траурная повязка.
(обратно)



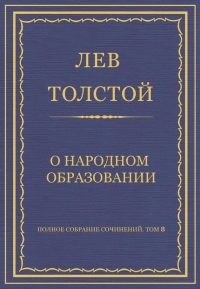
Комментарии к книге «Лошадиная голова», Александр Степанович Грин
Всего 0 комментариев