Марк Алданов Ключ Предисловие
Замечания политического характера в предисловии к роману — дело довольно необычное. Они, однако, могут оказаться и небесполезными. Меня упрекали «левые» (впрочем, далеко не все) в том, что я будто бы в ложном, непривлекательном виде изобразил ту часть русской интеллигенции, которая особенно тесно связана с идеями и делами февральской революции. Упрек кажется мне неосновательным. Думаю, что и в наименее привлекательных действующих лицах романа я, как мог, показал хорошее и дурное в меру, — в соответствии с правдой. Может быть, я ошибаюсь, и мне это не удалось. Но какую бы то ни было степень злостности в изображении той или другой части нашей интеллигенции во мне предполагать было бы странно. Никаких обличительных целей я себе, конечно, не ставил. Наше поколение было преимущественно несчастливо — это относится и к радикальной, и к консервативной его части.
Упрекали меня и за «мрачность тона». Я выбрал мрачный сюжет — право каждого писателя, для нас теперь особенно естественное: очень трудно требовать большой жизнерадостности от людей, испытавших и видавших то, что испытали и видели мы.
Скажу еще о другом. Некоторые читатели говорили, что я, под псевдонимами, изобразил в «Ключе» действительно существовавших (или даже живущих ныне) людей. Это легко было предвидеть: всякий роман из современной жизни может вызвать подобное предположение, — на мой взгляд оскорбительное для автора. В «Ключе» не раз упоминаются имена людей всем известных (Короленко, Милюков, Дурново, Горький, Плевако и др.). Я решился на это не без колебания, опасаясь налета «фельетонности» и «публицистики». Но в кругу, который выведен в моем романе, в разговорах, которые там велись, имена знаменитых современников произносились беспрестанно, и мне казалось, что именно отсутствие этих имен было бы грехом против житейской правды романа, отсюда, полагаю, чрезвычайно далеко до изображения в беллетристической форме под ложными именами живых людей. Такой прием я считал бы весьма сомнительным и в художественном, и в моральном отношении. Между тем мне неоднократно приходилось слышать (вдобавок, всегда по-разному), «с кого писаны» Горенский, Браун, Кременецкий, Федосьев и другие действующие лица «Ключа». Один критик заявил в журнальной статье, что в Федосьеве я портретно изобразил Белецкого, главу Департамента Полиции. Что на это ответить? Всякий, кто даст себе труд — не говорю прочесть, но хотя бы пробежать известную записку Белецкого (Материалы Следственной Комиссии), может убедиться в том, что никакого сходства между ним и Федосьевым нет. Добавлю, в качестве курьеза, что мне называли пять адвокатов, с которых будто бы писан (и тоже портретно) Кременецкий. Скажу кратко (как уже сказал в примечании к одной из страниц романа), что в этих указаниях нет ни одного слова правды. Единственное не вымышленное действующее лицо «Ключа» (Шаляпин) названо своим именем.
Я не знаю, удастся ли мне довести до конца замысел, началу которого посвящен «Ключ». Но я понимаю, какие неудобства представляет осуществление этого замысла по частям. Мне остается только принести извинения читателям и критикам, как я сделал в свое время, печатая отдельными томами свою историческую тетралогию.
Автор. Ноябрь 1929 года.
Часть первая I
Смерть жильца квартиры № 4 обнаружила крестьянка Дарья Петрова, швейцариха, как все ее называли в доме, где она исполняла обязанности своего мужа, в прошлом году взятого на войну. Выйдя в шесть часов утра на крыльцо с ведром, тряпкой, щеткой и фонарем (еще было совершенно темно), она вдруг с испугом заметила, что два окна квартиры № 4 ярко освещены. В квартире этой никто не жил. Пожилой господин в золотых очках, который снимал ее уже почти месяц, никогда не оставался в ней до утра. Швейцариха — она потом долго с гордостью рассказывала, что сердцем сразу почуяла недоброе, — поспешно поднялась на цыпочках по темной лестнице, зачем-то волоча за собой щетку, но, не дойдя до второго этажа, растерянно сбежала вниз, позвать кого-нибудь из мужчин. Однако, мужчин взять было неоткуда, — еще и прислуга спала во всем доме. Дарья Петрова снова выбежала на крыльцо, еще раз торопливо взглянула на освещенные окна, затем, собравшись с духом, поднялась на цыпочках к дверям квартиры № 4 и стала слушать. За дверью ничего не было слышно. Это немного успокоило швейцариху: она подумала, что, должно быть, господин в золотых очках был здесь вечером и, уходя, забыл потушить свет. Она постучала, сначала робко, потом громче. Никто не откликался. Дарья Петрова вытащила из кармана связку ключей, отыскала в ней небольшой ключ, придерживая связку, чтоб не звенела, осторожно открыла дверь и, тяжело, неслышно дыша, вошла в переднюю, выставив вперед правую руку с ключами. В передней было темно, очень тихо. Чувствовался легкий, странный запах. Дверь в гостиную была притворена; из щелей над дверью и по сторонам пробивались узкие полосы яркого света. Швейцариху вдруг охватил ужас, ей захотелось сесть на пол. Прижав под мышкой левой руки палку щетки к сердцу, она правой рукой с ключами быстро потянула к себе дверь — и сразу закричала страшным голосом, точно почувствовав, что теперь в доме можно и нужно кричать, несмотря на ранний час: на полу ярко освещенной гостиной, наискось, ногами к двери, лежал господин в золотых очках.
В доме поднялась суматоха. Электрические лампочки зажглись в разных местах; из дверей квартир стали показываться полуодетые люди и, услышав об убийстве, с радостным оживлением и с испугом неслись одеваться и будить других, чтобы рассказать новость, торопливо соображая в то же время, не могло ли что дурное случиться и у них дома. Жилец квартиры № 3, холостяк, статский советник Васильев, узнав о происшествии от своего лакея, сейчас же послал его в участок, а сам в туфлях на босу ногу, старательно закрыв на ключ за собой дверь, поспешно вышел на площадку второго этажа. На другом ее конце, перед настежь открытой дверью квартиры № 4, ахали кухарки, неопределенно-радостно сознавая, что они в этом деле ни при чем. Они с надеждой, как всегда в таких случаях женщины встречают мужчин, отдались под покровительство Васильева. Статский советник боком вошел в квартиру № 4 и морщась взглянул на труп господина в золотых очках.
— Может, жив еще? — тихо вскрикнула одна из женщин.
Васильев пожал плечами: с первого взгляда было ясно, что господин в золотых очках умер.
— Какое жив! Не иначе, барин, как коты убили, вот помяните мое слово, — сказала мрачно другая кухарка. — Уж такая проклятая квартира!..
— Какая квартира? — спросил Васильев, недавно поселившийся в доме.
Узнав, что квартира была веселая, и что господин в золотых очках (его никто не знал по имени) не жил в ней, а только приезжал с девками, статский советник с любопытством еще раз взглянул на искаженное лицо убитого и снова поморщился.
— Никого сюда не пускать до прихода полиции, — приказал он и раскланялся со спускавшимися по лестнице жильцами третьего этажа. Дама в пеньюаре страдальческой улыбкой извинила туалет Васильева. Они обменялись несколькими словами, чувствуя теперь друг к другу симпатию за то, что не были убийцами.
Внизу послышались голоса. В сопровождении не перестававшей ахать Дарьи Петровой, лакея и еще нескольких человек, по лестнице поднималась полиция: молодцеватый помощник пристава, околоточный с повязанной черным платком щекой, городовые. Васильев слегка поклонился, назвал себя и принялся было рассказывать об убийстве. Но помощник пристава тотчас его перебил.
— Господа, прошу разойтись! — сказал он.
Эта привычная фраза выходила у него особенно внушительно; помощник пристава очень ее любил.
II
Городовые очистили площадку от посторонних. Помощник пристава, околоточный, врач, швейцариха и понятые вошли в квартиру, особенно осторожно ступая. В ту же секунду полицейские шинели с разных сторон отразились в зеркалах ярко освещенной гостиной, так что один из городовых даже попятился в удивлении назад. Дарья Петрова еще раз ахнула при виде трупа, но уж больше из приличия, — теперь она боялась не тела, а полиции.
Господин в золотых очках лежал на спине, слегка повернув набок голову. Это был невысокий, хорошо одетый, довольно полный человек, лет пятидесяти, с серым лицом, которое выражало не то ужас, не то физическое мучение. Глаза у него были странно большие и выпученные. Из полуоткрытого рта виднелись желтые зубы. Помощник пристава, веселый, крепкий жизнерадостный человек, вздохнул и кивнул головой врачу, предлагая ему заняться трупом. Привычный врач опустился на колени перед умершим и стал его осматривать.
Стены большой, высокой гостиной были почти сплошь заставлены высокими зеркалами; пол выстлан красным, местами выцветшим ковром. Мебель состояла из красных плюшевых кресел и мягких, широких диванов, без спинок, с множеством шелковых и бархатных подушек. На потолке тоже было большое круглое зеркало, отражавшее расположенную под ним широкую, низкую кушетку. У одной стены находилось механическое пианино. Круглое зеркало на потолке было обведено зажженными лампочками. Много ламп было и по стенам, но они не горели. В углу, на столе, покрытом пыльной бархатной скатертью, стояли бутылки, стаканы, тарелки с виноградом и печеньем. Помощник пристава подошел к выключателю и на мгновенье потушил лампы. В комнату едва пробился свет начинавшегося утра. Врач недовольно оглянулся. Дарья Петрова тяжело вздохнула. Помощник пристава снова зажег лампы.
— Ты, баба, как тебя? Сколько комнат в квартире? — сурово спросил он швейцариху.
— Две, ваше благородие, спальня и гостиная, да еще ванна, горячая вода с утра до вечера, — ответила поспешно швейцариха, по привычке выхваляя квартиру точно для сдачи ее внаем. — Да еще ватер, — добавила она застенчиво, видимо щеголяя этим словом. — Две комнаты, вот тут спальня ихняя. Пожалуйте…
Околоточный открыл дверь в другую комнату и зажег в ней свет. Спальня с нетронутой постелью была значительно меньше гостиной. Пристав, околоточный и Дарья Петрова прошли в нее, оттуда в уборную, в ванную и снова вернулись в гостиную.
— Ну, что? Как скажете: медико-полицейское или судебно-медицинское? — спросил помощник пристава.
— Нужно вскрыть тело, — ответил врач. — Следов борьбы на теле не видно, однако отравление очень вероятно. Но до вскрытия ничего сказать точно нельзя. Необходим, конечно, химический анализ этого, — добавил он, нюхая жидкость в одном из стаканов.
— А может быть, самоубийство, или просто разрыв сердца? — спросил околоточный, с усилием выговаривая слова: он страдал флюсом.
— Не похоже, не думаю… Обстановка не такая, как при самоубийстве.
— Ну, нет, это не самоубийство! — сказал помощник пристава, показывая глазами в сторону стола. — И по лицу видно, что убийство. Ясное дело, подсыпали яда… Здесь кроме него был еще кто-то… Эй, ты, баба, пожалуй сюда. Так тебе фамилия жильца неизвестна?
Дарья Петрова рассыпалась в запутанных объяснениях. Жилец снял квартиру с месяц тому назад, оставил ее за собой, приезжал изредка с женщинами и с господами, открывал двери своим ключом, оставался обыкновенно до полуночи. Она заходила по утрам убирать комнаты. Дарья Петрова все сбивалась на то, как она испугалась, заметив свет в окнах и потом найдя труп. Фамилии жильца она не знала.
Помощник пристава и околоточный хмуро ее слушали. История эта была им неприятна. Они прекрасно знали, что квартира № 4 сдавалась, большей частью посуточно, господам, которые туда приезжали с женщинами, не сообщали своих имен, или сообщали ложные имена, и не прописывались в участке. Происшествие в квартире с непрописанным жильцом грозило и служебными неприятностями, и потерей доходной статьи.
— Сами изволите знать, какая квартира, ваши благородие, — значительным тоном говорила Дарья Петрова.
— Так не знаешь, как звали жильца? — еще строже повторил помощник пристава. — Не прописала?.. Ну, с тобой еще об этом будет разговор, — угрожающе проговорил он. — Иван Васильевич, вы всем сообщили по телефону?
— Так точно, и следователю, и товарищу прокурора, и в сыскное.
— Опять же ждать их по обстоятельствам дела нельзя. Обыск можем произвести и сами. Обыщите его, голубчик. А я буду писать протокол.
В карманах умершего человека нашлись носовой платок без метки, золотые часы Лонжин, портсигар, бумажник с семьюдесятью рублями, и в жилетном кармане немного мелочи рублевыми бумажками и марками военного времени. Больше ничего найдено не было. На пиджаке не оказалось метки портного.
— Вот так задача, — сказал угрюмо околоточный. — Ищи теперь, кто таков…
Околоточный, недавно, за особые заслуги и огнестрельную рану, переведенный из провинции в Петербург, был человек неопытный.
— Найдут! — уверенно ответил помощник пристава. — А в ящиках стола ничего нет?
Он приподнял скатерть и, просунув руку под стол, с трудом отодвинул тугой ящик. В ящике не было ничего, кроме сора по углам. Но в спальной, в шкафу, помощник пристава обнаружил кое-какие вещи, особого рода фотографические карточки.
— Ах, ты… — сказал он с удовольствием, давая себе волю. — Иван Васильевич, полюбуйтесь!..
— Должно быть, из Парижа? — заметил с любопытством околоточный. — Только в Париже такое выдумают.
— Нет, не говорите, и у нас теперь это хорошо работают, — ответил помощник пристава.
III
За дверью послышались повышенные голоса. Вошел один из городовых и с видом, одновременно смущенным и озлобленным, подал помощнику пристава визитную карточку.
— Черт его принес! — сердито сказал помощник пристава. — Уже пронюхал, собака… Скажи, сейчас к нему выйду.
— Кто такой? — спросил околоточный.
— Певзнер, из «Зари», — ответил помощник пристава и покосился на околоточного, подозревая, что тот из участка телефонировал о происшествии репортеру. Околоточный почувствовал подозрение и, чтобы рассеять его, сказал с горячностью, преодолевая зубную боль:
— И зачем только таких держат в столице? У нас в Харькове, при Матвееве, его бы в двадцать четыре часа выслали по этапу из города.
— Певзнера выслать? Легче выслать по этапу градоначальника, — ответил помощник пристава и вышел на площадку. На лестнице, в отдалении, прижавшись к перилам и друг к другу, толпились люди. На площадке курил папиросу высокий худощавый человек, лет сорока, с рыжей конусообразной бородой. Это был журналист Певзнер, сотрудничавший в газете «Заря» за подписью «Дон Педро». Помощник пристава приветливо протянул ему обе руки.
— Альфреду Исаевичу мое почтение, — сказал он. — Уже узнали? Экой вам Господь Бог послал талант! Вася должен бы вас озолотить.
Вася был редактор газеты «Заря».
— Вася озолотит, — кратко ответил Певзнер, не то подтверждая предположение, не то выражая безнадежный скептицизм. — Я, впрочем, зашел сюда случайно. Репортажем, как вы знаете, я давно не занимаюсь, моя специальность политическая информация и большое интервью. Но у нас как раз Гамлицкий в отпуску. Ну, говорите, кого убили?
— Да вот пока не можем установить…
— Не можете установить, — укоризненно сказал дон Педро. — А ну, покажите.
Он двинулся к двери. Помощник пристава учтиво загородил ему дорогу.
— Уж вы, пожалуйста, извините, Альфред Исаевич, — сказал он виновато и необычайно мягко. — Следственные власти еще не прибыли, я пока не могу, не имею права вас допустить в квартиру. Может, еще собачек сюда пустят, ищеек этих, — вам же будет неприятно, если собачка за вами побежит, супругу встревожит. После следователя милости прошу, первым пройдете. А теперь уж, пожалуйста, извините.
— Н-да, — сказал Певзнер, признавая справедливость доводов помощника пристава. — Только вот что: я вашего следователя ждать здесь на лестнице не намерен. Тут, напротив, за углом, есть трактир, пойду чай пить, кое-что напишу. А вы, после следователя, будьте добры, дайте мне туда знать.
— Это с удовольствием… На войне что слышно, Альфред Исаевич?
— Мало хорошего. Гинденбург готовит к двадцатому числу прорыв на рижском фронте. Двенадцатью дивизиями…
— Ах ты, черт! И что же?
— Отступим немножко.
— Беда, просто беда. Да ведь ясное дело, — сказал, понижая голос, помощник пристава, — немцам через Гришку все известно, что у нас в штабе делается. Говорят, двести семьдесят тысяч отвалили ему немцы чистоганом. Видно, дело идет к сепаратному?
— Ну, еще не известно. В сферах вчера сказали, что сепаратного мира не будет. Возможно, впрочем, конечно… Ну, так я буду ждать в трактире, — сказал он и хотел было направиться вниз. Но по лестнице как раз поднимался молодой красивый брюнет с маленькой головой, с черными бархатными глазами, известный сыщик Антипов. Он был одет по самой последней моде, — именно так одетых людей старые опытные барышники часто останавливают на улице, предлагая им продать платье. Антипов небрежно поздоровался с Певзнером и уж совсем пренебрежительно с помощником пристава, который с уважением окинул взором его лакированные полуботинки, синие шелковые носки, трость с серебряным набалдашником.
Помощник пристава в кратких словах изложил происшествие, но вид Антипова ясно показывал, что он не слушает и не желает слушать, так как ничего путного все равно не услышит.
— Ладно, ладно, посмотрю, — сказал он и прошел в квартиру № 4.
Помощник пристава последовал за сыщиком. Антипов едва кивнул головой околоточному надзирателю и врачу, быстро окинул взором тело, комнату, заглянул в спальную, в уборную, затем вернулся к телу и долго молча на него смотрел. Помощник пристава, околоточный и даже городовые наблюдали за действиями сыщика с ироническим недоброжелательством наружной полиции к агентам тайного розыска. Сам Антипов их как бы не замечал вовсе. Затем он подошел к столу, на котором, рядом с бутылками и стаканами, лежали вещи, вынутые из карманов убитого, с досадой пожал плечами и внимательно все осмотрел, ничего не трогая. Помощник пристава давал ему пояснения.
— Сколько раз мы говорили вам, господа полиция, — сказал с гримасой Антипов, — нельзя ни к чему прикасаться на месте криминала. Это при царе Горохе можно было так вести дознание. Ну, какое же теперь может быть дактилоскопическое исследование?.. Вечно одна и та же история! Нонсенс!
— Да мы что же? Мы только из карманов все вынули, — сказал сухо околоточный. — Кому-нибудь надо было это сделать.
Антипов саркастически рассмеялся.
— «Только из карманов все вынули»! Прелестно! — произнес он. — По крайней мере тело оставлено в том же положении, как найдено? И то слава Богу.
Он вынул из внутреннего кармана пальто небольшой кожаный предмет, похожий не то на дорожный несессер, не то на патронташ, осторожно положил его на стол и открыл. Внутри оказалось множество крошечных отделений, по которым были аккуратно разложены разные вещи: складной аршин, циркуль, какие-то бутылочки, пробирки, бумага. Антипов достал лупу и, нагнувшись над стаканами, долго внимательно их рассматривал, не прикасаясь действительно ни к чему.
— Вы, конечно, до вскрытия ничего не можете сказать? — спросил он врача.
— До вскрытия и исследования содержимого желудка медицина ничего точно установить не может, — с некоторым раздражением ответил врач, подчеркивая слово «медицина».
Антипов слегка улыбнулся.
— Ну, и после вскрытия тоже иногда толку мало, — сказал он. — Так вы, собственно, ничего пока не знаете?
— Думаю, что налицо отравление. Какой яд? Вероятно, не мышьяк. Следов рвоты не видно, — правда, это еще не доказательство. Не похоже и на карболку, и на синильную кислоту, их можно было бы узнать по запаху. Может быть, сантонин или атропин, зрачки как будто расширены. Это выяснит исследование желудка… Странно, что так быстро началось разложение тела… Очень важен химический анализ. Пробы жидкости в стаканах и в бутылке будут запечатаны сейчас же по прибытии следователя.
— А за песиками вы пошлете? — полюбопытствовал помощник пристава, очень любивший собак и интересовавшийся работой ищеек.
— За песиками? Теперь посылать за песиками нонсенс, — сказал сердито Антипов. — Вы бы еще сначала полк солдат протащили по этой комнате. Тоже типы, — пробормотал он.
Он немного кривил душою. Антипов не любил пользоваться полицейскими собаками, так как это был слишком простой, механический, и потому неинтересный способ розыска. Кроме того, ему было обидно, что собаки делают его работу.
Сыщик опять подошел к трупу и долго при помощи лупы рассматривал губы, руки, ногти. Внимательно осмотрел и ковер. Собственно он ничего не искал на ковре, но чувствовал себя Шерлоком Холмсом и немного щеголял приемами перед публикой. Затем он вернулся к столу и осмотрел часы убитого, подняв крышку, при чем что-то занес в свою записную тетрадь. Потом отозвал Дарью Петрову в переднюю и там долго расспрашивал ее вполголоса. Помощник пристава тем временем составлял протокол, кратко описывая найденные на убитом предметы.
— Смотрите, тут вот еще что есть! — вдруг радостно сказал он. — А мы и не заметили…
В большом бумажнике убитого оказалось еще одно отделение, с наружной стороны. В нем лежал свернутый вдвое листок бумаги, счет гостиницы.
— «Палас-Отель», — прочел поспешно помощник пристава. — Что я вам говорил? Вот мы и без лупы установили личность убитого. Счет на имя мусью Фишера, — это, значит, и есть Фишер… А счет, кстати, порядочный. За неделю пятьсот пятнадцать целковых. Видно, мусью был побогаче нас с вами… Да что же, наконец, следователь? Сходите вы, Иван Васильевич, в трактир и протелефоньте ему еще раз, — не до вечера же нам здесь сидеть. Отсюда при нем нельзя звонить, — добавил он вполголоса. — Сходите, голубчик…
IV
Дон Педро вошел в только что открывший двери трактир, спросил чаю с лимоном и, при свете лампы, расположился работать. Он вынул из портфеля несколько узеньких, длинных полос бумаги, на которые были наклеены вырезки из газет. Альфред Исаевич вел отдел «Печать» в газете «Черниговская мысль». Статью надо было опустить в ящик немедленно, чтобы она ушла еще с утренним поездом. Обозрение печати было, впрочем, уже почти готово. Дон Педро средним пальцем разгладил сырую наклейку на полосе, придавливая отстававшие углы. Это были цитаты из двух реакционных изданий, обвинявших друг друга в получении каких-то подозрительных сумм. Певзнер не без удовольствия прочел вырезки, соображая, сколько именно денег и от кого могла получить каждая газета, затем отцепил из внутреннего кармана самопишущее перо и крупным, четким почерком сразу написал под второй наклейкой:
«Комментарии излишни. Вот уж действительно своя своих не познаша… До каких, однако, Геркулесовых столпов цинизма договорились наши рептилии!»
Следующая вырезка была взята из передовой статьи другой газеты, которая, как было известно Певзнеру, досталась новым акционерам и потому меняла направление. Дон Педро быстро пробежал наклеенные строчки и, опять не задумываясь, написал:
«Что однако сей сон означает?! Уж не „эволюционирует“ ли почтенная газета? И если эволюционирует, то куда и почему? Тайна сия велика есть.»
Он посмотрел на часы и, сосчитав число строк, решил ограничиться тремя вырезками. Дон Педро взял из портфеля конверт с надписанным адресом, запечатал письмо и, лизнув, наклеил марку. К его удовольствию, марка сразу плотно, всей поверхностью пристала к тугому конверту. «Кажется, на углу есть ящик», — подумал он: готовые и еще не отправленные письма всегда причиняли ему легкое нервное беспокойство. Он рассеянно положил письмо в карман и стал медленно прихлебывать чай с лимоном. Мысли у него были неприятные. Недавно в редакцию «Зари» заезжал известный адвокат Кременецкий и пригласил к себе на большой вечер Васю, обоих передовиков и политического фельетониста. С ним же Кременецкий был, как всегда, любезен и внимателен, — он старательно поддерживал добрые отношения с прессой, — однако на прием, где должны были собраться сливки петербургской оппозиционной интеллигенции, очевидно, не собирался его звать. Пришлось оказать на адвоката легкое давление. Альфред Исаевич вскользь заметил, что намерен дать отчет в газете о деле, в котором выступал Кременецкий. Приглашение было получено, но все это оставило неприятный осадок. Дон Педро опять решил, что надо навсегда покончить с репортажем, даже с политической информацией и с большим интервью.
«В передовики меня Вася не примет, — мрачно подумал он. — Но насчет места второго думского хроникера я им поставлю ультиматум. Если не возьмут, ухожу в „Слово“».
Он вспомнил, как за Кашперовым, парламентским хроникером газеты, ухаживали самые влиятельные люди России, члены Думы и Государственного Совета, даже министры. Известнейшие ораторы, в дни своих речей, с тревогой, с миндальной улыбкой искали встречи с Кашперовым.
«Да, решительно поставлю Васе ультиматум», — подумал Дон Педро, допивая чай.
В трактир вошел, гремя шашкой, околоточный надзиратель с повязанной щекой.
— Где тут телефон? — спросил он засуетившегося полового.
— Ну, что? — окликнул околоточного Певзнер.
— Личность выяснена.
— Поздравляю. Кто же такой? — рассеянно сказал репортер.
— Фамилия Фишер.
— Фишер?.. А имя-отчество?
— Этого пока не знаем. Живет в гостинице «Палас».
— В «Паласе»? — переспросил, встрепенувшись, дон Педро. — Неужели в «Паласе»? Почем вы знаете?.. Послушайте!..
— Выяснено дознанием…
— Послушайте!.. Что, если это Карл Фишер!.. — сказал, поднявшись с места, Альфред Исаевич. — Ей Богу, он жил в «Паласе»… Почему вы думаете, что это Фишер?
— А вы его знаете? Кто он такой?
— Знаю ли я Карла Фишера?.. Его все знают, кроме вас… Да не может быть! Карл Фишер убит! Послушайте, какой он из себя? Лет пятидесяти, бритый, золотые очки?.. Что вы говорите!.. Ей Богу, это он!.. Человек!..
Дон Педро заторопился и стал быстро дрожащими от волнения пальцами отсчитывать деньги за чай.
— Я сейчас бегу… А что, Никифоров из «Молвы» уже там?.. Нет еще?.. Скажите, вы кому хотите звонить? Пустите меня к телефону…
— Мне надо телефонировать участковому следователю.
Певзнер саркастически рассмеялся.
— Участковому следователю? Вы думаете, что, если убили Фишера, так дело достанется участковому следователю? Тут пахнет следователем по особо важным делам. Вы можете на мою ответственность дать знать прокурору палаты. На мою ответственность!.. Что такое!.. Карл Фишер убит!.. Не может быть!..
Он надел котелок ивзволнованно побежал к выходу.
V
Утро осеннего дня было темное и дождливое. В коридорах, общих залах и номерах гостиницы «Палас» электрические лампы горели непрерывно целый день. В десятом часу, знаменитый химик Александр Браун, с трудом приподнявшись на постели, нашел ощупью пуговку выключателя, зажег лампу на ночном столе, взглянул на плоские часы с бесшумным ходом, снова опустил голову на подушку и долго лежал неподвижно, плотно закрывшись одеялом, хотя в комнате было тепло. Вода еле слышно шипела, входя в трубы отопления. Слабая лампа освещала те предметы, которым полагается быть в десятирублевом номере каждой гостиницы Palace любой европейской столицы: малиновое сукно на полу; неидущие часы поддельной бронзы на камине, не служащем для топки; маленький, крытый стеклом, стол, за которым трудно работать; диван, на котором невозможно лежать; и шатающуюся ременную скамейку для чемоданов в узкой передней, откуда боковая дверь вела в ванную комнату.
Было одиннадцать часов, когда Браун встал с постели. Он прошел в ванную, зажег лампу и там, повернул краны, попробовал рукой струю, усилил ток из горячего крана, морщась, точно от боли, от шума падающей струи. Дно ванны быстро покрылось водой, звук струи изменился. Браун сел на соломенный стул, накрылся мохнатой простыней, не развернув ее, и долго внимательно глядел на кусок картона, который на четырех языках (немецкий текст был заклеен по случаю войны) излагал разные правила гостиницы «Палас». Затем опустил голову и так же упорно-внимательно следил за паром, поднимавшимся от горячей воды. Помутневшее кое-где от пара зеркало отражало острый профиль усталого мертвенно-бледного лица с углами лба, выпукло выступавшими над глазами. Ванна наполнилась. Браун снял с полки банку и высыпал на ладонь большую горсть желтоватых, чуть расплывающихся кристаллов. Запахло лимоном и вервеной. Он поднес ладонь к лицу, жадно вдохнул воздух и бросил несколько горстей соли в воду, которая сразу помутнела. Браун разделся, вздрагивая, погрузился в воду и закрыл глаза.
Так он просидел без движения минут пятнадцать. Вода остыла. Браун пустил большую струю кипятку, подвигая ближе к ней колени. Когда вода в ванне стала жечь тело, он вышел, закутался в мохнатую простыню и долго сидел за письменным столом, перед раскрытым томом Диогена Лаэртийского, внимательно читая напечатанные под стеклом объявления пароходных обществ, гостиниц и магазинов. Потом взял с окна бутылку коньяку, налил большую рюмку, выпил и занялся туалетом.
Браун был уже одет и выбрит, когда со стола раздался звонок телефонного аппарата. Управляющий гостиницы просил разрешения зайти. Через минуту в дверь постучали и появился мосье Берже, которого до войны все считали немцем Бергером и который в 1914 году оказался уроженцем Эльзаса. Вид у него был взволнованный и расстроенный, насколько может быть взволнованный и расстроенный вид у управляющего гостиницы Палас.
— Monsieur, je vous demande bien pardon de vous déranger [1], — сказал он грустным полушепотом, — я должен вас потревожить в связи с очень прискорбным случаем…
Браун молча вопросительно смотрел на управляющего, который говорил, запинаясь, по-французски, с немецким акцентом.
— С одним из наших жильцов случилось вчера несчастье. Дело идет о мосье Фишере. Вы, кажется, его знали… Мосье Фишер скончался…
По мертвенному лицу Брауна пробежало выражение ужаса.
— Фишер скончался? — вскрикнул он.
— Да… Это ужасно… И находящийся в его номере… следователь желал бы навести некоторые справки у людей, лично знавших покойного. Я позволил себе указать вас, так как вы были знакомы с мосье Фишером. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против этого?
— Следователь? — медленно спросил Браун. — Отчего же скончался Фишер?
Хозяин замялся.
— Это и выясняется теперь следствием…
— Он умер здесь, у себя в номере?
— О, нет, упаси Боже! — воскликнул Берже, точно это предположение крайне оскорбляло его гостиницу. — Мосье Фишер умер на какой-то квартире, которую он, оказывается, снимал в городе… Но об этом вам, без сомнения, сообщит сам следователь, я ничего не знаю. Могу ли я доложить господину следователю, что вы готовы немедленно к нему явиться?
— Разумеется… Я сейчас приду, — сказал Браун, помолчав. — Через несколько минут.
— Благодарю вас. Так, пожалуйста, в номер 67… Какое печальное происшествие!.. До свиданья… И, пожалуйста, извините за беспокойство…
Браун несколько раз нервно прошелся по комнате, сел на диван, снова зашагал. Потом подошел к зеркалу, смочил лоб одеколоном и вышел.
VI
В раззолоченной гостиной большого номера из трех комнат, который занимал в бельэтаже гостиницы «Палас» умерший банкир Карл Фишер, за столом, у зажженной лампы, сидел следователь по важнейшим делам, Николай Петрович Яценко, еще не старый, осанистый человек, с очень приятным, умным лицом. Он одновременно делал два дела: просматривал бумаги, найденные в ящиках стола, и слушал стоявшего перед ним Антипова.
Следователь Яценко был человек либеральных взглядов; он читал «Русские Ведомости», состоял в оппозиции высшим реакционным кругам министерства и был хорош с самыми передовыми представителями адвокатуры. Общество сыщика было неприятно Яценко, — он чуть-чуть гордился тем, что оно ему неприятно. Не нравился ему и тон Антипова, как будто официально почтительный, но вместе и несколько фамильярный, даже чуть-чуть шутливый, точно Антипов все время намекал на что-то забавное. Это был один из многочисленных тонов Антипова, тон, усвоенный им в обращении со следственными властями. Он так привык к переодеваниям и к ролям, что ему никакого труда не составляло совершенно изменять манеру, в зависимости от того, с кем он имеет дело.
— Ну, что ж, — сказал, подумав, Яценко, — продолжайте наблюдение за этим Загряцким. Улики против него довольно серьезные и, если допрос не рассеет подозрений, я его, конечно, арестую.
— Разрешу себе информировать Ваше Превосходительство, — сказал Антипов, слегка улыбаясь. Яценко получил недавно чин действительного статского советника. Несмотря на его передовые взгляды, именование «Ваше Превосходительство» было приятно Николаю Петровичу. Он вопросительно смотрел на сыщика.
— Ну-с? — спросил он холодно.
— Разрешу себе доложить, что отказываться от немедленного ареста нам форменно нет расчета. Конечно, это тип уже мог кое-что уничтожить из следов криминала. Но узус [2] показывает, что преступники не всегда уничтожают тотчас все. Обо всем сразу ведь и не догадаешься. Было бы много лучше, если бы мы его форменно заарестовали и произвели настоящий обыск немедленно?
— Нет, нет, — сказал, хмурясь от «мы», следователь. — Подозреваемый еще не есть виновный, а между тем арест по подозрению в убийстве вещь серьезная. Улики пока недостаточны.
— Слушаю-с, — сказал Антипов, блестя наглыми глазами. — Имею честь…
Он откланялся.
Яценко нагнулся над бумагами и стал писать, больше для того, чтобы не подать сыщику руки. Антипов весело на него поглядел и вышел из комнаты, по дороге оглядев себя в зеркало и оправив галстук.
Через минуту в дверь постучали, и на пороге появился Браун. Следователь посмотрел на него вопросительно.
— Ах, вы доктор Браун? — сказал он, вставая и протягивая руку. — Очень рад познакомиться… Жаль, что по такому неприятному поводу… Пожалуйста, садитесь. Разрешите прямо перейти к делу. Банкир Карл Фишер, как вам верно уже сказали, сегодня был найден мертвым на какой-то странной квартире, в весьма подозрительной обстановке.
Он изложил, как и где было найдено тело Фишера. Браун слушал, не говоря ни слова.
— Мы еще ждем медицинской и химической экспертизы. Но есть все основания подозревать, что Фишер стал жертвой убийц. Таковы первые результаты дознания. Директор «Палас-Отеля», из живущих в гостинице лиц, которые знали Фишера, назвали мне вас. Поэтому я позволил себе вас побеспокоить. Не знаете ли вы чего-либо, что могло бы пролить свет на дело и облегчить задачи следствия? Нет ли у вас каких-либо мыслей и подозрений, относящихся к этому делу?
— Никаких, — ответил Браун. — Никаких подозрений.
— Вы давно знаете Фишера?
— Нет, не очень давно.
— Когда видели вы его в последний раз?
— Кажется, вчера утром, — сказал, подумав, Браун. — Я видел его в ресторане гостиницы…
— Вы не заметили в нем ничего особенного?
— Ничего не заметил.
— Не говорил ли он вам о своих предположениях на вчерашний день?
— Нет, не говорил.
— Не известно ли вам, — могла ли вчера находиться при Фишере значительная сумма денег?
— Это мне неизвестно.
Следователь помолчал.
— Знаете ли вы также семью Фишера?
— Я встречался за границей с его дочерью, она слушала мои лекции. Его жена теперь, кажется, в Крыму.
— Ей послана телеграмма. С нею вы не были знакомы?
— Я из их семьи был знаком только с банкиром и с его дочерью.
— А с неким Загряцким?
— Разве он принадлежит к семье?
Следователь усмехнулся.
— Видите ли, — сказал он, — я, в отличие от многих моих коллег, не считаю обязательной для следователя чрезмерную скрытность… От вас, вероятно, не составляет секрета, что семья Фишера не блистала патриархальными добродетелями. Я докладывал вам, в какой обстановке умер банкир. Полицейское дознание успело выяснить, что при его супруге в качестве признанного друга дома состоял Загряцкий. Древнее изречение вам известно: Is fecit cui prodest [3]. Мы обязаны подозревать всех тех, кому могла быть выгодна смерть Фишера. Если хотите, это с моей стороны даже не подозрение, а, так сказать, выполнение формальной служебной обязанности. Розыск, кстати, сообщает дурные сведения о Загряцком: человек без определенных занятий, с сомнительным прошлым, хотя и хорошей семьи, картежник, кутила и мот, живший на счет Фишеров и очень хорошо живший… Вы его знаете?
— Я встречался с ним у Фишера.
— Совпадают ли ваши сведения или хотя бы ваше впечатление с той характеристикой Загряцкого, которую дает розыск?
— Не берусь вам ответить, я слишком мало его знаю… Я с большим трудом поверил бы, что он способен на убийство.
— Но все же поверили бы?
— Как поверил бы о ком угодно другом.
Следователь посмотрел на Брауна.
— Так-с… Ну, немного же вы мне сообщили. Не знаете ли вы, кто из друзей или знакомых семьи Фишеров мог бы рассказать нам побольше?
— Фишера знали очень многие. Тысячи людей знали его так, как я. Из близких же… Позвольте подумать… Нет, никого не могу вспомнить. Конечно, дочь. Но она живет за границей и не идет в счет…
В дверь постучали, в комнату вошел мосье Берже. Он приблизился к следователю и сказал ему вполголоса:
— Один персон желайт ситшас видеть господин судья.
— Кто такой? — спросил Яценко.
— Son Excellence Monsieur Fedossieff [4], — сказал значительно управляющий гостиницы.
На лице следователя изобразилось удивление.
— Федосьев? — проговорил он. — Пожалуйста, просите…
Он встал и сказал поднявшемуся тоже Брауну:
— Вы меня извините. Его превосходительство мосье Fedossieff (он с иронией произнес эти слова) желает меня видеть… Впрочем, наш деловой разговор кончен. Может быть, мне придется еще раз вас потревожить, может быть, и не придется: вы ведь ничего не знаете о деле… Очень рад был с вами познакомиться…
Браун пожал ему руку и вышел. По освещенному электричеством коридору гостиницы, в сопровождении мосье Берже и каких-то людей подозрительного вида, быстро шел высокий седоватый, чуть сгорбленный человек, в шубе с большим бобровым воротником, в меховой шапке. Это был Сергей Васильевич Федосьев, известный всей России, — известный не сам по себе (о личности его почти никто ничего не знал), а по той должности, которую он занимал: по должности этой он ведал политической полицией Империи. Федосьев шел, нервно оглядываясь по сторонам. Проходя мимо Брауна, он окинул его поспешным подозрительным взглядом, вдруг остановился и спросил негромким голосом:
— Если не ошибаюсь, Александр Михайлович Браун?
Браун молча наклонил голову.
— Не знаю, помните ли вы меня? Мы когда-то учились вместе в университете… Я Федосьев.
— Я помню вас.
Федосьев быстрым, не вполне уверенным, жестом протянул ему руку.
— Мы не встречались лет двадцать пять, — сказал он, любезно улыбаясь и не спуская холодных глаз с Брауна. — Но я следил за вашей карьерой, слышал, читал. О вас много писали два года тому назад, когда вы получили медаль имени Дэви…
— Вы помните и это?
— Как видите. Очень горжусь тем, что был университетским товарищем знаменитого ученого.
Браун развел слегка руками. Ответить комплиментом было мудрено: карьеру Федосьева хорошо знала вся Россия.
— Слышал, что вы давно поселились в Париже: у нас, по глупости нашего правительства (он особенно отчетливо произнес эти слова), у нас не сумели вас оценить. Знаю и то, что вы недавно вернулись в Россию и работаете в тылу и на фронте на пользу химической обороны государства. Был бы искренно рад встретиться с вами и побеседовать? — полувопросительно добавил он.
— К вашим услугам.
— Очень, очень хочу, — проговорил Федосьев. — Вы здесь изволите жить?.. До скорого свидания. Я позвоню вам по телефону. Весьма рад встрече.
Он крепко пожал руку Брауну. Дверь номера 67 открылась. На пороге показался с некоторым беспокойством Яценко. Он с достоинством поклонился Федосьеву и пропустил его в дверь. Мосье Берже и подозрительного вида люди остались в коридоре.
VII
Яценко понимал, что неожиданное посещение Федосьева имело отношение к делу об убийстве Фишера. Это было неприятно следователю. Он считал отрицательным явлением самое существование особой, самостоятельной и полновластной политической полиции. Ее вмешательство, хотя бы и отдаленное, в дела судебного следствия представлялось ему нарушением основных идей и традиций реформы шестидесятых годов.
Николай Петрович с официальной учтивостью поздоровался с Федосьевым и слегка придвинул ему кресло. Этот хозяйский жест должен был дать почувствовать посетителю, что в номере Фишера распоряжается он, Яценко. Федосьев, однако, не обратил, по-видимому, никакого внимания на смысл жеста и даже на сам жест. Любезно, как со старым знакомым, поздоровавшись с Яценко (которого он едва знал), он, не садясь, неторопливо и внимательно стал осматриваться в комнате. Хотя это продолжалось недолго, следователь успел два раза кашлянуть, — второй раз с легким раздражением. Он еще тронул кресло, предназначенное для посетителя, а затем отошел по другую сторону письменного стола.
— Вашему Превосходительству угодно было меня видеть? — сухо произнес он.
— Так точно… Прошу Ваше Превосходительство извинить беспокойство, — сказал Федосьев. — Николай Петрович? — полуспросил он, садясь.
Следователь кивнул головой. Его смягчил тон Федосьева и то, что гость знал его имя-отчество. Сам он, однако, продолжал обращаться к Федосьеву официально.
— Как вы догадываетесь, Николай Петрович, — неторопливо и гладко, негромким голосом заговорил Федосьев, — я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство, и мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. Разумеется, я был искренно этому рад: ваш опыт и энергия мне, как всем, хорошо известны (Яценко молча поклонился). И я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам, для выяснения некоторых обстоятельств этого дела.
— Ваше Превосходительство предполагаете, что дело Фишера может быть не чуждо политического элемента?
— О, нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович, — сказал Федосьев. — Или, вернее, я a priori допускаю возможность политического элемента во всяком деле такого рода
«Какого рода?» — спросил себя Яценко. Федосьев понял его мысль.
— Банкир Фишер, — произнес он неохотно, — был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности, с немецкой фамилией. Наше ведомство обязано хоть издали следить за подобными людьми, особенно в грозное военное время. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто нерадив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела.
— Таким образом, я должен предположить, что Ваше Превосходительство желаете получить сведения о порученном мне деле, так сказать, в частном порядке?
Федосьев взглянул на следователя.
— О да, в частном порядке, только в частном порядке, — с некоторым нетерпением проговорил он. — Если б я хотел идти путем официальным, я сказал бы об этом (Федосьев назвал по имени-отчеству председателя совета министров), он обратился бы к министру юстиции, министр юстиции к прокурору палаты, а прокурор палаты истребовал бы справку у товарища прокурора, который наблюдает за вашим следствием… Согласитесь, что не стоит беспокоить столько занятых людей. Я поэтому в частном порядке прошу вас изложить мне ваши сведения и предположения о деле, — сказал он, подчеркивая слово «прошу».
— Я к вашим услугам, — сухо проговорил следователь. — Так вот, видите ли, банкир Карл Фишер был сегодня в 6 часов утра найден мертвым в квартире на…
Федосьев прервал его мягким жестом руки.
— Обстоятельства, при которых было обнаружено убийство, — сказал он, — мне известны. Я сам как раз приехал сюда из той квартиры…
«Однако!» — подумал следователь.
— Так, чтобы вам не утруждаться, Николай Петрович, будьте добры сообщить мне лишь данные, добытые первыми шагами дознания, а также те предположения и подозрения, которые у вас могут быть.
— Очень хорошо. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад и вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. До медицинского вскрытия тела и до производства химического исследования невозможно даже с точностью удостоверить, что Фишер умер насильственной, а не естественной смертью, хотя, конечно, все данные говорят именно об убийстве. Предположения же и подозрения, как вы изволили заметить, у меня точно есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажник, — правда, только с 70-ю рублями. Это, по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Можно, конечно, допустить, что в бумажнике была гораздо большая сумма, которой и воспользовался убийца, оставив 70 рублей для отвода глаз. Но для этого предположения нет оснований. Затем грабитель едва ли мог воспользоваться ядом, как способом убийства. Таким образом гипотеза грабежа мало вероятна… Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера.
Он остановился. Федосьев молча на него смотрел.
— Жена умершего Фишера, — сказал следователь, — была в близких отношениях с некиим господином Загряцким. Личность эта, по данным, добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств («кому говорю?» — мелькнула мысль у Яценко). Этот господин прокутил состояние, унаследованное от отца, служил, потом ушел со службы или его ушли. В последнее время он жил, по-видимому, на средства Фишера, с которым состоял в самых лучших по внешности отношениях. Знал ли Фишер о связи Загряцкого с женой, мне пока неизвестно. Но их часто видали вместе. Фишер занимался своими аферами днем, а вечером постоянно посещал всякого рода увеселительные места и притоны. Квартира, в которой он умер, была местом настоящих оргий. Ездил он туда в обществе очень молодых женщин, вернее было бы сказать, девочек, — убитый был, по-видимому, человек весьма развращенный, — вставил Яценко. — Почти всегда его туда сопровождал какой-то мужчина или мужчины. В обществе мужчины его видел мельком дворник дома, в котором была снята Фишером квартира. Но было это вечером, на дворе, и лица спутника Фишера дворник не разглядел… Далее: по всей видимости, никакой другой мужчина не мог быть заинтересован в смерти Фишера. Заинтересованы могли быть, предполагая худшее, две женщины: его жена и его дочь. Но они обе, по данным розыска, находятся вне Петербурга, госпожа Фишер теперь в Крыму, — ей послана телеграмма, а дочь за границей. Со смертью Фишера значительная часть его огромного богатства, очевидно, переходит к жене. Можно предположить, что от Загряцкого зависело бы на ней жениться или просто отобрать у нее деньги. Это все, разумеется, только гипотеза. Но вот и нечто другое: факты.
Следователь опять помолчал.
— В ящике этого письменного стола, — начал он снова, — при произведенном мною беглом разборе бумаг Фишера — их, кстати, оказалось очень немного — нашлись: во-первых, шестимесячный вексель, выданный Загряцким на имя Фишера, на сумму пять тысяч рублей. Срок этому векселю истекает через две недели. Во-вторых, записка, посланная Фишеру Загряцким, в которой он обещает быть «там, где всегда» в 10 часов вечера… Записка числом не помечена. Угодно вам взглянуть? — спросил он, показывая рукой на кучу бумаг.
Федосьев сделал отрицательный жест, закрыв на секунду глаза.
— В-третьих, розыск установил путем опроса прислуги того дома, где живет Загряцкий, что он ушел вчера из дому около пяти часов вечера, вернулся поздно, а утром, часов в девять, опять ушел из дому, чего обычно не делал. Я, разумеется, не думаю, что он скрылся, — это значило бы себя выдать. Но до сих пор я не могу его разыскать и допросить. Наконец, в-четвертых, квартира, где умер Фишер, отпирается особым никелированным ключом довольно сложной формы. Сыскной полиции удалось отыскать, по соседству с квартирой, слесаря, у которого этот ключ был заказан. Слесарь утверждает, что сделал в свое время два таких ключа, сделал по заказу господина, приметы которого совпадают с приметами Загряцкого. Вот пока все. За квартирой Загряцкого ведется наблюдение. Если этот господин на допросе не установит безусловного alibi, я его арестую… Ваше Превосходительство видите, что в деле трудно предположить наличие политического элемента.
— После Фишера осталось завещание? — спросил Федосьев, не поднимая глаз и барабаня пальцами по столу.
— Здесь, в номере, завещания не оказалось, — ответил несколько удивленный следователь. — Но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса… Это выяснится не сегодня-завтра.
— Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Об этом, а также обо всем, что будет найдено в сейфе. Весьма вам буду благодарен за любезное осведомление… В несколько часов вы установили очень многое. Кому поручен розыск по этому делу? Антипову?
— Да, Антипову.
— Желаю вам успеха. Он пускал полицейских собак?
— Нет еще.
— Это иногда — далеко не всегда, впрочем, достигает цели. Я нисколько, разумеется, не настаиваю, это ваше дело. Мое дело только быть в курсе. Надеюсь, будете меня осведомлять и дальше… Еще раз вас благодарю и прошу извинить, что побеспокоил… понапрасну.
Он встал и простился. Следователь сделал несколько шагов, провожая его к выходу. У двери Федосьев остановился и спросил:
— А что же Александр Михайлович Браун? Его вы, собственно, почему к себе вызывали? Я встретил его, входя к вам…
— Он живет в этой гостинице и был хорошо знаком с Фишером, я рассчитывал кое-что у него узнать.
— И что же, узнали что-нибудь?
— Почти ничего… Ваше Превосходительство его знаете?
— Мы учились одновременно в университете, правда, по разным факультетам и курсам.
— Он по происхождению из немцев?
— Не могу вам сказать, вероятно, из обрусевших инородцев.
— Интересное лицо… Он знаком также и с Загряцким.
— Да? У нашего знаменитого ученого странные знакомства… Не у Загряцкого ли он научился пить вино с утра?..
Федосьев негромко засмеялся и вышел из комнаты.
VIII
Hall гостиницы «Палас», ярко освещенный люстрами, был переполнен. Столики сияли белоснежными скатертями, серебром. Скрипач, толстый румын, с потным оливкового цвета лицом и черно-синими волосами, на бойкой руладе оборвал модную песенку и, радостно оглядев публику, заиграл румынский гимн. Никто не поднялся. Послышался смех. Скрипач раздул черные ноздри и возвел глаза к люстре. Но, по-видимому, не слишком обиделся и принял смех, как должное.
По лестнице, в шубе, опираясь на палку, спустился Браун и прошел мимо hall'а. Мальчик в курточке с золочеными пуговицами повернул перед ним вертящуюся дверь. Подуло сырым холодным ветром.
На мачте Зимнего Дворца ветер трепал штандарт. У колонн по сторонам от главных ворот замерли великаны часовые. Браун приблизился ко дворцу и пошел к Зимней Канавке. Снежная пыль, как стая мошек, вилась вдали вокруг фонаря. Капли воды тоскливо обрывались с краев герба, с фигур и ваз на карнизах, со сводов галереи. На набережной было темно и пустынно. Свистел осенний вечер. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду.
IX
У известного адвоката Семена Исидоровича Кременецкого на большом приеме должны были сойтись не только присяжные поверенные, составлявшие его обычное общество, но также профессора, артисты, писатели, общественные деятели. Обещало приехать и несколько второстепенных сановников, склонявшихся к оппозиции с 1915 года. К Кременецкому, несмотря на его радикальные взгляды и на еврейское происхождение (он, впрочем, еще в ранней молодости принял лютеранскую веру), относились благосклонно многие сановники, не исключая старого сенатора Медведева, грозы всех адвокатов России. Более умные из сановников находили, что либеральные убеждения почти так же обязательны при общественном положении Кременецкого, как умеренно-консервативные взгляды в их собственном положении. Должен был прибыть на прием и видный член британской миссии в Петербурге, майор Вивиан Клервилль, с которым недавно познакомился Кременецкий. Присутствие представителя союзных армий, как думал хозяин дома, сообщало особый характер вечеру, как бы намечая ту платформу, на которой объединялись теперь сановники с радикальной интеллигенцией.
Кременецкий был сторонником войны до полной победы, хотя и не слишком верил в полную победу. Он смолоду учился в Гейдельбергском университете и вывез оттуда, кроме обязательного для всех бывших гейдельбержцев запаса одних и тех же анекдотов о Куно Фишере, еще и уверенность в несокрушимой мощи Германии. Но он придерживался союзной ориентации, немцев недолюбливал и считал их всех мещанами, судя о них, главным образом, по своим квартирным хозяйкам.
На приеме предполагалось и музыкальное отделение, с участием передового композитора и певца, тенора частной оперы. Композитор играл бесплатно, — он везде и всегда был рад исполнять свои произведения, а тем более на вечере у Кременецкого, который и в музыке придерживался передовых взглядов: говорил, что для него музыка начинается с Дебюсси. Певец же получал за свое выступление четыреста рублей, уже отложенных хозяйкой в конверт (его предполагалось всунуть после ужина певцу незаметно, хотя сумма эта была заранее точно установлена по телефону не без полушутливого торга, — певец хотел пятьсот).
По случаю большого приема обед был подан раньше обычного и продолжался очень недолго. После обеда хозяин, очень высокий, грузный и рыхлый блондин, походивший на актера — любимца дам, второй раз в этот день выбрился в своей маленькой спальне перед огромным трехстворчатым зеркалом. Затем он надел, морщась, туго накрахмаленную белую рубашку и смокинг. Надевая брюки, он с неудовольствием заметил, что пуговицы сошлись на животе не очень легко, хотя смокинг был сшит недавно. «После войны сейчас же надо будет съездить в Мариенбад, — подумал он. — Хлеба, говорят, нужно есть меньше…»
Несмотря на то, что скоро могли появиться первые гости, Кременецкий еще сел за работу, — он работал в течение десяти месяцев в году по десять часов в день регулярно, — чем крайне огорчал жену и наводил трепет на помощников. Семен Исидорович прошел в свой кабинет, обставленный в строгом деловом стиле. Вдоль стен тянулись шкапы с книгами преимущественно юридического и политического содержания, в темных переплетах с инициалами С.К. внизу на корешках. На шкапах и на огромном письменном столе были расставлены фотографии виднейших судебных и политических деятелей с посвящениями хозяину. Позади письменного стола, над длинной полкой с «Энциклопедическим Словарем», зажатым между двумя бронзовыми львами, висел портрет госпожи Кременецкой работы известного художника, а на противоположной стене — огромная фотография, изображавшая босого Толстого. Низенькая, заклеенная обоями, незаметная дверь вела в канцелярию (Кременецкий так называл комнату, где работали его помощники и переписчица).
В кабинете ничто не было изменено в связи с предстоящим приемом, — он и в обычное время содержался в образцовом порядке. Только на камине стояли подносы с рюмками и несколько бутылок. Это было сделано по настоянию Кременецкого, — его жена находила, что незачем подавать гостям спиртные напитки до ужина. «Это, если хочешь, даже и дурной тон», — сказала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович не вмешивался в хозяйственную сторону вечера, всецело полагаясь на жену, которая имела довольно большой опыт. Кременецкий, зарабатывавший до ста тысяч рублей в год, был уже несколько лет вполне обеспеченным, даже почти богатым человеком. На спиртных напитках он, однако, настоял.
— Дурной или не дурной тон, — сказал он не без раздражения, — а без алкоголя оживления не бывает и в самом лучшем обществе. Сделай, золото мое, как я говорю.
Его желание было, как всегда, тотчас исполнено. Тамара Матвеевна боготворила своего мужа и считала его первым человеком в мире.
Семен Исидорович сел за стол и придвинул папку, заключавшую в себе документы по громкому делу, по которому он должен был выступить в суде через два дня. Кременецкий часто вел политические процессы, выступал иногда и по гражданским делам, но настоящей его специальностью, по общему мнению адвокатов, были «дела на романтической подкладке». Таково было и это дело. Семен Исидорович внимательно перелистал документы. Он всегда очень добросовестно готовился к процессам, почти не делая разницы в этом отношении между богатыми и бедными клиентами. Своей карьерой он был обязан не только таланту, но и порядочности и корректности во всем. Читая записку своего помощника, Кременецкий тотчас заметил, что в ней не хватало ссылки на важное сенатское решение. «Ох, уж этот Никонов, — подумал он, — миляга парень, но звезд с неба не хватает»… Семен Исидорович, для примера помощнику, разыскал нужную справку и сам с особенным удовольствием вписал ее в дело полностью. Хотя сенатские решения обычно составлялись людьми враждебных ему взглядов, Кременецкий относился к этим решениям с большим уважением, даже с любовью: он вообще страстно любил все связанное с судом. Созданный для адвокатской профессии, он и жить без нее не мог бы.
Вписав справку, Семен Исидорович стал мысленно воспроизводить свою речь, уже почти готовую. Он обладал замечательным даром слова и не заучивал речей наизусть, но некоторые наиболее эффектные места для громких процессов подготовлял и отделывал заранее. Речью своей он на этот раз был очень доволен. Кременецкий вполголоса, но выразительно прочел ее последние фразы.
«Господа присяжные заседатели!.. Вам известен великий завет, которым так справедливо гордится наша родина: „правда и милость да царствуют в судах…“ — Он помолчал, затем заговорил снова проникновенно: — Священные слова, господа присяжные! Увы, слишком часто нам, при исполнении трудного, но и отрадного долга защиты, слишком часто нам приходится просить у вас милости для людей, вверивших нам свою судьбу и жизнь. И в милости, как известно, никогда не отказывает великодушный народ русский, сочувствующий всем несчастливым, всем страждущим, всем угнетенным… — Он опять помолчал. — Но в этом деле, господа судьи, господа присяжные, нам нужна не милость, а правда, одна правда и только правда! Ибо женщина, которая вон с той деревянной скамьи со страстной надеждой и горячей мольбою взирает на вас, неповинна в инкриминируемом ей преступлении. Эту женщину за что-то неумолимо преследует фатум, мойра древних греков, рок, таинственную и жестокую поступь которого великой совестью своей так чутко понял и бессмертным пером так вдохновенно описал наш гениальный правдолюбец и правдоискатель Достоевский. Господа присяжные заседатели, вы протянете этой женщине руку помощи!.. Судьи народной совести, властью, данной вам Богом и людьми, вы защитите от злого рока несчастную!»
«Плевако, Лабори лучше не сказали бы», — подумал Семен Исидорович. За этим местом явно должны были последовать бурные рукоплескания публики и угроза председателя очистить зал заседания. Кременецкий успокоенно отложил папку, взглянул на стенные часы, — было девять, — и развернул лежавшую на столе вечернюю газету. Он начал читать сообщение генерального штаба, но как раз внизу страницы слева (хоть он вовсе туда и не смотрел) ему бросилась в глаза его собственная фамилия с инициалами имени-отчества. Семен Исидорович мгновенно оставил сообщения ставки. Речь шла об юбилее одного из его товарищей по сословию, старика без большой практики, которого все любили и неизменно выбирали в совет за старость, честность и представительную наружность. В числе адвокатов, вошедших в комитет по устройству чествованья, был назван С. И. Кременецкий, но его фамилия стояла на седьмом месте. «Может, по алфавиту?» — беспокойно спросил себя Семен Исидорович и стал проверять, припоминая порядок букв. Однако выходило не по алфавиту: П. Я. Меннер был назван на третьем месте. «Странная вещь, — подумал с неудовольствием Семен Исидорович, — ну, Якубович мог быть, пожалуй, назван раньше меня, если не по алфавиту, но уж никак не этот карьерист»… В той же газете Семена Исидоровича недавно назвали «видным адвокатом» — и этот эпитет чувствительно задел Кременецкого: обычно его в печати называли «известным»: а в одной провинциальной газете, в городе, куда он выезжал для выступления в суде, было даже сказано «наш знаменитый петербургский гость». Семен Исидорович, хмурясь, вернулся к сообщениям с фронтов и быстро пробежал весь отдел «Война». Бои шли на Стоходе и у Крево… Вновь замечено употребление турками разрывных пуль… Подпоручик Шнемер сбил двадцать третий немецкий аэроплан… В общем на фронте ничего особенного не случилось… Кременецкий вспомнил, что в скором времени предстоял его собственный двадцатипятилетний юбилей. «Это, конечно, как считать… Подогнать можно к сезону…» Семен Исидорович знал, что юбилеи почти никогда не организуются сами собой, по инициативе почитателей, и что заботиться о них необходимо либо самому юбиляру, либо его семье, — меняется же только маскировка, от очень дипломатичной до очень грубой. «Ну, еще много времени», — подумал он и перевернул страницу газеты. На второй странице два столбца были отведены новым сведеньям об убийстве Фишера. Сообщалось в довольно туманных выражениях, что задержан некий Загряцкий. Против него были серьезные улики. Кременецкий прочел все очень внимательно. Он был знаком с Фишером, как со всеми в Петербурге. Смерть банкира оставила его совершенно равнодушным: Кременецкий был не молод и не стар, — успел привыкнуть к чужим смертям и еще не очень думал о собственной. Но ему страстно хотелось получить это дело. «Если уж не мне, то хоть бы Якубовичу досталось, а не Меннеру и не другим шарлатанам», — подумал он. Мысль эта взволновала Семена Исидоровича. Он встал и вышел из кабинета.
X
Гостиная, купленная за большие деньги в Вене после одного дела, на котором Кременецкий заработал сразу тридцать тысяч рублей, резко отличалась от кабинета по стилю. В этой огромной комнате был и американский белый рояль, и голубой диван с приделанными к нему двумя узенькими книжными шкапами, и этажерки с книгами, и круглый стол, заваленный художественными изданиями, толстыми журналами. На стенах висели рисунки Сезанна, не очень давно вошедшие в моду у петербургских ценителей. Была и коллекция старинных рисунков, на один из которых хозяин обращал внимание гостей, замечая вскользь, что это подлинный Николай Зафури. Еще в другом роде был будуар, расположенный между кабинетом и гостиной. Здесь все было чрезвычайно уютное и несколько миниатюрное: небольшие шелковые кресла, низенькие пуфы, качалка в маленькой нише, крошечная полка с произведениями поэтов, горка русского фарфора и портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком, искусно составленным из лавров и терний. Мебели вообще было много и, по расчету хозяев, они могли принимать до ста человек, перенося в парадные комнаты лучшие стулья из других частей квартиры. Впрочем, такие большие приемы устраивались чрезвычайно редко, а балов, по случаю войны, не давал никто.
В хрустальной люстре была зажжена половина лампочек. Поджидая хозяев, два помощника Кременецкого, свои люди в доме, вели между собой вечный разговор помощников присяжных поверенных — о размерах практики разных знаменитостей адвокатского мира и об их сравнительных достоинствах и недостатках. Один из помощников, Никонов, был во фраке, другой, Фомин, служивший в Земском Союзе, в темнозеленом френче, с тремя звездочками на погонах.
— Что же вы думаете, коллега, о деле Фишера? Убил, конечно, Загряцкий, — сказал Никонов.
— Позвольте, во-первых, не доказано, что Фишер был убит. Экспертизы еще не было.
— Какое же может быть сомнение? Без причины люди не умирают…
— Умирают на шестом десятке от таких «petits jeux» [5], которыми занимался Фишер… А, во-вторых, почему Загряцкий?
— Кто же другой? Другому некому.
— Позвольте, дорогой коллега, вы рассуждаете не как юрист. Onus probandi [6] лежит на обвинении, разумеется, если вы ничего против этого не имеете.
— Да что onus probandi, — сказал Никонов, — Загряцкий убил, какой тут onus probandi… А вот, что это дело от Семы не уйдет, — это факт.
— Бабушка надвое сказала, и даже, passez moi le mot [7], не надвое, а натрое или больше: если вам все равно, есть еще и Якубович, и Меннер, и Серд, и Матвеев, не говоря о dii minores [8].
— Нет, это дело не для них. Меннер хорош в военном, Якубович, — да, пожалуй, при разборе улик, Якубович, конечно, на высоте. А все-таки, где яд, кинжал, револьвер, серная кислота, там Сема незаменим. Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, он и Грушеньку, и Настасью Филипповну запустит.
— Достоевского знает, собака, как сенатские решения, — с уважением подтвердил Фомин.
— Если на антеллегентных присяжных, да со слезой, никто, как Сема. Разве из Москвы Керженцева выпишут.
— Керженцев меньше чем за пять не приедет. Ему на славу наплевать. Il s'en fiche [9].
— Ну, и три возьмет. С Ляховского, помните, всего две тысячи содрал.
— Позвольте, ведь когда это было? De l'histoire ancienne [10]. Теперь, Григорий Иванович, цены не те…
— А вот, помяните мое слова, Семе достанется дело, и он выиграет, как захочет.
— Оратор Божьей милостью…
— Да, только ужасно любит «нашего могучего русского языка»…
Фомин сделал ему знак глазами. В гостиную вошла Муся, дочь Кременецкого, очень хорошенькая двадцатилетняя блондинка в модной короткой robe chemise [11] розового шелка, открывавшей почти до колен ноги в серебряных туфлях и в чулках телесного цвета. Фомин звякнул по-военному шпорами и зажмурил от восхищения глаза.
— Мария Семеновна, pour Dieu [12], pour Dieu, чья это création ?[13] — сказал он, неожиданно картавя. — Какая прелесть!..
Муся, не отвечая, повернула выключатель, зажгла люстру на все лампочки и подошла к зеркалу.
«Какой сладенький голосок, — подумала она. — И надоели его французские фразы…»
У нее был дурной день. Накануне, часов в десять вечера, она возвращалась домой пешком (ее только недавно стали отпускать из дома одну); к ней пристал какой-то господин, и долго, с шуточками вполголоса, преследовал ее по пустынной набережной, так что ей стало страшно. Она «сделала каменное лицо» и зашагала быстрее. Господин, наконец, отстал. И вдруг, когда его шаги замолкли далеко позади нее, ей мучительно захотелось пойти с ним — в таинственное место, куда он мог ее повести, — захотелось узнать, что будет, испытать то страшное, что он с ней сделает… Она плохо спала, у ней были во сне видения, в которых она не созналась бы никому на свете. Встала она, как всегда, в двенадцатом часу, и не выходила целый день из дому, хотя это должно было к вечеру отразиться на цвете лица; то играла «Баркаролу» Чайковского, то читала знакомый наизусть роман Колетт, то представляла себе, как пройдет для нее вечер. Впрочем, от этого приема Муся ничего почти не ожидала.
— Который час? — спросила она, не оборачиваясь и поправляя прядь только что завитых волос. «Лучше было бы розу в волосы», — подумала она.
Фомин с удовольствием взглянул на простые черные часы, которые он стал носить на браслете, надев военный мундир.
— Neuf heures tapant [14], — ответил он, незаметно оглядывая и себя через плечо Марии Семеновны. Он очень себе нравился в мундире. В зеркале отразилась фигура входившего Кременецкого. Он ласково потрепал дочь по щеке и сказал рассеянно: «Молодцом, молодцом… Очень славное платьице…» Никонов и Фомин улыбались. Семен Исидорович дружески с ними поздоровался.
— Ранний гость вдвойне дорог… Благодарствуйте, — сказал он (Кременецкий любил это слово и часто говорил то «благодарствую», то «благодарствуйте»).
— Мы о деле Фишера толковали, Семен Исидорович, — сказал Фомин. — Верно, вам придется защищать?
Выражение беспокойства промелькнуло по лицу адвоката.
— Почему вы думаете? — быстро спросил он. — Я давеча читал… Будет, кажется, интересное дельце.
— По-моему, не может быть сомнений в том, что убил Загряцкий, — сказал Никонов. — Все улики против него.
Кременецкий и Фомин стали возражать. Газеты говорят о Загряцком, но настоящих улик нет.
— Дело ведет наш милейший Николай Петрович Яценко, очень дельный следователь, — сказал Кременецкий. — Он у нас нынче будет, жаль, что нельзя взять его за бока.
— Le secret professionnel [15], — торжественно произнес Фомин, поднимая указательный палец кверху.
— Когда выпьет крюшонцу, забудет про secret professionel.
— Ну, он питух не из важнецких. Другой, когда выпьет, забудет, как маму звали, — сказал Семен Исидорович.
XI
Браун, несколько отставший за границей от петербургских обычаев, приехал на вечер в десятом часу. Тем не менее гостей уже было не так мало: в военное время жизнь стала проще. На пороге кабинета Брауна встретил хозяин. Вид у Кременецкого был праздничный. Он встретил гостя чрезвычайно любезно и, не помня его имени-отчества, особенно радушно назвал Брауна дорогим доктором, крепко пожимая ему руку.
— Надеюсь, вы теперь будете знать к нам дорогу, — сказал Кременецкий. Он с давних пор неизменно говорил эту фразу всем более или менее почетным гостям, впервые появлявшимся у него в доме. Но обычно он говорил ее в конце вечера, при их уходе, а теперь сказал в рассеянности, глядя в сторону передней, откуда появился еще гость. На лице у адвоката промелькнуло неудовольствие: гость был серовато-почетный, член редакции журнала «Русский ум», но явился он на вечер в пиджаке и в мягком воротнике. «Нет, все-таки мало у нас европейцев», — подумал Кременецкий.
— Я не знал, что у вас парадный прием, — сказал гость со смущенной улыбкой. — Уж вы меня, ради Бога, извините…
— Ну, вот, Василий Степанович, какой вздор! — ответил хозяин, смеясь и пожимая обеими руками руку гостя. — Вы, конечно, знакомы?.. Ну-с, что скажете хорошенького?
— Хорошенького словно и мало, судя по последним газетам…
— Вздор, вздор!.. Помните у Чехова: через двести-триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасна… — Кременецкий выпустил руку гостя. — Вот что, судари вы мои, я здесь на часах и отойти никак не смею. А вам советую проследовать туда, к моей жене, и потребовать у нее чашку горячего чаю. Там дальше молодежь, поэты есть, — сказал он, закрывая глаза с выражением шутливого ужаса.
— Василий Степанович, вы свой человек… Доктор, пожалуйста…
Василий Степанович, горбясь и потирая руки, прошел дальше. У раскрытых дверей будуара он остановился и стал пропускать вперед Брауна.
— Нет, нет, уж, пожалуйста, вы, — говорил он, нервно смеясь слабым смехом, точно за дверью их должен был окатить холодный душ. — Уж вы первый, пожалуйста…
Браун вошел в будуар, чувствуя по обыкновению острую тоску от всего: от тона адвоката, от расшаркивания перед дверью с Василием Степановичем, от яркого света комнат, от того, чем был густо заставлен стол в будуаре, от приветливой улыбки хозяйки и от портрета Гейне в затейливой рамке, — Браун механически все замечал взором профессионального наблюдателя. Разговор у стола, видимо, довольно оживленный, на мгновенье прервался. Собравшиеся, с нетерпением и легким недоброжелательством, ждали конца представлений. Хозяйка упорно называла всех полным именем.
— Анна Сергеевна Михальская… Софья Сергеевна Михальская… Глафира Генриховна Бернсен… Моя дочь Муся… Молодые люди, знакомьтесь, пожалуйста, сами с нашим знаменитым ученым, — улыбаясь добавила она, давая понять молодым людям, что они имеют дело с важным гостем.
— Мы как раз говорили об умном, это у нас бывает, — громко сказала Муся, с любопытством глядя на Брауна. Она всегда говорила с новыми людьми так, точно давно и близко их знала. — Ставится вопрос: какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров… Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки…
— Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой «Голубой фарфор», ибо автор его здесь, — сказал Никонов.
— И он воплощенная скромность, — добавила Муся, обратившись к некрасивому бледному юноше с необыкновенным пробором по правой стороне головы.
— Я говорю, я взяла бы Гете и Пушкина, — сказала хозяйка. — Как хотите, вы можете считать меня отсталой или глупой, а я остановилась на классиках и в ваших декадентах ничего не понимаю. Пушкина понимаю, а их не понимаю… Вам с лимоном, Василий Степанович?
— Мама, вы ошибаетесь, это, напротив, все говорят: Гете и Пушкина. C'est très bien porté [16].
— Я, пожалуй, голосовал бы за Данте, — сказал негромко, точно про себя, Василий Степанович. Он взял у хозяйки стакан и окончательно сконфузился, пролив несколько капель на блюдечко и на скатерть.
— А вы?
— Я был убежден, что следует говорить: Розанова, — ответил Браун.
— Я взял бы Ната Пинкертона, — мрачно сказал с расстановкой Беневоленский, автор «Голубого фарфора».
— Ну, уж это, ах, оставьте, уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений, — возразил Никонов.
Никонов был душой общества, собиравшегося в будуаре госпожи Кременецкой. Говорил он все с чрезвычайной энергией в выражении и всегда в шутливой или полушутливой форме. Эта вечная шутливость, незаметное порождение застарелой неврастении, несколько утомляла. Однако, при его появлении все изображали на лицах приветливую улыбку, что его еще более утверждало в бессознательно принятой им, не изменившейся за пятнадцать лет, роли живого юноши и души общества. Женщинам Никонов нравился чрезвычайно, особенно при первом знакомстве. Он зачем-то издавна делал вид, будто влюблен в Мусю. Она прекрасно знала, что он и не влюблен ни в кого, и ни одной молодой женщины не может видеть равнодушно. Но тон его ей нравился. Ее ответной мерой была резкость, которая была бы неприличной, если бы с самого начала Мусей не было установлено, что ей все позволено.
Хозяйка любезно расспрашивала Брауна: давно ли он в Петербурге? Надолго ли приехал? Верно, нигде за границей нет такой отвратительной осени? Муся, не без беспокойства глядя на мать, прислушиваясь к их разговору.
— Ах, вы остановились в «Паласе»? У нас будет сегодня еще гость оттуда. Может быть, вы его встречали: майор Клервилль из английской военной миссии…
— Да, я его знаю…
— Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане «Паласа», — сказала Муся. — Он был в штатском. Какой очаровательный!
— Очаровательный.
— Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов, ну, просто с ума схожу!..
— Муся, перестань говорить глупости…
— Мама, что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона…
— Все англичане шпионы, — подтвердил медленно поэт. — Шекспир тоже был шпионом.
— Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион, а, должно быть, присматривается к тому, что у нас делается, как же иначе? — сказал Никонов. — Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови.
— Ох, господи, все слышали эту шутку сто раз, — сказала Муся, затыкая уши.
— Напротив, майор Клервилль обожает Россию, — сказал Браун. — Он ведь сам из intelligentsia, — это теперь у англичан модное слово. Прежде они из русских слов знали только zakouski и pogrom, теперь знают еще intelligentsia. Все равно, как у нас все знают: если англичанин, значит контора и футбол. В действительности, англичане самый путаный народ на свете. И майор Клервилль — самая настоящая интеллигенция, с сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается. Он сомневается почти во всем… Ну, не во всем, конечно: в победе Англии, наверное, не сомневается, и в том, что Индии не надо давать независимости, — в этом, вероятно, также не сомневается… Но во всем остальном…
Хозяйка улыбалась, кивая одобрительно головой.
— А ведь слово «интеллигенция» выдумал почтеннейший Боборыкин, — сказал негромко Василий Степанович.
— Ничего подобного, оно встречается в «Анне Карениной», — возразил Никонов.
— Нельзя говорить: «ничего подобного», — поправила Муся.
— Оставьте, пожалуйста, отлично можно… И потом, помните, еще Столыпин сказал, что это только инородцев интересует, как можно и как нельзя говорить: мой язык, как хочу, так и говорю.
— Ну вот, вы известный антисемит, — несколько озадаченно сказала Муся.
— Я антисемит на немцев… Знаете, кстати, почему у меня репутация антисемита? Меня одна барышня спрашивает: «Григорий Иванович, вы женились бы на еврейке?» — «Смотря на какой», — говорю. Вот за это меня ославили антисемитом. Что ж, по-вашему, я обязан жениться на всякой еврейке?
— И все неправда! Никакая барышня вас ни о чем таком не спрашивала… Этот анекдот я в Москве слышала два года тому назад. И «антисемит на немцев» тоже слышала…
— Лопни мои глаза!.. Отсохни у меня руки и ноги!.. Чтоб я тут на этом самом месте провалился!..
— Господи! Григорий Иванович! — страдальчески улыбаясь, сказала хозяйка.
Поэт, загадочно глядя на шею своей соседки Анны Сергеевны, спросил вслух сам себя, какое слово лучше передает ощущение женской кожи: peau veloutee [17] или peau satinee [18]. Из передней слышались звонки. Из кабинета доносился радостный голос хозяина. Хозяйка поддерживала разговор, следя за чаем и косясь в сторону столовой. Там, за дверьми, нанятые клубные лакеи делали свое дело, с презрением глядя на напуганных горничных хозяев.
— Он в самом деле так красив, этот англичанин? — спросила Мусю вполголоса Глафира Генриховна.
— Прямо на выставку англичан! — сказала Муся, закатывая глаза. — Он похож на памятник Николая I… А фрак, фрак!.. Григорий Иванович, отчего на вас так не сидит фрак?
— Это вам так кажется, потому знаете, что лордова порода, — обиженно сказал Никонов. — Верно, фрак как фрак.
— А зовут его Вивиан… Григорий Иванович, отчего вас не зовут Вивиан?
— Оттого, что разумный человек не может так называться, несерьезное имя. Вот послушайте: Гри-го-рий Иванович, как это хорошо звучит: серьезно, солидно, приятно… Я очень доволен… Только кретинический лорд может себе позволить быть Вивианом.
— Разве он лорд? — спросила Анна Сергеевна.
— Кажется, нет… Впрочем, не знаю… Знаю только, что я погибла.
— Я знаю из верного источника, что он не лорд и не аристократ, — сказала желтолицая Глафира Генриховна, которая все знала из верного источника.
— Вешать шпионское отродье! — сказал Никонов и сделал страшные глаза.
XII
В одиннадцатом часу гостиная и кабинет стали быстро наполняться; звонки следовали почти беспрерывно. Среди гостей были люди с именами, часто упоминавшимися в газетах. Были и богатые клиенты, которых Кременецкий награждал за дела знакомством с цветом петербургской интеллигенции (это и у него, и у них выходило почти бессознательно, однако банкиры и промышленники ценили связи своего юрисконсульта, а иных известных людей из его салона заполучали и в свои). Прибыл и английский майор. Его приезд произвел маленькую сенсацию. Он явился в походном мундире, — почему-то это доставило удовольствие хозяину. Еще приятнее было то, что англичанин понимал русскую речь и даже, видно, любил говорить по-русски: по крайней мере, он на первую же, заранее приготовленную фразу Кременецкого, начинавшуюся со слова «аншанте» [19], ответил: «О, я очень рад действительно» с такой любезной улыбкой, что Кременецкий сразу растаял. «В самом деле красавец, хоть картину пиши, — подумал он, — недаром Муська о нем три дня трещит»… Английского гостя Кременецкий проводил в гостиную, познакомил его там с Тамарой Матвеевной и усадил рядом с Мусей. Она устроилась так, что возле нее как раз оказался свободный стул. Разговор у них сразу покатился как по рельсам, и Кременецкий счел возможным оставить англичанина в гостиной, хотя большинство видных гостей-мужчин находилось в кабинете.
Майор Клервилль был очень доволен тем, что попал на вечер к адвокату, у которого, как он знал, собиралась передовая петербургская интеллигенция. Его в первую минуту немного удивило то, что на русском вечере почти все было, как на английских вечерах. Разве только, что в передней шубы не клались на стулья, а вешались; да еще один из гостей был в пиджаке, а не во фраке и не в костюме, который здесь, как, впрочем, везде на континенте, именовался неясным англичанину, хотя и английским, словом смокинг. Мужчины вообще были одеты хуже, а дамы лучше, чем в Англии. Среди дам было много хорошеньких, — больше, чем было бы на английском вечере. Особенно понравилась Клервиллю та барышня, рядом с которой его посадили: она была именно такова, какой должна была быть, по его представлениям, девушка, стоящая в центре петербургской передовой интеллигенции. Правда, заговорила она для начала не о серьезных предметах, но говорила так умно и мило-кокетливо, что майор Клервилль просто заслушался и сам не торопился перейти к серьезным предметам.
«Ну, что ж, теперь, с Божьей помощью, можно загнуть и музыкальное отделение», — подумал Кременецкий и незаметно показал жене глазами на рояль. Тамара Матвеевна чуть наклонила утвердительно голову. Кременецкий обменялся любезными фразами с барышнями, поговорил с Никоновым, с Беневоленским.
— Верно, вы сейчас творите, — уж такой у вас вдохновенный вид!.. Что ж, может быть, когда-нибудь в вашей биографии будет упомянуто, что вы у нас задумали шедевр, — сказал он шутливо поэту и вышел очень довольный. «Отлично идет вечер, потом ужин, от шампанского еще лучше станет», — подумал Семен Исидорович.
— Кого я вижу!.. Не стыдно вам, что так поздно? — воскликнул он радостно, протягивая вперед руки. Ему навстречу шли новые гости, Яценко с женой, высокой, энергичного вида дамой; за ними следовал юноша в черном узеньком пиджаке. «Это еще кто такое?» — с недоумением спросил себя Кременецкий и вспомнил, что его жена, бывшая три дня тому назад в гостях у Яценко, с чего-то пригласила на вечер также их сына, воспитанника Тенишевского училища. С такого мальчика и смокинга требовать было невозможно.
— Все вы молодеете и хорошеете, Наталья Михайловна, — сказал Семен Исидорович, целуя руку даме. — Зачем так поздно, ай, как нехорошо, Николай Петрович!.. Это ваш сынок? Очень рад познакомиться, молодой человек… Вас как зовут?
— Виктор…
— Значит, Виктор Николаевич… Прошу вас любить и жаловать.
— Ну, вот еще, какой там Виктор Николаевич! Уж сделайте милость, не портите его, — сказала Наталья Михайловна. — Витя он, а никакой не Виктор Николаевич.
— Да, пожалуйста, — произнес мальчик. «Очень любезный человек», — подумал он. Витя в первый раз выезжал в свет. Приглашение госпожи Кременецкой и поразило его, и испугало, и обрадовало. Он готовился к вечеру все три дня. Особенно его беспокоил костюм. Мундира в Тенишевском училище не полагалось, и отношение к гимназическому мундиру у тенишевцев было вполне отрицательное. Витя сделал заведомо безнадежную попытку добиться того, чтобы ему был заказан смокинг: их портной брался сшить в три дня. Но из этого ничего не вышло.
— Вот еще, шестнадцатилетнему мальчишке смокинг, — сказала возмущенно Наталья Михайловна, убавляя год сыну. — Только людей насмешишь… Да и твой черный пиджак совсем под смокинг сшит, издали и отличить нельзя…
Черный пиджак в самом деле походил на смокинг, но только издали. Пришлось, однако, надеть пиджак, украсив его новеньким модным галстуком, купленным за три рубля в лучшем магазине. Витя взволнованно вошел в гостиную, — он больше всего боялся покраснеть. Гости, по-видимому, отнеслись равнодушно к его костюму. У хозяев по лицу тоже ничего нельзя было заметить. Первая минута, самая страшная, сошла благополучно. «Кажется, совсем не покраснел», — облегченно подумал Витя, садясь. Для его рук нашлось вполне надежное место под столом. К тому же, в ту самую минуту, как они вошли в гостиную, там начиналось музыкальное отделение, и хозяйка могла только улыбкой показать Наталье Михайловне, что приветствия и разговоры откладываются: уже слышались звуки рояля. Часть гостей на цыпочках перешла из кабинета в гостиную. Перед роялем, грациозно опершись на его край левой рукой и держа в правой ноты, стоял певец, толстый, величественного вида, человек с тщательно прилизанными волосами. За роялем сидела Муся. Предполагалось, что музыкальное отделение вечера составилось само собой, неожиданно, и потому аккомпаниатора не пригласили. Муся, с улыбкой, выражавшей крайнее смущение, предупредила певца, что будет аккомпанировать «не просто плохо, а ужасно». Она очень хорошо играла. Певец снисходительно улыбался, выпячивая грудь колесом.
— А ноты кто будет перелистывать? — спросила Муся.
— Витя, садись ты… Он очень музыкален и отлично играет, — сказала Наталья Михайловна.
— Ах, пожалуйста… Что вы, мама!.. Я, право…
— Ну, чего ломаешься, садись: видишь, дамы просят.
Виктор Яценко, замирая, уселся сбоку от Муси, чуть позади нее. В передней послышался слабый звонок. Хозяин на цыпочках поспешно вышел из гостиной. Певец выпятил грудь, торжествующим взором обвел публику.
— «Время изменится», — сказал он, когда движение в зале улеглось совершенно. Англичанин, сидевший против Муси, удовлетворенно кивнул головою: за время своего пребывания в Петербурге он раз пять слышал «Время изменится». Муся улыбнулась ему глазами и опустила руки на клавиши. Витя, упершись руками в колени, смотрел на ноты через ее плечо. Кровь прилила у него к голове. Муся, на мгновенье повернувшись, увидела его взволнованное, еще почти детское лицо. Ей сразу стало смешно и весело. Она нарочно стерла с лица улыбку и изобразила строгость. «Тот чурбан тоже хорош», — подумала она, поглядывая на певца. Ей сбоку были видны его богатырская грудь, неестественно подобранный живот, цепочка, протянутая из кармана брюк. Из передней слышался негромкий звук голосов. Хозяйка строго посмотрела в сторону двери. Туда же невольно смотрели и гости. Дверь открылась. По гостиной пробежал легкий, тотчас подавленный гул. Певец побагровел. В сопровождении радостно-взволнованного хозяина в гостиную вошел Шаляпин. Он на мгновенье остановился на пороге, чуть наклонив свою гигантскую фигуру, приложил палец к губам и сел на первый стул у двери. Это заняло лишь несколько секунд. Всякий другой, войдя в гостиную во время пения, сделал бы то же самое. Однако, бывший среди гостей знаменитый художник Сенявин подумал, что этот вход в гостиную — подлинное произведение искусства, в своем роде почти такое же, как выход царя Бориса или появление Грозного в «Псковитянке». Он подумал также, что каждое движение этого человека Божий подарок художнику. «Время изменится, туча рассеется», — пел певец несколько ниже тоном. «И грудь у него уж не таким колесом выпячивается», — подумала Муся. Тенор, наконец, кончил, послышались аплодисменты, довольно дружные. Шаляпин, не аплодируя, направился к хозяйке. Все на него смотрели, не сводя глаз. В гостиной появились еще гости. Простая вежливость требовала, чтоб и он похлопал хоть немного. Но он, видимо, не мог этого сделать. Кременецкий подошел, улыбаясь и аплодируя, к певцу и горячо просил его продолжать. Певец смущенно отказывался. Хоть ему было заплачено за выступление, хозяин не настаивал.
— Чудно, великолепно, дорогой мой, — сказал он. — Очаровательно!
XIII
В кабинете, в одной из наиболее оживленных групп, шел перед ужином политический разговор. В нем участвовали Василий Степанович, молодой либеральный член Думы князь Горенский и два «представителя магистратуры», как мысленно выражался дон Педро. Прихлебывая коньяк из большой рюмки, дон Педро сообщал разные новости. В этом салоне, в который он попал с трудом, дон Педро одновременно наслаждался всем: и коньяком, и своими новостями, и собеседниками, в особенности же тем, что он был правее князя и в споре с ним выражал государственно-охранительные начала.
— Это уж начало конца… Нет, право, таких людей надо сажать в сумасшедший дом, — сказал возмущенно князь, имея в виду министра, о разных действиях которого рассказывал дон Педро.
— Disons :[20] надо бы уволить в отставку с мундиром и пенсией, — сказал Фомин.
— Можно и без пенсии…
— В такое время, подумайте, в такое время! — укоризненно произнес дон Педро. — Когда все живые силы страны должны всемерно приложиться к делу обороны. Эти люди ведут прямохонько к революции!
— И слава Богу! Не вечно же Федосьевым править Россией. Моя формула: чем хуже, тем лучше, — сказал Горенский.
— Да, но подождем конца войны… Во время войны не устраивают революций.
— Ах, разве война когда-нибудь кончится, полноте!
— Война кончится тогда, когда социалистам воюющих стран будет дана возможность собраться на международную конференцию, — сказал убежденно Василий Степанович, который в кабинете за серьезным политическим разговором чувствовал себя много свободнее, чем с дамами в гостиной.
— Что же они сделают? Объявят ничью?
— Да уж там видно будет.
— Ну, с сотворения мира войны в ничью не бывало. Неужели, однако, князь, можно защищать сухановщину? — осведомился дон Педро, с особенной любовью произнося слово «князь».
— Позвольте, при чем здесь сухановщина? Я не пораженец.
— К тому же сухановщина весьма неопределенное понятие, Ленин излагает те же в сущности мысли гораздо последовательнее, — заметил Василий Степанович.
— Кто это Ленин? — спросил один из представителей магистратуры.
— Ленин эмигрант, глава так называемого большевистского и пораженческого течения в российской социал-демократии, — снисходительно пояснил Василий Степанович. — Как-никак, выдающийся человек.
— Его настоящая фамилия Богданов, правда? — спросил дон Педро.
— Нет, Богданов другой. Фамилия Ленина, кажется, Ульянов.
— Ах, да, Ульянов… Не скрою от вас, князь, — сказал дон Педро, — я к пораженчеству и ко всей этой сухановщине вообще отношусь довольно отрицательно.
— А к милюковщине как относитесь? Положительно?
— Вы хорошо знаете, Василий Степанович, что я значительно левее Павла Николаевича, — несколько обиженно сказал дон Педро, — но не в этом дело.
— Война до полной победы? Дарданеллы?.. Слышали…
— Ах, где же ее взять, полную победу? — заметил со вздохом дон Педро. Он хотел рассказать о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями. Но его прервал Фомин.
— Позвольте, наши доблестные союзники уже взяли дом паромщика, — сказал он.
Кто-то засмеялся. К разговаривавшим подошел хозяин. Его лицо так и сияло.
— Ну, что? — сказал он восторженно. — Ведь это гений! Другого слова нет!..
— Шаляпин? — переспросил дон Педро. — Да, мировая величина… Удивительно, что он согласился спеть: он больше не поет в частных домах.
— Уж и приготовили вы гостям сюрприз…
— Помилуйте, это для меня первого был полный сюрприз! Я в мыслях не имел просить его петь. Разве можно просить об этом Шаляпина!
— Это все равно, что попросить человека подарить вам три тысячи рублей, — сказал дон Педро.
— Вот именно, — засмеялся Кременецкий. — Знать, он сам пожелал: видно, нашло… Спел и уехал! Даже не уехал, а отбыл, — о королях надо говорить «отбыл».
— Однако, отчего он поет такие заигранные вещи? — спросил Горенский. — «Два гренадера», «Заклинание цветов»… Ведь это банальщина! Не хватало только «Спите, орлы боевые»!.. И почему «Фауста» петь по-итальянски?
— Vous étes difficule, prince [21], — сказал Фомин. — Мне французы говорили, что они «Марсельезу» стали понимать лишь тогда, когда услышали, как Шаляпин поет «Два гренадера»…
— Да, мороз по коже дерет от его «Марсельезы»… Вы, видно, не очень любите музыку, князь, — сказал не без неудовольствия Кременецкий и отошел к другой группе. У камина, заставленного бутылками, Яценко разговаривал с Никоновым. Григорий Иванович выпил и был еще веселее обыкновенного. Около них в глубоком кресле сидел Браун. Здесь же, при отце, находился и Витя.
— Николай Петрович нем, точно золотая рыбка, — сказал Кременецкому Никонов. — Я, видите ли, хочу взять его за цугундер, как говорил один мой гомельский клиент. Нескромнейшим образом пристаю к Николаю Петровичу по делу Фишера: кто убил? зачем убил? почему убил? Просто сгораю от любопытства!..
Кременецкий с беспокойством посмотрел на Яценко. Семену Исидоровичу фамильярный тон его помощника показался весьма неуместным в отношении пожилого человека с высоким общественным положением, как следователь по важнейшим делам. Но Николай Петрович был в благодушном настроении и нисколько не казался обиженным, — его, по-видимому, забавлял выпивший Никонов, которого он давно знал.
— И что же Николай Петрович? — спросил Кременецкий.
— Молчит, потому Фемида.
Никонов, улыбаясь, налил себе большую рюмку ликера. Семен Исидорович невольно следил за движениями его руки, слегка дрожавшей над бархатным покрывалом камина.
— Скажите, Фемида, будьте такая миленькая, кто убил Фишера? Cur? quomodo? quibus auxiliis? [22]
— Да, право же, я сам ничего не знаю, господа. Вы читали в вечерних газетах: задержан некто Загряцкий. Но я его еще не допрашивал.
— А вы допросите. Нет такого закона, чтоб людям сидеть под арестом, не зная за что и почему… Хотя, конечно, он убил…
— Завтра допрашиваю… Его задержала полиция, в порядке 257-ой статьи устава уголовного судопроизводства. Вы бы прочли эту книжку, Григорий Иванович, полезная, знаете, для юриста книжка.
— Вот еще, стану я всякие глупости читать. Статья архаическая.
— Разве у нас есть habeas corpus ?[23] — спросил, краснея, Витя Яценко.
— Я знаю только то, что напечатано в газетах, — сказал серьезно Кременецкий. — Насколько по газетам можно судить, настоящих улик против Загряцкого нет.
— Это какой же Загряцкий? — осведомился подошедший Фомин. — Мой покойный отец, сенатор, знавал одного Загряцкого. Они встречались у Лили, у графини Геденбург… Не из тех ли Загряцких?
— Не знаю, верно не из тех. Кажется, попросту опустившийся человек, — сказал нехотя следователь. — Вместе развлекались с Фишером.
— А развлечения были забавные? Расскажите, Николай Петрович. Не слушайте, молодой человек.
— Отчего же? Впрочем, если я лишний, — сказал, вспыхнув, Витя и хотел было отойти, но отец засмеялся и удержал его за руку.
— Однако, вполне ли доказано, что Фишер убит? — спросил Фомин.
— Экспертиза будто бы установила отравление растительным ядом, — пояснил Кременецкий. — Но вы знаете, хуже экспертов врут только статистики. Да и наши газетчики любят подпускать андрона, не в обиду будь сказано милейшему дону Педро, — добавил он вполголоса, оглядываясь. — Вот вы, доктор, — обратился он из вежливости к Брауну, который молча слушал разговор. — Вы что нам можете разъяснить по сему печальному случаю?
— Да, ведь правда, здесь великий химик…
— Я не видал данных анализа и ничего не могу разъяснить.
— Однако, если я не ошибаюсь, химическая экспертиза не всегда может вполне точно установить факт отравления?
— Вы не ошибаетесь, — холодно проговорил Браун. Почему-то все, кроме Никонова, почувствовали себя неловко.
— Позвольте, герр доктор, — сказал Никонов, — я, конечно, не химик свинячий… Тысяча и одно извинение, это из Чехова… Я, конечно, профан, но в «Русских Ведомостях» читал, что химический анализ может обнаружить одну тысячную или даже десятитысячную миллиметра яда…
Витя звонко расхохотался. За ним засмеялись все.
— А? В чем дело? Виноват, я хотел сказать миллиграмма. Сам читал в газетах. И даже не «в газетах», а в «Русских Ведомостях».
— В газетах, может быть, — произнес с усмешкой Браун. — Впрочем, иногда, в самом деле, анализ обнаруживает и десятитысячную, но не всегда и не при всяких условиях. В человеческом организме химические реакции идут сложнее, чем в стеклянном сосуде.
— Как же нас лечат разными медикаментами? — спросил Яценко.
— Плохо лечат.
— Слышите, вот, — сказал Никонов, забывая то, что доказывал.
— А вы говорите: купаться, — произнес весело Кременецкий.
— Я и не говорю: купаться… Нет, право, господа; я ничего пока не знаю, — сказал Яценко, решительной интонацией отклоняя продолжение разговора.
Кременецкий подмигнул Никонову.
— Франц-Иосиф-то каков, а? — сказал он. — Поцарствовал, поцарствовал, да и умер.
— В самом деле, всего каких-нибудь семьдесят лет поцарствовал и умер, чудак этакой! — подхватил Яценко.
— Шибко стал умирать народ! Вот и Направник скончался. Кого мне жаль, это Сенкевича…
— Зато я, господа, твердо решил: буду жить еще пятьдесят шесть лет и три месяца, — заявил Никонов, подливая всем ликера.
XIV
Стоя на площадке перед открытой дверью, Семен Исидорович провожал последних гостей, все повторяя полушепотом:
— Спокойной ночи, дорогая моя… Спасибо… Слева дверь внизу, постучите швейцару, да он, верно, не спит… До свиданья, Николай Маркович, нижайший привет матушке, скажите, чтоб поправлялась поскорее… До завтра, Григорий Иванович, благодарствуйте…
Внизу, наконец, тяжело стукнула дверь. Кременецкий погасил свет на лестнице и запер дверь квартиры.
— Уф, кончено! — сказал он радостно, входя в кабинет. — Правда, все сошло отлично?
— Отлично или не отлично, а до весны отдохнем, — отозвалась Тамара Матвеевна, брезгливо глядя на пепел, просыпавшийся по ковру кабинета. — Кажется, штук десять пепельниц им расставили, нет же, все на ковер…
— Оставь, Маша завтра уберет… Право, было очень хорошо. Муся, ты как находишь?
— Да, папа, — устало отозвалась Муся.
Тамара Матвеевна повернула выключатель, оставив зажженной только одну лампочку в люстре.
— Скоро пятый час… Наши милые петербургские обычаи!..
— Очень устала, золото мое? — спросил Кременецкий, целуя жену в волосы. Она вспыхнула от удовольствия и быстро оглянулась на Мусю.
— Всякая усталость проходит, когда я подумаю, что со всеми расквитались, со всеми. Больше ни перед кем не свиньи.
— Ни перед кем… Разве перед Михайловыми? Жаль все-таки, что они не пришли.
— Это мне все равно: была бы честь предложена…
— Разумеется. Не устраивать же для них особый раут…
— Благодарю покорно… Муся, ты бы спать пошла, ты так утомилась, бедная.
— А ты? Неужто ты будешь еще порядок наводить, в пятом часу?
Тамара Матвеевна только взглянула иронически на мужа и махнула рукой.
— Порядок наводить! Здесь нам с Машей и Катей завтра часа на три работы.
— Лакеи ушли?
— Сейчас же после ужина ушли… Я им дала по два рубля на чай, кажется, были очень довольны… Надо бы серебро пересчитать…
— Ну что ты, клубные лакеи… Нет, серьезно, все сошло прекрасно… Шампанского не маловато было за ужином?
— Оставь, пожалуйста. У твоих Михайловых дают по бутылке на десять человек, мне их француженка говорила, лакеям велят на аршин поднимать бутылку над бокалами, чтоб больше было пены — и ничего. А у нас маловато!
— Так то Михайловы: по Ивашке рубашка… А шампанское, правда, можно было смело все взять русское, это ты была права… Написано «Grand Champagne», и все равно никто не умеет различать, какое русское, какое французское. На следующий раут возьмем все русское.
— Ох, ради Бога, не говори о следующем рауте, дай передохнуть… Муся, ты, конечно, узнала платье Глафиры Генриховны? Это та самая модель Бризак, только ихняя Степанида сделала воротник крепдешиновый вместо pointe de Venise [24], я сейчас узнала… И такой же пояс с камеей. По-моему, так себе, а? А Анна Сергеевна совсем невестой разрядилась для своего Скворцова, только он на нее и не смотрит, со стороны совестно.
— Бросьте говорить о тряпье и косточки дамам перемывать… Какой молодец Шаляпин!.. Это очень удачно вышло, я и думать не смел, что он будет петь. Он нигде не поет… Ведь мировая величина!.. Три тысячи за спектакль пожалуйте. А у того, бедного, голос маленький, но препоганенький.
— Это твоя была выдумка. Жаль четырехсот рублей.
— Не деньги нас, а мы их нажили. Ничего, все были очень довольны, гораздо легче с музыкальным отделением. А англичанин произвел страшный эффект, я видел… Хорошо, подлец, форму носит, на Фомине земгусарский мундир сидит хуже…
— Мусенька, у тебя глаза слипаются, иди спать, моя милая. Впечатления завтра…
— Да, я иду… Спокойной ночи…
— А поцеловать маму?.. Спокойной ночи, мой ангел…
— И не оставайся долго в ванне, Мусенька, это нездорово… А ты еще посидишь со мной, золото, я папиросу докурю?.. Ты знаешь, я окончательно убедился, что Николай Маркович просто недалекий человек. Вообрази…
— Большое открытие: я всегда говорила, что он дурак…
Муся прошла в свою комнату и, не зажигая света (лампочка горела в коридоре), села на край кушетки. Ее комната тоже была приведена в полный порядок, — на случай, если б сюда во время приема пожелала заглянуть какая-либо гостья. Пахло земляникой, — от крема, которым пользовалась «маникюрша». Муся так сидела несколько минут, затем встала, сняла платье, вытянув вверх руки, и открыла шкаф, из которого пахнуло духами. Муся хотела было повесить платье, но остановилась перед такой затратой энергии и бросила платье на стул, затем занялась своим сложным дамским хозяйством. Она распустила волосы, зажгла свет над туалетным столиком. Хрустальные флаконы на столике вспыхнули разноцветными огнями. Осветилась мебель белого дерева, крытая белым атласом, кровать с белым кружевным одеялом, яркие переплеты книг на этажерке, маленькое пианино в углу. Муся очень любила свою комнату, — но пианино ей подарили родители ко дню рождения уже два года тому назад, туалетный столик с хрустальным прибором годом раньше, а белая мебель была заказана еще тогда, когда они только стали богатеть и выходить в люди. Мусе вдруг захотелось плакать. «Нет, положительно, я глупею… — подумала она. — Ведь, ничего решительно не случилось: ничегошеньки, как говорит папа. Только еще один безрезультатный вечер… — Она сквозь слезы улыбнулась газетному слову «безрезультатный». — Какой же мог быть результат? Сто таких вечеров было и еще сто будет. Не из-за этого же плакать… Да, но так дальше продолжаться не может, я больше не могу так жить с ними…»
Она обрызгала себя духами из пульверизатора, оглянулась на холодную нарядную постель, — ей не хотелось ложиться. Муся подошла к пианино и бесшумно подняла крышку. Нечего было и думать о том, чтобы играть в такой час. Муся порылась в нотах, отыскала «Заклинание цветов» и одним пальцем почти неслышно тронула несколько клавишей. «E voi — o fiori, — Dall olezzo sottile, — она мысленно переводила итальянские слова, — Vi faccia — tutti — aprire — La mia man maledetta …[25] Какая-то дьявольская сила из него лилась, когда он это пел, мурашки пробегали. И смотреть на него было страшно… Настоящий демон»… В ту минуту, когда Шаляпин пел знаменитую фразу (ему согласился аккомпанировать передовой композитор), рядом с Мусей находился Клервилль. Позади них, немного сбоку, откинувшись на спинку стула, сидел Александр Браун. Она почувствовала на себе его взгляд, оглянулась и почему-то вздрогнула. «La mia man maledetta», — повторила негромко Муся. «Англичанин красавец, но глупостей я из-за него не сделала бы… Впрочем, это только в романах барышни делают глупости… Во всяком случае, не у нас… Так видно и проживу без глупостей и без ivresse [26], а об ivresse буду читать у Колетт… Тот мальчишка, кажется, в меня влюбился, — вспомнила она с внезапно выступившей улыбкой. — Вот это победа: его еще в угол ставят… Посмотреть бы на него в углу… Мальчишка хорошенький… Да, безрезультатный вечер», — подумала Муся и опустила крышку пианино.
XV
— В сотый раз говорю не засиживаться так поздно, самой себя стыдно, ей-Богу, — сказала Наталья Михайловна, как только полуодетый швейцар, не смягченный полтинником Николая Петровича, сердито закрыл за ними дверь.
— Что ж, было очень приятно, они все-таки хорошие люди, — лениво отозвался Яценко, поднимая воротник.
— Папа, вы, кажется, мало дали швейцару.
— Ты сколько дал? Полтинник? Предостаточно. Этак ото всех ему сколько набежит… Тебе когда завтра на службу? В котором часу проклятый допрос?
— Днем. Успею выспаться, — нехотя ответил Яценко, недовольный тем, что жена его вмешивалась в служебные дела.
— А уж тебе, Витя, совсем ни к чему ложиться с петухами. Вот ведь завтра опять в училище не пойдешь…
— Что?.. Да… Ничего, мама, — сказал рассеянно Витя.
Он был очень взволнован. «Неужели влюбился? Неужели это так может быть?» — спрашивал он себя. Муся на прощанье крепко пожала ему руку и спросила, примет ли он участие в их любительском спектакле, если спектакль состоится. «Я буду счастлив!» — сказал Витя и в самом деле вспыхнул от радости. «Неужели будет спектакль? Тогда на репетициях будем видеться постоянно»… Витя чувствовал себя к концу вечера победителем, от его смущенья не оставалось и следа. Этот вечер начинал его карьеру светского человека.
— Извозчик! — закричал Яценко. — Извозчик!.. Поместимся на одном?
— Вы с мамой поезжайте, а я пешком приду… Хочется пройтись…
— Ну вот, оставь, пожалуйста! Незачем тебе в шестнадцать лет одному прохаживаться ночью по улицам…
Сзади мелькнул свет, дверь снова открылась, на улицу вышел Браун, за ним Клервилль. «Кажется, не могли услышать», — тревожно подумал Витя. Яценко приподнял меховую шапку в ответ на их поклон и сказал «Мое почтенье». Витя сорвал с себя картуз и высоко помахал им в воздухе. Англичанин раскуривал папиросу. Витя почти весь вечер, с отъезда Шаляпина, с восторженной завистью следил за майором Клервиллем. Он никогда не видел таких людей. Фигура англичанина, его уверенные точные движения, его мундир с открытым воротником и галстуком защитного цвета, все казалось Вите необыкновенным и прекрасным. Он вообразил себя английским офицером, — не вышло, да и извозчик подъехал. Николай Петрович помог жене сесть в дрожки. Витя покорно полез за ними и кое-как поместился посредине. «Точно на руках»… — скользнула у него неприятная мысль. Он вдруг перестал осознавать себя светским человеком и почувствовал еще большую, чем обычно, зависть к взрослым свободным людям. «Может, они вовсе и не домой теперь, а куда-нибудь в такое место…».
— По Пантелеймоновской прямо, — сказал извозчику Николай Петрович.
— Любите ли вы этот вечер? — спросил майор Клервилль, продолжая говорить по-русски, как в течение всего приема.
Англичанин был в возбужденно-радостном настроении, почти в таком же, как Витя.
— Люблю, — мрачно ответил Браун.
— Этот человек Шаляпин! Я восхищаюсь его… Идем пешком в отель!
— Что? Что вы говорите? — вздрогнув, спросил Браун, точно просыпаясь.
Англичанин посмотрел на него с удивлением.
— Я говорю, может быть, нам немного гулять пешком?
— Нет, я устал, пожалуйста, извините меня, — ответил Браун по-английски. — Я поеду.
Они простились.
Ночь была лунная, свежая и холодная. Клервилль, с папиросой во рту, шел быстрым крупным шагом, упруго приподнимая на носках свое усовершенствованное мощное тело. Он сам не знал, отчего был так бодр и весел: от шампанского ли, оттого ли, что шла великая, небывалая война за правое дело, в которой он, английский офицер, с достоинством принимал участие на трудном, ответственном посту, или оттого, что ему так нравились снег, морозная ночь и весь этот изумительный город, непохожий ни на какой другой. «Та девочка бесспорно очень мила. Quite a charming girl she is, too …[27] — Здесь что-то было, впрочем, не совсем в порядке в мыслях майора Клервилля, но ему было не вполне ясно, что именно. — Шаляпин пел изумительно, другого такого артиста нет на земле, — Клервилль был рад, что видел вблизи Шаляпина и обменялся с ним несколькими словами. — Доктор Браун явно не в духе и даже не слишком любезен, однако он замечательный человек… Хозяева очень милы, особенно та барышня… Но ведь Биконсфильд тоже был еврей и граф Розбери женат на еврейке», — неожиданно ответил майор Клервилль на то, что было не совсем в порядке в его мыслях. Он остановился пораженный и громко расхохотался, так смешна ему показалась мысль, что он может жениться на русской барышне, да еще на еврейке, да еще во время мировой войны. «Что сказали бы в Bachelor'е?» — спросил себя весело Клервилль. Слева от него, под фонарем ворот, на уступе странно загибавшейся здесь улицы, два человека в военной форме, вытянувшись, смотрели на него с изумлением. Майор нахмурился, отдал честь и прошел дальше. Открылась широкая река. За мостом было пусто и мрачно. Сбоку темнели огромные дворцы. «Fontanka gate [28]», — тотчас признал майор, останавливаясь снова и вынимая изо рта папиросу. Слева, чуть поодаль, в одном из дворцов кое-где таинственно светились в окнах огни. Клервилль слышал, что это какой-то исторический дворец, притом, кажется, с недоброй славой, вроде Warwick Castle или Holyrood Palace [29]. Но что именно здесь происходило когда-то, что было здесь теперь, — этого Вивиан Клервилль не помнил и с любопытством вглядывался в красные огоньки дворца.
XVI
Яценко остановился перед аптекой, светившейся красивыми желтыми огнями, расстегнул шубу и не без труда вытащил из жилетного кармана часы. До начала допроса оставалось еще часа полтора. «Что же теперь делать?.. Домой идти не стоит», — сказал себе Николай Петрович. За стеклом радовали глаз огромные бутыли с синей и темнорозовой водою. «Есть в этом какая-то таинственность, даже поэзия», — нерешительно подумал Николай Петрович: он не был уверен в том, что в витрине аптеки можно находить поэзию. Но многочисленные сверкавшие огнем склянки, трубки, баночки, и особенно эти огромные бутыли странной формы и непостижимого назначения шевелили приятные представления в душе Николая Петровича. «Гематоген доктора Гомеля… — рассеянно прочел Яценко. — Что-то вчера рассказывал смешное этот чудак Никонов… Ах, да, его гомельский клиент… Formol …[30]» Николай Петрович вдруг поморщился, точно вновь услышал запах формалина, карболки и чего-то еще, стоявший в анатомическом театре во время вскрытия тела Фишера. Яценко отогнал от себя это воспоминание. Дама с озабоченным видом вышла из аптеки, неестественно держа в руке пузырек, завернутый в белую бумагу с торчащей лентой рецепта. За аптекой начинался длинный хвост людей, тянувшийся к лавке съестных припасов. Стоявшая последней в хвосте, плохо одетая женщина, с усталым и наглым лицом, смотрела исподлобья на даму, на барина в шубе. «Да, им еще хуже нашего, все меньше становится продуктов», — подумал, отходя, следователь.
У Яценко не было никакого состояния; он жил исключительно на жалованье, и сводить концы с концами становилось все труднее. Хотя Николай Петрович нисколько не был скуп, с женой, с Витей уже бывали разговоры о расходах и о необходимости соблюдать строгую экономию. От этих разговоров Яценко испытывал чувство унижения, которое тщетно пытался сам себе объяснить. «Конечно, бедность не порок, это и повторять смешно… Но все-таки неловко, нет, хуже, чем неловко: прямо стыдно, что я, седой человек, за двадцать пять лет, работая, как каторжник, не скопил ровно ничего… Тысяч пятнадцать, пожалуй, можно было скопить, если б жить расчетливей»… Впрочем, Николай Петрович всегда жил достаточно расчетливо; да и трудно было жить иначе при его четырехтысячном жаловании. «Теперь Наташа во всем себе отказывает, ни туалетов, ни драгоценностей, ничего у нее нет, — подумал печально Яценко, — вчера у Кременецких все были наряднее, чем она… Да и Витя не очень-то роскошествует на пять рублей в месяц»… Сам Николай Петрович целый год не заказывал себе платья, не покупал больше книг и старался быстрее проходить мимо витрин книжных магазинов. Вернувшись осенью с дачи, Наталья Михайловна предложила мужу отпустить горничную, а кухарку сделать «одной прислугой». Это предложение означало бы предел бедности, и Николай Петрович велел жене «не выдумывать». Но цены все росли, жалованья не прибавляли, и теперь Яценко ждал, что жена опять об этом заговорит. Он тяжело вздохнул. «Разве к антиквару зайти, отсюда два шага», — пришла мысль Николаю Петровичу. У антиквара Яценко не боялся соблазнов, — так все там было недоступно для него по ценам. Но ему неловко было часто заходить в магазин, где он никогда ничего не покупал.
Магазин этот в последнее время вошел в моду. В двух густо заставленных комнатах было все: гравюры, картины, фарфор, безделушки, книги. Всего больше было старинной мебели. Спрос на все старинное рос беспрерывно. «Журнал красивой жизни» имел в обществе огромный успех, и люди, желавшие красиво жить, собирали трубки, табакерки, миниатюры, фарфор, коробочки, первые издания книг, и делали на толкучем рынке самые изумительные находки. Не было ни одного хорошего дома, ни одного модного романа без карельской березы, резного дуба, «пузатых комодов» и «золоченой гарнитуры» (полагалось говорить в женском роде: гарнитура). Две мастерские спешно изготовляли старинную мебель и наводили на нее «патину времени». Старые доски обрабатывались щелоком, хромовыми солями, твердой щеткой и точильным камнем, щели засыпались грязью, рваные полосы шелка, выставленного надолго под дождь, прибивались ржавыми гвоздями, — и Александровские кресла, Екатерининские пуфы, Елизаветинские диваны радовали сердца любителей.
В магазине у Яценко оказались знакомые, которых он накануне видел на приеме у Кременецкого: помощник присяжного поверенного Фомин и князь Горенский. Молодой адвокат, то отступая на шаг, то приближаясь, рассматривал висевший на стене портрет красивой дамы в бледно-зеленом платье.
— Неплохая, неплохая штучка… По-моему, это Иван Никитин позднего периода, — говорил Фомин. — Есть в этой фигуре какая-то пасторальная взволнованность Louis XV, правда, князь?.. Я голову на отсеченье дам, что это времен Анны Иоанновны…
Фомин считал Людовика XV сыном Людовика XIV, а Анну Иоанновну немкой, не то курляндской, не то какой-то другой. Однако он собирал старинные вещи и считался их знатоком.
Кременецкий в салонных разговорах, при случае, рекомендовал Фомина, как «взыскателя старины, страстно в нее влюбленного»… Семен Исидорович и своего Николая Зафури купил по совету Фомина. Мебель у Кременецкого была style moderne, но он отдавал должное духу времени и, услышав от помощника о Николае Зафури, сразу по интонации почувствовал, что, если этакую штуку предлагают за двести пятьдесят рублей, нужно, не разговаривая, выложить деньги.
— Есть, есть взволнованность, — подтвердил князь, впрочем, вполне равнодушно.
— А, Николай Петрович, — сказал Фомин, увидев входившего Яценко. — Тоже бываете в этой обираловке?
— Меня не очень-то оберут, — ответил, улыбаясь, следователь. — Картины покупаете, Платон Иванович?
— Платон Михайлович…
— Простите, Платон Михайлович… Это ведь в «Горе от ума» Платон Иванович?.. Картины покупаете? — повторил Николай Петрович.
— Нынче ничего не куплю. А вот на днях купил, и за гроши, за триста рублей, Андрея Матвеева, ni plus ni moins! Entre nous soit dit, j'ai roulé le bonhomme [31], — сказал Фомин, показывая глазами на подходившего антиквара. Николай Петрович нахмурился: он никогда не слышал об Андрее Матвееве, и триста рублей для него отнюдь не были грошами. Впрочем, он догадывался, что это не гроши и для Фомина. Молодой адвокат очень не нравился Николаю Петровичу. «И очень уж из себя плюгавый, как, кажется, почти все они, эстеты», — неожиданно обобщил Яценко.
— Ваше Превосходительство, давно к нам не захаживали, — сказал следователю хозяин, сутуловатый и кривой человек в запыленном пиджаке, с узеньким, съехавшим на бок черным галстуком.
— Что ж у вас время отнимать? Ведь вы знаете, я ничего не покупаю: не по карману.
— Зачем покупать? Покупать не обязательно. Всегда рады такому гостю. Иной раз нам и продавать не хочется. Вот Платону Михайловичу все чуть не даром отдаю…
— Знаем мы вас, — сказал Фомин, очень довольный.
На лице у хозяина появилась хитрая улыбка.
— Как Ваше Превосходительство заняты сейчас одним делом, в газетах пишут, — сказал он, — то разрешите обратить внимание на эту штучку.
Он снял с полки тяжелый серебряный канделябр и не без труда поставил его на стол.
— В чем дело?
— Это шандал из того дома, где был, сказывают газеты, убит господин Фишер. Дом этот принадлежал господам Баратаевым, угасший дворянский род. Я купил шандал на аукционе, года четыре будет тому назад, у последнего в роде по женской линии. Как этот дом достался купцу, тот этаж надстроил и весь дом разбил на квартиры, так что от него, проще говоря, ничего не осталось. А прекраснейший был дом…
— Вот как, — с удивлением сказал Яценко.
— Это какие же Баратаевы? — озабоченно спросил князя Фомин. — Баратаевы, как Фомины, есть настоящие и ненастоящие…
— А кто их знает, я его пачпорта не видел, — сказал князь. Фомин подумал, что слово «пачпорт» нужно будет усвоить: князь, как его предки, говорил «пачпорт», «гошпиталь», «скрыпка».
— Теперь Баратаевых больше никаких нет, — пояснил хозяин.
— Интересное это дело Фишера и характерное, — сказал князь. — Характерное для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем.
— Я наш строй не защищаю, — сказал Яценко, — но при чем же он, собственно, в этом деле?
— Как при чем? На правительственный гнет страна отвечает падением нравов. Так всегда бывало, вспомните хотя бы Вторую Империю. Поверьте, общество, живущее в здоровых политических условиях, легко бы освободилось от таких субъектов, как Фишер.
Яценко не стал спорить. На него вдобавок, как почти на всех, действовал громкий трещащий голос Горенского, его резкая манера разговора и та глубокая уверенность в своей правоте, которая чувствовалась в речах князя даже тогда, когда он высказывал мысли, явно ни с чем несообразные.
— Наш Сема спит и во сне видит, как бы заполучить это дельце, — сказал Фомин, слушавший князя с тонкой усмешкой.
Николай Петрович ничего не ответил. Он не любил шуточек над людьми, в доме которых бывал. «Этот хлыщ всем обязан Кременецкому», — подумал Яценко не без раздражения.
— А книг у вас, верно, прибавилось? — спросил Николай Петрович хозяина и, простившись со знакомыми, направился во вторую комнату магазина.
— Обратите внимание, там чудесный Мольер издания 1734 года, — сказал ему вдогонку Фомин. — Знаете, то издание, ну просто прелесть.
Николай Петрович кивнул головой и скрылся за дверью. Во второй комнате от вещей было еще теснее, чем в первой. Яценко взял со стола фарфоровую девицу с изумленно-наивным выражением на лице, погладил ее по затылку, бегло взглянул на марку и поставил девицу назад. Перелистал гравюры в запыленной папке, затем раскрыл наудачу одну из книг. Это было старое издание стихов Баратынского, — его недавно кто-то вновь открыл. Николай Петрович прочел:
И зачeм не предадимся Снам улыбчивым своим? Жарким сердцем покоримся Думам хладным, а не им…«Как же это понимать? — спросил себя Николай Петрович, не сразу схвативший смысл стихов. — Думам покориться или снам?.. Да, по улыбчивым снам и жить бы, а не вскрывать разлагающиеся тела…»
Вeрьте сладким убeжденьям Нас ласкающих очес И отрадным откровеньям Сострадательных небес…Слово «очес» тронуло Николая Петровича; стихи его взволновали. «В самом деле поехать бы туда, под сострадательные небеса, в Испанию, что ли?» Яценко никогда не бывал в Испании и представлял ее себе больше по «Кармен» в Музыкальной Драме. Но Ривьеру он видал и любил. В памяти Николая Петровича проскользнули жаркий свет, кактусы, бусовые нити вместо дверей, малиновое мороженое с вафлями, женщины в белых платьях, в купальных костюмах — полная свобода, от забот, от дел, от семьи… Наталья Михайловна и Витя вдруг куда-то исчезли. Яценко побывал в Монте-Карло года за два до войны, проиграл там семьдесят пять рублей и был очень недоволен собою. Наталья Михайловна придумывала для игорного дома самые жестокие сравнения: называла его и позором цивилизации, и раззолоченным притоном, и болотным растением, и пышным махровым цветком, — почему «махровым», — этого она, вероятно, не могла бы объяснить. Но теперь, на расстоянии, и раззолоченный притон был приятен Яценко. Ему вспомнились сады из непривычно-прекрасных змеистых растений, здания нежного желтовато-розового тона, с голубыми куполами, с причудливыми окнами, балконами, статуями, в том стиле, над которым принято было смеяться, как над вполне безвкусным, и который Николай Петрович в душе находил приятным и своеобразным. «Хоть книгу купить и на досуге вечером почитать стихи»… На переплете изнутри была написана карандашом цена: 20, с какой-то развязной скобочкой. «Четырехмесячное жалованье Вити, все развлеченья мальчика за треть года», — подумал со вздохом Николай Петрович. Он положил книгу на место и вышел из магазина.
XVII
Швейцар у вешалки первого этажа радостно-почтительно приветствовал Николая Петровича. Осанистый, дородный адвокат с нетерпением на них поглядывал. Только повесив шубу Яценко и убрав в стойку его калоши с отскочившей вкось буквой «Я», швейцар обратился к адвокату. Монументальный адвокат оставлял на чай щедрее, чем следователь, но швейцар делал поправку на огромную разницу в их средствах. Мелкие служащие суда отлично все знали, кто сколько зарабатывает, и на каком кто счету.
Яценко неторопливо поднялся по лестнице, ровно-любезно здороваясь со знакомыми. В ярко освещенном здании суда было очень много людей. На площадке второго этажа следователя задержали сослуживцы, выходившие из гражданского отделения. Пребывание в суде, где все его очень уважали, было неизменно приятно Николаю Петровичу. Он любил суд, считал общий тон его чрезвычайно порядочным и джентльменским, дорожил корпоративным духом и возмущался нападками на судей, попадавшимися и в передовой, и в реакционной печати. Поговорив с приятелями, Николай Петрович поднялся в прокурорский коридор, где находился его кабинет, и поздоровался со своим письмоводителем, Иваном Павловичем.
— Владимир Иванович звонил, что никак не может нынче быть, просил его не ждать, — сказал письмоводитель. Яценко кивнул головою. Владимир Иванович был товарищ прокурора, наблюдавший за делом Фишера, — Николай Петрович предпочитал вести допрос без свидетелей. Он обычно обходился даже без письмоводителя и сам отстукивал показания допрашиваемых на пишущей машине. Это было его нововведением, которого письмоводитель не одобрял. Теперь Ивану Павловичу особенно хотелось присутствовать при допросе.
— Здесь вас этот ждет, Антипов, — пренебрежительно сообщил письмоводитель. — Если правду говорить, сыскное отделение могло бы поручить розыск по такому делу чиновнику для поручений: ведь Антипов без всякого образования человек, простой надзиратель… Для научного розыска необходимы люди с известной научной дисциплиной.
— Он у них, говорят, новое светило. Пожалуйста, позовите его.
Сыщик вошел с веселой улыбочкой, окинул быстрым взглядом комнату и поклонился.
— Честь имею кланяться, — сказал он.
«Говорит: честь имею кланяться, а так нагло-фамилиарно, точно „наше вам с кисточкой“», — сразу раздраженно подумал Яценко.
— Здравствуйте, — сухо ответил он. — Что скажете?
— Презумпция остается прежняя: не иначе, как тот тип Загряцкий эту штучку сделал. Больше некому…
— Есть новые данные?
— Я так скажу, учитывая факты: девочек на этот раз у Фишера не было, не вышел номер. Та баба, Дарья Петрова, прямо говорит: не было и не было. Когда бывали, то часам к девяти приезжали, и она всегда видела: бабье любопытство, известное дело, — вставил игриво сыщик. — А теперь, нет, не видала. И другую прислугу в доме я спрашивал, никто не видал.
— Да ведь, Дарья Петрова Загряцкого тоже не видала, и думала, что Фишер ушел… Что же это доказывает? Она могла и не заметить, как пришли женщины.
— Насчет Фишера она, Ваше Превосходительство, потому так полагала, что ночью всегда можно незаметно уйти; надо ведь учитывать, что ночью люди простого положения спят. А вечером за женщинами она всегда следила… Не было женщин! — решительно сказал Антипов. — И по комнате видно, что не было. Не успел, значит, он их вызвать, как тот фрукт его прихлопнул.
— Он их как вызывал? По телефону?
— Должно быть, что по телефону… Никто как Загряцкий убил, Ваше Превосходительство. И грабежа тут никак быть не могло. Я в гостинице и по ресторанам информировался: никогда Фишер денег при себе не держал, разве сотню-другую. Он и в гостинице чеками платил.
— Однако, писем госпожи Фишер вы у Загряцкого не нашли. Следовательно, наглядных доказательств их связи нет. А без этого мотив преступления непонятен.
— Про мотив, Ваше Превосходительство, и без писем известно. У кого хотите в их квартале спросите: жил он с ней? Всякий скажет: а то как же? Понятное дело, жил… Он с ней и в Крым ездил… Это надо учитывать.
Дактилоскопические снимки с бутылки готовы?
— Обещали в сыскном к шести приготовить, да верно надуют, — с внезапной злобой сказал Антипов. — Я сейчас туда иду. Покорнейше прошу Ваше Превосходительство, не отпускайте вы этого фрукта…
— Я уже сказал вам, что арест будет зависеть от результатов допроса. Точно вы не знаете закона…
Антипов выслушал слова о законе с унылым выражением на лице, ясно говорившим: ни к чему эти пустяки.
— Вдруг он докажет, что был в момент преступления в другом месте? Как же я его арестую?
— Алиби! — оживился Антипов. — Не докажет, Ваше Превосходительство, Антипов вам говорит: не докажет. Я последний дурак буду, если докажет…
— А не докажет, так мы посмотрим… Вы сейчас идете в сыскное отделение? Прошу вас прямо оттуда вернуться сюда, наверное нужно будет проверить его показания. Иван Павлович, как только господин Антипов вернется, дайте мне знать…
— Слушаю-с.
Антипов удалился. Письмоводитель с улыбкой глядел ему вслед.
— Хороший они тоже народ, — сказал он. — А ведь Загряцкий будет упираться, Николай Петрович?
— Что?.. Да, вероятно, — ответил рассеянно Яценко.
— Трудное положение, — сказал письмоводитель, интересовавшийся психологией. — За границей, я слышал, их измором берут: круглые сутки допрашивают, напролет, пока не сознается. Сами сменяются, а ему спать не дают.
— Не знаю, как за границей, не думаю, чтобы это так было, хоть и я такие рассказы слышал. У нас во всяком случае эти способы не допускаются — и слава Богу.
— Я потому говорю, что здесь сложное и показательное психологическое явление: в самом деле, как быть, если он упрется, не хочу показывать, устал, завтра приходите. Ведь тогда следователь будет в дураках: не пытать же его… А между тем, факты свидетельствуют, преступники этого не говорят. Или расцените, Николай Петрович, явление сходного порядка: военнопленных. В газетах мы постоянно читаем: пленные показали то-то и то-то, где у них какие части стоят. Почему они показывают? Ведь не изменники же они и не ребята, и пытать их тоже не пытают.
— Да, непонятная вещь, — сказал со вздохом следователь.
— Я думаю, психологический аффект, — объяснил письмоводитель. — Очень показательны факты, наблюдаемые в Америке: там следователь сидит наверху, а преступник внизу, — и должен смотреть вверх. Это тоже оказывает психологический эффект.
— Какой вздор! — сказал Николай Петрович. Он не верил в театральные приемы, не верил ни в высокое кресло, ни в лампу, которую ставят так, что ярко освещается лицо допрашиваемого, а допрашивающий остается в тени. Но разговор, поднятый письмоводителем, был неприятен Николаю Петровичу. Яценко имел большой опыт в своем деле и пользовался репутацией превосходного следователя. Тем не менее никакой теории допроса обвиняемого у него не было. Читая «Преступление и Наказание», он находил, что в Порфирии Петровиче все выдумано: и следствие так, по-домашнему, никогда не ведется, и следователя такого не могло быть, даже в дореформенное время. Однако, самому Яценко случалось при допросах сбиваться на тон Порфирия Петровича; он видел в этом лишь доказательство того, как прочно засели книги великих писателей в душе образованных людей. Метод же пристава следственных дел в «Преступлении и Наказании» Яценко считал совершенно неправильным. У Николая Петровича в ящике письменного стола уже больше года лежала тетрадь с начатой работой «Проблема гуманного допроса». Он предполагал прочесть на эту тему доклад в Юридическом Обществе, но все не мог подвинуть работу, — как ему казалось, по недостатку времени, на самом же деле потому, что никакого ответа на проблему гуманного допроса у него не было. Закон прямо запрещал следователю домогаться сознания обвиняемого при помощи разных ухищрений. Однако долгий опыт говорил Николаю Петровичу, что в громадном большинстве случаев, при запирательстве преступника, следователь должен прибегать к ухищрениям. Жизнь научила Николая Петровича устраивать допрашиваемым ловушки; но признать их гуманным способом допроса ему не позволяла совесть. Опыт говорил ему также, что в большинстве случаев, при некотором уме и ловкости, для преступника гораздо выгоднее упорное запирательство, чем чистосердечное признание вины. Между тем, по своей должности, Яценко вынужден был внушать преступникам обратное. Это, конечно, оправдывалось интересами правосудия и общества, но Яценко в таких случаях всегда чувствовал себя неприятно.
— Записывать сами будете, Николай Петрович? — спросил для верности письмоводитель, заметив, что следователь пододвинул к себе бумаги. — Так я вам пока не нужен?
— Нет, благодарю вас. Пожалуйста, дайте мне знать, как только приведут Загряцкого.
Оставшись один, Яценко взял лист бумаги и написал следующее письмо:
«Доверительно.
Ваше Превосходительство,
Милостивый государь,
Сергей Васильевич.
Согласно желания Вашего Превосходительства, честь имею сообщить, что мною сего числа произведен осмотр сейфа, принадлежавшего Карлу Фишеру. При этом выяснилось, что завещания Фишера там не имеется, как не имеется и никаких других бумаг. В сейфе оказались лишь различные драгоценные вещи и золотая монета на сумму двенадцать тысяч шестьсот (12.600) рублей.
Равным образом уведомляю Ваше Превосходительство, что сего же числа в Военно-Медицинской Академии в моем присутствии полицейским врачом произведено вскрытие тела Фишера. Вскрытие это выяснило с несомненностью, что смерть последовала от отравления ядом. Химический анализ внутренностей, а равно и жидкостей, найденных на столе в комнате, в которой было обнаружено тело, еще не закончен. Протокол вскрытия, составленный мною с приобщением специального протокола врача, может быть предъявлен Вашему Превосходительству, буде Ваше Превосходительство усмотрите в этом необходимость.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем совершенном уважении и преданности».
Яценко прочел про себя письмо и остался доволен. Тон был вполне официальный. Это подчеркивалось родительным падежом после «согласно» и особенно словом «буде». «„Буде“, может быть, и слишком», — подумал Николай Петрович. Он немножко пожалел, что вставил в заключительную фразу слово «преданность». Было достаточно и «совершенного уважения». Но переписывать письмо Николаю Петровичу не хотелось. Яценко запечатал конверт, надписал адрес, затем снял клеенчатый чехол с пишущей машины и бережно придвинул ее к себе. Он очень любил свой Ремингтон и содержал его в большой чистоте: все в машине так и блестело. Николай Петрович достал из ящика новую синюю папку с черной четырехугольной каемкой. На ней было напечатано: «Дело судебного следователя по важнейшим делам Петербургского окружного суда №……..» Яценко не без труда ввел папку под валик и, подогнав каретку, проставил на точках, за значком №, число 16, затем, тремя строчками ниже, простучал большими буквами:
«УБИЙСТВО КАРЛА ФИШЕРА.»
Буква ш была слегка засорена. Николай Петрович заботливо прочистил ее иголкой, вынул папку из-под валика и вложил в нее все скопившиеся по этому делу бумаги, начиная с прокурорского предложения, которым ему передавалось дело. При этом Николай Петрович еще раз пробежал некоторые из бумаг. Он к трудным допросам готовился серьезно, и план всегда вырабатывал заранее. На этот раз план у него был уже готов. Для памяти Яценко наметил на клочке бумаги пять основных пунктов допроса:
«Отнош. с Фиш. Векс.
- // — с женой Фиш.
„Там где всегда“
Ключ
Alibi»
Порядок этих пунктов был не вполне ясен Николаю Петровичу. Впрочем, он имел обыкновение вначале вести допрос «начерно», не углубляясь в ответы, и лишь потом сосредоточивал внимание на главных пунктах. Но и для допроса начерно нужна была система. В дверь постучали.
— Привели, — взволнованно сказал письмоводитель.
— Отлично. Пусть войдет. И вот что еще, Иван Павлович: это письмо, будьте добры, сейчас отправьте с курьером по адресу.
— Слушаю-с.
Письмоводитель взял письмо, прочел адрес на конверте и, повторив не без удивления «слушаю-с», вышел из кабинета.
XVIII
В комнату быстрыми, небольшими шажками вошел хорошо одетый, среднего роста человек, лет тридцати, с мелкими чертами желтого лица, бритый, плешивый, с поднятыми кверху черными усиками. Он гордо и как-то неестественно поклонился следователю, хотел что-то сказать и оглянулся на вошедшего с ним городового. И в ту же минуту Николаю Петровичу стало совершенно ясно, что перед ним находится преступник.
Яценко не обладал врожденной способностью проникновения в чужую душу. Как добрый и благожелательный человек, он видел в людях преимущественно добро, то, что обычно выставляют напоказ, а скрывают гораздо реже. Зло, которым люди гордятся сравнительно не часто, было ему менее доступно. Но, постоянно в течение долгих лет имея дело с преступниками, Яценко все же многому научился, был чуток в профессиональной работе и верил собственному впечатлению, «первому шоку», как он любил говорить. Здесь первый шок был резкий, мгновенный, определенный: в облике вошедшего человека было что-то и хищное, и подленькое, и преступное.
— Садитесь, пожалуйста, господин Загряцкий, — учтиво произнес следователь, показывая рукой на стул. — Вы подождите в коридоре, — обратился он к полицейскому, взяв «препроводительную» и расписавшись в разносной книге. Николай Петрович говорил «вы» даже городовым.
— Господин следователь, что же это такое? — повышенным тоном, хотя и не очень громко, произнес, не садясь, Загряцкий, как только дверь за городовым закрылась. — Разрешите спросить вас, что же это такое? Ни с того, ни с сего полиция хватает ни в чем неповинного человека, объявляет ему, что его подозревают в убийстве! И не ему одному объявляет, что он убийца, а всем в его доме: хозяину, швейцару, дворнику… Что же это в самом деле такое? Я жаловаться буду, у меня, слава Богу, найдутся связи… Дело не в допросе, — здесь, очевидно, какое-то странное недоразумение, которое тотчас выяснится. Но в каком, позвольте спросить, положении я буду теперь у себя дома? Ведь на меня каждая торговка будет пальцами показывать! Извольте ей объяснить, что здесь было недоразумение, и что вы распорядились меня задержать раньше, чем нашли возможным со мной объясниться… Кажется, я никуда бежать не собирался…
«И негодование наигранное, — подумал Яценко. — Так в кинематографе у оскорбленных актрис высоко поднимается грудь. Верно, он часто бывает в кинематографе, это всегда сказывается на людях…»
— Пожалуйста, садитесь, — спокойно повторил следователь.
Загряцкий сел.
— Я не отдавал распоряжения о вашем аресте, — сказал Яценко. — Полиция имеет право задерживать в известных случаях, оговоренных законом. Я же вас допрашиваю, как свидетеля. Пока как свидетеля, — повторил он, подчеркнув слово «пока». — Прошу вас поэтому не волноваться и отвечать на вопросы, которые я вам буду ставить.
— Но я не могу не волноваться, когда меня позорят!
— Уверяю вас, что никакое пятно на вашу честь без вины не ляжет… Я буду записывать ваши показания. Разумеется, я предъявлю вам запись после допроса. Если я в чем ошибусь, вы будете иметь полную возможность внести поправку. Ваша фамилия Загряцкий. Имя-отчество?
— Вячеслав Фадеевич.
— Вячеслав Фадеев, — повторил следователь, и это слово «Фадеев» холодком ударило по Заряцкому. Яценко застучал на машинке. Загряцкий уставился на него, полуоткрыв рот. Николай Петрович задавал первые, формальные вопросы, продолжая писать.
— Так-с… Полиция вам сообщила, — сказал он, отрываясь от машинки, — полиция вам сообщила, что задержание ваше связано со смертью Карла Фишера. Что вам известно по этому делу? Предупреждаю вас, что на вопросы, которые могли бы вас уличать, вы отвечать не обязаны.
— Но мне решительно ничего не известно по этому делу, господин следователь, — опять повышенным тоном сказал Загряцкий. — Уличать меня! В чем уличать, Господи!..
— Ничего не известно? — протянул Яценко, глядя на волосатую тонкую, украшенную огромным ониксовым перстнем, руку Загряцкого.
— Ничего. Решительно ничего.
— Так-с… — Николай Петрович помолчал. — Вы были близко знакомы с Фишером?
— Это как сказать… Очень близко не был. Я был с ним знаком.
— Имели с Фишером дела?
— Нет, дел не имел.
— Никаких?
— Никаких.
«Что же, он о векселе забыл? Как будто не из очень сильных малый», — с легким разочарованием подумал Яценко. Николай Петрович быстро застучал на машинке. Загряцкий смотрел на него так же напряженно.
— На какой почве состоялось ваше знакомство?
— Простите, я не понимаю вопроса. На той же почве, на какой я знаком со всем Петроградом.
— Вы часто встречались с Фишером?
— Нет, не очень.
— Примерно, как часто?
— Случалось, и раз в неделю, и два. Случалось, и подолгу не видели друг друга.
— А в последнее время?
— И в последнее время точно так же.
— Где вы встречались с Фишером?
— Да в разных местах. В увеселительных заведениях… Были и в той квартире, в которой он умер… Мне сказали, где он умер…
— Были и в той квартире? К этому мы вернемся… Когда вы его видели в последний раз?
— Когда? Боюсь ошибиться, — сказал с расстановкой Загряцкий. — Одну минуту…
— Постарайтесь не ошибиться. Это очень важно, — с угрозой в голосе произнес следователь. Загряцкий сердито пожал плечами, точно услышал невообразимый вздор, на который не стоит возражать.
— Кажется, я его видел в последний раз три дня тому назад.
— Кажется или наверное?
— Да, наверное, три дня тому назад.
— Где именно это было?
— В Hall'е «Паласа».
— В котором часу?
— Днем. Часов в пять.
— Благодарю вас… Так-с… Записано… Знаете ли вы, господин Загряцкий, жену Фишера?
— Знаю.
— Близко знаете?
— Да. Мы хорошо знакомы.
Следователь немного помолчал.
— По имеющимся у меня сведениям, вы были в связи с госпожой Фишер.
— Это неправда.
— Вы это отрицаете?
— Самым категорическим образом.
— Напрасно. У меня имеются доказательства. Было бы лучше, если бы вы не отрицали факта.
«Верьте сладким убежденьям нас ласкающих очес…» — неожиданно промелькнули стихи в памяти Николая Петровича. Он нахмурился и нервно перевел каретку Ремингтона.
— Я решительно это отрицаю. Если у вас есть доказательства, скажите, какие.
— Вы это узнаете в свое время. Так вы отрицаете?
— Самым решительным образом отрицаю.
Яценко с неудовольствием отстучал несколько строк.
— Так-с, отрицаете… Теперь потрудитесь рассказать о квартире, на которой было найдено тело Фишера. Так вы бывали на этой квартире?
— Бывал.
— Много раз?
— Не то, чтобы много, но бывал.
— С Фишером бывали?
— Ну да, с Фишером, всегда там бывал с ним.
— Когда вы там были в последний раз?
— В понедельник.
— В понедельник. Для чего вы бывали в этой квартире?
Загряцкий подумал с минуту.
— Господин следователь, — сказал он, — вы должны знать, какая это была квартира и для чего Фишер ее снял. Я не аскет и за аскета себя не выдаю. Я бывал там для того же, для чего и Фишер. Он приглашал туда знакомых, приглашал и меня, и я принимал его приглашения. Хорошего тут мало, я не спорю. Но не я первый, не я последний.
— На этой квартире происходили оргии. Вы в них участвовали?
— Оргии, оргии! Это пышное слово, господин следователь.
— Предлагаю вам, господин Загряцкий, не уклоняться от вопросов и точно отвечать на них.
— Я не могу отвечать на такой вопрос. Он касается частной интимной жизни, и я отвечать не буду. В этой области откровенничать не обязательно.
— В какой области?
— Ну да, в этой, сексуальной, что ли… Вы и сами, верно, не отшельник.
— Меня потрудитесь оставить в покое, — сказал, вспыхнув, Яценко. — Так вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?
— Об оргиях? Отказываюсь.
— В ваших интересах отвечать со всей откровенностью.
— Я поступаю так, как мне велит совесть.
— Так-с… Бывал ли на этой квартире еще кто-нибудь?
— Вероятно, бывали многие.
— «Вероятно»? Вы встречали там много людей?
— Нет, кроме Фишера и девиц, я никого там больше не видал. Фишер любил там бывать вдвоем.
— Имена бывавших там женщин вам известны?
— Разве можно всех запомнить? Столько их там перебывало, они менялись каждый раз… Одна из них, верно, и привела туда убийцу.
— Следствие это выяснит, вам незачем указывать ему путь… В вашей квартире полиция нашла ключ от этой квартиры. Каким образом он у вас оказался?
— Мне дал его Фишер.
— Почему?
— Потому, что прислуги в этой квартире не было и открывать дверь было некому, да и ему не хотелось беспокоиться.
— Вы, однако, сказали, что приезжали туда всегда с Фишером?
— Вы ошибаетесь, господин следователь: я не говорил, что приезжал туда всегда с Фишером, я сказал, что бывал там с Фишером, это не одно и то же. Мы иногда назначали там свидание друг другу и являлись туда из разных мест. Случалось, я приезжал раньше, чем он, таким образом мне необходимо было иметь ключ… Я сам этот ключ и заказал слесарю, по образцу, который получил от Фишера, так как прежде в квартире было всего два ключа. Имени этого слесаря я не помню, но мастерскую могу разыскать, если вам понадобится…
— Не трудитесь, слесарь, у которого вы заказывали ключ, уже найден, — сказал Николай Петрович. В глазах Загряцкого пробежало торжество.
— Вот как! Очень рад, что сам вам об этом сказал.
— Откуда же вам так хорошо известно, что в квартире было два ключа? — спросил как бы невнимательно Яценко, меняя бумагу в машинке.
— Не помню, откуда известно. Верно, мне Фишер сказал.
— Итак, вы признаете, что по поручению Фишера заказали еще ключи?
— Признаю, отчего же мне этого не признать? Пожалуйста, занесите в протокол, что я сам вам об этом сказал.
— Не беспокойтесь, занесу. Вы сказали, что не были близки с Фишером. Однако, исполняли такого рода его поручения?
— Я, кажется, не говорил, что не был близок… Впрочем, что такое «был близок»? Это очень неопределенно. Да и ничего дурного в том поручении не было.
— Сколько ключей вы заказали?
— Три.
Яценко поднял голову от машины.
— Слесарь утверждает, что вы заказали два ключа.
– Два? Нет, помнится, три. Да, именно три. Я оставил один себе, а остальные отдал Фишеру.
— Вы твердо помните, что заказали три ключа?
— Право, вы меня смутили… Нет, конечно, три. Я помню, что отдал Фишеру два ключа. Впрочем, я думаю, это несущественно.
— Вы напрасно так думаете. Это очень существенно. Итак, вы настаиваете, что заказали три ключа?
— Нет, если это так важно, я не решаюсь настаивать: может быть, и два, — сказал Загряцкий.
— Очень хорошо… Так и запишем.
— Так, пожалуйста, и запишите.
— Хорошо-с… Записано… Вы сказали, что в последний раз были на квартире с Фишером в понедельник, правда?
— Так точно.
— Вероятно, тогда же вы условились и о следующей встрече?
— Нет, мы не уславливались.
— Когда вы предполагали снова развлекаться с Фишером?
— Это зависело от него: он посылал мне приглашение, когда хотел устроить сеанс.
— Ах, это называется сеансом? Так… Приглашение всегда исходило от него? — небрежно спросил следователь.
— Разумеется. Ведь его была квартира, он все и устраивал.
— Так что вам никогда не случалось проявлять инициативу, т. е. приглашать Фишера на сеанс, как вы изволите выражаться?
— Никогда.
— Вы говорите неправду, господин Загряцкий, — быстро, резким голосом произнес Яценко.
— Я никогда не говорю неправды, господин следователь.
— Ваши слова находятся в полном противоречии с теми данными, которыми я располагаю. У меня имеется записка, которой вы приглашаете Фишера быть вечером «там, где всегда». Вот она…
«Кажется, подействовало», — подумал Яценко.
— Лицо Загряцкого покрылось пятнами. Он наклонился над запиской, которую, не выпуская из рук, показывал ему следователь. Но Яценко не дал ему прочесть то, что в ней было сказано.
— Это ваша подпись? — спросил он.
— Да, моя. Я забыл об этой записке… Правда, был такой случай, когда я предложил Фишеру прийти на квартиру… Я просто забыл об этом случае.
— Или же вы не предполагали, что Фишер сохраняет такие записки?.. Когда это было?
— Недели три тому назад.
— Это опять неверно. Квартира была снята Фишером всего месяц с лишним тому назад. Между тем в записке вы предлагаете встретиться «там, где всегда». Это не могло быть сказано через неделю после снятия квартиры, особенно, если вы устраивали сеансы не часто, как вы сами утверждаете.
— В первую неделю мы там встречались чаще.
— Сказать можно что угодно. Я советовал бы вам однако быть откровеннее, господин Загряцкий.
— Я и так говорю вполне откровенно… Покорнейше благодарю за совет…
С минуту они смотрели друг на друга злыми глазами в упор. Следователь сдержался.
— Так-с… Теперь потрудитесь сообщить мне, что вы делали позавчера.
— С самого утра что делал?
— Да, пожалуй, начните с самого утра.
— Я встал около десяти часов…
— Виноват, вы обычно встаете в это время?
— Да, обычно. Затем, напившись кофе, я отправился к воинскому начальнику. Видите ли, я белобилетчик, — у меня плохое зрение, — и нас скоро должны подвергнуть переосвидетельствованию. Я заходил за справкой, в присутствии могут подтвердить, что я был у них утром. Я довольно долго разговаривал с чиновником… Белобрысый такой чиновник, он сидит в первой комнате, слева от входа. Вы можете у него узнать, я назвал свою фамилию и он, наверное, помнит.
«Уверенно как говорит: к alibi, видно, подготовился», — подумал Яценко.
— Это несущественно, — сказал он сухо. — Затем что делали?
— Потом я отправился завтракать к Пивато.
— Всегда там завтракаете?
— Нет, не всегда, завтракаю, где попадется. Но лакеи у Пивато меня знают и в лицо, и по фамилии, они подтвердят, что я там был.
— После завтрака что делали?
— После завтрака я вернулся домой и прилег отдохнуть, у меня от присутствия разболелась голова. Спал часов до шести. Затем пошел к Рейтеру, — знаете, кофейня на Невском, — там встретил знакомых, сначала смотрел, как играют в шахматы, затем сам сыграл партию с неким Левичем… Это биржевик, он живет на Большом Проспекте, номера не помню, но вы его легко найдете.
— До какого часа вы играли в шахматы?
— Кажется, до семи или до семи с четвертью… Затем я поужинал. Рейтер не ресторан, но там всегда можно получить дежурное блюдо, а я по вечерам мало ем. Я спросил сосиски с картофелем и бутылку пива. Но, право, не знаю, должен ли я вам это сообщать, господин следователь, — добавил с улыбкой Загряцкий, — ведь это подводить кофейню: спиртные напитки теперь запрещены. Мне по знакомству дают пиво… Надеюсь, вы не сделаете из этого истории…
— Долго ужинали?
— Нет, минут двадцать.
— Так… Дальше? — рассеянно спросил Яценко, перебирая бумаги в папке и как бы потеряв интерес к предмету разговора.
— Затем я отправился в кинематограф.
— В кинематограф? — повторил Яценко. — В какой именно?
— В «Солей».
— Так-с. Оставались там до конца спектакля?
— До самого конца. Я всегда остаюсь до конца, хоть и глупо, конечно, смотреть всю эту дребедень. Но я люблю, отдыхаешь все-таки.
— Когда кончился спектакль?
— Думаю, так в половине двенадцатого или еще немного позже.
— Верно, вы и в кинематографе встретили знакомых?
— Знакомых? — переспросил Загряцкий и задумался. — Нет, там знакомых не встретил.
— Жаль, именно там важно было бы кого-нибудь встретить. Никого не встретили?
— К сожалению, никого.
— Жаль… Но, может быть, вас видели служащие? Вы билет взяли при входе?
— Разумеется… Только едва ли кассирша могла меня видеть. Она из-за своей сетки ни на кого не смотрит, занята билетами и сдачей.
— Как же вы наперед знаете, что она вас не видела? Но если не кассирша, то уж, верно, капельдинер вас видел, показывая вам место?
— Может быть… Впрочем, я несколько опоздал к началу и вошел, когда в зале было темно.
— Экая досада! Так и капельдинер не видел?.. Какой билет вы взяли?
— Кресло, в рубль двадцать. Это в среднем пролете.
— Вы твердо помните цену?
— Да, я всегда беру в рубль двадцать.
— Значит, вы часто бываете в этом кинематографе?
— Да, довольно часто.
— Довольно часто, — повторил Яценко, удовлетворенный тем, что подтвердилась его догадка, впрочем, не имевшая отношения к делу. — Так… В антрактах между картинами зал освещается, вы, верно, заметили, с кем вы сидели рядом?
— Кажется, слева был какой-то господин с седой бородой. А с другой стороны никого не было: я сидел у прохода.
— Вы не разговаривали с вашими соседями?
— Нет. Кто же разговаривает с незнакомыми?
— Отчего, бывает, могли обменяться несколькими словами. Может, с теми, кто сидел спереди или сзади вас? Там какие люди сидели?
— Не помню, какие. Кажется, впереди и вообще никого не было.
— Так вы за весь вечер ни с кем не обменялись словом? Ну, может быть, толкнули кого-нибудь и извинились? Может, было что-либо такое, что дало бы нам возможность вызвать ваших соседей посредством публикации в газетах?
— Нет, кажется, ничего такого не было.
— Очень жаль. Это чрезвычайно досадно.
— Согласитесь, однако, господин следователь, я не мог предвидеть, что на следующий день меня заподозрят в убийстве и что мне придется устанавливать alibi.
— Разумеется, но согласитесь и вы, что это довольно странное стечение обстоятельств: весь день, с утра, вы были на людях, вы помните точно все расписание дня по часам… Даже удивительно, правду сказать, до чего вы точно это помните: ведь для вас это был самый обыкновенный день, такой же, как другой, а вы все часы и минуты так хорошо помните… Право, можно было бы подумать, будто вы знали заранее, что надо будет все это сказать точно.
— Позвольте, позвольте, господин следователь, я никаких минут не называл! Я указал только часы и, разумеется, лишь приблизительно. Это было позавчера, я могу помнить, что позавчера делал. А если бы я не помнил и не мог указать часов, то уж это вы, наверное, обернули бы против меня. Что ж это такое получается!..
— Я хочу сказать, что вы твердо помните все расписание дня и можете удостоверить свидетельскими показаниями, где вы были до самого вечера. Везде вас знают и в лицо и по фамилии, а где не знают, как, например, в воинском присутствии, там вы по случайности называете фамилию. Но вот вечером, как раз в часы, когда был убит Фишер, вас решительно никто не видел и вы никого не видели. Это странно… Впрочем, может быть, вы напрасно думаете, что никто вас там не видал. Вы как были одеты?
— Так же, как сейчас.
— А господин с седой бородой как был одет?
— Кажется, тоже в темное пальто.
— Точно не помните?
— Нет, не помню.
— В каком ряду вы сидели?
— Я сидел в среднем пролете, а ряда не знаю: в кинематографах ряды не обозначаются.
— Мы расспросим служащих кинематографа и дадим публикацию в газеты… Когда вы вышли от Рейтера, какая была погода?
— Скверная…
— Вы, вероятно, взяли извозчика? Может, он вас признает?
— Нет, я пошел пешком. «Солей» помещается в Пассаже, это очень близко от Рейтера.
— Ах, «Солей» в Пассаже… Да, да… Позвольте, вы сказали, что кончили игру в шахматы в семь часов… Ужинали минут двадцать, — видите, вы указывали и минуты… А к началу спектакля в кинематографе вы опоздали, хотя до Пассажа от Рейтера в самом деле очень близко. Когда же начинается представление в «Солей»? Мне кажется, что в кинематографах спектакль начинается значительно позднее? Это легко будет удостоверить.
— Загряцкий вдруг побледнел. Следователь не спускал с него глаз.
— Я не помню, я могу ошибиться в минутах. Кажется, я еще прошелся по Невскому.
— В такую дурную погоду?
— У меня, как я вам сказал, с утра болела голова.
— Я думал, головная боль у вас прошла. Или вы играли в шахматы с головной болью?.. Ну-с, хорошо… Что давалось в этот день в кинематографе?
— Давалась кино-драма «Вампиры».
— Какие артисты в ней участвуют?
— Что? Сейчас вам скажу. В главной роли Наперковская, а из мужчин Марсель Левен и Жан Эм.
— Еще кто?
— Еще?.. Других не помню… Запоминаются только имена главных актеров.
— Да… И в газетных объявлениях печатают тоже только имена главных актеров. Потрудитесь рассказать мне содержание этой кинодрамы.
— Вы серьезно?
— Очень серьезно. Впрочем, вместо того, чтобы рассказывать, благоволите написать мне содержание этих «Вампиров»… Вот вам перо и бумага.
— Сделайте одолжение.
«К этому, видно, приготовился… Может, накануне был в этом кинематографе, — подумал Яценко. — Нет, ловкая бестия…»
— Пожалуйста, напишите возможно точнее и подробнее, — добавил, вставая, Николай Петрович.
Он открыл дверь. Городовые вскочили и вытянулись. Яценко позвал письмоводителя.
— Иван Павлович, господин Загряцкий доложен кое-что написать. Посидите, пожалуйста, здесь. Мне необходимо позвонить по телефону.
— Только что как раз Антипов пришел, — сказал тихо письмоводитель.
— А, пришел! Очень кстати…
XIX
Николай Петрович быстро прошел по коридору до дверей, затем нервно повернул назад, сам не зная, зачем. Он находился в возбужденном состоянии. Яценко не был удовлетворен результатами допроса начерно. Он прекрасно понимал, что материала для обвинения допрос дал пока немного, несмотря на провалы в показаниях допрашиваемого. Загряцкий занял ту позицию, которая была для него всего выгоднее: свою связь с женой убитого он отрицал решительно; это обстоятельство давало его показаниям некоторый оттенок рыцарства и, главное, лишало самое обвинение основы. По вопросу о ключе объяснения Загряцкого могли быть признаны удовлетворительными. Записка, найденная у Фишера, почти ничего сама по себе не доказывала. В запасе у Николая Петровича еще оставался, правда, вексель, но этой улике он сам придавал второстепенное значение. Вместе с тем убеждение в виновности Загряцкого еще выросло у Николая Петровича. «Однако, если alibi не будет опровергнуто и дактилоскопия ничего не даст, пожалуй, придется его отпустить… Да, ловкий, ловкий человек… Сразу схватил положение», — сердито сказал себе Яценко, обдумывая план дальнейшего допроса. Он испытывал почти такое же ощущение, как рассказчик, который уже сообщил слушателям смешную часть анекдота и видит, что они не смеются, а ждут чего-то еще. «Теперь надо будет заняться его денежными делами, — подумал следователь. Он остановился, вспоминая, куда и зачем идет. В нескольких шагах от себя Николай Петрович увидел насмешливое лицо Антипова. — Да, проверить alibi…»
— Ну, что?
— Как Антипов сказал, так и есть, Ваше Превосходительство: не готовы снимки, — ответил сыщик. — Говорят, завтра будут, к пяти часам…
— Хорошо… Вот что, надо в срочном порядке проверить показания Загряцкого. Он говорит, что был в кинематографе «Солей»…
Николай Петрович дал Антипову точную инструкцию, затем направился к канцелярии прокурора суда, в которой находилась телефонная будка. В это время из приемной вошел в прокурорский коридор дон Педро.
— Здравствуйте, Николай Петрович… А я к вам… Только на пару слов…
— Здравствуйте… Что прикажете?
— Не прикажу ничего, Ваше Превосходительство, — шутливо сказал журналист. — И не пугайтесь: даже ничего не попрошу… Разве сами сообщите, что слышно новенького?
Он лукаво показал глазами в сторону двери, у которой стояли городовые.
— Нет, уж вы меня извините.
— Я шучу, разве я не знаю? — тотчас согласился дон Педро. — Ведь вы и другим ничего не скажете, правда? Никифорову, например, это очень прилипчивый субъект… Кое-какие сведения, каюсь, я получил окольным путем: как, это мой секрет… Но я вас хотел побеспокоить по другому делу.
— К вашим услугам, но не теперь: я занят…
— Всего одну минуту и я уйду… Видите ли, я устраиваю для «Зари» анкету: об англо-русских отношениях и о влиянии английской культуры на русскую в настоящем, прошлом и будущем, — скороговоркой сказал дон Педро, видно уж не в первый раз произнося эту сложную фразу. — Хочу просить и вас, — добавил он с приятной улыбкой. — Надеюсь, вы не откажете поделиться с мной вашими мыслями на эту животрепещущую тему? Не здесь, конечно, — я пока зондирую почву, анкета еще не организована.
— При чем же здесь я? Об этом надо спросить у политических деятелей.
— У меня намечены и политические деятели, и писатели, и ученые, и представители магистратуры. Вы один из виднейших наших судебных деятелей, и я к вам обращаюсь как к таковому…
— Право, я не знаю. По-моему, никому не интересно, что я думаю…
— Об этом уж позвольте судить мне, — мягко сказал дон Педро.
— Папа, я к вам… — вдруг произнес молодой голос. Яценко обернулся и увидел Витю. Веселое оживленное лицо его радостно поразило следователя после мрачного допроса, и он с особенной силой вдруг почувствовал, как любит сына.
— Ты что здесь делаешь? Ничего не случилось?
— Ничего не случилось… Я вас ждал там, потом думаю, зайду-ка сюда… Здравствуйте, господин Певзнер, не узнаете меня? Мы с вами встречались в обществе, — гордо сазал Витя.
— Как же, вчера у Кременецких… Отлично узнаю.
— Папа, мама просила меня заехать к вам и сказать, что обед вас будет ждать хоть до ночи и чтоб вы ни за что не шли в ресторан… Это мама так говорит. Я на вашем месте непременно пошел бы в ресторан, у нас сегодня обед на три с минусом…
— Да я как раз хотел позвонить маме по телефону, что очень опоздаю, — сказал с улыбкой Николай Петрович. — Больше ничего?.. А ты куда таким франтом?
— Я в оперу, разве вы не помните? До свиданья, папа, я и так опоздал… Прощайте, господин Певзнер.
— Какой славный юноша ваш сын, — сказал со вздохом дон Педро. Он не имел детей и страстно желал иметь их. — Не в гимназии?
— Тенишевец…
— А, тенишевец… Ну, не буду отнимать вашего драгоценного времени… Так я твердо рассчитываю, что вы и другим газетам ничего не сообщите?
— Будьте спокойны. Никому ничего не скажу и права на то не имею…
— Я понимаю… Разве я не понимаю? — подхватил, откланиваясь, дон Педро.
XX
— Вот, пожалуйста, получите: я написал содержание «Вампиров», — старательно ироническим тоном сказал Загряцкий, протягивая следователю бумагу. — Может, в чем и ошибся, эта дребедень в памяти не остается: ходишь так, отдохнуть…
— Благодарю вас… Теперь мы перейдем к другому вопросу. Вы имеете средства?
— Я теперь человек небогатый. Прежде было приличное состояние, но его, увы, больше нет. Однако на жизнь мне хватает.
— Мне нужны более точные сведения. У вас есть наличный капитал? Или дом, или, быть может, имение?
— Нет, ни капитала, ни дома, ни имения у меня нет.
— Значит, вы живете своим трудом?
— Да, живу своим трудом.
— Насколько я могу понять, вы ведете светский образ жизни. Это стоит недешево. Сколько приблизительно вы зарабатываете в год?
— Точно затрудняюсь вам сказать, мой заработок сильно колеблется.
— А в среднем?
— В среднем, я думаю, тысячи три.
— А проживаете сколько?
— Столько же примерно и проживаю.
— При светском образе жизни, с ресторанами и с увеселительными местами? Не более того?
— Не более того. Все это стоит не так дорого. Конечно, иногда приходится туго. У меня есть и долги.
— Есть и долги? Какие же именно?
— Я должен портному несколько сот рублей, еще кое-кому… Да вот я и Фишеру был должен.
На лице следователя промелькнуло неудовольствие.
— И Фишеру были должны? Какую сумму?
— Кажется, пять тысяч.
— «Кажется»? Вы точно не помните?
— Да, пять тысяч. Я выдал ему вексель.
— Вы, однако, сказали, что не имели с Фишером никаких дел?
— Это не дела. Просто я взял у него взаймы.
— Почему же он дал вам взаймы столь крупную сумму?
Загряцкий презрительно улыбнулся.
— Это не крупная сумма. Для Фишера пять тысяч ровно ничего не значили, он был страшно богат.
— Но для вас это крупная сумма: она превышает ваш годовой доход. Да и богатые люди не так уж швыряют деньгами… Вы и от других лиц получали подобные суммы?
— Я не ко всем обращался, господин следователь, да и не все так богаты, как Фишер. Он к тому же не подарил мне эти деньги, а дал взаймы.
— Вы, значит, предполагали ему отдать эти пять тысяч?
— Разумеется, предполагал отдать.
— Когда именно?
— Ну, при первой возможности.
— При первой возможности… Векселя, однако, имеют срок. Когда наступал платеж по этому векселю?
— Точно не помню.
— Я могу вам напомнить. Ваш вексель найден в бумагах Фишера. Его срок истекает через две недели.
— Что с того?.. Я решительно вас не понимаю, господин следователь!.. Вы сказали, что будете допрашивать меня, как свидетеля. Но ведь, слава Богу, я не ребенок. Я сам по образованию юрист… Вы самым серьезным образом меня подозреваете в убийстве Фишера… Клянусь вам, господин следователь, вы жестоко заблуждаетесь. Ваше следствие идет по ложному пути…
— Об этом предоставьте судить мне. Я пока ничего не утверждаю.
— Уверяю вас честью… Вы первый будете смеяться над своей ошибкой…
— Нет, господин Загряцкий, смеяться я не буду и вам не советую. Здесь дело не шуточное. Здесь убийство, господин Загряцкий…
Николай Петрович замолчал. Загряцкий обмахивал шапкой свое потное, изредка дергавшееся лицо. Он волновался все сильнее.
— Так вы признаете, что по векселю должны были заплатить Фишеру пять тысяч через две недели?
— Я признаю… То есть, что же именно мне признавать? Ну, предположим, я не заплатил бы Фишеру, — я и в самом деле не мог бы, вероятно, ему заплатить в срок: что ж, вы думаете, он описал бы мое имущество? Платье мое продал бы с молотка, что ли?.. Ведь это курам на смех, господин следователь. Надо было знать Фишера, — для него пять тысяч были все равно, что для меня пять рублей. Скорее всего он просто забыл бы о сроке моего векселя. А в крайнем случае потребовал бы, чтоб я вексель переписал. И то больше по коммерческой привычке потребовал бы… Только и всего… Наконец, от смерти Фишера вексель ведь законной силы не теряет, вот ведь вы его нашли… Я вас прямо спрашиваю, господин следователь, что вы собственно хотите доказать?
— Об этом мы пока не говорим. Сейчас мне от вас нужны более подробные и точные сведения о ваших средствах. Вы сказали, что проживаете около трех тысяч в год. Меня удивляет, как вы могли сводить концы с концами при этом доходе и при том образе жизни, который вы, насколько я могу судить, ведете. Вы за квартиру сколько платите?
— Шестьсот рублей в год.
— Имеете прислугу?
— Имею, недорогую.
— Значит, на жизнь вам в месяц остается меньше двухсот рублей. Вы обедали в дорогих ресторанах.
— Не всегда в дорогих… Стол мне не стоит и ста рублей в месяц. К тому же, меня часто приглашают.
— Сто рублей в месяц на стол… Значит, на все остальное остается примерно столько же? Сюда входят и увеселительные места, и развлеченья, и платье, — вы хорошо одеты. Летом вы никуда не ездили?
— Ездил в Крым.
— Вот и в Крым вы ездили. Это все на сто рублей в месяц?
— Я бухгалтерии, господин следователь, не веду… Мне трудно вам представить точный бюджет, да еще сразу, без подготовки… Надо вспомнить и сообразить…
— Да, необходимо вспомнить, господин Загряцкий, это важный вопрос… Когда вы с Фишером посещали рестораны и увеселительные места, вы за себя платили?
— Иногда платил… Чаще за все платил он. Это так естественно при его богатстве и моих скромных средствах.
— Чаще он, но иногда платили и вы… Тоже, очевидно, из тех ста рублей?
— Я не скрываю, это бывало редко.
— Может быть, даже и никогда не бывало?
— Вы хотите сказать, что я жил на средства Фишера? Это неверно, господин следователь… И потом, если я жил на его средства, зачем же было мне желать его смерти?
— Вы говорите, что ездили летом в Крым. Вы там были один?
— Я не понимаю вопроса. У меня в Ялте было много знакомых.
— Я говорю не о знакомых… Госпожа Фишер была в то время в Ялте?
— Господин следователь, я категорически заявляю, что о госпоже Фишер я говорить не намерен и отвечать на инсинуации не буду.
— Я просил бы вас быть сдержаннее в выражениях, — сказал резко Яценко. — Вы говорите с должностным лицом и вас допрашивают по делу об убийстве, господин Загряцкий.
— Вы однако сказали, что допрашиваете меня как свидетеля! Сказали вы это, господин следователь? Что ж это?
— Предлагаю вам прямо ответить на вопрос, была ли госпожа Фишер в Ялте одновременно с вами?
— Ну да, была. Что с того?
— Вы жили в одной гостинице?
— Да, в одной, — и с нами еще сто человек.
— Вы вместе обедали?
— Иногда и вместе.
— Иногда и вместе…
Эти повторения последних слов допрашиваемого, не то в утвердительном, не то в полувопросительном тоне, входили в обычай Яценко: он замечал, что они, как и небольшие остановки после ответа, действуют на допрашиваемых.
— Когда вы обедали вдвоем, платила тоже чаще всего госпожа Фишер?
— Это неправда… Это неверно.
— Мы постараемся это выяснить… Оставим вопрос о ваших расходах и перейдем к вашим доходам. Итак вы зарабатываете около трех тысяч в год. Потрудитесь указать, как вы зарабатываете эти деньги.
— Коммерческими делами.
— Какими именно?
— Разными… Я был посредником, получал куртажные…
— Какие именно сделки вы совершали и для кого?
— Я так сразу не могу ответить на такой вопрос. Надо вспомнить…
— Вы не помните, чем вы занимались?
— Вам угодно играть словами, господин следователь. Я сказал, что занимался посредническими делами, а назвать сразу все сделки, это не то же самое. Это не значит: не помнить того, чем занимался.
— Но имена людей, которые вам давали работу, вы, я полагаю, помните?
— Я работал для разных лиц… Для Фишера…
— Вы сказали, что не имели с Фишером никаких дел.
— Я позабыл… Да это ведь небольшие дела, просто он давал мне заработок.
— Вы говорите: для разных лиц. Кто еще вам поручал дела, кроме Фишера, который умер?.. Может, и из живых людей кого-либо назовете?
— Сейчас не могу вспомнить… Я очень взволнован, господин следователь… Наконец, это коммерческий секрет… Только у нас в России существует такое неуважение к человеку!..
— Для следствия нет коммерческих секретов… Не можете вспомнить?
— Сейчас не могу… Я вспомню позже, — упавшим голосом сказал Загряцкий.
— Или придумаете ответ… Какие сделки вы совершали для Фишера?
— Я продавал и покупал для него бумаги.
— Какие?
— Разные… Акции банков… Мальцевские…
— Такие сделки обычно совершаются через банки или через профессионалов. Не назовете ли вы людей, которые могли бы подтвердить, что вы совершали эти сделки для Фишера?
— Я сейчас ничего не могу указать… Вы меня оглушили этим нелепым обвинением… Я плохо себя чувствую и не могу вообще отвечать.
— Кроме посреднических сделок у вас были еще какие-либо источники дохода?
— Нет… Были кое-какие сбережения.
— В каком приблизительно размере?
— Сумма менялась… Я постепенно тратил… Одно время было несколько тысяч.
— Где они находились? В банке?
— Нет, у меня дома.
— Вы без нужды хранили дома несколько тысяч?
— Да, дома… Прислуга у меня надежная… Да и деньги небольшие… Банки платят ничтожный процент…
— Откуда же у вас собралось несколько тысяч? Значит, у вас прежде были дела покрупнее, чем теперь?
— Очевидно…
— Очевидно?.. А какие, вы не помните?
Раздался легкий стук в дверь. «Вай-дите… В-вай-дите!..» — сказал с раздражением Яценко. В комнату вошел письмоводитель. Он приблизился на цыпочках к следователю и сказал ему на ухо:
— Антипов хочет вас видеть, говорит, для важного сообщения.
Яценко кивнул головой. Он записал последние показания Загряцкого.
— Посидите, пожалуйста, здесь опять, Иван Павлович, до моего прихода, — сказал он и вышел.
Николай Петрович вернулся через несколько минут. Он прошел к столу и занял прежнее место. Лицо у него было торжественное и мрачное. Загряцкий вдруг на него уставился глазами.
Письмоводитель хотел выйти из комнаты. Яценко удержал его знаком.
— Вы сказали, — начал следователь новым, бесстрастным тоном, глядя на дрожавший слегка ониксовый перстень Загряцкого, — вы сказали, что позавчера вечером, в день убийства Карла Фишера, вы были в кинематографе «Солей», в Пассаже на Невском Проспекте и оставались там до конца спектакля?
— Так точно, — сказал негромко Загряцкий, не сводя с него глаз.
— Вы сказали также, что знакомых в кинематографе не встретили… Давалась пьеса «Вампиры», содержание которой вы по памяти изложили письменно?
— Да, я изложил…
— Господин Загряцкий, вы сказали неправду и случайности суждено было выдать вас, — подняв голову, произнес торжественно и печально следователь. — В этот вечер драма «Вампиры» была заменена другой картиной.
Письмоводитель вздрогнул, быстро взглянул на допрашиваемого и опустил глаза. Загряцкий, все больше бледнея, откинувшись на спинку стула, смотрел остановившимися глазами на следователя. На лице Загряцкого был написан страх, точно он ждал удара.
— Я болен и не то говорю… Я не могу теперь отвечать, — наконец едва слышно произнес он.
— В таком случае допрос переносится на завтра. Но отныне вы, Загряцкий, будете допрашиваться в качестве обвиняемого. По 1454-ой статье уложения о наказаниях, вам предъявляется обвинение в предумышленном убийстве Карла Фишера… Иван Павлович, — сказал, вставая, Яценко, — составьте бумагу о принятии арестованного Загряцкого в Дом Предварительного Заключения.
XXI
Оливковый скрипач, с необыкновенно радостной улыбкой, играл забытую парижскую песенку, вернувшуюся в Петербург из Бухареста. В углу переполненного зала сидел Браун, уставившись на скрипача своим неприятным безжизненным взглядом…
В мире В.
«…Мертвые люди смеются, ведут веселые разговоры. Скелеты, постукивая костями, подносят к челюстям чашки. Самый мертвый из мертвецов предпочитает заниматься глупым анализом под звуки веселенькой музыки, чувствуя себя как на необитаемом острове в Hall'е гостиницы „Палас“. Он презирает людей — на людях. Презренье не мешало ему жить с оглядкой: не испортилось бы фальшивое, дешевое, никому не нужное клише. Можно жить на фиктивные проценты с несуществующего духовного капитала. В редакциях газет заготовлены статьи на случай похорон. Двадцать пять организаций пришлют венки — „Жрецу… Борцу… Мудрецу… Он умер, но его идеи живы… Его больше нет, но дух его витает над нами!..“
Капитал, впрочем, не так велик. Саморекламой не занимался, частью по брезгливости, частью по неумению, — быть может, больше по неумению, чем по брезгливости. Холодный, равнодушный человек никогда никого не любил. Была привычка к джентльменству — как привычка к ежедневной ванне. Обман был так же прочен, как дешев. Самообмана на пятом десятке не хватило. Верования не растеряны: их в действительности никогда и не было. На сорок седьмом году жить оказалось нечем и не для чего… Долга и мучительна жизнь, как ночь тяжело больного… Вдобавок, „грубые страсти“ пришли в столкновение с клише. Вот, вот чего ему хотелось на самом деле!.. Борец увидел свое изображенье в зеркалах квартиры Фишера. Мудрец испугался: двадцать пять организаций не пришлют венков…»
«…Ma Ton-qui-qui — Ma Ton-qui-qui — Ma Ton-qui-noi-se», — хихикала музыка.
«Скелет в смокинге играет на скрипке. Мертвец в мундире подпевает… Позади духовное кладбище, впереди кладбище настоящее. Сколько времени еще шататься меж двух кладбищ? Я раньше, они позднее, — совершенно все равно. Жалеть больше не о чем и слава Богу! Le grand Peut-être [32] не за горами. Чем еще порадует под конец жизнь? В последнюю ночь осужденного сторожа играют с ним в карты… Откажемся же от прощальных радостей и развлечений! Оставим без сожаления и то единственное, для чего, быть может, стоило жить после нескольких лет молодости: мысль, правдивую, бесстрашную мысль…»
XXII
Анкета об англо-русских отношениях была счастливой находкой дон Педро. Главный редактор «Зари» отнесся к ней весьма одобрительно и предложил Альфреду Исаевичу не стесняться местом.
— Момент выбран очень удачно, — сказал редактор. — Эта проблема в самом деле является в настоящее время одной из центральных, и ваша анкета несомненно вызовет в обществе большой интерес… Неправда ли, Федор Павлович? — обратился он к секретарю редакции, с мнением которого все в газете очень считались.
— Большого интереса ни у кого ни к чему нет, — угрюмо ответил старик секретарь, отрываясь от сырых гранок и раздавливая о пепельницу докуренную папиросу.
— Ну, как, не говорите… Читатель к тому же вообще любит анкеты, — уверенно сказал редактор. — А эта анкета может обратить на себя внимание и в Англии.
Федор Павлович только мрачно на него посмотрел. Он почти пятьдесят лет работал в газетах, страстно любил свое дело и превосходно его знал. К публике он относился приблизительно так, как рыболов к рыбе. Слово «читатель» Федор Павлович произносил с довольно сложной смесью чувств: сюда входила и любовь, и ненависть, и благодушное презрение, и суеверный страх перед чуждым, непостижимым явлением. За пятьдесят лет работы Федор Павлович не решил вопроса о том, для чего читает газеты читатель и почему он им верит. Сказать же, что читатель любит, представлялось ему почти невозможным делом: он знал зато твердо, чего читатель не любит, и сюда в первую очередь относил статьи самого редактора, считая их, впрочем, злом совершенно неизбежным: во всех газетах, в которых он работал, были политические деятели, ничего не понимавшие в газетном деле и писавшие скучные, ненужные читателю и вредные для газеты статьи, которые необходимо было печатать.
— Больше семидесяти строк на каждого из этих рекламистов я вам не дам, — мрачно сказал он Альфреду Исаевичу, когда главный редактор удалился.
Дон Педро только вздохнул: он хорошо знал, — все будет так, как решит Федор Павлович, что бы ни говорил главный редактор.
— Но хоть семьдесят дадите?
— Семьдесят дам. Вы с кого из ваших приятелей начнете?
— Да я у разных буду. Вот мне как раз сегодня нужно зайти к двум человечкам… Из адвокатов я, кстати, думаю взять Кременецкого, он теперь в моде… Разумеется, его в числе других и под конец, — поспешил добавить дон Педро, увидев раздражение на лице секретаря.
— Я так и знал! Рубят леса, фабрикуют бумагу, стучат ротационки, издатель тратит сумасшедшие деньги, я не сплю ночами, для того, чтоб этот болван мог высказаться об англо-русских отношениях!.. И это потому, что он вас позвал на свой вечер!.. Кременецкому больше пятидесяти строк не дам, — категорически заявил секретарь, с раздражением вытирая платком испачканные корректурой, желтые от табаку пальцы.
— С портретом?
— Хоть с бюстом… Когда начнете? Ведь вы до праздников будете тянуть вашу проклятую анкету?
— Сколько найдете нужным. Я полагал бы, однако, лучше начать теперь же, — мягко сказал Альфред Исаевич, зная, чем можно взять секретаря. — Говорят, в «Утре» тоже подумывают о политической анкете. Как бы не перехватили тему, а?
— Сейчас же и начинайте, — поспешно сказал Федор Павлович. Он был страстным патриотом той газеты, которой руководил, и вполне искренно ненавидел все соперничавшие с ней издания, независимо от их направления. Мысль дон Педро об анкете он тотчас оценил по достоинству и ворчал больше по привычке. — Я завтра же помещу заметку.
Федор Павлович взял узкую полосу бумаги и написал, не задумавшись ни на секунду:
«Наша анкета.
В ближайшие дни на страницах нашей газеты начнет печататься большая анкета об англо-русских отношениях в настоящем, прошлом и будущем. Целый ряд виднейших деятелей политики, литературы, науки, как в России, так и в Великобритании, с живейшим сочувствием отнеслись к нашей инициативе и с полной готовностью отозвались на предложение сотрудника „Зари“ высказаться по этому важному и жгучему вопросу современности».
Он подчеркнул красным карандашом несколько слов в заметке, затем проставил в левом углу какие-то таинственные значки. Дон Педро с удовольствием читал заметку, наклонившись над приподнятым правым плечом Федора Павловича. По просьбе Альфреда Исаевича, секретарь, после слов «сотрудника „Зари“», вставил еще «дона Педро».
— А теперь проваливайте, господин, — сказал он со своей обычной угрюмой шутливостью, которая не вызывала никакого раздражения в ближайших сотрудниках: все они ценили самоотверженный труд, талант, опыт Федора Павловича и безропотно склонялись перед его решениями.
Дон Педро, очень довольный, спустился в первый этаж и по телефону снесся с разными лицами, в том числе и с Семеном Исидоровичем. Кременецкий тотчас изъявил готовность откликнуться на анкету.
— Вы знаете, дорогой Альфред Исаевич, что я всегда к услугам прессы вообще, а близких мне органов… Барышня, пожалуйста, не прерывайте, мы разговариваем… А близких мне по направлению органов печати в частности… Вы делаете большое дело… Но я не знаю, может ли мое скромное суждение представлять общественный интерес…
— Об этом уж позвольте судить мне, — сказал и ему с той же приятной интонацией дон Педро. — Так я на днях к вам приеду?
— На днях? Боюсь, что я должен буду уехать из Петрограда. Да вот, хотите, сегодня, сейчас я как раз свободен… Куй железо, пока горячо…
— Что?.. Не слышу… Что горячо?
— Я говорю: куй железо, пока горячо… Великолепно… Да, можно и через полчаса. Я вас жду… До скорого свиданья.
«Еще бы не горячо», — подумал, отходя от телефона, Альфред Исаевич. Он был убежден в том, что все люди, за самыми редкими исключениями, жаждут попасть в газету. По взглядам дона Педро, это стремление было столь же естественным, как погоня за деньгами, за женщинами, за властью. Альфред Исаевич рассматривал включение в свой анкетный список почти как подарок, и награждал им тех, к кому относился благосклонно или кого считал нужным за что-либо отблагодарить. Были, правда, при каждой анкете участники необходимые, — их нельзя было обойти, не ослабив значения самой анкеты. Но Кременецкий к таким обязательным участникам не принадлежал.
«От адвокатуры возьму человек пять-шесть, — подумал дон Педро, садясь за стол для составления списка. — Собственно, есть много адвокатов поважнее Семы. Ну, да ничего, сойдет. От литературы… Кого же от литературы? Может быть, Короленко сейчас в городе… Политиков возьму штук десять, по партиям… От магистратуры уже обещано. Яценко хороший человек и не черносотенник… Но без фотографии: его мало знают… Надо еще кого-нибудь…» Дон Педро перебрал мысленно десятка два известных людей и тотчас некоторых забраковал: одни не подходили, другим он не желал делать одолжение. «От финансистов Нещеретов… А от науки? Никого как будто нет такого. Придется в Москву телефонировать Тимирязеву… — Журналистам Альфред Исаевич не уделил места в анкете: он недолюбливал известных журналистов. — Ну, где же тут Великобритания?.. Бьюкенен не даст… Разве того офицера попросить, что был у Кременецкого?.. Что ж, это будет очень хорошо…»
Составив список, дон Педро покинул редакцию и на извозчике отправился к Кременецкому.
Семен Исидорович ждал гостя в своем кабинете. Вечерний прием еще не начался. Сидя в кресле перед камином, у столика, на котором были приготовлены портвейн и сигары, Кременецкий читал книгу в кожаном переплете. Дверь кабинета была полуоткрыта: Тамара Матвеевна предполагала слушать из будуара ответы мужа.
— Старика Софокла перечитываю, — сказал гостю адвокат, кладя книгу на столик, — люблю, знаете, классиков. Читаешь, и так и хочется воскликнуть: «вы, нынешние, ну-тка!…»
— Н-да, конечно, — протянул неуверенно Альфред Исаевич. — Ух, холодно становится…
— Темь какая… Позвольте вам предложить портвейну, дражайший Альфред Исаевич… Ну-с, так что же именно вы желали бы от меня услышать?
— По моей инициативе, — начал дон Педро, — газета «Заря» задалась целью выяснить отношение русского общественного мнения, в лице его виднейших представителей, как политиков, так равно юристов, писателей, ученых, к проблеме англо-русских отношений в ее культурно-политическом разрезе. Значение этой жгучей проблемы в текущий момент мне вам, конечно, объяснять не приходится. Но аспектом данного вопроса и его, так сказать, рамками, мы вас, разумеется, не стесняем и, если вы предпочитаете высказаться об Англии и об ее культуре вообще, то я тоже буду рад довести ваши воззрения до сведения русского общества.
Дон Педро вынул книжку, открыл стилограф и с значительным видом взглянул на Семена Исидоровича.
— Что я могу сказать об Англии? — сказал со вздохом Кременецкий. — Англия дала миру свободу и Шекспира, этим, собственно, все сказано (стилограф дон Педро побежал по бумаге; Семен Исидорович остановился и дал возможность записать свое изречение). Лично я, как гражданин, воспитан… на идеалах британского конституционного строя… Как криминалист, я еще в стенах нашей alma mater… твердо запомнил слово глубокочтимого учителя моего, профессора Фойницкого («И. Я. Фойницкого», — продиктовал он): «современное уголовное право есть продукт правотворчества двух великих народов: английского и французского»… Это слово маститого ученого, твердо запавшее в душу… нам, безусым юнцам, стекавшимся со всех концов России… в столицу учиться праву и гражданственности… не раз вспоминалось мне и теперь в связи с трагическими событиями… свидетелями коих нам суждено было стать в связи с пламенем Лувена и развалинами Реймского Собора… Заметьте, я не принадлежу к огульным хулителям германской культуры… Мне довелось совершенствоваться в науке… в семинарах таких людей, как Куно Фишер и Еллинек… и никто не скорбел искреннее, нежели я, о том… что Германия Канта под пятой Гогенцоллернов стала Германией Круппа… Ничто не чуждо мне более, чем человеконенавистничество… и в мщении Канту за дела Круппа я вижу хулу на духа святого: Кант есть тот же Реймский Собор! — сказал Семен Исидорович и с торжеством взглянул на все быстрее писавшего журналиста… — Нет, я воздаю Кесарево Кесарю, но я не могу не думать и о том… что в классической стране неизбывных принципов права не могло быть сказано… святотатственное слово канцлера Бетмана-Гольвега о «клочке бумаги»…
В будуаре, сидя в кресле сбоку от полуоткрытой двери, Тамара Матвеевна вышивала по шелку, с наслаждением и гордостью слушая слова мужа.
Муся, в котиковой шубке, с горностаевыми шапочкой и муфтой, вошла в будуар. Мать быстро сделала ей знак, показывая глазами на дверь.
— Кто у папы? — спросила Муся, прислушиваясь к голосу отца.
— Интервьюер от газеты «Заря», — значительно подняв брови, ответила шепотом Тамара Матвеевна. Муся изобразила на лице ужас и восхищенье.
— В-видал миндал? — сказала она. Муся как раз накануне слышала это выражение от молодого поэта. — Что ему нужно?
— Влияние английской культуры на русскую в настоящем, прошлом и будущем, — одним духом прошептала Тамара Матвеевна.
— Господи! Да ведь папа об этом знает столько же, сколько я… Уж лучше я дам ему интервью, я хоть по-английски говорю.
Мать строго на нее посмотрела, Муся вздохнула.
«…повелительным образом указывает нам… сближение с великими демократиями запада…» — донесся из кабинета медленно диктующий голос адвоката.
— Мама, я еду кататься, мы условились с Глашей… Ах, да это дон Педро у папы, что же вы не сказали?.. Разве он пишет в «Заре»? Мама, можно зайти к ним послушать? Я помогу папе.
— Да ты с ума сошла! Разумеется, нельзя.
На пороге будуара показался Семен Исидорович. У него был сдержанно-взволнованный вид.
— Меsdames, — громко сказал он шутливым тоном. — Нельзя ли разыскать какую-нибудь мою фотографию? Газета «Заря», видите ли, зачем-то желает увековечить мои черты… Дай, золото, предпоследнюю, Буасона, — тихо добавил он жене. Тамара Матвеевна вспыхнула от радости.
— Я сейчас достану, — сказала она и поспешно поплыла к двери.
— Возьмите, мама, ту карточку, где мы сняты с папой в Кисловодске, — посоветовала Муся, — я хочу, чтобы и меня поместили в «Заре». Нельзя, папа?.. Дон Педро! — вдруг пропела она. — О, дон Педро, покажитесь, ради Бога, о, дон Педро…
На пороге комнаты, сияя улыбкой, появился Певзнер.
— Тамара Матвеевна… Мадмуазель, — сказал он, расшаркиваясь.
— Здравствуйте, дон Педро. Я хочу дать вам интервью о влиянии английской культуры. Этот вопрос давно меня волнует… В прошлом, в настоящем и в будущем… Вы поместите, да? Но непременно с портретом.
— Мадмуазель, ничто не могло бы лучше украсить нашу газету, — галантно сказал дон Педро. Кременецкий снисходительно улыбался.
— Вот разве эту взять? — сказала Тамара Матвеевна, появляясь вновь в будуаре и показывая большую фотографию, в которой Кременецкий был снят в кабинете за письменным столом, с босым Толстым на фоне.
— Ну, и ладно, эту, так эту, — небрежно заметил Кременецкий. — Разрешите вам презентовать сию картинку, Альфред Исаевич…
— Семена Исидоровича уже снимали раз для «Огонька» к юбилею судебных уставов… — начала было Тамара Матвеевна. Кременецкий с неудовольствием взглянул на жену: она никак не должна была помнить об «Огоньке», точно помещение его фотографии в печати было для них событием.
— Тогда уж позвольте вас просить, Семен Исидорович, сделать надпись.
— С радостью… Но ведь это для печати? Разве на обороте надписать?
— Да, пожалуйста, на обороте.
— Охотно…
— Дон Педро, я вам скажу, к кому вы должны поехать за интервью, — сказала Муся. — К майору Клервиллю. Он живет в «Паласе».
— Это тот офицер, который был на вашем рауте, мадмуазель? Я сам о нем думал… Он живет в «Паласе»? Так я прямо от вас к нему и поеду.
— Нет, правда? Послушайте, дон Педро, ангел, можно мне ехать с вами? Я буду отлично себя вести… Я буду вам переводить… Папа, нельзя? Отчего нельзя?.. Отчего мне не быть журналисткой, что тут такого? Ну, так я вас довезу до «Паласа», если вы меня не хотите. Меня как раз ждет внизу экипаж. Можно, мама?
Кременецкий, помахивая в воздухе фотографией, улыбался несколько натянуто.
— Разумеется, можно, — ответила с беспокойной улыбкой Тамара Матвеевна.
— Ах, Боже мой, мадмуазель, вы меня чрезвычайно обяжете, — сказал дон Педро. — Но я не хотел бы вас беспокоить.
— Для вас я готова на любое беспокойство… Если б вы знали, какую поклонницу вы во мне имеете!.. Мама, правда? Что я вам говорила на прошлой неделе о статье дона Педро? Папа, ваша надпись высохла. Идем… До свиданья…
— Мусенька, застегнись, очень холодно. И скажи Степану не гнать… Прощайте, Альфред Исаевич, не забывайте нас.
— Благодарствуйте, Альфред Исаевич… Не забывайте же к нам дорогу, — сказал Семен Исидорович. Он проводил гостя до передней, затем из окна посмотрел, как они садились в экипаж. Вид его гнедой пары все еще доставлял ему удовольствие: Кременецкий только в прошлом году обзавелся экипажем.
— Знаешь, золото, — сказал он жене, — Муся, конечно, очень мила, но тон у нее временами немножко фривольный. Это не принято и не очень мне нравится. Ведь она почти не знает этого Певзнера… Ты бы ее побранила.
— Да, иногда с ней такое бывает, — ответила со вздохом Тамара Матвеевна. — Всегда она скромная, такая воспитанная, но вдруг точно муха ее укусит: я сейчас у ней по лицу вижу. Ах, надо ей найти жениха!..
— Найдем, найдем… Не засидится у нас Муська, — уверенно сказал Кременецкий. Он был радостно настроен по случаю интервью и не хотел думать о неприятных предметах.
Муся в экипаже озабоченно расспрашивала дона Педро о Клервилле. Но Альфред Исаевич ничего о нем не знал.
— Нет, вы просто не хотите сказать, — говорила сердито Муся. — Не знаете, шпион ли он, не знаете, кто его любовница, да вы ничего не знаете!.. Какой же вы после этого журналист?
— Мадмуазель… — сказал дон Педро. — Клянусь вам, я этого не знаю!
— За что же вам деньги платить, если вы ничего не знаете? Нет, правда, не может быть, чтобы вы не знали, как зовут его нынешнюю даму? Послушайте, а может быть, он любит мальчиков?.. Да? Да?
Альфред Исаевич смотрел на нее, выпучив глаза. «Нет, что это за барышни пошли? — спрашивал он себя. — В таком хорошем семействе!..»
— Помилуйте, мадмуазель, — растерянно сказал дон Педро, — откуда же я могу знать такие вещи?.. Согласитесь, это было бы странно, честное слово…
— А к Брауну вы не зайдете за интервью? Он тоже в «Паласе».
— Какой это Браун? Ах, да. Может быть, я о нем забыл. Вы мне подаете мысль, мадмуазель.
«В самом деле, можно взять его в представители науки, — подумал Альфред Исаевич. — Говорят, он замечательный ученый. А то годами одни и те же: Тимирязев, Мечников, Мечников, Тимирязев, — это всем надоело…»
XXIII
«Хорошая штучка! — подумал дон Педро, шаркнув калошами и раскланявшись с отъезжавшей в коляске Мусей. — Говорят, Сема хочет ее выдать за Нещеретова… Тоже нашел дурака… Сейчас Нещеретов на ней возьмет и женится…»
Альфред Исаевич направился по скользкому, плохо засыпанному песком тротуару к дверям гостиницы «Палас». Человек в поддевке, почтительно сняв шапку, украшенную павлиньими перьями, толкнул перед ним вертящуюся дверь. Дон Педро кивнул головой и вошел. Его обдало жаром и светом. Альфред Исаевич, скрывая легкую робость под особенно самоуверенным видом, направился к длинному столу, за которым стояли два человека в черных сюртуках.
— Майор Клервилль у себя?
Человек в сюртуке оторвался от лежавшей перед ним огромной книги, оглянулся на доску с ключами и взялся за ручку одного из телефонных аппаратов.
— Как доложить?
— Не надо докладывать, меня ждут, — поспешно ответил Альфред Исаевич. Узнав, что Клервилль живет в 103-м номере, а Браун в 264-ом, дон Педро кивнул головой и солидной походкой направился к лестнице, с любопытством осматриваясь по сторонам. Все в «Паласе» очень нравилось Альфреду Исаевичу: и яркое освещение, и комфорт, и хорошо одетые люди, и в особенности окружающая посетителей атмосфера почета… Альфред Исаевич вдруг поспешно снял меховую шапку и поклонился: по Hall'у, в сопровождении почтительного управляющего гостиницы быстро шел, размахивая руками, высокий, по-актерски гладко выбритый, человек. Это был тот богач Нещеретов, о котором только что думал дон Педро. С Нещеретовым из-за столиков Hall'а учтиво раскланялось, привставая, еще несколько гостей. Он окинул беглым взором Альфреда Исаевича, слегка ему кивнул и остановился, хлопнув себя по карману шубы.
— Эх, беда!.. Перчатки забыл, — сердито сказал он.
Управляющий бросился за перчатками, и даже дон Педро преодолел в себе желание как-либо помочь в беде богачу. Альфред Исаевич ничего не ждал от Нещеретова, но самый вид человека, владевшего десятками миллионов, приводил его в легкое волненье. Лакей уже подбегал с перчатками к Нещеретову. Он кивнул головой, взял перчатки и быстро пошел к выходу. «Да, хорошо живут, — подумал Альфред Исаевич. — Князей встречают хуже… А всего каких-нибудь десять лет тому назад его бы сюда на порог не пустили!..»
У лестницы мальчик открыл перед ним дверь подъемной машины. Хотя во второй этаж было проще подняться по лестнице, Альфред Исаевич, подкупленный почтительностью мальчика, вошел в лифт и вынул из большого черного кошелька засаленную марку военного времени. На стене висела печатная надпись: «Просят не разговаривать по-немецки», с полустертой добавкой карандашом: «и по-турецки». Машина остановилась. Дон Педро сунул марку мальчику и вышел. Разыскав 103-й номер, он постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее.
Майор Клервилль, сидевший за столом спиной к двери, поднялся, с недоумением глядя на вошедшего без доклада посетителя. «Может быть, у них так принято», — тотчас подумал он. Лицо Альфреда Исаевича было ему знакомо, но он решительно не помнил, кто это, и испытывал оттого слегка неприятное чувство.
— Вы, верно, меня не узнаете, господин майор, — начал Альфред Исаевич, с учтивой солидной улыбкой на лице. — Пожалуйста, извините меня…
— О, я хорошо узнаю без сомнения…
— Пожалуйста, извините, что посмел отнять ваше драгоценное время, — сказал дон Педро. Он изложил свое дело, говоря так же изысканно, но несколько медленнее и вразумительнее, чем обычно. Клервилль не все разобрал в его словах, но понял суть дела и по ней вспомнил, что этот человек был журналист, которого он видел на вечере у русского адвоката. Просьба дона Педро доставила удовольствие майору Клервиллю, — к нему еще никто никогда не обращался за интервью. Он, однако, с любезной улыбкой ответил, что, как офицер, интервью давать не вправе.
Дон Педро с сожалением откинул голову, полузакрыл глаза и слегка развел руками, свидетельствуя, что подчиняется решению своего собеседника, и отдает должное его мотивам, хотя не разделяет их. Майор поблагодарил гостя за честь и просил заверить русских читателей, что, как все англичане, он неизменно восхищается русской армией, Россией, гением страны, которая… Клервилль хотел сказать: страны, которая дала миру Толстого и Достоевского, — однако вспомнил, что Толстой был в дурных отношениях с русским правительством, и решил, что корректнее будет поэтому Толстого не называть. Об отношении Достоевского к русскому правительству майор ничего не помнил, но с одним Достоевским, без Толстого, фраза не выходила. Клервилль в общей форме сказал о гении страны, давшей миру столько великих людей… «С сердцем так широким, как эти русски степи», — добавил, подумав, майор.
Альфред Исаевич выслушал его с удовольствием, — он был искренним патриотом, — и решил, что слова англичанина в сущности вполне могли заменить интервью, если их подать соответственным образом, на пятьдесят строк, с описанием обстановки и с портретом. Дон Педро крепко пожал Клервиллю руку, как бы благодаря его за Россию, и попросил дать для газеты фотографическую карточку. Это майор мог сделать, не нарушая своего долга. Увидев фотографию, дон Педро просиял: как ни хорош был в действительности Клервилль, на карточке, в парадном мундире довоенного времени, он был еще лучше.
— Не смею вас больше беспокоить, господин майор, — сказал, вставая, Альфред Исаевич. — Сердечно вас благодарю… Вы знаете, что в лице нашей газеты ваша великая страна всегда имела верного друга. В этом вся наша редакция вполне солидарна.
— О, да, я знаю хорошо, — ответил, тоже с искренним удовольствием, Клервилль. Он проводил гостя до дверей, и они расстались, очень довольные друг другом.
«Вот и не потерял времячко», — удовлетворенно подумал Альфред Исаевич, поднимаясь по лестнице в третий этаж. Помимо того, что сто строк от двух интервью составляли двадцать рублей (дон Педро, сверх жалованья, получал еще построчную плату), самый процесс составления интервью очень нравился Альфреду Исаевичу. В минуты особенно горячей влюбленности в себя он называл себя «журналистом Божьей милостью». И действительно любовь к газетному делу была в нем сильна и неподдельна. Особенно он любил все, что имело отношение к высшей политике, в частности к иностранной. Дон Педро в действиях великих держав неизменно усматривал скрытый, маккиавелический смысл, который почему-то чрезвычайно его радовал: он и говорил о тайных замыслах разных европейских правителей всегда с радостной, почти торжествующей улыбкой. Альфреду Исаевичу нравилось, что европейские правители были такие хитрецы и что он тем не менее проникал в их тайные замыслы, — в отличие от других людей, которые простодушно им верили. Анкета все больше увлекала дона Педро. «Можно даже считать, четвертная в кармане: это дудки, будто Федюша на Кременецкого больше пятидесяти строк не даст… Когда прочтет, что я напишу, даст сколько влезет…»
Альфред Исаевич направился налево по менее ярко освещенному коридору третьего этажа и вдруг, свернув за угол, увидел Брауна, который, в шубе и шапке, опустив голову, быстро шел к лестнице. «Чудная шубка, — подумал дон Педро. — Котик не котик, а выхухоль, теперь за восемьсот рублей не сошьешь».
— Здравствуйте, господин профессор, — сказал он вкрадчиво.
Браун вздрогнул и поднял голову.
— Здравствуйте…
— А я шел к вам… На одну минутку, только на одну минутку… Можно?
— Простите меня, я очень спешу, — сказал Браун, останавливаясь с видимым нетерпением. — Чем могу служить?
Альфред Исаевич изложил свою просьбу короче, чем в разговоре с Кременецким и Клервиллем.
— Нет, меня, пожалуйста, увольте, — сухо прервал его Браун, узнав, в чем дело, и не дослушав объяснения. — Я не политик и никаких интервью не даю.
— Вы наш известный ученый и в качестве такового… — начал было снова дон Педро.
— Прошу извинить. Дело это меня не касается и не интересует… Мое почтение.
Он приподнял шапку и быстро пошел дальше.
«Однако порядочный нахал этот господин, — сказал себе оскорбленно Альфред Исаевич и включил мысленно Брауна в черный список людей, которым при случае не мешало сделать неприятность. — Слава Богу, ученых и без него, как собак нерезаных. Ему же честь предлагали…» Отсутствие Брауна в анкете действительно не могло быть потерей в газетном смысле. «Странный господин!.. Верно, не от мира сего… — Человек, отказавшийся от интервью, которое ему предлагали совершенно бесплатно, не мог быть от мира сего по представлению Альфреда Исаевича: он знал столько людей, готовых заплатить за интервью немалые деньги. — Ну и Бог с ним! Возьмем другого…» Дон Педро направился дальше по коридору, чтобы не идти вслед за Брауном и чтобы тот не подумал, будто он нарочно для него приезжал в «Палас». Навстречу Альфреду Исаевичу шел невзрачный человек в пальто с каракулевым воротником. Он быстро окинул взглядом дона Педро. Альфред Исаевич, встретившись с ним глазами, почувствовал неловкость и даже легкий испуг. Ему почему-то показалось, что это «шпик», — дон Педро видал на своем веку немало сыщиков и имел наметанный взгляд, чем иногда хвастал, разговаривая с людьми революционного образа мыслей. «Кажется, в „Паласе“ шпикам нечего делать, — подумал он озадаченно. — Хотя собственно в наше милое время…» Альфред Исаевич посмотрел подозрительно вслед невзрачно человеку и с неудовольствием ускорил шаги.
XXIV
«Алкалоид рода белладонны, — хмурясь и морща лоб, повторил вслух Яценко. Эти слова из лежавшей перед ним бумаги ничего ему не объясняли. — Все принимаем на веру… Гросс рекомендует следователям запасаться специальными познаниями для того, чтобы входить во все подробности судебно-медицинского и химического исследования. Да, конечно, против этого требования нельзя возражать, но в пятьдесят лет трудно начать изучение химии», — подумал он со вздохом.
В камере Николая Петровича было несколько специальных руководств. Он взял одно из них, заглянул в алфавитный указатель и, разыскав нужную страницу, узнал, что алкалоидами называются особые твердые или жидкие органические вещества основного характера и сложного состава, встречающиеся в некоторых видах растений. Это было понятно, но недостаточно определенно, — Николай Петрович думал, что в химии вещества классифицируются точнее. Он попробовал читать дальше, но тотчас перестал разбираться. В книге говорилось о том, что громадное большинство алкалоидов можно производить от пиридина, тогда как некоторое их число относится к жирному ряду. О белладонне Николай Петрович узнал, что заключающийся в ней атропин представляет собой тропиновый эфир альфа-фенил-бета-оксипропионовой кислоты. Яценко вздохнул, закрыл руководство по химии и опять внимательно прочел заключение эксперта, решившись всецело на него положиться.
Эксперт пришел к выводу, что смерть Фишера последовала от отравления растительным ядом, по-видимому, алкалоидом типа белладонны. Слово «по-видимому» снова задело Николая Петровича. «В таких случаях никакие „по-видимому“ недопустимы», — подумал он с неудовольствием, откладывая бумагу в папку № 16.
Папка эта уже очень распухла от документов. Почти все свидетели по делу были допрошены; их, впрочем, было не так много. Не хватало показания госпожи Фишер, которая еще не прибыла в Петербург. Ее допросу Яценко придавал большое значение.
Николай Петрович пробежал несколько других бумаг и задумался. Он был не вполне доволен ходом следствия по делу об убийстве Фишера. Настоящих улик против Загряцкого был недостаточно. Как человек чрезвычайно порядочный, Яценко нисколько не огорчался в тех случаях, когда следственные материалы складывались в пользу подозреваемого, и даже радовался, если выяснялась его невиновность. Но в этом деле у Николая Петровича после первого же допроса сложилась твердая уверенность, что Фишер был отравлен Загряцким. В недостаточности улик он видел не свою неудачу, а победу преступного начала над справедливостью.
Яценко еще раз перебрал в памяти основные положения следствия. Самоубийства быть не могло. «С чего бы в самом деле Фишер стал кончать самоубийством? — в десятый раз мысленно себя спросил Николай Петрович. — Ни болезни, ни материальных затруднений у него не было. Кроме того, что же ему мешало, если пришла такая необъяснимая мысль, отравиться дома, в „Паласе“? Женатый человек, дороживший приличиями, не поехал бы кончать с собой в подозрительную квартиру… Да и самая обстановка, выражение лица Фишера, все говорит, что о самоубийстве речи быть не может… Нет, здесь не самоубийство, здесь убийство, хорошо обдуманное убийство…»
Система доводов, устанавливающих виновность Загряцкого, уже сложилась у Николая Петровича. В этой системе многое еще могло измениться в зависимости от показаний госпожи Фишер, от очной ставки между ней и ее любовником. Кое-что с минуты на минуту должны были внести данные дактилоскопического исследования. Но общая аргументация следствия была уже намечена и с внешней стороны выходила довольно стройной. Однако Николай Петрович все яснее чувствовал в ней слабые места. Он понимал, что каждую улику в отдельности опытный защитник сумеет если не разбить, то во всяком случае сильно поколебать. «Впрочем, математической ясности никогда не бывает при запирательстве преступника, — если не считать, конечно, уличения посредством дактилоскопии…»
В дактилоскопию Николай Петрович верил, нельзя было не верить, — но верил не так твердо, как, например, в химическое исследование. Новейшая судебно-полицейская наука основывалась на дактилоскопии, — Яценко прекрасно это знал. Однако в глубине души он чуть-чуть сомневался в том, что из миллиона людей каждый имеет свой отпечаток пальца и что нет двух таких отпечатков, которые были бы совершенно сходны один с другим. «В Чикаго недавно приговорили к смерти преступника исключительно на основании дактилоскопической улики. Правда, этот приговор вызвал у многих возмущение… Что, если в Чикаго была допущена ошибка?.. В Европе нет твердо установленной практики… У нас тоже нет…» Яценко справедливо считал русский суд лучшим в мире.
Николай Петрович вынул из папки № 16 дактилограмму отпечатков, оставшихся на бутылке и на стакане в комнате, где было совершенно убийство. Он еще раз у лампы вгляделся в отпечаток, проявленный свинцовыми белилами. На листе бумаги довольно большой кружок был покрыт сложным овальным узором. Эксперт отметил номерами особенности узора: шесть вилок и четыре островка. В пояснительной записке приводились какие-то дроби со ссылкой на систему Вуцетича. Снимок с руки Загряцкого еще не был готов и выводов потому быть не могло. Николай Петрович долго вглядывался в фотографию. «Да, как будто все это убедительно… Однако — они в Чикаго как хотят, а я на основании этих вилок и островков все-таки не подведу человека под каторгу, — сказал он себе. — Жаль, что со всех нас не снимают отпечатков. Надо бы, чтобы это было обязательно и чтобы все снимки регистрировались. Тогда при любом преступлении — взглянул в каталог и сразу знаешь преступника… Но отчего же этого не вводят, если это так просто? — опять с сомнением подумал Николай Петрович. — Впрочем, здесь и без дактилоскопии дело ясно: да, конечно, Загряцкий убил… Убил, чтобы к его любовнице перешли богатства банкира…»
Николай Петрович еще лишь приблизительно разобрался в том, какое именно наследство оставил Фишер. Состояние, по наведенным справкам, было огромное, но запутанное: выразить его точной цифрой следователь пока не мог. Надо было выяснить стоимость разных акций, непонятные названия которых постоянно попадались в газетах. Названия эти знал и Николай Петрович, хоть и не следил за биржевой хроникой, — все равно как он знал имена выдающихся артистов, несмотря на то, что мало посещал театры.
Стук в дверь прервал мысли Николая Петровича.
— К Вашему Превосходительству, — сказал сторож, подавая визитную карточку.
— Попросите войти. Что, еще ничего не приносили из сыскного отделения?
— Никак нет, Ваше Превосходительство.
В комнату вошел доктор Браун. Они любезно поздоровались, как старые знакомые.
— Очень рад вас видеть, — сказал Яценко, крепко пожимая руку Брауну и пододвигая ему стул. — Вы ко мне по делу?
— Да, если позволите, — ответил, садясь, Браун.
— К вашим услугам.
— Я зашел к вам, собственно, для очистки совести. Видите ли, у меня осталось такое впечатление, что слова, сказанные мною вам о Загряцком при нашем первом знакомстве, могут быть неправильно вами истолкованы. Надеюсь, вы не поняли их в том смысле, что я считаю Загряцкого человеком, способным на убийство?..
Яценко смотрел на него с недоумением.
— Это было бы, разумеется, неверно, — продолжал Браун. — Ничто в моем знакомстве, правда, не близком и не продолжительном, с этим господином не дает мне оснований считать его способным на преступление более других людей. Ничто, — повторил он. — Вот это я и хотел довести до вашего сведения, на случай, если я тогда выразился не вполне ясно.
— Вы ошибаетесь, — сказал Николай Петрович. — Я именно так и понял тогда ваши слова.
— Очень рад. В таком случае мое сегодняшнее посещение является излишним. Но, видите ли, я в газетах прочел, что Загряцкий арестован и что улики против него тяжелые (он помолчал с полминуты, как бы вопросительно глядя на следователя). И я не хотел бы прибавлять что бы то ни было к этим уликам, хотя бы одно только впечатление.
— Разумеется, я понимаю ваши мотивы, — ответил Яценко. — Должен, однако, вам сказать, что мы не сажаем людей в тюрьму на основании впечатлений. У следствия действительно есть очень серьезные основания думать, что Загряцкий отравил Фишера… Отравил растительным ядом, природа которого уже выяснена экспертизой.
— Вот как… Уже выяснена? — повторил Браун. — Так быстро?
— Да… Не имею права входить в подробности следственного материала. Однако газеты уже сообщили, что экспертиза констатирует отравление алкалоидом типа белладонны. Не знаю, как журналисты все это узнают чуть ли не раньше меня, — добавил он, улыбаясь, — но это правда. Таково действительно заключение экспертизы: отравление растительным ядом рода белладонны.
— У вас очень хороший эксперт, — сказал с насмешкой Браун. — Вероятно, врач, правда? Врачи, как журналисты, тоже все прекрасно знают.
— Виноват?.. Я не совсем вас понимаю?
— Я несколько знаком с токсикологией и сам в этой области немало поработал. Должен сказать, это область довольно темная, и я поэтому удивлен, что ваш эксперт так быстро и точно все выяснил и установил. Сложные анализы у нас длятся часто долгие недели. Есть к тому же немало алкалоидов, совершенно сходных по действию. Повторяю, наши познания в этой области еще не очень точны… Но это не мое дело, не буду вам мешать, — сказал Браун, приподнимаясь. — Прошу меня извинить, что отнял у вас время.
— Сделайте одолжение, — любезно произнес Николай Петрович. — То, что вы говорите, весьма интересно… Мне казалось бы, однако… Войдите!
— Вам, Николай Петрович, пакет, — сказал письмоводитель, слегка кланяясь Брауну и подавая следователю большой конверт. — Из сыскного отделения только что доставили, — добавил он и слегка покраснел, подумав, что в присутствии постороннего человека лучше было бы не произносить нехорошо звучащих слов «из сыскного отделения»: он чувствовал, что это немного неприятно Николаю Петровичу.
— Благодарю вас, — сказал поспешно Яценко. — Вы меня извините, — обратился он к Брауну, распечатывая конверт ножом. Из пакета выпала фотография. Следователь бегло взглянул на Брауна. Тот сидел неподвижно.
— Вы меня извините, — повторил Николай Петрович и быстро пробежал приложенную к фотографии бумагу… «Вполне тождественным признано быть не может…» — бросилась ему в глаза фраза, отпечатанная на машинке в разрядку.
— Очень неважная погода, — сказал смущенно Брауну письмоводитель.
— Очень неважная…
— Одно слово, Петроград.
Яценко, хмурясь, читал бумагу. Эксперт докладывал, что основная форма узора, петлевая с косым направлением петель влево и с одной дельтой справа, сходна в обоих снимках. Но вилок во втором снимке было семь, островков пять, причем две вилки и один островок на снимках не вполне совпадали по положению. Вывод эксперта заключался в том, что, при несомненном и большом сходстве отпечатков, они не могут быть признаны совершенно тождественными; некоторое расхождение может, однако, объясняться и недостаточной четкостью сохранившегося на бутылке отпечатка. Николай Петрович пожал плечами.
— Распишитесь, пожалуйста, за меня в приеме пакета, — сказал он письмоводителю.
Браун поднялся.
— Еще раз прошу извинить, что вас побеспокоил.
— Нисколько не побеспокоили, но удерживать не смею… Вы еще долго пробудете в Петербурге?
— Вероятно, долго. Я завален работой.
— Да, у вас и вид утомленный. Должно быть, и наш климат нелегко переносить после Европы… Отвратительная осень, давно такой не было.
Они, уже стоя, немного поговорили о политике, о Распутине, о близком и очень занимавшем всех открытии сессии Государственной Думы.
— Я получил билет в ложу журналистов. Вероятно, пойду, — сказал Браун.
— Как жаль, что я не могу пойти. Да, у нас очень тяжелые времена. Удивительна слепота нашей власти и этих безответственных кругов. Казалось бы, ребенку ясно, что мы катимся в бездну.
— Катимся в бездну, — глухо повторил Браун.
XXV
Искры рвались за пролетом вокзала, прорезывая клубы дыма, черные у отверстий труб, понемногу светлевшие повыше. Из-под вагонов поезда с непрерывным свистом выходил белый пар и редел, обволакивая вагоны. Пахло железнодорожной гарью. По лоснящемуся черной слякотью перрону пробегали нервные пассажиры. Господин с большой коробкой в руке догонял артельщика, быстро катившего двухколесную тележку. Две дамы растерянно обнялись перед раскрытой дверью вагона второго класса. Слышались отчаянные свистки. По соседнему пути локомотив медленно надвигался задним ходом на сверкавший огнями вокзал. Человек с лопатой в руках работал на полотне, повернувшись к поезду спиною. Мальчик из окна с радостным ужасом смотрел на полотно. По крайнему перрону угрюмо, не в ногу, шли солдаты.
Федосьев, опираясь на палку, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед, к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, бросил вполголоса:
— В первом вагоне за машиной.
Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном.
— Александр Михайлович? Приятный сюрприз, — сказал удивленным тоном Федосьев, здороваясь. — Тоже в Царское?
— Нет, я в Павловск.
— Значит, до Царского вместе… Вы в этом купе? Разрешите и мне сесть здесь, благо никого нет…
— Сделайте одолжение… Я думал, вам полагается отдельное купе или даже отдельный вагон?..
— Ну, вот еще… Я никому на вокзале и не говорил, что еду… Вам все равно — спиной к локомотиву? — спросил Федосьев, кладя портфель на диван и садясь. — Так вы в Павловск?
— Да, я туда езжу по понедельникам и четвергам. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске.
— Вот ведь какая приятная встреча, — повторил Федосьев. — А я звонил в «Палас», да вас дома не было… Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Вы курите? — спросил он, вынимая портсигар. — Я без папиросы не могу прожить часа… Так как же вы к нам изволили проехать? Через Англию и Скандинавские страны?
— Да, на Ньюкестль-Берген.
— Значит, всякие видали государства, и воюющие, и нейтральные… Верно, и в Стокгольме задержались?
— Несколько дней.
— Стокгольм да еще Лозанна теперь интереснейшие города: гнезда всех агентур и контр-агентур мира.
— Я недавно побывал и в Лозанне.
— Так-с?.. Да, вы могли многое видеть… Ну, что, как там, у наших доблестных союзников?.. Заметьте, — вставил он с улыбкой, — у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные?..
— Да, у нас, кажется, не дают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции.
— Именно… А может, тут природная русская насмешливость над всякой официальной словесностью. Ведь вовсе не французы, а мы самый насмешливый в мире народ… «Над чем смеемся?..» Хоть и, правда, со стороны не совсем это понятно. Подумайте, ведь у них на западном фронте вся французская армия, вся английская, вся бельгийская, да еще разные вспомогательные войска, канадские, австралийские, индусские, алжирские, — и все это против половины германской армии. А мы одни, и против нас другая половина немцев, да три четверти австрийской армии, да еще турки… Может быть, если на дивизии считать, это и не совсем так… Хоть верно почти так и на дивизии… Но публика судит без цифр. Отсюда и пошло: «доблестные союзники», «дом паромщика», и все такое.
— Зато у союзников дела лучше, чем у нас. У них фронт крепкий.
— Да, да, конечно… Хоть и не такие уж у них блестящие дела. Да и снарядов, и аэропланов у союзников не то что у нас, как кот наплакал. У них могучая промышленность, флот, американская база, а у нас ничего…
Послышались звонки, свисток кондуктора. Поезд покачнулся, вокзал медленно поплыл назад.
— И живем однако, — сказал, устало глядя в окно, Браун.
— Дивны дела Твои, Господи, живем! Вот только долго ли проживем?..
— Вы думаете, недолго?
— Увы, не я один думаю: все мы смутно чувствуем, что дело плохо… И, заметьте, большинство очень радо: грациозно этак, на цыпочках в пропасть и спрыгнуть.
— Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти.
— Я, Александр Михайлович, не так уж типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть, — сказал Федосьев, ускоряя речь в темп ускоряющемуся ходу поезда.
— Вот как: «с позволения сказать»?
— Да, вот как… Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом еще и держимся. Кто это, Тютчев, кажется, сказал, что функция русского Бога отнюдь не синекура?.. Впрочем, что ж говорить о нашем правительстве, — сказал он, нахмурившись. — О нем нет двух мнений. А я от нашей левой общественности тем главным образом и отличаюсь, что и в нее нисколько не верю… У нас, Александр Михайлович, военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не в ладах с законом, буржуазия не верит в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания… Эх, да что говорить! — махнул рукой Федосьев. — Расползается русское государство, все мы это чувствуем…
— Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали в Петербурге. Напротив…
— Я говорю о людях умных и осведомленных… Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было. Нам все виднее, чем другим, и многое мы такое знаем, Александр Михайлович, — или хоть подозреваем, — вставил он, — о чем другие люди не имеют понятия. Те же, которые понятие имеют, те не догадываются, что мы это знаем…
Оба вздрогнули и быстро оглянулись на окно: по соседнему пути со страшной силой пронесся встречный поезд… Прошло несколько мгновений, рев и свист оборвались. Сверкнули огни, телеграфная проволока быстро поднялась и, подхваченная столбом, полетела вниз. Впереди простонал свисток.
— Да, многое мы видим и знаем, — повторил Федосьев.
— Жаль однако, что ваше ведомство не дает более наглядных доказательств своей проницательности, — сказал Браун.
Федосьев посмотрел на него и усмехнулся.
— Дадим, дадим.
— Истории оставите?
— Истории мы уже оставили.
— Это что же, если не секрет?
— Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку, года три тому назад поданную нашим человеком «в сферы», как пишут левые газеты. Вы, верно, о ней слышали: записка Петра Николаевича Дурново. Не слыхали? Об этой записке начинают говорить — и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано, решительно все, что случилось в последние годы. Предсказана война, предсказана с мельчайшею точностью конфигурация держав: с одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария, с другой Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония, — он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешавшиеся. Предсказан ход войны, его отражение у нас, тоже совершенно точно. А кончится все, по его словам, революцией и в России, и в Германии, причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистический: Государственный Дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно… Вот как, Александр Михайлович, предсказывает человек! Насчет войны сбылось… Вдруг сбудется также о революции, и будем мы вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое, как-никак, просуществовало столетья…
— Это всегда говорят в таких случаях. Довод, извините меня, не из самых сильных.
— Будто? По-моему, в политике только одно и нужно для престижа: продержаться возможно дольше… На этом пролете, Александр Михайлович, между Петербургом и Царским, два века делается история… Не скажу, конечно, чтоб она делалась очень хорошо. Но ведь еще как ее будут делать революционеры? Я, слава богу, личный состав революции знаю: есть снобы, есть мазохисты, преобладают несмысленыши.
— А то, вероятно, есть и убежденные люди?
— Да, есть, конечно, и такие. Родились, можно сказать, старыми революционерами… Немало и чистых карьеристов: революция — недурная карьера, разумеется, революция осторожная. В среднем, немного опаснее ремесло, чем, например, военная служба, зато насколько же и выгоднее: ведь повышение идет куда быстрее. Вы, например, с молодым князем Горенским не знакомы? Его все знают…
— Да, я с ним встречался.
— Значит, незачем вам доказывать, что это далеко не орел. А какую карьеру сделал! Его общественное положение: левый князь. Ведь не будь он левым, быть бы ему секретарем миссии где-нибудь в Копенгагене или корнетом в гвардейском полку. А теперь всероссийская величина!
— Тогда мне не совсем ясно, отчего вы опасаетесь революции. Что ж такой мелкоты бояться?
— Да ведь с обеих сторон мелкота! — быстро, с силой в голосе сказал Федосьев. — Мне бы, пока не поздно, дали всю власть для последней схватки, я не очень боялся бы, уж вы мне поверьте!..
Он раздраженно сунул папиросу в углубление под стеклом окна и тотчас закурил другую. Браун с любопытством на него смотрел. Синий огонек спички пожелтел и расширился, осветив бледное лицо Федосьева.
— Я, Александр Михайлович, своей среды не идеализирую, слишком хорошо ее для этого знаю. Но многое нам как будто и вправду виднее. Вы, верно, больше моего читали, — много ли вы знаете в истории таких предсказаний? Согласитесь, это странно, Александр Михайлович. Умные люди, ученые люди думали о том, куда идет мир: думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все «провидцы» попадали пальцем в небо. Один Маркс чего стоит с его предсказаньями, вы их верно помните?.. А вот не ученый человек, не мыслитель и не поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как по-писаному. Согласитесь, это странно: в мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких, один оказался зрячий: простой русский охранитель!
— Да не миф ли эта записка?
— Нет, Александр Михайлович, не миф: когда-нибудь прочтете… Я вдобавок и сам не раз то же слышал от Петра Николаевича… Знал я его недурно, если кто-либо его вообще знал… Немного он мне напоминает того таинственного, насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах… Но умница был необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имел репутацию крайнего реакционера, и заслуживал ее, быть может, больше, чем ваш покорный слуга. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?
— Недурно, в самом деле. Только тогда опять-таки я не совсем понимаю: какой же он зрячий в мире слепых? Ведь слепые именно это и говорят, — правда, не в частных беседах, а публично, — за что зрячие иногда сажают их в тюрьму… Со всем тем, не спорю, вещь удивительная. Вождь реакционеров — в душе сторонник английского конституционного строя!.. Правду говорят, что Россия страна неограниченных возможностей.
— Да, правду говорят… Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю: возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить: возможен, очень возможен. А то думаю другое: возможно ли в России восстановление крепостного права? И тоже вынужден честно ответить: отчего бы и нет, вполне возможно… Не все ли равно, какие домики строить из песка? У нас ведь все парадоксы… Мы и гибнем, если хотите, из-за парадокса… То, что сейчас политически необходимо, психологически совершенно невозможно, — мир с Германией, — сказал Федосьев поспешно, точно не желая дать собеседнику вставить слово. — А лагерь нашей интеллигенции весь живет в обмане, хуже, в самообмане, Александр Михайлович. У нас очень немногие твердо и точно знают, чего именно они хотят… Может быть, Константинополя и проливов, а может, социалистической республики? Или социалистической республики, но с Константинополем и с проливами? Каюсь, я не очень высоко ставлю нашу интеллигенцию. Могу о ней говорить правду: я сам русский интеллигент. Учился в русской гимназии, в русском университете, читал в свое время те же книги, которые все читали… Паскаля не читал, а Николая-она [33] читал… Вы смеетесь? Не верите, что читал? Даю вам слово — выписки делал.
— Вполне верю. Но ведь русская интеллигенция никогда не возбраняла читать и Паскаля. Если кто возбранял что бы то ни было читать, то никак не она.
— Это, конечно, правильно, но очередь на книги устанавливала не власть, а именно интеллигенция. Паскаль, или, например, Шопенгауэр в мое университетское время значились в третьей очереди, если вообще где-либо значились. А вот Николай-он (его теперь и по фамилии никто не помнит), или позже какой-нибудь Плеханов, тех читать было так же обязательно, как, скажем, в известном возрасте познать любовь… Мы расшибали лбы, молясь на Николая-она!
— Не сами же все-таки расшибали?.. Может быть, нам кто-нибудь расшибал?
— Да, может быть, — рассеянно повторил Федосьев, теребя меховую шапку, лежавшую у него на коленях. — Может быть… Все было бы еще сносно, если б Николай-он то хоть был настоящий. Боюсь, однако, когда-нибудь выяснится, что и Николай-он был подделкой. Боюсь, выяснится, что все, чем жила столько десятилетий русская интеллигенция, все было обманом или самообманом, что не так она любила свободу, как говорила, как, быть может, и думала, что не так она любила и народ, и что мифология ответственного министерства занимала в ее душе немногим больше места, чем, например, премьера в Художественном Театре. Люди сто лет проливали свою и чужую кровь, не любя и не уважая по-настоящему то, во имя чего это якобы делалось. Поверьте, Александр Михайлович, будет день, когда этот символический Николай-он окажется подделкой, самой замечательной подделкой нашего времени. Будем мы тогда, снявши голову, плакать по волосам… Верно и тогда преимущественно по волосам будем плакать…
— Не понимаю, сказал Браун, пожимая плечами. — Люди хотят свободы, им ее не дают, да еще возмущаются, что они любят свободу недостаточно… Извините меня, при чем тут символический Николай-он? Допустим, в одном лагере знали только Николая-она. Да ведь и в лагере противоположном не все читали Шопенгауэра, — больше Каткова и «Московские Ведомости»…
— С этим я нисколько и не спорю… У нас, говорят, страна делится: «мы» и «они». Что ж, если они знают цену нам, то и мы еще лучше знаем цену им.
— Да вы вообще узко ставите вопрос, уж если на то пошло, — сказал Браун. — Почему русский интеллигент? Сказали бы в общей форме: «человек есть животное лживое»… Толку, правда, немного от таких изречений. Да и произносить их надо непременно по-гречески или по-латыни, иначе теряется эффект… Я, кстати, очень хотел бы знать, что такое русский интеллигент? Точно главные ваши вожди к интеллигенции не принадлежат? Обычно русскую интеллигенцию делят довольно произвольно, и каждый лагерь — ваш в особенности — берет то, что ему нравится. Казалось бы, всю русскую цивилизацию создала русская интеллигенция.
Федосьев опять засмеялся.
— Петр, например? — спросил он. — Правда, типичный интеллигент? А он ведь принимал участие в создании русской цивилизации… Любил ли он ее или нет, любил ли вообще Россию, твердо ли верил в нее и в свое дело, — наш голландский император, — это другой вопрос. Говорил, по должности, разные хорошие слова, но… Я шучу, конечно, какое может быть сомнение в самоотверженном патриотизме Петра? Вам не приходилось читать его последние указы? Они удивительны… В них такая душевная тоска и неверие, чуть только не безнадежность… Подумайте, и этакий великан у нас устал! Должно быть, у Петра под конец жизни немного убавилось веры… Во все убавилось, даже в науку, которую он так трогательно любил. Ведь этот гениальный деспот был, собственно, первым человеком восемнадцатого столетия, — пожалуй, больше, чем Вольтер… А вот на европейца все-таки не очень походил. Я думаю, его любимые голландцы на этого Саардамского плотника смотрели с большой опаской… Переодеваться в чужое платье мы любили испокон веков. У нас большинство великих людей, от Грозного до Толстого, обожало духовные маскарады. Москвичей в Гарольдовом плаще в нашей истории не перечесть. Вот только мода на плащи меняется…
— Никак я не предоплагал, — сказал Браун, — что у людей власти может быть так развито чувство иронии, как у вас.
— Чувство иронии? — переспросил Федосьев. — Не скажу, что это смех сквозь слезы, уж очень было бы плоско. Что делать? И для смеха, и для слез у нас теперь достаточно оснований. Но для слез оснований много больше.
Они помолчали.
— Только в России и можно понять, что такое рок, — сказал Браун. — Вы говорите, мы гибнем. Возможно… Во всяком случае спорить не буду. Но отчего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так, в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб великий Рим… Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций. А наша — одна из величайших, одна из самых необыкновенных… На меня, после долгого отсутствия, Россия действует очень сильно. Особенно Петербург… Я хорошо знаю самые разные его круги. Многое, можно сказать, — очень многое, — а все же такой удивительной, обаятельной жизни я нигде не видел. Вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения… Я порою представляю себе Помпею в ту минуту, когда вдали, над краем кратера, показалась первая струя лавы.
— С той разницей, однако, что извержение вулкана вне человеческой воли и власти. У нас еще, пожалуй, все можно было бы спасти…
— Чем спасти? Князь Горенский, может быть, и глуп, но противопоставить ему у вас, по-видимому, нечего… Для власти всякий энтузиазм пригоден, кроме энтузиазма нигилистического. За Горенского, по крайней мере, история… Ведь вы не думаете, что все можно было бы спасти «мифологией ответственного министерства»?
— Как вам сказать? Я не отрицаю, что это один из выходов. Однако, есть еще и другой… Трудно спорить, конечно, с историей, с миром. Но мой опыт — по совести, немалый — говорит мне, что устрашением и твердостью можно добиться от людей всего, что угодно.
— Зачем же дело стало? Отчего не добились?
Федосьев развел руками.
— Какая же у нас твердость, Александр Михайлович. Да у нас и власти нет, у нас не правительство, а пустое место!
— Плохо дело, вы правы… Фридрих-Вильгельм жаловался на Лейбница: «Пустой человек, не умеет стоять на часах!» Никто не требует от наших министров, чтоб они были непременно Лейбницами. Но хоть бы на часах умели стоять!.. Впрочем, может быть, вас призовут в последнюю минуту?
— Поздно будет, — сказал Федосьев. — Да и не призовут, Александр Михайлович, — добавил он, помолчав, — вы напрасно шутите. Мое положение и то очень поколеблено, — у журналистов спросите. Не сегодня-завтра уволят…
Дверь открылась. Кондуктор спросил билеты и с поклоном поспешно вышел.
— Ну, а как же на западе, Александр Михайлович? — спросил Федосьев, взглянув на часы. — Иногда меня берет сомнение: много ли прочнее и запад? Вдруг и в Европе решительно все возможно? Вы как думаете? Я Европу плохо знаю. Ведь и там революционные партии хорошо работают?.. Вы ко всему этому не близко стояли?
— К чему?
— К работе революционных партий. Наблюдали?
Браун смотрел на него с удивлением и с насмешкой.
— Конечно, как тут ответить? — приятно улыбнувшись, сказал, после недолгого молчания, Федосьев. — Если и стояли близко, то не для того, чтобы об этом рассказывать?
— Особенно государственным людям, — с такой же улыбкой произнес Браун.
— О, я ведь говорю только о наблюдении, притом об иностранных революционных партиях: их деятельность меня мало касается… Не настаиваю, конечно… Не скрою от вас впрочем, что некоторые из ваших научных сотрудников меня интересовали и, так сказать, по делам службы… Да вот хотя бы дочь этого несчастного Фишера, о котором теперь так много пишут, она ведь у вас работала, — быстро сказал Федосьев, взглянув на Брауна, и тотчас продолжал. — Приходилось мне слышать и о вашем политическом образе мыслей, — вы из него не делаете тайны… И, признаюсь, я несколько удивлялся.
— Можно узнать, почему? Тайны я не делаю никакой. Кое-что и писал… Не знаю, видели ли вы мою книгу «Ключ»? Она была перед войной напечатана, впрочем, лишь в отрывках.
— Я отрывок читал… Правда, это работа скорее философского характера? Надеюсь, вы пишете дальше? Было бы крайне обидно, если б такое замечательное произведение осталось незаконченным… Не благодарите, я говорю совершенно искренно… Удивлен же я был потому, что хотя по должности я, кажется, не могу быть причислен к передовым людям, но с мыслями ваших статей согласен — не говорю, целиком, но, по меньшей мере, на три четверти.
— Я очень рад, — сказал, кланяясь с улыбкой, Браун. — Поистине это подтверждает ваши слова о том, что в России юристы не верят в закон, капиталисты — в право собственности, и т. д. Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения: в политической работе и в частной жизни. И ни один искренний политический деятель против этого возражать не будет…
— Вы думаете? Однако, возвращаюсь к вам. С взглядами, изложенными в ваших статьях, конечно, трудно править государством, но участвовать в революции, по-моему, еще труднее.
Впереди прозвучал свисток локомотива. На лице Федосьева скользнула досада. Поезд замедлил ход. Сквозь запотевшие стекла стали чаще мелькать огни, показались вереницы пустых вагонов.
— Вот и Царское, — сказал с сожалением Федосьев, протирая перчаткой запотевшее стекло. — Так и не удалось побеседовать с вами… До другого раза, — добавил он полувопросительно и, переждав немного, спросил: — Не сделаете ли вы мне удовольствие как-либо пообедать со мной или позавтракать?
— К вашим услугам. Спасибо.
— Вот и отлично… Вам все равно, у меня или в ресторане? Если, конечно, обед у меня не слишком повредит вашей репутации, — сказал, улыбаясь, Федосьев.
— Мне все равно.
— Очень хорошо… Я вас предуведомлю заблаговременно…
Он встал, простился с Брауном и, опираясь на палку, вышел на площадку вагона. Поезд с протяжным свистком остановился. Федосьев нетерпеливо надавил ручку тяжело поддававшейся двери. Ветер рванул сбоку, слепя глаза Федосьеву. Он, ежась, надвинул плотнее меховую шапку и осторожно сошел по мерзлым ступеням на слабо освещенный перрон. Шел снег крупными тающими хлопьями. Носильщик бежал вдоль поезда, вглядываясь в выходивших пассажиров. В окнах вокзала светились редкие огни. Где-то впереди рвались красные искры. За ними все утопало в темноте.
XXVI
— Так ты заедешь к Нещеретову? — значительным тоном спросила в передней мужа Тамара Матвеевна. — Пожалуйста, не забудь: в любой день, кроме среды на будущей неделе. Не забудь также сказать о нашем спектакле… Может быть, ему будет интересно…
— Да, да, я не забуду, — с легким нетерпением ответил Кременецкий, надевая шубу. Тамара Матвеевна оправила на нем воротник и поцеловала мужа в подбородок.
— Застегнись, ради Бога, ужасная погода. Теперь у всех в городе грипп…
— Пустяки… До свиданья, золото…
— Раздался звонок. Горничная открыла дверь и впустила людей, которые, тяжело ступая, внесли в переднюю какую-то огромную деревянную штуку.
— Это еще что? — с неудовольствием спросил Семен Исидорович, глядя на некланявшихся, угрюмых носильщиков, топтавших и пачкавших мокрыми сапогами аккуратную дорожку на бобрике передней.
— Ах, это рама, — заторопившись, сказала Тамара Матвеевна. — Это для нашего спектакля. Пройдите, пожалуйста, туда… Маша, проводите же их…
— Семен Исидорович слегка пожал плечами и направился к двери, с демонстративной досадой обходя носильщиков, как если бы они совершенно загораживали выход. Спектакль устраивался с разрешения и даже с благословения главы дома; однако Кременецкий всегда в подобных случаях принимал такой тон, точно все приготовления очень ему мешали и были вдобавок совершенно не нужны: спектакль мог отлично устроиться сам собою. Семен Исидорович следовал этому тону больше по привычке, но Тамара Матвеевна невольно ему поддавалась и чувствовала себя виноватой.
Своей быстрой походкой энергичного делового человека Кременецкий спустился по лестнице. На улице он с обычным удовольствием окинул хозяйским взглядом лошадей, кивнул жене, смотревшей на него из освещенного окна, сел в сани и сказал кучеру:
— С Богом!..
Визит к Нещеретову, которого он должен был пригласить на обед, был не совсем приятен Семену Исидоровичу. Дон Педро не ошибался: Кременецкий действительно подумывал о том, что хорошо было бы Мусе выйти замуж за Нещеретова. Семен Исидорович, однако, не подозревал, что эти его тайные планы могут быть кому бы то ни было известны. И вправду трудно было понять, откуда пошел о них слух: ничего для осуществления своей мысли Кременецкий еще не сделал, да и самая мысль была довольно смутной. Семен Исидорович в глубине души несколько ее стыдился, хотя Нещеретов во всех отношениях был блестящей партией. Разве только по годам он не совсем подходил для Муси. Ему было лет тридцать восемь, а то и все сорок. Но разница в возрасте в пятнадцать, даже в двадцать лет между мужем и женой была довольно обычным явлением, и к рано женящимся мужчинам в Петербурге относились шутливо, особенно в том обществе, в котором жил Кременецкий. Сама Муся постоянно говорила, что для нее мужчины моложе тридцати лет «вообще не существуют»: она и называла их пренебрежительно мальчишками. Семен Исидорович отлично знал, что женитьба Нещеретова на Мусе вызвала бы в их кругу взрыв зависти. Это было приятно. С особенным удовольствием Кременецкий представлял себе лицо Меннера, когда он получит французскую карточку с извещением о помолвке Муси. И все-таки Семену Исидоровичу было немного совестно.
«Человек с положением Нещеретова не может не иметь врагов и завистников, все равно как я. Это более чем естественно при его сказочном богатстве, — думал Кременецкий. — Но ничего плохого никто о нем сказать не может…»
Нещеретов вышел в большие люди лишь в последнее время, особенно со второго года войны, на которой он наживал огромные деньги. Говорили, что он зарабатывал не менее миллиона рублей в месяц, — счет его доходам велся уже не по годам, а по месяцам. Дела у него были самые разнообразные. Он изготовлял снаряды, приобретал и перепродавал нефтяные, суконные, металлургические предприятия, скупал дома целыми кварталами, имел в каком-то банке «контрольный пакет» (слова «контрольный пакет» произносились не очень осведомленными людьми с некоторым испугом, — совсем же неосведомленные не сразу могли догадаться, что это такое). Каждый день приносил новые известия о Нещеретове. Последнее из них заключалось в том, что он хочет играть политическую роль. Это, впрочем, особенного удивления в обществе не вызывало: как раз в то время чуть ли не все петербургские банкиры и промышленники почему-то стали подумывать о политической роли, — открывали политические салоны, покупали газеты, финансировали разные партии или давали взаймы деньги влиятельным людям.
— Для Нещеретова выбросить миллион-другой на газету все равно, что, например, мне, рабу Божьему, дать на общественное дело десять или двадцать тысяч рублей, — скромно, но с сознанием собственного своего немалого положения, говорил накануне в обществе по поводу этого слуха Семен Исидорович. — Я знаю из достоверного источника, что он давно перевалил за пятьдесят миллионов. Скоро его и за сто не купишь. Время деньгу дает…
Слышавший его слова старый финансовый туз немедленно изобразил на лице насмешливую улыбку: давние петербургские богачи вообще с подчеркнутой иронией относились к Нещеретову, к его делам и богатству.
— Помяните мое слово, — сказал доверительным тоном финансист, — этот блеффер кончит крахом и страшнейшим скандалом. У него пассив превышает актив и, если как следует разобраться, то ни гроша за душою.
Семен Исидорович однако ясно чувствовал, что его собеседник сам не вполне уверен в своей иронической улыбке и что за ней скрывается тревожная мысль: «Черт его знает, может, блеффер, а может, и не блеффер: вдруг и в самом деле пятьдесят миллионов?.. Теперь все возможно…» (Фразу «теперь все возможно» по самым разным поводам произносили в последнее время все). Люди, не принадлежавшие к финансовому миру, но тесно с ним соприкасавшиеся, как Кременецкий, плохо верили, что можно, не имея ни гроша, скупать десятками дома и заводы.
О Нещеретове по столице ходило много анекдотов. В прежние времена их охотно повторял и сам Семен Исидорович. Теперь это было ему неприятно и, слушая такие рассказы, он снисходительно смеялся, а затем уверенно заключал: «Разумеется, это вздор! Нещеретов культурнейший человек, европеец в полном смысле слова. Однако, se non èverо …[34]»
Нещеретов и в самом деле был европейцем. Происхождения он был довольно темного, но говорил прилично на трех языках, прекрасно одевался, брил усы и бороду, занимался боксом, фехтованием и другими видами спорта, мало принятыми в России. «Нет, плохого ничего нет. Это во всяком случае человек с большими достоинствами… — неуверенно думал Кременецкий. — Да, конечно, что такое ее приданое по сравнению с этим сказочным богатством…»
Кременецкий рассчитывал дать дочери в приданое сто тысяч рублей, а, если она выйдет еще не скоро, то и двести, — разумеется не так, просто, наличными на руки мужу, а закрепив и обеспечив за Мусей деньги. Это была немалая сумма, и доход с нее мог быть прекрасным подспорьем для молодой четы. Семен Исидорович с гордостью вспоминал, что сам он женился, ничего не имея, на девушке без состояния, — вначале им приходилось довольно туго. «Да, прекрасное подспорье, но жить на это нельзя, по крайней мере так, как Муся привыкла жить у меня», — подумал он, хотя, собственно, Муся не могла привыкнуть у него к роскошной жизни: Семен Исидорович еще не очень давно был небогатым человеком; его образ жизни лишь в последние годы стал быстро меняться в сторону все большей роскоши. Никонов острил даже, что к сорокапятилетию Тамары Матвеевны муж купил ей фамильное серебро, — эта шутка стоила бы должности Григорию Ивановичу, если б стала известна его патрону. «Для Нещеретова и сто, и двести тысяч ровно ничего не составляют. Ему, разумеется, ничего не надо было бы дать, просто смешно было бы, — сказал себе Кременецкий. Но это соображение не имело для него значения: Семен Исидорович не был скуп. — Да, бесспорно, Нещеретов замечательный человек… Он будет когда-нибудь министром и, быть может, скоро… Чем теперь черт не шутит!»
Нещеретов держался значительно более правых взглядов, чем Семен Исидорович. Однако это обстоятельство было скорее приятно Кременецкому. Он даже хотел бы, чтобы его зять делал «бюрократическую карьеру». У некоторых людей, близких по кругу и по взглядам Семену Исидоровичу, были родственники с немалым служебным и даже придворным положением, но родство с ними только увеличивало престиж этих людей.
«Разумеется, не в деньгах счастье и Муся нуждаться у меня не будет… Главное, чтобы они понравились друг другу… Но разве такой ребенок, как Муся, может знать цену людям, может разбираться в чувствах?.. И разве она понимает, как скрашивает жизнь богатство», — думал Кременецкий с легкой, чуть горькой, чуть растроганной, улыбкой человека, который не отказался от идеалов молодости, но, умудренный жизнью, научился делать к ним поправки. Хотя Семен Исидорович часто с умилением говорил о золотых днях юности и о радужной весне жизни, он был теперь гораздо самоувереннее и потому счастливее, чем в молодые годы. Искренно любя дочь, Кременецкий не мог не желать ей выйти замуж за богача. «Конечно, все это в сущности еще вилами по воде писано… Муся для него приличная партия и только. Может, он княжну ищет, — с неприязненным чувством подумал Семен Исидорович. — От обеда он, конечно, не откажется… А вдруг откажется? — мелькнула у него тревожная мысль. — Очень это досадно, что он как раз уехал в Москву, когда у нас был раут… Нет, от обеда он не может отказаться…»
Эти соображения и то, что в связи с ними требовалось делать, были неприятны Кременецкому: так все это не походило на его обычные мысли и занятия. Посоветоваться было не с кем. Тамара Матвеевна знала о планах мужа, думала о них точно такими же мыслями, как он, и умилялась, что столь замечательный человек входит в дела, вполне доступные ее собственному разуму. Она первая и навела мужа на эти мысли, сказав ему вскользь после какого-то вечера, что Муся, кажется, очень нравится Нещеретову. По-настоящему они, однако, об этих планах никогда не говорили.
Дня за два до того Кременецким во время обеда принесли от Нещеретова билеты на концерт, устраиваемый в пользу благотворительного общества, во главе которого он стоял. Тамара Матвеевна так поспешно и с таким значительным видом предложила послать двести рублей, что Семен Исидорович почувствовал некоторую неловкость. Обычно в подобных случаях они давали от десяти до пятидесяти рублей, в зависимости от того, кто присылал билеты. Кременецкий, однако, немедленно согласился с женой, быстро перевел разговор на другой предмет и после завтрака, не глядя на Тамару Матвеевну, дал ей для отсылки две сторублевых ассигнации.
Муся лишь чуть заметно улыбнулась при этом разговоре. Ей родители о замужестве вообще никогда не говорили. У них давно было решено, что, если заговорить с Мусей о том, как выдать ее замуж, то произойдет нечто страшное, — настолько далека девочка от таких мыслей. В действительности Муся немедленно догадывалась о семейных планах, но не показывала вида, что догадывается: так было удобнее и спокойнее. Она очень трезво с разных сторон обдумывала всякую намечавшуюся у родителей комбинацию. Нещеретов не нравился ей, и не был ей противен. Однако эти планы сразу показались Мусе несерьезными, и она почти не остановилась на них в воображении. Ей даже захотелось было сказать отцу, чтобы он не тратил даром времени. Но такое замечание очевидно открыло бы возможность разных ненужных и неприятных разговоров и сразу вывело бы ее из удобной роли девочки, стоящей бесконечно далеко от подобных дел. Муся ничего не сказала.
XXVII
Сани съехали на мост, стук копыт лошадей стал звучнее и отчетливее. Подуло холодом. Семен Исидорович, ежась и прижимая руки к груди, плотнее запахнул шубу и окинул взглядом сверкавшие огнями дворцы, испытывая, как всегда, привычное петербуржцам чувство гордости столицей и Невою. Кременецкий жил в большой квартире, в одной из хороших частей города, но мечтой его было поселиться на набережной в собственном доме. Лет через пять эта мечта могла осуществиться: дела Семена Исидоровича шли все лучше. Мысли Кременецкого перешли на новый предмет, на дело о смерти Фишера, которое очень его занимало. До вручения Загряцкому обвинительного акта было далеко, вопрос о защитнике еще и не ставился. Семен Исидорович достаточно часто выступал в сенсационных процессах. Но почему-то это дело чрезвычайно его увлекало. Улики против Загряцкого, известные Кременецкому из газетных сообщений, казались ему не слишком тяжелыми. При чтении газет у Семена Исидоровича невольно складывался план защиты. В последние дни он не раз подолгу возвращался мысленно к этому делу, точно Загряцкий уже пригласил его в защитники. В жизни Кременецкого, как у многих деловых и занятых людей, праздные мечтания занимали немало места.
Большая публика, постоянно встречая имя Кременецкого в газетах, относила Семена Исидоровича к верхам столичной адвокатуры. В адвокатских кругах, однако, знали, что он к настоящим верхам не принадлежит и, конечно, никогда принадлежать не будет. Наиболее заслуженные, выдающиеся адвокаты считали его красноречие несколько провинциальным по тону и относились к нему иронически. Но одно свойство его таланта, — мастерство и блеск характеристик, — признавали все второстепенные адвокаты. Семен Исидорович очень любил свою признанную особенность и порою, в застольных речах или в разговорах, скромно вскользь упоминал о своих «судебных характеристиках, к которым так незаслуженно-благосклонно относятся товарищи, равно как и некоторые наши виднейшие судьи, мнение которых мне особенно дорого». Или говорил о том, что он «обычно, — по крайней мере в лучших своих делах — исходил не столько из фактов, сколько из образов». Этих образов он собственно не выдумывал, он как-то бессознательно их заимствовал из неизвестно кем составленной сокровищницы, к которой имел доступ.
Так и при первом знакомстве с делом Загряцкого образы у Семена Исидоровича наметились сами собой и мгновенно облеклись в надлежащую словесную форму. Загряцкий был «выходец отжившего класса, человек, ушибленный жизнью, однако не лишенный благородных зачатков, слабый, безвольный, бесхарактерный тунеядец — да, если угодно, тунеядец, господа присяжные, в самом буквальном смысле этого старого, прекрасного нашего слова, человек, втуне живущий, не знающий цели жизни, чуждый ее высшим запросам, — но не убийца, нет, не убийца, кто угодно, что угодно, но не убийца, нет, — и тысячу раз нет, господа судьи, господа присяжные заседатели!..» Противоположностью Загряцкому был Фишер, «энергичный, самоуверенный, боевой делец, стрэгльфорлайфер [35] западной складки, европеизированный или, точнее, американизированный Колупаев, старый русский Колупаев в новом виде, выбритый, надушенный, отесанный, но зато и лишившийся того немногого, что было ценно, что было привлекательно в Колупаевых и Разуваевых, — их здоровья, их силы, происходящей от близости к толще народной, — да, надвигающийся на нас, грозный, интернациональный, и чуть было не сказал — космический, Колупаев, скрывающий под безукоризненным фраком, под белоснежной манишкой где-то в глубине заложенный очаг душевного гниения…» Все это предполагалось ярко развить и разработать. Загряцкий был «чичероне Фишера в вихре столичного разгула, в пьяном угаре кутежей, своего рода Вергилий при этом малопривлекательном Данте, — с горькой усмешкой говорил на суде Кременецкий, — да простит мне неподобающее сравнение тень великого поэта…»
Здесь Семен Исидорович предполагал нарисовать мрачную картину столичного притона, квартиры, в которой был найден убитым Фишер, изобразить в соответственных тонах и в допустимых пределах то, что там происходило и что, «словно в насмешку над священной колыбелью человеческой культуры, над сокровищницей светлого духа Эллады, называлось афинскими вечерами». Затем он переходил от образов к разбору улик. В этой части его речи тон должен был совершенно перемениться; он становился строго деловым и лишь порою негодующе-ироническим в тех местах, где надлежало коснуться результатов следствия. Разбирая одну за другой все улики против Загряцкого, Кременецкий отказывался заниматься вопросом, кто убил. Он только бросал самые общие намеки. Убить Фишера могла в порыве отчаяния одна из женщин, которых он лишал образа и подобия человеческого, мог убить его на почве мести, ревности, денежных расчетов или шантажа сутенер, приведенный женщинами. «Что сделало следствие в этом направлении, господа судьи? Ничего, ничего, — и трижды ничего…»
Наконец в заключение Кременецкий хотел бы осторожно, но достаточно ясно коснуться общественно-политической стороны дела об убийстве Фишера. «Эта бульварная драма могла разыграться лишь в нездоровой общественной атмосфере, которою, увы! все больше живет, все тяжелее дышит град Петра и даже вся наша многострадальная родина, господа присяжные заседатели» (Семен Исидорович имел в виду Распутинщину). Здесь явно нужен был особый ритм, мощный подъем речи. Семен Исидорович часто называл себя последователем Плевако, что чрезвычайно раздражало людей, которые Плевако знали и слышали. В разговорах о своем «учителе» Кременецкий всегда закатывал глаза и называл его по имени-отчеству «Федор Никифорович», — все равно как люди говорят просто «Лев Николаевич». Ритм конца своей речи Кременецкий намечал в духе знаменитейших речей Плевако. Особенно нравилось ему: «Выше, выше стройте стены, дабы не видно было совершающихся за стенами дел!» — именно что-либо такое следовало бы пустить и здесь. Но Семену Исидоровичу и в мечтах еще было неясно, какие тут могли бы быть стены и кому собственно надлежало их строить. Кроме того обличительное заключение речи зависело и от того, кто будет председательствовать. «Если Горностаев, то не очень разговоришься», — подумал огорченно Кременецкий.
Замечтавшийся Семен Исидорович вдруг с досадой вспомнил, что дела этого он еще не получил и, весьма возможно, не получит, — легко могла пропасть даром вся потраченная работа мысли и художественного инстинкта. Недовольно морща лоб, Кременецкий взглянул на часы. Дни Семена Исидоровича были строго распределены в записной книжке по часам, если не по минутам, и эта перегруженность делами, приводившая в отчаянье Тамару Матвеевну, составляла одну из главных радостей его жизни: летом на курортах после недели-другой отдыха он неизменно начинал скучать.
В этот день Кременецкий не выступал ни в суде, ни в сенате. Он все утро дома принимал клиентов, затем после завтрака долго работал со своим помощником Фоминым, которого он ценил больше, чем Никонова. Семен Исидорович был уверен, что помощники боготворят его, и тон Фомина в деловых разговорах поддерживал в Кременецком эту уверенность. Впрочем, Фомин действительно отдавал должное ораторскому таланту и познаниям Кременецкого, а еще больше его умению держать себя с богатыми клиентами: Семен Исидорович, часто выступая бесплатно по делам бедных людей, с богатых брал все, что можно было взять; но всегда выходило так, точно он оказывал им одолжение, принимая на себя их дела или становясь их юрисконсультом.
Закончив работу с Фоминым и по случайности располагая двумя часами свободного времени до вечернего приема, Семен Исидорович и решил сделать нужный визит. Нещеретов жил в отдаленной от центра части города, что очень огорчало многочисленных маклеров, комиссионеров и других людей, имевших с ним дела: он и свою контору поместил в особняке, в котором жил. Это было не по-европейски и не по-американски, но и в этом как бы чувствовалось могущество, сознание того, что к нему все придут куда угодно: не ему нужны люди, а он им нужен. То же ощущение большой силы Семен Исидорович испытал при виде двухэтажного дома, перед которым стояло несколько автомобилей и экипажей. «Совсем министерство, только будочников не хватает», — подумал Семен Исидорович. В доме был ярко освещен весь первый этаж, в котором помещалась контора. «Верно, он еще за работой, — сказал себе Кременецкий, входя в огромную стеклянную дверь. — Так и у Ротшильдов на банке нет никакой вывески…»
Внутри тоже было как бы министерство: в залах сложного устройства, за полированными, красного дерева, столами, работали десятки людей; другие люди в шубах и калошах, дожидаясь, сидели на скамьях вокруг мраморных колонн; трещали телефоны, стучали пишущие машинки, мальчики пробегали из одного отделения в другое. Слева из-за решетки, на которой была надпись: «Касса № 2», мимо Семена Исидоровича быстро куда-то проскользнула по длинной проволоке корзинка с бумагами. Кассир сбоку сердито выкрикнул номер, так что Семен Исидорович вздрогнул. Какая-то дама сорвалась со скамейки у колонны, взглянув на металлическую пластинку в руке, и поспешно направилась к кассе. «А тот говорит: ни гроша за душою!» — подумал благодушно Кременецкий. Он спросил у служителя в ливрее, как пройти в кабинет Аркадия Николаевича, и узнал, что Нещеретов принимает у себя наверху.
— Только ежели вам не назначено, то принять не могут, — сказал швейцар, в тоне которого также чувствовалось могущество фирмы. Седые бобры Кременецкого, видимо, не произвели на него впечатления.
В это время один из главных служащих, немного знакомый с Семеном Исидоровичем, увидев его, поспешно вышел из стеклянной камеры, любезно с ним поздоровался и, узнав, что он по личному делу к Нещеретову, посоветовал послать наверх визитную карточку.
— Вас, вероятно, Аркадий Николаевич примет, — сказал он. Мальчик взял карточку, которую не без тревоги вручил ему Кременецкий, и побежал с ней из залы. Знакомый Кременецкого, как оказалось, состоял вице-директором в одном из предприятий, помещавшихся в этом здании.
— Да, у вас настоящее министерство, — сказал, улыбаясь, Семен Исидорович.
— В нынешней атмосфере лучше работать здесь, чем в министерстве, — сказал вице-директор, пользуясь случаем для того, чтобы поговорить о политическом положении с известным адвокатом. Слегка понизив голос, он рассказал, что на днях собственными глазами видел записку Распутина, адресованную через просителя одному из министров: «Милай сделай Григорий».
— Вот как нынче дела делают! Хорошо, правда?
— Да, недурственно, — ответил, пожимая плечами, Кременецкий.
Он вспомнил ходившие по городу слухи, будто сам Нещеретов не то завязал, не то хочет завязать связи с Распутиным.
— Положительно надо удивляться слепоте этих людей, — сказал он. — Ведь дошутятся… Шутил Мартын и свалился под тын…
— Именно, — подхватил вице-директор. — Лично я вижу выход только в ответственном министерстве.
— Во всяком случае без устранения всей этой камарильи, без привлечения живых сил страны… — начал Семен Исидорович, но к ним как раз подбежал мальчик, относивший карточку.
— Пожалуйте, — сказал он.
Семен Исидорович вздохнул с облегчением: ему было бы неловко и перед вице-директором, и перед самим собой, если б Нещеретов его не принял.
— Да, как бы не свалились под тын, ушибиться можно, — сказал он и, пожав руку своему собеседнику, пошел вслед за мальчиком. Они поднялись во второй этаж по ярко освещенной лестнице, по сторонам которой стояли огромные фигуры закованных в латы рыцарей.
XXVIII
Лакей саженного роста по звонку встретил с поклоном Кременецкого наверху лестницы, проводил его в гостиную, зажег огромную хрустальную люстру и попросил гостя немного подождать. Эта большая комната была обставлена старинной мебелью. Семен Исидорович кивнул головой. Он твердо отстаивал свое право на style moderne, но знал, что старинная мебель все же считается выше, и догадывался, в какие деньги влетели Нещеретову эти ободранные кресла и диваны. В доме небогатого человека рваный шелк, засаленные обюссоны [36] показались бы Кременецкому просто рваными и засаленными; но у такого богача, как Нещеретов, не могло быть ненастоящей мебели, как не могло быть у него дешевых, т. е. дурных, картин на стенах. Семен Исидорович старательно залюбовался одной «бержерой [37]», которую без большой уверенности отнес к стилю Louis XVI. Эту «бержеру» он предполагал особенно выделить и похвалить, если б с хозяином зашел разговор о мебели. Кременецкий прошелся раза два по комнате, осмотрел все картины, под которыми можно было кое-как разобрать подпись, и затем сел в менее ободранное кресло.
Настроение у Семена Исидоровича ухудшилось. Его заставляли ждать, от чего он несколько отвык. Визит внезапно показался ему глупым, ненужным, даже несколько унизительным и для него самого, и для Муси, — Кременецкий нежно любил дочь. «Ну, догадаться он, правда, не может, — морщась, подумал Семен Исидорович. — Да и не о чем ему догадываться, какой вздор! Понравятся они с Мусей друг другу, — хорошо, а не понравятся, — слава Богу, и без Нещеретова проживем… В конце концов это все-таки разбогатевший спекулянт и только. Торгует Россией оптом и в розницу…» — сказал себе Кременецкий, думая с раздражением, что ждет не менее пяти минут (на самом деле он ждал минут десять). Дверь, наконец, открылась и на пороге появился хозяин, странно одетый не то в белый костюм, не то в белье необычного вида.
— Очень рад, прошу меня извинить, — сказал он, чрезвычайно крепко пожимая руку гостю. — Я в эти часы всегда занимаюсь гимнастикой… Пожалуйте сюда.
Они вошли в ярко освещенную комнату. Семену Исидоровичу бросились в глаза гири, шары, какие-то странные сооружения, и у одного из них дон Педро, с приятной улыбкой протягивавший Кременецкому обе руки. «Этот что здесь делает?» — с усилившимся чувством раздражения подумал Семен Исидорович. Вид дона Педро был ему неприятен, — оттого ли, что его заставили ждать ради такого незначительного человека, или потому, что Альфред Исаевич был этому свидетелем. Кременецкий сухо поздоровался с журналистом, ничего не ответив на его слова: «Вот так приятная встреча!»…
— Всегда в эти часы занимаюсь гимнастикой, — повторил Нещеретов, показывая гостю на стул и садясь в странное сооружение: это была лодочка, поставленная на рельсы, которые наклонно шли от пола почти до потолка комнаты. — Рекомендую и вам… Р-раз!… — Он налег на весла, лодочка высоко взлетела вверх по рельсам и затем плавно спустилась. Кременецкий смотрел на хозяина с изумлением.
— Два! — с удовольствием сказал Нещеретов… — И три!..
Дон Педро даже крякнул от удовольствия. Гимнастика сама по себе мало его соблазняла, но ему все нравилось в том, как живут богачи.
— Это, должно быть, очень здорово, — сказал он. — Ну, не буду вам мешать, — добавил он, вопросительно глядя на хозяина и, видимо, ожидая, что его пригласят остаться.
— Я ему интервью дал об англо-русских отношениях, — сказал с усмешкой Нещеретов. — Пусть подработает малость…
Неприятное чувство у Семена Исидоровича все росло. Ему было досадно, что дон Педро обратился за интервью к Нещеретову: богатые люди без общественно-политического ценза не должны были вторгаться в ту область, которая составляла достояние верхов интеллигенции.
— И чрезвычайно интересное интервью, — подтвердил Альфред Исаевич. — В высшей степени конкретное, с цифрами и выкладками, ввоз, вывоз… Просто удивительно, как вы все это помните… Это будет интереснейшее интервью в моей коллекции… Вместе с вашим, Семен Исидорович, — любезно добавил он.
— А, у него уже были, — сказал Нещеретов и снова взлетел на лодочке. «Однако, довольно неотесанный человек! Нет, не допущу, чтобы Муся за него вышла, — подумал Семен Исидорович, точно кто-то другой убеждал его согласиться на этот брак. — Надо оставаться в своем кругу… Он мог бы кстати и гимнастику свою отложить, и переодеться. Невоспитанный человек!»
— Так я не буду вам мешать, господа, — повторил дон Педро. Он повернулся боком, откинул назад голову и, слегка прищурившись, слабо толкнул кулаком черный резиновый шар для бокса, стоявший на гибком металлическом пруте. Шар отскочил, отскочил и Альфред Исаевич.
— Очень здорово, — подтвердил довольный дон Педро. — Ну, мне пора в редакцию. Еще раз спасибо от имени нашей газеты.
— Только одно, ничего не привирать в интервью, — сказал с усмешкой Нещеретов. — От себя что хотите, а за меня уж, пожалуйста, собственными моими словами.
Альфред Исаевич слегка засмеялся. Видимо, и его немного покоробило это замечание.
— Будьте спокойны. Точность информации принадлежит к лучшим традициям нашей газеты.
Он простился и вышел почему-то на цыпочках, плотно притворив за собой дверь.
— Хорош гусь! — сказал хозяин, выходя из лодочки и вытирая лоб полотенцем. — Они-то создают репутации… Так он и у вас был за интервью?
— Да, полчаса отнял, злодей. Но как от них отделаешься?
— Шестая держава, — подтвердил хозяин, садясь. — Вы меня, пожалуйста, извините, что так вас принимаю. Я человек привычек. Чаю не прикажете ли? Ваша супруга как изволит поживать?
— Тамара Матвеевна? Слава Богу, здорова, — ответил Семен Исидорович.
— А Марья Семеновна все хорошеет, — сказал, улыбаясь, Нещеретов. — Имел удовольствие ее видеть в театре, на «Борисе Годунове». Хорош Шаляпин, ох, хорош!
— Федор Иваныч? — небрежно вставил Семен Исидорович. — Да, другого такого днем с огнем не сыщешь, здесь в искусстве предел, его же не прейдеши. Он у нас на днях был и пел, пел, как сорок тысяч сирен. Жаль, что вас не было в Питере.
— Да, я в Москву уезжал. Оппозицию всю московскую видел, будущее наше правительство. Что ж, дай им Бог! Дело говорят люди… Не во всем, разумеется…
Чувство обиды у Семена Исидоровича понемногу прошло, особенно после того, как Нещеретов сразу и очень охотно принял приглашение на обед. Разговор стал весьма приятным. Семен Исидорович нашел случай вскользь и кстати упомянуть о близком своем знакомстве с известнейшими политическими деятелями, дав понять, как высоко они его ценят. Нещеретов, внимательно его слушавший, тоже знал этих людей. Его замечания о них показались Кременецкому неожиданными, но верными и меткими. «Очень неглупый все-таки человек, надо ему отдать справедливость», — подумал Семен Исидорович. Он заметил, что об этих деятелях, левых и правых, Нещеретов говорит не совсем так, как о большинстве своих знакомых. В тоне его звучало уважение, — быть может, относившееся к тому, что людей этих нельзя было купить при всем богатстве Нещеретова. Разговор коснулся войны, общего политического положения. Кременецкий неожиданно перешел на роль слушателя, — это с ним в обществе редко случалось. Нещеретов говорил так умно, хорошо и интересно, что Семен Исидорович просто заслушался. «Нет, право, умница, — сказал он себе. — Если его отшлифовать, как следует, будет фигура…» Кременецкий и не заметил, как в разговоре прошло полчаса. Он раза два приподнимался, чтобы уйти, но Нещеретов все просил посидеть еще, — во второй раз он мог этого не делать, и Семен Исидорович, уже вполне растаявший, оценил любезность хозяина.
— Да, тяжелые времена. Народ наш говорит: «Дай-то, Боже, чтобы все было гоже», — сказал со вздохом Кременецкий и встал в третий раз, окончательно. — Нет, мне недосуг: у меня вечерний прием… Пожалуйста, не трудитесь меня провожать, я найду дорогу. — Семен Исидорович не был уверен, что хозяин его проводил бы без этой просьбы. — Так вы не забудете про обед? В семь часов, пожалуйста.
Нещеретов, чуть прищурившись, смотрел на него с той же вновь выступившей усмешкой.
— Забыть едва ли забуду, а для верности в тот день не поленитесь, протелефоньте мне, — произнес он и внезапно что-то в его усмешке, в сказанной им фразе, в слове «протелефоньте» опять кольнуло Кременецкого. Нещеретов проводил его до лестницы, и Семен Исидорович уехал, вполне довольный визитом: собственный экипаж вдобавок всегда успокаивал его нервы. «Да, странный человек, но умница, настоящий самородок», — думал он на обратном пути.
Нещеретов оделся, вышел в свой рабочий кабинет и, усевшись за огромный письменный стол, стал внимательно просматривать приготовленные ему секретарем документы, — отчет и устав намеченного к покупке сахарного завода в одной из южных губерний. Он никогда не видал этого завода, да и не предполагал его осматривать, зная, что завод останется в его владении очень недолго. Главным источником обогащения для Нещеретова в пору войны была покупка и перепродажа разных предприятий, которым он в короткое время умел придавать двойную, а то и тройную цену. Нещеретов читал отчет, как командующий войсками в ставке читает донесения подчиненных с фронтов. Цифры, разделы отчета, слова «амортизационный капитал», «запасный капитал», «резервный фонд» (означавшие для обыкновенных людей собственно одно и то же) вполне заменяли ему ознакомление с делом на месте. При заводе было имение, лес, мельница, — все находилось явно в запущенном состоянии. Продавец, бестолковый балтийский барон, ни из чего не умел извлечь выгоду. Нещеретов предполагал в течение весны и лета выстроить при заводе рафинадное отделение, при имении спичечную фабрику и создать производство химических продуктов первой необходимости, которые из-за войны с Германией дорожали с необыкновенной быстротой. Бывшие при заводе механические мастерские можно было расширить и взять большой заказ на стаканы для шрапнелей.
Без карандаша, в уме, Нещеретов прикинул несколько цифр и пришел к выводу, что продажа этого предприятия через год даст ему не менее трех миллионов чистой прибыли, если рубль и не обесценится еще больше. Он этого обесценения не желал, хотя от падения ценности рубля выгода сделки должна была очень увеличиться: Нещеретов не предполагал вкладывать в дело собственные деньги. При своих связях он уверенно рассчитывал получить под заказ на стаканы для шрапнелей большой аванс от Военно-Артиллерийского Управления. Деньги на химическую фабрику должен был дать Военно-Промышленный Комитет. Самая же покупка сахарного завода производилась на средства банка, в котором у него был контрольный пакет. Эта покупка контрольного пакета была самым счастливым делом Нещеретова. По-настоящему он именно после нее стал магнатом делового мира. В силу финансовой механики, которую тоже не так легко было понять обыкновенным людям, Нещеретов, затратив четыре миллиона на покупку акций банка, получил возможность распоряжаться десятками миллионов для других своих предприятий.
Он читал отчет и чувствовал себя приблизительно так, как за гимнастикой во время высокого взлета лодки. Под ним в первом этаже дома полным ходом работала созданная им огромная машина. Все было ему теперь открыто и доступно, — впереди больше не было пределов: сто, двести, триста миллионов состояния, — эти цифры в его мыслях уже не имели фантастического характера: во всяком случае к ним был теперь неизмеримо ближе, чем к тому, из чего он вышел. Но не одна нажива увлекала Нещеретова. Самая работа его мощной машины доставляла ему подлинное наслаждение. Он видел, что его труды в общем итоге идут на пользу государству, и это сознание тоже что-то задевало по-настоящему в душе Нещеретова, хотя он не любил говорить о своем патриотизме. Он работал, правда, чаще всего на чужие деньги, но без него, без его размаха и таланта, деньги ничего не могли бы создать. Что бы ни утверждал тот сердитый революционер-литератор в никелированных очках, смешавший в их недавнем разговоре кокс с торфом, — именно ему, Нещеретову, много больше, чем работавшим у него инженерам и рабочим, Россия могла быть благодарной и за спички, и за химические продукты, и за рафинад, и за стаканы для шрапнелей, и за все, о чем он думал беспрестанно, у себя в рабочем кабинете, на гимнастике, за обеденным столом, даже в постели, в бессонные, тревожные ночи…
«Ну, здесь они приврали: не стоит, верно, их „реманент [38]“ таких денег», — подумал Нещеретов, улыбаясь пр чтении этого странного слова «реманент». Отчет в общем был близок к истине, и возможные неправильности, собственно, не имели значения сравнительно с выгодой дела. Окончательно решив купить завод, Нещеретов снял трубку с домашнего телефона и приказал секретарю вызвать на следующее утро главного юрисконсульта фирмы. При этом Нещеретов подумал, что, вероятно, и Кременецкий хочет получить у него должность юрисконсульта. «Поэтому так любезничает и на обеды зовет… Что ж, посмотрим…» Его правилом было: жить самому и давать жить другим, но так, чтобы другие это чувствовали, ценили и показывали, что ценят.
Нещеретов привстал, чтоб положить трубку домашнего телефона, и вдруг почувствовал колющую боль в правом боку. Он слегка побледнел, быстро положил трубку на стол и застыл, закусив губу. «Опять это раздражение?.. — тревожно спросил себя он, осторожно подавливая бок рукою и кривясь все больше. — Может, это от гимнастики? Уж не прав ли в самом деле Тихоницкий?..»
Из двух известных врачей, которые следили за его организмом, один предписал Нещеретову гимнастику в виду его перегруженности умственным трудом и сидячего образа жизни, а другой гимнастику запретил вследствие появлявшихся иногда у пациента болей не вполне ясного происхождения. Нещеретов последовал указанию первого врача, так как гимнастика ему доставляла и физическое, и душевное удовлетворение. Он посидел минуты две неподвижно. Боль прошла. Нещеретов нащупал пульс и стал считать, внимательно глядя на часы. Пульс был как будто нормальный. Для верности он посчитал еще раз. «Да, нормальный… Верно, просто мускульная боль», — с некоторым облегчением подумал Нещеретов. Он взял трубку другого телефона — городского, — и уже без помощи секретаря вызвал профессора, разрешившего ему гимнастику.
— Да, сегодня, если можно, Иван Юрьевич, — сказал он необычным для него, просительным тоном. — Благодарю вас, так я в девять буду ждать… И, пожалуйста, никому ни слова: боюсь визитов и звонков, уж это, знаете, мне участие! — пояснил он.
Почему-то (однако не из-за визитов и знаков участия) он не желал осведомлять людей о своем нездоровьи, точно подозревая, что оно доставит им удовольствие.
XXIX
«Ох, клиенты по мою душу, — подумал Семен Исидорович, подъезжая к дому, в котором он жил. Окна его приемной были ярко освещены. — Как бы Никонов не наболтал пустяков, мастер врать малый…» На вечернем деловом приеме у Кременецкого ему, по заведенному порядку, помогал Никонов. Семен Исидорович, несмотря на брюшко, довольно бойко выскочил из саней и бросил «Можно распрягать» (он старался не говорить кучеру ни ты, ни вы). Он взошел на крыльцо, поскреб о железную сетку калошами, поднялся по хорошо освещенной, крытой ковром лестнице в бельэтаж и позвонил своим звонком, — один раз довольно продолжительно, затем тотчас вторично, коротко. Тамара Матвеевна встретила его в передней, — ей всегда становилось спокойнее при этом звонке.
— Ну, что, застал? — не без волнения спросила она вполголоса. — Как он тебя принял?
— Как принял? Что за вопрос? Прекрасно, разумеется. Как же он мог меня принять? Рассыпался в любезностях.
— Он понимает, конечно, с кем имеет дело. Слава Богу, тебя все достаточно знают!.. Тут одна дама ждет, — добавила еще тише Тамара Матвеевна, показывая глазами на дверь приемной. В голосе и в глазах Тамары Матвеевны вдруг проскользнула легкая тревога, и по ней Семен Исидорович сразу понял, что дама красивая. Беспричинная, тщательно и плохо скрываемая ревность жены всегда немного забавляла Кременецкого, а с некоторого времени ему и льстила.
— Хорошенькая? — спросил Семен Исидорович, игриво подмигнув жене.
— Ничего, так себе, я издали видела. Она в трауре, плохо видно. Да, скорее красивая, — старательно-равнодушно ответила Тамара Матвеевна. — Зубы очень длинные… Так он приедет обедать?
— Кто? Ах, Нещеретов… Разумеется, приедет. В четверг на той неделе. Он был так рад… Очень вам кланялся… Она давно ждет?
— Дама? Минут десять. Никонова, конечно, еще нет. Маша ей передала, что ты будешь в шесть. Она сказала, что подождет…
— Надо будет в самом деле серьезно поговорить с Никоновым. Это становится невозможным.
Семен Исидорович прошел в свой кабинет, выровнял на полке слишком глубоко вдвинувшиеся тома «Энциклопедического словаря», бегло оглянул себя в зеркало и, подтянув брюшко, чуть выпятив грудь, открыл дверь приемной.
— Сударыня, — сказал он, кланяясь.
С дивана, стоявшего наискось, особняком, как ставится мебель на сцене, поднялась высокая дама в трауре и поспешно направилась к Кременецкому. Семен Исидорович пододвинул ей тяжелое кресло.
— Пожалуйста, садитесь… С кем имею честь?.. — спросил он, также садясь и вглядываясь в даму. Она в самом деле была хороша собой и очень элегантно одета. Даже траурная вуаль на ней, опущенная через плечо, с белой полоской у лба, была особенная. «Эффектная женщина! Уж не артистка ли?» — подумал Кременецкий. Дама на него взглянула, затем опустила глаза, видимо, преодолевая волнение.
— Я Елена Фишер, — сказала она тихо.
Что-то дрогнуло в лице и в душе Семена Исидоровича.
— Госпожа Фишер? — повторил он. — Вы не супруга ли… не вдова человека, так трагически погибшего на днях?
— Да, это я, — прошептала дама.
Семен Исидорович приподнялся в кресле и крепко пожал руку госпоже Фишер.
— Я немного знал вашего покойного мужа, — глубоким негромким голосом сказал он. — Разрешите выразить вам мое искреннее сочувствие и соболезнование…
Дама низко наклонила голову. Семен Исидорович помолчал с минуту из участия.
— Могу ли я быть вам чем-либо полезен? Поверьте, все, что в моих силах…
— Да… Я хотела просить вас… Мне посоветовали обратиться к вам. Разумеется, я и прежде о вас слышала… Мне посоветовали обратиться к вам за руководством. В этом деле… — Голос ее дрогнул. — В этом ужасном деле мне придется… Я хотела просить вас быть моим представителем… Гражданским истцом…
Что-то неясное в душе Семена Исидоровича слегка отравило переполнявшую его радость. Мысль его заработала напряженно. Но это длилось лишь мгновенье. Семен Исидорович вдруг словно повернул в себе ключ. Теперь он смотрел на даму с неподдельным участием, с жалостью, почти с нежностью. Все лучшие свойства Кременецкого тотчас в нем пробуждались, когда клиент вверял ему свою участь. В кабинете наедине с клиентом, все равно как на заседании суда, Кременецкий становился талантливым, чутким, многое понимающим человеком. В нем проявлялась и всеми признанная за Семеном Исидоровичем безукоризненная корректность, и благородство тона, отсутствовавшие у него в обыденной жизни. Его интересы всецело сливались с интересами клиента. Тщеславие отходило на второй план, а соображения денежной выгоды и всегда были для него второстепенными. Кременецкий недаром так любил свое дело и так гордился судом.
— Сударыня, — сказал он мягко… — Простите, ваше имя-отчество? Елена Федоровна… Мое — Семен Исидорович… Елена Федоровна, я могу сказать вам лишь то, что отвечаю всегда, всем, ко мне обращающимся: расскажите мне ваше дело. Только узнав его в деталях, я могу дать вам ответ.
Кременецкий говорил искренно, — он нередко отказывался от выгодных дел, а дел грязных не принимал совершенно. Однако он чувствовал, что от этого дела едва ли откажется.
— Я поняла вас, Семен Сидорович, — ответила госпожа Фишер значительным тоном, точно он сказал нечто весьма загадочное. — Но я право не знаю, как начать, как все передать… Извините меня, ради Бога… Вы поймете мое волненье, это несчастье свалилось на меня так неожиданно…
— Несчастья всегда неожиданны, Елена Федоровна, — со вздохом, как выстраданную мысль, произнес Кременецкий первое, что пришло ему в голову. — Тогда не разрешите ли вы мне предлагать вам вопросы? Может быть, так вам будет легче…
— Да, пожалуйста, — поспешно сказала госпожа Фишер.
— Вы давно замужем?
— Восемь лет… С 1908 года.
— Заранее прошу извинить, если я коснусь тяжелых сторон жизни и воспоминаний. Но это необходимо… Вы были счастливы в супружеской жизни?
Елена Федоровна помолчала.
— Счастлива? Нет… Нет, я не была счастлива. Мой несчастный муж был гораздо старше меня. Он вел вдобавок такой образ жизни… Это вы, впрочем, знаете.
— Его образ жизни вызывал протесты с вашей стороны?
— Вначале да, потом я махнула рукой. Любви между нами все равно больше не было.
— Так, я понимаю. А прежде была любовь?
— Была… С его стороны, — сказала, вспыхнув, Елена Федоровна, и ее смущенье еще больше тронуло Кременецкого.
— Детей у вас не было?
Госпожа Фишер взглянула на него с удивлением.
— Нет, не было, — ответила она.
— Я понимаю, — повторил Семен Исидорович и тотчас с неудовольствием подумал, что здесь эти слова, собственно, были не совсем уместны. — Теперь разрешите спросить вас, — продолжал он, показывая интонацией, что переходит к самому больному вопросу. — Вы давно знаете того человека, который арестован по подозрению в убийстве вашего мужа? Этого Загряцкого?
— Да, давно, два года, — резко сказала дама.
Семен Исидорович замолчал, поглаживая большой нож из слоновой кости. Он слегка волновался, несмотря на многолетнюю привычку к разговорам на самые мрачные темы. По долгому опыту он знал, что вопросы в подобных случаях надо ставить осторожно. Для общей картины дела характер отношений между госпожой Фишер и Загряцким имел, конечно, огромное значение. Но Кременецкий был адвокатом, а не судьей и не следователем, и часто говорил, что, кроме интересов правосудия, для него существуют еще интересы клиента. Полная откровенность обвиняемого не всегда ему была выгодна, а защитника порою ставила в тяжелое положение. Поэтому Семен Исидорович, в разговорах с подзащитными, неизменно начиная с предложения рассказать все, старался не доводить их до полного сознания, если только по обстоятельствам дела не считал сознание на суде наиболее выгодным для своего клиента. Здесь, впрочем, он имел дело не с обвиняемым, а с потерпевшим. Но и в этом случае очень многое зависело от признаний госпожи Фишер. Быстро соображая обстоятельства дела, Кременецкий решил предоставить инициативу клиентке. Он ждал не менее минуты, внимательно глядя на Елену Федоровну. Она, однако, молчала, не сводя глаз с босого Толстого.
— Когда вы видели Загряцкого в последний раз?
— Мы в июне с ним вместе уехали из Петербурга в Ялту.
— Так, так, — произнес Кременецкий, точно находя это сообщение совершенно естественным. Он постучал о бювар головой Наполеона, составлявшей ручку ножа. — Разрешите прямо вас спросить: считаете ли вы Загряцкого виновником смерти вашего мужа?
— Этого я не знаю. Но считаю его низким, на все способным человеком, — с энергией в голосе сказала госпожа Фишер.
— На чем же основано такое ваше мнение?
— На знакомстве с Вячеславом Фадеевичем.
— Вячеслав Фадеевич это Загряцкий? Так… Но есть ли у вас какие-либо сведения или хотя бы предположения, которыми еще не располагает следствие?
— Об этом я сегодня уже все сказала…
— Кому?
— Следователю, господину Яценко.
— Ах, так вы уже были у следователя? Тогда, пожалуйста, изложите мне содержание вашей беседы с ним. О чем он вас расспрашивал?
— О моих отношениях с Вячеславом Фадеевичем. Я сказала ему, что он ошибается, как ошибались еще раньше многие другие… Тяжело, Семен Сидорович, говорить обо всем этом… — Она приложила к глазам платок. — Я совершенно измучена.
— Ради Бога, успокойтесь, Елена Федоровна. Если вам слишком тяжело, мы можем отложить наш разговор…
— Нет, ничего… Следователь ошибается… Загряцкий ухаживал за мною, как ухаживали многие… Я себя не обеляю и не оправдываю, Семен Сидорович. Но этот мосье Яценко ошибается. Вячеслав Фадеевич провожал меня в Ялту с согласия моего мужа, даже по его просьбе.
— Так, так, я понимаю… Когда же вы с ним расстались?
— Мы поссорились с ним… Я потом все вам расскажу… Я поймала его на том, что он читал мои письма. Разумеется, я вспылила, и мы расстались. Он вернулся в Петроград еще в июле.
— И с тех пор вы его не видали?
— Нет.
— Значит, с тех пор у вас с ним были дурные отношения?
— Да, дурные… Никаких отношений. Я больше не хотела его знать.
Кременецкий смотрел на нее удивленно.
— В таком случае позвольте… — начал он и остановился, не зная, как поставить вопрос. Неудобно было спросить: «В таком случае зачем же ему было убивать вашего мужа?» Семен Исидорович знал и по газетам и по ходившим рассказам, что целью убийства считается желание Загряцкого завладеть богатством, которое должно было достаться его любовнице. Он положил нож на бювар и откинулся на спинку кресла.
— Еще раз извините мою настойчивость, Елена Федоровна, но я не вполне понимаю… Думаете ли вы, что у Загряцкого были основания желать смерти вашего мужа?
— Вы мне задаете те же вопросы, что следователь, — с некоторым неудовольствием в тоне сказала госпожа Фишер. — Основания? Может, и были. Даже наверное были.
— Какие же именно?
— Этого я, конечно, не знаю.
Семен Исидорович только вздохнул: он привык к бестолковости клиенток.
XXX
— …Состояние вашего мужа теперь перешло к вам?
— Я наде… Я предполагаю, — тотчас поправилась Елена Федоровна. — У моего мужа есть дочь от первого брака, но она не может наследовать…
— Почему?
— Дочь моего мужа крайняя социалистка и живет за границей. Революционерка, — значительным тоном пояснила госпожа Фишер.
— Она лишена прав состояния?
— Не знаю, лишена ли… Но она неблагонадежная, эмигрантка и, значит, ничего не получит.
— Ну, это еще ничего не значит, — сказал, слегка улыбнувшись, Кременецкий. Последние ответы госпожи Фишер чуть-чуть изменили его тон.
— Мой муж от нее совершенно отказался в последнее время. Она живет в Париже, участвует в каких-то кружках и занимается, кажется, химией у одного русского, у профессора Брауна.
— Вот как, у Александра Михайловича? Он теперь здесь. Мы с ним приятели… Ведь завещания ваш муж, кажется, не оставил?
— Следователь мне сказал, что не оставил, но этого не может быть. Муж всегда говорил, что все останется мне. Наверное, где-нибудь есть завещание, надо только поискать хорошенько. Я так и сказала следователю. Но он такой тяжелый человек, этот мосье Яценко. Если б вы знали, как он меня измучил своими вопросами.
Она говорила о следствии, как о деле, имевшем целью ее потревожить и расстроить.
— Во всяком случае, будет ли найдено завещание или нет, я не вижу, какую выгоду мог извлечь Загряцкий из убийства вашего мужа?
Дама молчала. Кременецкий смотрел на нее вопросительно.
— Вы изволили сказать, — терпеливо начал он снова, — что считаете его способным на убийство и что у него могли быть для убийства основания. Я вынужден к этому возвратиться. Какие именно мотивы могли быть у Загряцкого? Быть может, мотивы не материального характера? Ненависть, например, или, предположим, ревность?
— Да, может быть, и ревность, — ответила быстро госпожа Фишер.
— Он читал ваши письма к мужу?
— Да… И рылся в моем чемодане… Вообще я убедилась в том, что это человек недостойный.
— Понимаю. Но есть ли у вас какие-либо соображения, которые можно было бы привести в доказательство того, что он убил вашего мужа?
— Доказательств у меня нет, я так и сказала следователю. Но разные косвенные доказательства могут быть, — ответила дама, видимо с удовольствием употребляя слово «косвенные».
— Ах, этого мало, Елена Федоровна, — сказал с сожалением Семен Исидорович. — О косвенных уликах существует классический афоризм нашего великого адвоката Спасовича: «сколько бы беленьких барашков вы ни привели, из них одной белой лошади не сделаете». Впрочем, и косвенные доказательства могут, конечно, иметь большое значение. Не будете ли вы добры изложить мне ваши соображения?
— Ради Бога, не теперь, — сказала Елена Федоровна. — Если б вы знали, как меня измучил этот следователь. Все это на меня обрушилось так ужасно… Я предполагала вернуться в Петроград в самый разгар сезона. То есть, сезон мне, конечно, не нужен, вы сами понимаете. Но это такой неожиданный удар. Теперь это следствие… Эта камера…
Она опять поднесла платок к глазам и на этот раз заплакала по-настоящему. Семен Исидорович расстроенно на нее смотрел. Образ клиентки выходил менее привлекательным, чем хотелось бы Кременецкому; однако она вызывала в нем искреннее участие. «Птичка Божия», — подумал он, и сразу на это определение у него стали нанизываться мысли, слова, ораторские фигуры.
Тут только Семен Исидорович ясно понял, что именно было ему неприятно в предложении госпожи Фишер. Неприятна была теперь та работа мысли, которую он проделал, представляя себя защитником Загряцкого. Образы, очевидно, были намечены неправильно. «До ознакомления с делом во всей полноте я, конечно, ни к чему не мог прийти, да и теперь еще далеко не пришел», — тотчас успокоил себя Семен Исидорович. К тому же решительно никто не мог знать о работе его воображения, — мало ли что, не выливаясь наружу, проходит в мыслях самого порядочного человека. Семен Исидорович вообще предпочитал выступать защитником, чем гражданским истцом. Но он чувствовал, что в этом деле и в роли гражданского истца сумеет показать чудеса. Интересы его клиентки, ее судьба и репутация были в надежных руках. «Настало время для Вячеслава Загряцкого дать отчет Богу и людям в темных его делах и делишках», — вдруг откуда-то выскочила фраза в уме Семена Исидоровича. И одновременно перед ним мелькнуло лицо Меннера, — который, конечно, дорого дал бы, чтобы получить это дело. «Разве Загряцкий пригласит его в защитники?.. Нет, вряд ли… Верно Якубовичу достанется. Будет борьба титанов», — подумал удовлетворенно Кременецкий.
— Пожалейте себя, успокойтесь, Елена Федоровна, — сказал он, перегибаясь через угол стола и прикасаясь к руке госпожи Фишер. — Вам тяжело, и это так естественно. Отложим наш разговор на завтра. Я тем временем наведу в частном порядке кое-какие справки.
— Так я могу на вас рассчитывать, Семен Сидорович, — сказала дама почти спокойным голосом, отнимая платок от глаз и, видимо, изъявляя согласие пожалеть себя.
— Я дам вам окончательный ответ после ознакомления с делом во всех подробностях. Но в принципе, по тому, что я вижу, я рад принять на себя защиту ваших интересов. Я полагаю, что денег вы с Загряцкого не ищете?
— Нет, нет, ради Бога, никаких денег, — с жаром сказала Елена Федоровна. — Мне от него ничего не нужно… Да у него ничего нет. Я хочу только выяснения истины.
— Я именно так вас и понял. В таком случае мы заявим иск в какой-нибудь ничтожной сумме. Ваши права истицы совершенно бесспорны: наш закон не дает прямого определения понятия об убытках при взыскании гражданского иска, однако он отнюдь не имеет в виду только имущественный ущерб… Вы пока вызваны на следствие в качестве свидетельницы, нужно будет указать, что вы намерены заявить иск. Следователь просил вас, вероятно, явиться к нему еще раз?
— Да, это так ужасно. Он сказал, что устроит мне очную ставку. Можно подумать, что он и меня подозревает!.. Не могу сказать, как это тяжело.
— Надо взять себя в руки, Елена Федоровна. Вы можете быть, впрочем, вполне спокойны: Николай Петрович Яценко немного формалист, как они все, но это честнейший, благороднейший человек, и традиции нашего суда стоят очень высоко. Огорчения могут быть причинены вам желтой печатью. Что ж делать, ваша частная жизнь стала на время достоянием улицы. Но это надо в себе преодолеть, вы выше этого, Елена Федоровна.
Госпожа Фишер на него взглянула с благодарностью.
— Я вам верю, — прошептала она.
— Да, верьте, — ответил проникновенно Кременецкий.
«Настало время для Вячеслава Загряцкого…» — снова победно пропела фраза в душе Семена Исидоровича.
В канцелярии Никонов с отвращением писал какую-то бумагу. Он всю ночь напролет играл в карты, сначала в винт, потом, с рассвета, в покер, проиграл восемьдесят рублей — почти все, что у него было, выкурил полсотни папирос и выпил стаканов пять крепкого чаю, чуть ли не пополам с коньяком. Днем он спал и оделся лишь в шестом часу. У него болела голова, во рту было нехорошо. Дело, которое он делал, как и жизнь вообще, представлялось ему совершенно ничтожным, скучным и нелепым. Григорий Иванович опоздал к приему, ждал неприятного разговора с Кременецким и чувствовал себя школьником-мальчишкой.
«Лучше всего было бы сегодня же сказать Семе, что, к большому сожалению, вынужден отказаться от должности его помощника, — думал он, как всегда успокаивая самого себя искусственно-шутливым тоном мысли. — „Григорий Иванович, вы меня не так поняли, я очень сожалею…“ — „Я тоже сожалею, Семен Исидорович, но это неизбежно и я ухожу вовсе не вследствие нашего разговора, а просто, эта работа не по мне“. Тут хорошо было бы сказать, что мне предлагают должность редактора „Вопросов философии и психологии“, или консультанта в Художественном Театре, или что-нибудь еще в таком роде. Да ничего подлецы не предлагают и деться будет некуда, если от Семы уйти… Что это Тамарочка места себе не находит, все по коридору шлепает?.. Да, надо было бы переменить жизнь. По утрам работать, читать, например, диалоги Платона, — греческий язык можно восстановить в памяти. Хотя все забыл, ни черта не помню. Шляпа был наш Дивишек, бапто эбафен [39]. Надо бы подучиться и французскому языку, а то перед Мусей неловко. Фомин нарочно всегда с ней заговаривает по-французски, зная, что я не умею. Взять вечером, вместо карт, какого-нибудь Стендаля и читать со словарем, — в два месяца очень насобачишься… И брюки тоже надо чаще утюжить… Ногти опять заросли, этот особенно… Та полненькая маникюрша была, право, мила. С ней бы поехать куда-нибудь в Италию или на Кавказ, лучше было бы, чем писать эту идиотскую справку для очередного шедевра Семы… Эх, тот том сенатских решений остался у него в кабинете, без него ничего путного все равно не напишу… Собственно, Сема прав, нельзя систематически опаздывать и его подводить. Человек он не плохой, но как он, право, может жить по часам, скука какая! Ведь одним тщеславием живет, чудак, ему и деньги уже девать некуда… — Состояние Кременецкого казалось пределом богатства Григорию Ивановичу: для него и сотни, и даже десятки тысяч были собственно астрономическими числами. — Восьмидесяти рублей жаль, — все тот проклятый Флеш-ройяль подвел. Но счастливее от восьмидесяти рублей я не стал бы. Все равно когда-нибудь помру. Сам Сема и тот помрет со всеми своими деньгами. Некрологи какие шикарные будут в газетах, не то что по мне, грешном. Один Альфред Исаевич в память о ликерах что накатает! Жить бы да жить после таких некрологов, а вот Сема, бедный, и не прочтет. Зато Тамарочка будет над ними заливаться слезами… Вот она опять, неприкаянная… Да, в кармане пустовато, но во вторник можно будет сорвать с Сергеева. Перебьюсь как-нибудь… Самое главное, конечно, связать себя с каким-нибудь большим идейным делом… Надо, наконец, выяснить, могу ли я жить, писать эту справку и играть в покер без ответственного министерства?.. Ответственного перед народом и перед Семой… Как это в самом деле Сема еще не в Думе?.. К эсэрам разве примкнуть? Нет, все помощники присяжных поверенных примыкают к эсэрам. Пусть к ним примыкает Фомин. Он, впрочем, не примкнет, потому дворянство не позволяет, да и сто вторая статья опять же… А, вот и Сема. Ишь ты, какая эффектная клиентка… Кто бы это?»
Семен Исидорович, провожая госпожу Фишер, только бросил недовольный взгляд на своего помощника. Задержавшаяся в дверях Тамара Матвеевна не успела скрыться. Вопреки своему обычаю, Кременецкий познакомил клиентку с женой. Елена Федоровна гордо кивнула головой, — обе дамы, видимо, не знали, что сказать друг другу. Тамара Матвеевна не сразу сообразила, кто эта клиентка и как важен ее визит.
— Разрешите вам представить и одного из моих помощников. Григорий Иванович Никонов… Елена Федоровна Фишер… Позвольте вам помочь, Елена Федоровна… Извозчики стоят справа за углом, всегда найдете.
— Меня ждет автомобиль. Благодарю вас… Так до завтра…
«Елена Фишер! Матушки! — подумал Никонов. — Ай да Сема! Что я говорил?.. Ну, теперь и без Сергеева обойдемся. Дурак я буду, если с Семы сегодня не получу вперед за январь. За декабрь, кажется, все взял? Да, конечно, взял, все сто двадцать пять», — припомнил печально Григорий Иванович.
XXXI
Будильник прозвонил, как ему полагалось, в три четверти восьмого. Это было точно рассчитано на основании многолетнего опыта: если после звонка пролежать в постели еще пять минут, — но ни одной минутой более, — и затем достаточно быстро проделать все, что требовалось, то можно было, не прибегая к извозчику, попасть в училище без опоздания: уроки на старших семестрах начинались без пяти девять.
Витя растерянно оторвал голову от подушки, вытаращил глаза, повернул спросонья выключатель и, мигая с болезненной гримасой, уставился на будильник. Вытянутый треугольник длинной стрелки уже выходил из черного пятнышка над цифрой IX. Хотя Витя еще ничего ясно не понимал, положение стрелки вызывало в его сознании нечто печально-привычное: три четверти восьмого. Он злобно надавил пружинку. Отвратительный треск прекратился. Витя опустил снова голову на подушку, закрыл глаза и, морщась, рукавом заслонил их от матовой лампочки, насмешливо светившей всеми своими шестнадцатью свечами. Две жизни еще боролись в его мозгу. Но на смену той, уже непонятной, быстро и неумолимо приходила другая, в которой все было ясно и отвратительно: и будильник, — его тикание вдруг стало слышным, — и ночной столик, и стул с платьем у стены под утыканной флажками большой географической картой. Всего отвратительнее был, конечно, сложенный листок бумаги на ночном столике. Этот листок был в обеих жизнях, но в той что-то как-то его скрашивало, — как именно скрашивало, Витя уже с трудом мог вспомнить. Еще несколько мгновений назад все там было ясно и логично. Теперь немногое, что еще вспоминалось, поражало нелепостью: Муся Кременецкая не могла иметь никакого отношения к письменному по тригонометрии, Анатэма еще менее. «Ах, да, Анатэма», — радостно вспомнил Витя и улыбнулся. Он отвел руку, зевнул и широко раскрыл глаза, вызывающе взглянув на матовую лампочку.
Сомнений быть не могло. Желтый томик Леонида Андреева, лежавший на коврике у постели, был такой же действительностью, как листок с тригонометрическими формулами. Жизнь была сложна, и неприятности вроде письменного, к счастью, не сплошь ее заполняли. «Ну, мы еще поборемся!» — решительно сказал себе Витя. Он даже подумал было, не пожертвовать ли борьбе остающимися тремя минутами. Но это было все-таки слишком обидно. Будильник неприятно тикал. Кончик стрелки, упорно ползший к цифре Х, только переползал на средину третьей черточки. Витя повернул голову к окну. Там, над порванной кистью, где немного отставали шторы, было совершенно черно. «Холод, верно, отчаянный, — содрогаясь, подумал Витя. В его комнате, по гигиеническим соображениям родителей, по утрам тоже было холодно, градусов десять. — Да надо еще многое обдумать… Значит, решено: удрать после пятого урока… Затем в библиотеку, оттуда к Альберу… Это очень кстати, что Маруся заболела… Денег достаточно… В ресторан, пожалуй, в голландке не пустят, значит, надеть пиджак… Ну, да, конечно, могут скалить зубы, сколько им угодно». В классе всех, менявших «голландку» на платье взрослых, обычно встречали овацией. Стрелка надвинулась на пятнышко цифры Х, — Витя откинул одеяло и, дрожа от холода, стал одеваться. Теперь самое неприятное было позади.
Умывшись, одевшись, проделав гимнастические упражнения, нужные для развития мускулов и силы воли, Витя на цыпочках прошел в полутемную столовую. Горничная подтвердила, что кухарка больна и что настоящего обеда, верно, не будет, — барыня велели купить ветчины и яиц. Витя поручил горничной сказать, что он плотно закусит в училище и чтоб его к обеду не ждали. Затем он вошел в свою комнату, развернул лежавший на ночном столике листок и, закрыв рукой правую сторону, принялся себя проверять. На тангенсе 2А он сбился и пришлось заглянуть в правую сторону листка. «Да, конечно, два тангенс А, деленное на единицу минус тангенс квадрат А… Теперь буду помнить», — бодро утешил себя Витя. Он тщательно сложил листок в крошечный квадратик, потянулся рукой к тому месту, где был карман на голландке, и не без гордости вспомнил, что на нем пиджак. Витя спрятал листок в жилетный карман. Впрочем, он предполагал этим листком воспользоваться только в самом крайнем случае, так как, вопреки школьным традициям, считал это не вполне честным. «Разве уж если затмение найдет, как тогда перед третьей четвертью…»
Он сложил книги и тетради в портфель (в Тенишевском училище ранцев не полагалось, что составляло предмет зависти гимназистов), сосчитал деньги в кошельке, — было три рубля девяносто копеек, — и вышел в переднюю. В кабинете Николая Петровича из-под двери уже светился огонь. «Много работает папа, все больше в последнее время, — огорченно подумал Витя. — Верно, дело Фишера» (дело это очень занимало и тревожило мысли Вити). Перед уходом Витя заглянул в почтовый ящик, — нет ли для него писем? (хоть получал он письма раза два в год). В ящике ничего не оказалось, кроме «Речи» и «Русских Ведомостей». Витя хотел было пробежать официальное сообщение, но махнул рукою: времени больше не оставалось, да и официальные сообщения теперь были все неинтересные. Он и флажков давно не переставлял на карте, — в первые месяцы войны делал это с необычайным интересом и знал фронты не хуже главнокомандующего.
У Вити в самом деле был занятой день. Накануне ему позвонила по телефону Муся и просила его прийти к ним вечером на совещание о любительском спектакле. Наталья Михайловна поворчала: что ж это, ходит в гости каждый день, когда же уроки готовить? — но, благодаря протекции Николая Петровича, Витю отпустили.
Пришел он к Кременецким именно так, как следовало, с небольшим, тонко рассчитанным опозданием, чтобы не быть — избави Боже! — первым. Муся вышла к нему навстречу и крепко, с очевидной радостью, пожала ему руку.
— Я очень, очень рада, что вы согласились играть, — сказала она, медленно вскинув на него глаза, как делают в «первом плане» кинематографические артистки. Витя так и вспыхнул от счастья и от гордости. На Мусе было зеленое, расшитое золотом, закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами, — его заметили все гости, а Глафира Генриховна была им, видимо, потрясена. Это в самом деле было в осенний сезон ударным платьем Муси: портниха Кременецких скопировала последнюю модель Ворта, еще никому неизвестную в Петербурге.
Совещание происходило в будуаре. Гостей собралось немного. Преобладала молодежь. Был, однако, и князь Горенский, принятый молодежью, как свой. В плотном, красивом, очень хорошо одетом человеке, сидевшем на диване под портретом Генриха Гейне, Витя с радостным волнением узнал известного актера Березина, которого он знал по сцене и по газетам, но вблизи видел впервые. Этим знакомством можно было похвастать: Березин, несмотря на молодые годы, считался одним из лучших передовых артистов Петербурга.
— Сергея Сергеевича вы, конечно, знаете? Сергей Сергеевич согласился руководить нашим спектаклем, — сообщила Вите Муся.
— Ах, я ваш поклонник, как все, — сказал комплимент Витя. Он потом долго с удовольствием вспоминал это свое замечание. Березин снисходительно улыбнулся, склонив голову набок. Признанный молодежью актер был со всеми ласков, точно заранее благодаря за восхищение, которое он должен был вызывать у людей, в особенности у дам.
Вслед за Витей в будуар вошел медленными шагами, с высоко поднятой головою, со страдальческим выражением на лице, поэт Беневоленский, автор «Голубого фарфора».
— Ну, теперь, кажется, все в сборе, — сказала, здороваясь с ним, Муся. — Мы как раз были заняты выбором пьесы. Платон Михайлович Фомин предлагает «Флорентийскую трагедию» Уайльда. Но Сергей Сергеевич находит, что она нам будет не по силам. Я тоже так думаю.
— Трудно нам будет, — подтвердил, качая головой, Березин.
— Не трудно, а просто невозможно.
— Alors, je n'insiste pas …[40] Со мной как с воском, — сказал Фомин.
— А что бы вы сказали, господа, об «Анатоле» Шницлера? — осведомился князь Горенский.
— Играть немецкую пьесу? Ни за что!
— Ни под каким видом!
— Господа, стыдно! — возмущенно воскликнул князь. — Тогда ставьте «Позор Германии»!
— Давайте, сударики, сыграем с Божьей помощью «Медведя» или «Предложение», — сказал Никонов своим обычным задорным тоном горячего юноши. Фомин пожал плечами.
— Лучше «Хирургию», — язвительно произнес поэт, видимо страдавший от всех тех пошлостей, которые ему приходилось слушать в обществе.
— Мы не в Чухломе.
— Вы бы в самом деле еще предложили «Меблированные комнаты Королева», — набросилась на Никонова Муся.
— И расчудесное дело!..
— Перестаньте дурачиться… Господа, я предлагаю «Белый ужин»…
— Rostand? — спросил Фомин. — Хорошая мысль. Но тогда, разумеется, по-французски?
— Разумеется, по-русски, что за вздор!
— Есть прекрасный перевод в стихах.
— Стихи Ростана! — тихо простонал Беневоленский.
— Конечно, по-русски.
— По-русски, так по-русски, со мной как с воском…
— Я нахожу, что Ростан…
Березин постучал стальным портсигаром по столу.
— Господа, — произнес он с ласковой улыбкой, — на некоем сборище милых дам председательница, открывая заседание, сказала «Mesdames, времени у нас мало, а потому прошу всех говорить сразу». — Он переждал минуту, пока смеялись слушатели, тихо посмеялся сам и продолжал: — Так вот, чтобы не уподобиться оной председательнице и оному собранию, рекомендую ввести некий порядок и говорить поочередно.
— Я присоединяюсь…
— Я предлагаю избрать председателя, — сказала Глафира Генриховна.
— Сергея Сергеевича… Сергей Сергеича…
— Ну, разумеется.
— Сергей Сергеевич, берите бразды правления.
— Слушаю-с: беру…
— Прошу слова по личному вопросу, — сказал князь Горенский. — Господа, если вы выберете пьесу в стихах, честно говорю заранее: я пас. Воля ваша, я зубрить стихи не намерен.
— Ну, вот еще!
— Князь, вы прозаик, — пошутил Фомин.
— Никакие личные отказы не принимаются, — заявила Муся. — Сергей Сергеевич, предложите всем высказаться о «Белом ужине»… Виктор Николаевич, вы самый младший… Ведь в Думе всегда начинают с младших, правда, князь?
— То есть, ничего похожего!
— Я предлагаю предварительно выработать наш наказ, — воскликнул Никонов.
— И сдать его в комиссию для обсуждения.
— Господа, без шуток, ваше остроумие и так всем известно… Я начинаю с младших. Виктор Николаевич, вы за или против «Белого ужина»?
— Я не знаю этой пьесы, — сказал, вспыхнув, Витя и счел себя погибшим человеком.
Березин опять постучал по столу.
— Господа, я с сожалением констатирую, что Марья Семеновна узурпирует мои функции.
— Это возмутительно!
— Призвать ее к порядку!
— Ах, ради Бога! Я умолкаю…
— Молодой человек прав, — продолжал Березин. — Никто не обязан помнить «Белый ужин». Насколько я помню, пьеса вполне подходящая. У нас, вдобавок, есть чудесная Коломбина, — сказал он, комически-торжественно кланяясь Мусе. — Но ведь «Белый ужин» вещица очень короткая?
— Помнится, два акта, — сказала Глаша.
— Даже один, если вам все равно, — поправил Фомин.
— Этого, разумеется, мало. Какие есть еще предложения?.. Нет предложений? Тогда я даю слово самому себе… Господа, я буду говорить без шуток. — Лицо его внезапно стало серьезным, Муся тоже сразу приняла серьезный вид. — Господа, это очень хорошо поставить милый, изящный французский пустячок, но ограничиться ли нам этим? Я знаю, у нас любительский спектакль, пусть! Однако всякий спектакль, не осиянный подлинным искусством, это — вы извините меня, господа, — балаган! Пусть мы неопытные актеры, все же я прямо скажу: для меня в служении искусству нет разницы между любительским спектаклем и большой сценой!..
— Браво! Браво!
— Я предлагаю поэтому, господа, в дополнение к «Белому ужину», взять что-либо свое, настоящее, полноценное! — с силой сказал Сергей Сергеевич.
— «Балаганчик»? — озабоченно спросила Муся.
— Да, хотя бы «Балаганчик»… Впрочем, я выбрал бы другое. Господа, что вы скажете об «Анатэме»?
— «Анатэма» Андреева?
— Вы не шутите?
— Но ведь это длиннейшая вещь!
— Это очень vieux jeu [41], «Анатэма», старо! — возразил пренебрежительно Фомин. Березин быстро к нему повернулся.
— Старо, может быть, — отчеканил он, — но я за последним словом не гонюсь: было бы подлинное искусство!
— Браво!
— Все это хорошо, однако, кто из нас решится играть Анатэму после Качалова? — спросил Горенский. Березин на него покосился. Но Муся тотчас загладила неловкость князя.
— Как кто? — возмущенно сказала она. — Это превосходная мысль! Господа, Сергей Сергеевич в роли Анатэмы, да это будет сенсация на весь Петербург.
— Ах, да, разве сам Сергей Сергеевич…
— Кто же другой?
— А вы, князь, будете Давид Лейзер.
Послышался смех.
— Нет, господа, я предложил бы поставить только один акт, ну, максимум два… Целое, конечно, нам не под силу. Скажем, пролог, где всего два действующих лица: Анатэма и Некто, ограждающий входы. Потом еще какую-нибудь сцену… Сознаюсь вам, что у меня давно вертятся кое-какие мысли об этой пьесе. Кажется, выйдет недурно и свежо.
— По-моему, прекрасная мысль, — заявила Глафира Генриховна.
— Мало сказать, прекрасная! — воскликнула Муся. — Господа, наш спектакль станет событием!
В эту минуту в будуар вошла Тамара Матвеевна. Гости поднялись с мест. Вслед за тем горничная подала чай, и совещание было скомкано. За чаем участники спектакля «в принципе» согласились поставить «Белый ужин», акт из «Анатэмы» и, быть может, что-либо еще, так, чтобы для всех нашлись роли. Было постановлено собраться снова на следующий день, восстановив пьесы в памяти, и приступить к распределению ролей.
Письменный сошел вполне благополучно. После пятого урока Витя выбежал на передний двор и присоединился к кучке товарищей, собравшейся, по обыкновению, в воротах: это с давних пор называлось «поглазеть на Горемыкина», — против ворот Тенишевского училища находился дом председателя совета министров. Когда прозвонил звонок, означавший конец малой перемены, Витя незаметно скользнул на Моховую и был таков.
В библиотеке нашелся «Белый ужин», но за истекший месяц абонемента с Вити взяли шестьдесят копеек. Этот непредвиденный расход уменьшил его капитал до трех рублей. Витя, однако, рассчитывал, что на обед у Альбера во всяком случае должно хватить денег. Цены были ему в общем известны, — ему давно хотелось пообедать в хорошем ресторане. У Альбера было не очень дорого, но, по словам знатоков, кормили вполне прилично. Витя счел возможным отделить от своего капитала двугривенный и взял извозчика, — в ресторан лучше было подъехать на извозчике.
На углу Невского и Морской извозчик поспешно задержал лошадь: впереди на Морскую съезжала карета, запряженная великолепными лошадьми, с лакеем в красной ливрее на козлах. Витя, перегнувшись из саней, вглядывался в окно кареты. Хоть он был настроен довольно революционно и знал, что эти люди так жили «на народные деньги», двор внушал Вите жадное любопытство. Но он ничего не увидел — день кончался, на улице давно горели фонари.
В зале ресторана было жарко и душно. Витя, скрывая волнение, с видом привычного человека, прошел в самый край залы, уселся за столик, нервно развернул накрахмаленную салфетку и взял карту. К его ужасу оказалось, что напечатанные на карте цены (те самые, которые ему называли) зачеркнуты и, вместо них, всюду проставлены другие, более высокие. Витя спешно занялся вычислением, — лакей, к счастью, долго к нему не подходил. Дешевле других блюд стоили супы. Их было два — борщок и консоме. Оба названия нравились Вите. Он остановился на консоме, так как борщок был, очевидно, разновидностью борща, который часто подавали и дома. На второе Витя выбрал телячью котлету, — это было привычное, но вкусное блюдо; а главное, стоило оно не очень дорого и вместе с тем не было самым дешевым, так что лакей ничего не мог подумать. Очень его соблазняла Гурьевская каша, но против нее значилось 1 р. 20. Сосчитав мысленно все, Витя решился на Гурьевскую кашу: денег хватало и по повышенным ценам, включая копеек сорок на чай; должен был даже образоваться еще небольшой остаток. Витя успокоился, положил карту на стол и нерешительно постучал ножом о стакан. Позвать «человек!» он не решился.
Лакей подбежал, с салфеткой под мышкой, и почтительно принял заказ. В спешке — чтоб не заставлять ждать лакея — Витя, вместо телячьей котлеты, по ошибке заказал бифштекс с картофелем. Но изменить заказ было явно неудобно. Впрочем, бифштекс стоил столько же, сколько телячья котлета.
— На третье Гурьевскую кашу… Слушаю-с… Пить что изволите?
Витя похолодел: этого удара он никак не ожидал: о напитках он не подумал.
— Квасу нашего не прикажете ли? — с значительной интонацией в голосе спросил, улыбаясь, лакей.
— Нет… Зельтерской воды, — сказал Витя. — Я пью только воду, — добавил он, чтобы как-нибудь себя спасти во мнении лакея.
— Слушаю-с.
— Сельтерская вода, наверное, стоила очень дешево, этот расход можно было покрыть из запаса. Витя принялся рассматривать зал. «Хорошеньких женщин что-то не видать…» Ему становилось скучно. Он вдруг вспомнил о «Белом ужине» и, достав книгу из портфеля, принялся ее пробегать. На террасе мраморной виллы, над заливом, слушала последние аккорды серенады Коломбина, «вся в белом, похожая на большой букет новобрачной»… На Витю вдруг нахлынула непонятная радость, — от этих образов, оттого, что он был взрослый и один обедал в ресторане, что перед ним открывалась жизнь, что у него уже была своя Коломбина… «Я очень, очень рада», — вспомнил он, замирая. Веселый Пьеро, перескакивая через перила, бросался к Коломбине «с долгим раскатом смеха». Витя еще не знал, отчего Пьеро так весело, но он понимал его и вместе с ним испытывал радость. Дворецкий позвал Коломбину к «роскошно сервированному столу под пинией» — Вите как раз подавали суп.
…Довольно, посмотри, как стол накрыт красиво, Как изменяются все вещи прихотливо! Лагуной кажется хрустальное плато, В сияньи серебра цветами обвито; Арбуз, нарезанный на пурпурные доли, Напоминает мне по форме о гондоле; Кианти старое себе вокруг брюшка Надело юбочку из прутьев тростника…Консоме оказалось самым обыкновенным, жидким бульоном, — по совести, Маруся готовила суп вкуснее. Миска с надбитым ушком не казалась лагуной и решительно ничто на столе никак не напоминало о гондоле. Но Пьеро с Коломбиной тоже начинали белый ужин с консоме, это усилило аппетит Вити. Он ел суп и, скосив глаза, читал книгу. Пьеро «вонзал толедский нож в хрустящий бок паштета», — Витя с наслаждением ел тощий бифштекс. Дворецкий разливал мадеру, шато-икем, марго, мускат, — Витя бодро пил зельтерскую воду. Он был счастлив…
Лакей принес Гурьевскую кашу. Витя осторожно придвинул к себе обжигавшее пальцы блюдо — и вдруг у противоположной стены, со смешанным чувством гордости и беспокойства, увидел знакомого. Это был доктор Браун. Лицо его поразило Витю своей бледностью и мрачным выражением. «Да это он коньяк так хлещет… Здорово!…» Браун что-то подливал в бокал из кофейника, — Витя знал, что в кофейниках подаются запрещенные крепкие напитки. «Поклониться, что ли? Нет, лучше не надо… Он, впрочем, почти не знаком с нашими… Да это и не важно, разумеется… Какой он, однако, страшный!» — тревожно думал Витя.
XXXII
— А вы знаете, Александр Михайлович, — сказал, улыбаясь, Федосьев, когда лакей унес блюдо, — ведь я за вами в свое время чуть-чуть не установил наблюдения.
— Вот как? Когда же это?
— За год или за два до войны. Вы тогда читали в Париже публичные лекции на философские темы, и лекции эти, я слышал, имели большой успех?
— Я действительно был в моде в течение некоторого времени. Потом, кажется, надоел, — и перестал читать. К тому же я тогда начал печатать в журнале свою книгу «Ключ», — многое из лекций в нее вошло. Но почему мои лекции вызвали такое ваше заботливое внимание?
— Видите ли, у вас репутация очень левого человека. Лекции же ваши усердно посещались людьми, которыми мое ведомство интересуется. И — не у меня, но в Париже — возникла мысль, что, быть может, это не совсем случайно… Я потому так откровенно говорю, что мысль оказалась нелепой… Я вдобавок интересовался вами, как университетским товарищем. Из вашего «Ключа» мне довелось прочесть лишь один отрывок, и я мог убедиться в том, что революционность ваша сомнительная и что ультра-левым вас можно назвать разве только для смеха… Вы не сердитесь?
— Нисколько. Мне, впрочем, не совсем ясно, что такое значит «ультра-левый»? В области практической я предъявляю к государству довольно скромные требования, — приблизительно те, которые осуществлены в Англии и с которыми вы так усердно боретесь. Но этого я в «Ключе» почти не касался. Моя книга, как вы изволили сказать, философская, во всяком случае теоретическая. Я подвергаю критике разные наши учреждения и догматы. Отношение мое к ним какой-то остроумец назвал аттилическим: я, мол, как Аттила, все предаю мечу и огню. Но это очень преувеличено. Притом, повторяю, у меня чистая теория.
— Вот, вот… Я один ваш аттилический отрывок читал с истинным наслажденьем и охотно признаю, что у него два равно отточенных острия, направленных в противоположные стороны. Левым ваша книга, должно быть, еще неприятнее, чем правым, и это меня, конечно, утешает. Но… Простите тривиальное замечание: я вообще боюсь, не столько бисера (бисер вещь вполне безобидная), сколько его отраженья в мозгу свиней. В современном мире и без того очень развиты аттилические инстинкты. Вот и у нас, я думаю, когда купцы бьют в ресторанах зеркала, это происходит от излишнего аттилизма.
— Очень может быть, — ответил, смеясь, Браун, — вероятно, купец пьяным инстинктом чувствует, что и ресторан дрянной, и зеркала дрянные.
— Поверьте, ничего подобного. Он потому их бьет, что они дорогие и хорошие: денег куры не клюют, разбил, вставь, с… с…, новые!.. Но если слушатели ваших лекций начнут бить разные зеркала, то, боюсь, новые будет вставить трудно. Поэтому, может быть, мы не так неправы, относясь подозрительно к людям с аттилическим инстинктом, — разумеется, если они не чистые теоретики… Но вы кушайте…
Федосьев, тоже смеясь, пододвинул Брауну блюдо. Разговор шел в столовой Федосьева. Он жил в частной холостой квартире, обставленной небогато, чуть только прилично, и без всяких претензий. Видно, и квартира, и ее обстановка мало интересовали хозяина. Ковер, буфет, кожаные стулья были куплены в первом магазине по соседству с домом. На покрытом дешевенькой салфеткой столике стоял большой граммофон. На стене были развешены фотографии в золоченых рамках. «Не хватает канарейки, — подумал, войдя в столовую, Браун. — Вот и суди по обстановке…» Впрочем, когда он присмотрелся к квартире, кое-что в ней показалось ему характерным для Федосьева. Лампы давали много меньше света, чем было бы нужно, и уюта, несмотря на мещанскую обстановку, не было. Обед был хорош, без лишних, предназначенных для гостей, блюд. Подавал лакей в серой тужурке, без перчаток, с бегающими, воспаленными глазами. «Верно охранник…»
— Так вы читали «Ключ»? — спросил Браун, кладя себе на тарелку кусок индейки. — Как это у вас хватает на все времени?
— На все не на все, а на чтение хватает… Для меня, Александр Михайлович, как, впрочем, извините меня, и для вас, начинается тяжкая подготовительная школа по изучению ремесла старости… Салата советую взять… Или вы, по-французски, едите салат отдельно?.. Скорее подавай, — приказал он лакею, — барин спешит. Как могу, скрашиваю жизнь: книги вообще очень помогают, но в последнее время все меньше. А вам? Ведь вы, Александр Михайлович, насколько я могу судить, человек нервный и раздражительный?
— Есть грех.
— И не без легких «тиков»?
— Не без легких тиков. Не выношу ученых дам, детей в очках, толстых мопсов… Что еще?
— Я не шучу. Как насчет «тика смерти»? Ведь люди делятся на «завороженных» и «небоящихся»…
— Неверное деление. Я скорее из «небоящихся», а все-таки «заворожен»… Если не самой смертью, то ее приближением. По крайней мере к каждому новому человеку, — к умному, разумеется, — я подхожу с немым вопросом: что дает ему силу и охоту жить? Но этого не надо принимать трагически. Человек уделяет философским мыслям час-два в сутки. Остальное время у него, слава Богу, свободно… Бывает, весной повеет свежим теплым ветерком, идя увидишь хорошенькую девушку, только начинающую жить, и, старый дурак, серьезно веришь в завтрашний день: вечный обман тут как тут.
— Тут как тут? — переспросил Федосьев. — И, правда, слава Богу… Непременно прочту вашу книгу. Жаль, что мне из нее попалось лишь несколько глав, без начала и конца. Многого я поэтому не мог понять, даже в терминологии… Что такое, например, миры А и В?
— Ах, это никакого интереса не представляет, так, маленькое отступление в сторону, — ответил Браун. — Я говорил о двух мирах, существующих в душе большинства людей. Из ученого педантизма и для удобства изложения я обозначил их буквами. Мир А есть мир видимый, наигранный; мир В более скрытый и, хотя бы поэтому, более подлинный.
— Да ведь, кажется обо всем таком говорится в учебниках психологии? — спросил Федосьев. — Мне знакомый психиатр объяснял, что теперь в большой моде учение о подсознательном, что ли?
— Нет, нет, совсем не то, — ответил Браун. — Ваш психиатр, верно, имел в виду венско-цюрихскую школу: Брейера, Фрейда, Юнга. Это учение теперь действительно в большой моде, но меня оно не интересует и многое в нем — гипертрофия сексуальной природы, эдипов комплекс, цензура снов — кажется мне весьма сомнительным… Нет, благодарю вас, больше не угощайте, я сыт… Я совершенно не занимаюсь областью бессознательного и подсознательного. Точно так же не занимают меня и учебники психологии, — Ich und Es, the pure Ego, les personnalités alternantes [42] и т. д. Я не жду объяснения человеческих действий от профессоров психологии. Некоторых из них — весьма известных — я знаю лично. Это беспомощные младенцы, ровно ничего не понимающие в людях… Впрочем, может быть, мои мысли и не новы, гарантии новизны я не даю.
— Так что же все-таки за миры, если не секрет? — спросил, без большого, впрочем, интереса, Федосьев.
— Точными определениями не буду вас утруждать, лучше кратко поясню примером из той области, которая вас интересует. Я знал вождя революционной партии — иностранной, иностранной, — добавил он с улыбкой. — В мире А это «идеалист чистейшей воды», фанатик своей идеи, покровитель всех угнетенных, страстный борец за права и достоинство человека. Таким он представляется людям. Таким он обычно видит себя и сам. Но с некоторым усилием он, вероятно, может себя перенести в мир В, внутренне более подлинный. В мире В это настоящий крепостник, деспот, интриган и полумерзавец…
— Почему же полу? — спросил Федосьев. — Утешьте меня, может быть, совсем мерзавец, а? Так и психологически эффектнее.
— Настоящих мерзавцев на свете так мало… Не выношу тех плохих писателей, которые в своих книгах все выводят подлецов и негодяев, — что за насилие над жизнью! Ты возьми среднего порядочного человека и, ничего не скрывая, покажи толком, что делается у него в душе… Этот не средний и не порядочный, однако, не могу вас утешить: только полумерзавец. Что у него в мире В? На первом плане тщеславие, властолюбие, ненависть. Есть ли хоть немного любви к человечеству, «идеализма чистейшей воды»? Есть, конечно, но немного, очень немного. Был ли он когда-либо другим? Не думаю: он как та старуха у Петрония, которая не помнила себя девственницей. Тяготится ли он жизнью в мире мелкой злобы и интриги? Конечно, нет, — как рыба не страдает морской болезнью. Но видит ли он свой мир В? Мог бы отлично видеть, ничего бессознательного тут, повторяю, нет. Скорее, однако, не видит или видит весьма редко: мысль у него ленивая. В мире А она, впрочем, бойкая: человек он довольно невежественный, но в его невежестве есть пробелы: он жует свою полемическую жвачку, произносит свои страстные речи и обделывает свои делишки так хорошо, что просто любо смотреть. А вот подумать о своем подлинном, несимулированном мире ему трудно, да и некогда… Впрочем, не берусь утверждать, какой мир подлинный, какой призрачный. Симуляция, длящаяся годами, почти заменяет действительность, уже почти он нее не отличается. Опытный зритель понимает смысл пьесы, угадывает ее развязку, режиссер видит артистов без грима; но для актера привычка делает главной реальностью сцену. А если б актер играл каждый день одну и ту же роль, то для него жизнь перестала бы совсем быть реальной. Таков и этот человек. Он потерял ключ из одного мира в другой.
— Разве обязательно иметь ключ?
— Не знаю, — сказал Браун. — Может быть, лучше и не иметь… Или забросить его куда-нибудь подальше. А то еще спятишь, и посадят тебя туда, куда сажают людей, «несколько более сумасшедших, чем другие»… Мой революционер, конечно, крайний случай, но примеров можно привести много в самом различном роде. У меня вошло было в привычку: угадывать мир В по миру А. Сначала это забавляло.
— Да, это должно быть иногда забавно, — небрежно сказал Федосьев. — Почтенный человек говорит о высоких предметах, о чистой Тургеневской девушке, — это, оказывается, мир А. А в мире В у него старческие слюнки текут от разных Тургеневских и не-Тургеневских девочек. Очень забавно… Вы сыра не едите? Тогда фруктов?.. И что же, у всех людей, по-вашему, есть мир В?
— Благодарю… У большинства, должно быть. Есть люди без мира В, как есть люди без мира А: какой-нибудь Федор Карамазов, что ли… Не надо, впрочем, думать, будто мир В всегда хуже мира А: бывает и обратное. Бывает и так, что они очень близки друг к другу. Я бы сказал только, что мир В постояннее и устойчивее мира А. По взаимоотношению этих двух миров и нужно, по-моему, изучать и классифицировать людей. Все иррациональное в человеке из мира В, даже самое будничное и пошлое, — в иррациональном ведь есть и такое: скупость, например. Кто из нас не знал истинно-добрейшей души людей, которые, чтоб не расстаться с ненужными им деньгами, дадут умереть от голода ближнему, ближнему не в библейском, а в более тесном смысле слова. Душа у них рвется на части, но денег они не дадут. Это мир В.
Федосьев смотрел на него задумчиво. «А как же ты мог Фишера отравить, в мире А или в мире В?..»
— Ну, и что же?
— Только и всего.
— Так это чистая психология? — разочарованно протянул Федосьев. — Какая же связь этой главы с вашими аттилическими теориями?
— О, связь лишь косвенная и абстрактная, — сказал Браун и взглянул на часы. — Однако мы засиделись! Вы меня извините, но я вас предупредил, что тотчас после обеда должен буду уехать.
— Предупредить предупредили, правда, а все же еще посидите. Я так рад случаю побеседовать… Косвенная связь, вы говорите?
— Да, несколько искуственная… Я, быть может, злоупотребил этой тяжелой и претенциозной терминологией. Но было соблазнительно перейти от человека к государству. У общественных коллективов тоже есть свой несимулированный мир. Я рассматриваю войну, революцию, как прорыв наружу черного мира. Приблизительно раз в двадцать или в тридцать лет история наглядно нам доказывает, что так называемое культурное человечество эти двадцать или тридцать лет жило выдуманной жизнью. Так, в театре каждый час пьеса прерывается антрактом, в зале зажигают свет, — все было выдумкой. Эту неизбежность прорыва черного мира я называю роком, — самое загадочное и самое страшное из всех человеческих понятий. Ему посвящена значительная часть моей книги.
— Люди часто, по-моему, этим понятием злоупотребляют, как и понятием неизбежности. Захлопнуть бы черный мир и запереть надежным ключом, а?
— Что ж, вы такой надежный ключ и найдите.
— Возможности у нас теперь маленькие, это правда. Однако в беседе с вами жаловаться на это не приходится, — сказал Федосьев, — все равно, как неделикатно жаловаться на свою бедность в разговоре с человеком, который вам должен деньги… Но что такое черный мир государства? Мир без альтруистических чувств?
— Нет, где уж альтруизм! Я так далеко и не иду. У меня славная программа-минимум. Как прекрасна, как счастлива была бы жизнь на земле, если б люди в своих действиях руководились только своими узкими эгоистическими интересами! К несчастью, злоба и безумие занимают в жизни гораздо больше места, чем личный интерес. Они-то и прорываются наружу. Я и в честолюбие плохо верю. Нет честолюбия, есть только тщеславие: самому честолюбивому человеку по существу довольно безразлично, что о нем будут думать через сто лет, хоть он, может быть, этого и не замечает… Смерть бьет и эту карту.
— Мысли у вас не очень веселенькие, — сказал Федосьев. — Но это не беда: вы с такими мыслями сто лет проживете, Александр Михайлович. Да еще как проживете! Без греха, без грешков даже, и в мире А, и в мире В. По рецепту Марка Твена: жить так, чтобы в день вашей кончины был искренно расстроен даже содержатель похоронного бюро… Разрешите вам налить портвейна? Недурной, кажется, портвейн.
— Очень хороший, — сказал Браун, отпив из рюмки. — И обедом вы меня накормили прекрасным.
— Когда же, по-вашему, — спросил Федосьев, произойдет у нас этот взрыв мира В? Или, попросту говоря, революция?
— По-моему, удивительнее всего то, что она еще не произошла, если принять во внимание все дела ваших политических друзей…
— Моих и ваших. Давайте разделим ответственность пополам. Верьте мне, это очень для вас выгодно.
— Но так как факт налицо: до сих пор никакого взрыва не было, то я твердо решил воздерживаться от предсказаний в отношении нашего будущего. Социологию России надо раз навсегда предоставить гадалкам.
— Спорить не буду, хотя насчет сроков у меня устанавливается все более твердое мнение. Но я и сам думаю, что у нас все возможно… Помнится, я вам даже это говорил… Верно у нас с вами сходный мир В? В мире А мы, к сожалению, расходимся.
— Да, немного. Но вы и в мире А иногда высказываете мысли, которые как будто не совсем вяжутся с вашим положением и официальными взглядами… Признаюсь, мне хотелось бы знать, высказываете ли вы эти мысли также и близким вам государственным деятелям?
— Им высказываю редко, — ответил, смеясь, Федосьев. — Не хватает «гражданского мужества»… Очень я люблю это выражение: о людях, не имеющих мужества — просто, их друзья обычно говорят, что у них есть гражданское мужество… Нет, государственным деятелям не высказываю, — старичков бы еще разбил удар.
— Выскажите им все на прощанье, когда соберетесь в отставку. Все-таки отведете душу: я думаю, вы их любите не больше, чем нас… Но я, право, должен вас покинуть, еще раз прошу меня извинить, — сказал, вставая, Браун. — В свою очередь буду очень рад, если вы ко мне заглянете.
— С особенным удовольствием. Что ж, больше не удерживаю, знаю, как вы спешите. Большое спасибо, что зашли…
Он проводил гостя в переднюю. Лакей в серой тужурке подал шубу.
— Ведь вы в Париж еще не скоро?
— Нет, до конца войны думаю побыть здесь.
— До конца войны! — протянул Федосьев, удерживая в своей руке руку Брауна. — Соскучитесь… Ведь у вас там друзья, ученики… От Ксении Карловны, кстати, писем не имеете? — быстро, подчеркивая слова, спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Так я надеюсь скоро снова с вами встретиться?
— Очень буду рад, — ответил Браун, опуская деньги в руку лакея. — Нет, писем не имею. Мне вообще мало пишут… До свиданья, Сергей Васильевич, благодарю вас.
— До скорого свиданья, Александр Михайлович.
Дверь захлопнулась. Федосьев вошел в свой кабинет и сел у письменного стола.
«Нет, очень крепкий человек, — подумал он. — Никакими штучками и эффектами его не проймешь. Ерунда эти следовательские штучки, когда имеешь дело с настоящим человеком. Нисколько он не „бледнеет“ и не „меняется в лице“… А если и бледнеет, то какое же это доказательство! Видит, что подозревают, и потому бледнеет… Однако не вздор ли и вообще все это?» — спросил себя с досадой Федосьев.
Он встал и прошелся по комнате, затем подошел к шкафу, вынул щипцы, небольшой деревянный ящик, и вернулся в столовую.
— Ступай к себе, — сказал он входившему лакею. — После уберешь.
Федосьев запер дверь, осторожно взял щипцами стакан, из которого пил портвейн Браун, и поставил этот стакан в ящик, утыканный изнутри колышками. Затем перенес ящик в кабинет, запечатал и надписал на крышке букву В. «Вот мы и посмотрим… Совсем, однако, Шерлок Холмс, — подумал он. Эта мысль была неприятна Федосьеву: то, что он делал, не очень соответствовало его рангу, привычкам, достоинству. — Но как же быть? Другого доказательства быть не может… И такие ли еще делаются вещи и у нас, и в других странах!» — утешил себя он, перебирая в памяти разные чужие дела. Очевидно, воспоминанье о них его успокоило. «Надо будет послать в кабинет экспертизы», — подумал Федосьев, оправляя пальцем твердеющий сургуч на угловой щели ящика.
XXXIII
Должность второго парламентского хроникера составляла мечту дона Педро. Получить эту должность было, однако, нелегко. Не все газеты имели в Думе двух представителей, и Альфред Исаевич знал, что положение в «Заре» Кашперова, первого думского хроникера, довольно крепко. Дон Педро, впрочем, под Кашперова не подкапывался: он не любил интриг. Но ему казалось, что газета с положением «Зари» должна, кроме отчетов о заседаниях Думы, печатать еще информацию о «кулуарах». Альфред Исаевич, природный журналист, спал и во сне видел этот отдел. Он придумывал для него все новые названия, — либо деловые: «Кулуары», «В кулуарах», либо более шутливые: «Слухи и шепоты», «За кулисами». Из этих названий он склонялся к первому, серьезному: «Кулуары», — слово это очень ему нравилось. Альфред Исаевич предполагал даже, в случае удачи, избрать себе новый псевдоним: подпись «Дон Педро» для такого отдела была недостаточно серьезной. Несколько влиятельных людей обещало Альфреду Исаевичу поговорить о нем с главным редактором газеты. Но дон Педро плохо верил обещаниям, в выполнении которых люди не были заинтересованы. Вдобавок, редактор, Вася, был в последнее время суховат с Альфредом Исаевичем. Дон Педро приписывал это сплетням.
— Конечно, насплетничали Васе, — объяснял дон Педро секретарю причины охлаждения к нему политического редактора. — Сто раз я себе говорил: не болтать. А тут взял и разговорился в одном доме о той передовой Васи. (У Альфреда Исаевича была привычка говорить о своих знакомствах и связях несколько таинственно: «в одном доме», «у одних друзей»).
— Вот и не болтайте, — наставительно сказал Федор Павлович. — А впрочем сплетен бояться не надо: кто способен донести, тот может и просто о вас выдумать, даже если вы ничего не говорили.
«Ну, это теория, — подумал Альфред Исаевич (он называл теорией все, что ему казалось чепухою). — Посплетничать одно, а выдумать другое».
— Вся моя надежда на вас, Федор Павлович, — жалобно сказал он.
Секретарь редакции был в этом вопросе на стороне дона Педро: он отлично знал, что отдел, посвященный слухам и сплетням из «кулуаров», много интереснее публике, чем самые дельные отчеты о думских прениях. Зато отчаянное сопротивление предвиделось со стороны Кашперова.
— Что ж, я действую с открытым забралом, — справедливо говорил Альфред Исаевич. — Если он из этого сделает кабинетский вопрос, это дело его профессиональной совести.
В редакции все стояли за учреждение нового отдела: веселые, благодушные, насквозь проникнутые скептицизмом и корпоративным духом люди, преобладавшие в редакции «Зари», как во всех редакциях мира, знали, что дон Педро хороший человек, что, кроме жены, у него на содержании семья родственников в Чернигове и что лишние двести рублей в месяц очень ему пригодились бы.
В связи с анкетой об англо-русских отношениях дон Педро пустил пробный шар. Он заявил главному редактору, что для получения интервью от видных депутатов ему необходимо постоянно бывать в Думе, и потребовал билета в ложу журналистов.
— Вы сами понимаете, иначе они никакого интервью не дадут: они терпеть не могут, чтобы к ним ходили на дом, — сказал Альфред Исаевич, явно рассчитывая на доверчивость Васи и не смея поднять глаза на Федора Павловича, который только мрачно на него посмотрел: оба они были убеждены, что из десяти известных людей девять не только примут у себя на дому интервьюера, но с удовольствием пешком побегут для интервью за город.
Главный редактор согласился с доводами Альфреда Исаевича, и для него был получен входной билет в ложу журналистов. Это было половиной победы: дон Педро, сияя, принимал поздравления.
Открытие думской сессии было назначено на 19-ое ноября. Альфред Исаевич явился рано, в приятном и приподнятом настроении духа. Он даже оделся для этого случая несколько более парадно, чем всегда. Под мышкой у него был солидный, крокодиловой кожи портфель с инициалами А. П., а в кармане вместо старой, потрепанной, новенькая записная книжка с остро очиненным карандашом в боковом кружке.
Дон Педро бывал в Таврическом Дворце и раньше, знал многих депутатов, однако он не был своим человеком в Думе. Все очень ему нравилось. Приятен был самый переход с полутемной, сырой и грязной улицы в ярко освещенное, хорошо натопленное здание. Приятны были и будки по сторонам палисадника, и монументальный швейцар у входа, и думская стража в черных мундирах с тесаками, и замысловатый потолок аванзала, казавшийся куполом, а на самом деле плоский. Теперь все это, и швейцар, и стража, и купол, составляло как бы собственность дона Педро. Сторож проверял температуру у термометра. Альфред Исаевич тоном завсегдатая спросил у сторожа, собрался ли уже народ. Тот же вопрос он предложил проходившему по аванзалу приставу в сюртуке с серебряной цепью и получил тот же ответ, что еще нет почти никого. И сторож, и пристав отвечали чрезвычайно почтительно. Альфред Исаевич с гораздо большей силой, чем в гостинице «Палас», испытал наслаждение от необыкновенного комфорта и почета. «Да, самая настоящая Европа», — думал он. Дон Педро имел смутное представление об Европе, но все, что он о ней знал, совпадало с картиной Таврического дворца.
«Заре» полагалось место в нижней ложе, предназначенной для газетной аристократии. Как раз в ту минуту, когда дон Педро вошел в ложу, в зале заседаний зажглись люстры и осветили пюпитры светло-желтого дерева, трибуну, золотой орел, огромный портрет императора, ходивших по залу людей с серебряными цепями. Ложа журналистов, как и зала, еще была почти пуста. В углу, в первом ряду, сидел Браун. «Верно, по иностранному билету», — подумал удивленно дон Педро. Он поклонился довольно холодно. Альфред Исаевич выбрал место во втором ряду, прислонил к спинке стула портфель и вынул газету, чтоб можно было без неловкости воздержаться от всякого разговора с мрачным профессором. «Неприятная фигура», — подумал дон Педро, поглядывая из-за газеты на Брауна, который с очень утомленным видом неподвижно сидел в своем кресле, опустив руки на барьер. Читать Альфреду Исаевичу не хотелось. Он посидел немного, затем поднялся, положил для верности на свой стул еще футляр от очков, пожалев, что клеенка на футляре отклеилась, и вышел из ложи в свое будущее царство, в кулуары.
В кулуарах уже были люди: дон Педро беспрестанно раскланивался со знакомыми. Некоторые депутаты, притом не только близкого, но и враждебного лагеря, имевшие основание быть недовольными «Зарей», очень любезно здоровались с ним, называя его по имени-отчеству. Они подтвердили Альфреду Исаевичу то, что он еще раньше слышал в редакции: со стороны крайней левой ожидается обструкция против нового правительства. Дон Педро качал головой с нейтральным, неопределенным видом. В душе он нисколько не сочувствовал обструкции. Как человек пожилой и солидный, Альфред Исаевич уважал принцип власти: а в этом пышном великолепном дворце, где все были так любезны и учтивы, обструкция казалась ему ни с чем несообразным, неподобающим делом.
Желая хорошо ознакомиться со своим дворцом, дон Педро заглянул в зал комиссий, посмотрел почтовое и врачебное отделения, затем зашел в буфет, где, весело разговаривая, завтракали и пили чай депутаты. В пожилом человеке, закусывавшем у стойки, дон Педро с удовлетворением узнал одного из второстепенных министров, в свое время давшего ему интервью. Альфред Исаевич поклонился с достоинством: министр был министр, однако дон Педро чувствовал себя представителем «Зари»: так молодой советник посольства, заменяя посла, с особым достоинством беседует с иностранным премьером, зная, что и на второстепенной должности представляет великую державу. Тем не менее ответный поклон министра был приятен Альфреду Исаевичу. Он все яснее чувствовал, что становится частью огромного, могущественного организма: благодаря кусочку картона с пропечатанной фотографической карточкой, хранившемуся у него в боковом кармане, и министр как бы ему принадлежал. Водку в думском буфете подавали без обычной маскировки. Дон Педро спросил рюмку зубровки, энергичным движением опрокинул ее в рот, — он всегда пил водку с таким видом, точно брал штурмом крепость, — закусил зубровку семгой, хоть не был голоден, и в самом лучшем настроении, еще повеселев от водки, вернулся в Екатерининский зал. Об его комфорте здесь очень заботились. «Только родильного отделения не хватает, — подумал он. — И совершенная ерунда эта обструкция…»
У стола с журналами толпились депутаты. Дон Педро посидел в удобном кожаном кресле, прислушиваясь к разговорам. Говорили почти исключительно о предстоящей обструкции. Одни говорили о ней сочувственно, другие возмущенно, но и у тех, и у других чувствовалось оживление и даже радость, точно все с удовольствием ждали нового зрелища. Дон Педро вынул записную книжку, поставил на первой странице число и набросал несколько строк, хотя отдел «кулуары» еще не был ему поручен. От противоположного стола, где расписывались в книге члены Думы, своей быстрой энергичной походкой подошел князь Горенский. «Уж не взять ли у него интервью?» — подумал Альфред Исаевич. Однако он тотчас признал князя слишком молодым для анкеты.
— Вы как здесь? — спросил Горенский, быстро и крепко пожимая ему руку. — Ведь от «Зари» у нас Кашперов?
— Кашперов сам по себе, а я тоже сам по себе, — ответил Альфред Исаевич. — Нашей газете необходимо отображение внутреннего мира Думы, и я, вероятно, возьму на себя этот отдел. Что, князь, будет обструкция?.. Я не отрицаю, конечно, целесообразности этого метода борьбы при известной конъюнктуре, но вопрос в том, поскольку это отвечает задачам текущего момента?
— Да, наши левые твердо решили, — сказал князь. — По-моему…
Мимо них неуверенной походкой, робко и нервно оглядываясь по сторонам, прошел тот министр, который только что закусывал в буфете. Князь сухо с ним раскланялся.
— Вот она, звездная палата, — насмешливо сказал он. — Кстати, Столыпин последний из них умел носить сюртук.
— Ведь этот из простых, отец его был простой мещанин… Странно все-таки, что интересы поместного класса представляют выходцы из мещан, а интересы надцензовой демократии кровный рюрикович князь Горенский, — сказал, улыбаясь, дон Педро.
— А мне совершенно все равно, из простых он или не из простых, — с равнодушным видом ответил князь (хотя ему было приятно замечание журналиста). — Важно то, что и он, и они все никуда не годятся.
«Нет, я все-таки возьму у него интервью», — решил дон Педро. Он изложил князю свою просьбу. Лицо Горенского тотчас приняло серьезное, сосредоточенное выражение.
— Важная проблема, которую как нельзя более своевременно ставит газета «Заря»… — начал он. Но в эту минуту в зале зазвонил электрический звонок.
— Я буду к вашим услугам после заседания, — сказал Горенский, пожимая руку Альфреду Исаевичу. По Екатерининскому залу, в предшествии человека с золотой цепью, шел председатель Государственной Думы, за ним еще несколько человек в сюртуках. Звонок продолжал звонить. Депутаты, оживленно разговаривая, устремились в залу заседаний. Дон Педро поспешно вернулся в ложу, теперь переполненную до отказа, отыскал глазами Кашперова, очень корректно с ним раскланялся и, устроив себе пюпитр из портфеля, положил на него книжку. Председатель Думы уже сидел на трибуне. Его голова приходилась в уровень с концом шпаги Императора. Несколько ниже пристав, оглядывая быстро наполнявшийся зал, придерживал рукой пресс-папье, положенное на кнопку электрического звонка, — видимо, этот прием доставлял ему удовольствие. Когда зал заполнился, пристав снял с кнопки пресс-папье. Электрический звонок оборвался, тотчас раздался другой. Председатель резким властным движением встряхнул в руке медный колокольчик.
— Заседание Государственной Думы открывается.
XXXIV
«Да, это и есть наше главное окно в Европу, и только отсюда могло бы прийти спасение», — думал Браун, вглядываясь в новую для него картину русского парламента. Зрелище это доставляло ему почти такое же удовлетворение, как Альфреду Исаевичу. Он вдобавок находил, что Таврический дворец превосходил великолепием и размахом западные парламенты. «Да, эти люди продолжают дело Петра, хотят ли они того или нет… Я родился европейцем, европейцем умру, в Азии мне делать нечего и любоваться Азией я не стану, — думал он, невольно удивляясь собственному умеренному настроению. — Внешний вид Государственной Думы, блеск Таврического дворца, очевидно, ничего не доказывают… Но я живой человек, а не машина для выработки „стройного образа мыслей“ и, как живой человек, поддаюсь впечатлениям… Веками лилась в мире кровь для того, чтобы это создать. Что толку в шуточках Федосьева? Что может он предложить взамен этого? Что толку и в моих мыслях, разрушительностью которых я забавлялся, как юноша? Я пробовал устроиться с комфортом в пороховом погребе и еще других приглашал в гости. Но на всякий случай устроил себе и более удобную идейную квартиру, разделив стеной философию и практику. Я могу думать и проповедовать что мне угодно, — эти учреждения, надоевшие пресыщенным людям, эти идеи, ставшие общедоступными благодаря пролитой за них крови, очень надолго переживут и мою философскую схему, и принцип одновременного жительства в нескольких идейных квартирах…
Как часто я завидовал простым, неглупым, хорошим людям, вовремя, т. е. на третьем десятке лет, выкинувшим из головы и логическую похоть, и мечты о славе, честно и мужественно прожившим жизнь для семьи, для детей, для доброго имени на одно-два поколенья? Я всегда чувствовал превосходство их простоты, хотя не знал, как обосновать это превосходство? Но есть, по-видимому, и идеи, подобные таким людям: честные, простые и мужественные идеи, над которыми легко издеваться и которые заменить нельзя, не повергая себя в самое мучительное состояние, хотя бы с сотней парадно обставленных идейных, душевных квартир и с присвоенным себе правом беспрепятственного переезда из одной квартиры в другую…»
Ложа журналистов понемногу наполнялась. Соседи смотрели на Брауна с любопытством. В зале заседаний еще почти никого не было. Браун обвел взглядом места для публики. Ему запомнился студент, сидевший в первом ряду, — такое жадное любопытство, такой восторг были написаны на его лице. «Теперь по ночам во сне будет мечтать, как бы выпало это счастье, стать депутатом», — подумал Браун.
— Нет, сегодня поздно начнут, я знаю, — сказал около него кто-то.
Браун вышел из ложи и, плохо ориентируясь в Таврическом дворце, пошел по коридору налево. У полузакрытой двери не было сторожа. За ней зал был пуст. Только в конце, нервной походкой, видимо, кого-то поджидая, расхаживал пожилой человек в синем пиджаке. Браун направился наудачу дальше. Чиновник, сидевший за столом в галерее, окинул его быстрым внимательным взглядом, поспешно встал и направился к Брауну.
— Вам кого угодно? Правительство сейчас выходит…
Браун отошел назад и остановился у огромного окна. Отодвинув штору, он увидел в полутьме сад, голые деревья, печальное озеро. «Вот где должны были бы встать тени прошлого», — подумал он. Тени прошлого тотчас встали. Он представил себе огни, бархат, золото, гигантскую фигуру хозяина, шествие навстречу императрице… Оркестр играл турецкий марш Моцарта. «Все же этот дворец не следовало отдавать под парламент, — подумал нехотя Браун. — Есть стиль истории…» Электрический звонок резко прервал звуки турецкого марша. Браун продолжал смотреть на качающиеся деревья сада. Его воображение не хотело расстаться с пышной картиной шествия… Звонок продолжал звонить однообразно, все неприятней. Господин в синем пиджаке быстро направился к дверям министерского павильона. Браун оглянулся.
Из галереи вышло несколько человек в сюртуках. Один из них неестественно улыбался, стараясь казаться спокойным. У других лица были бледные и растерянные. «Вот они, преемники Потемкина! — подумал Браун. Два шествия слились в его представлении, как два снимка на одной фотографической пластинке. — Горе власти, которая перестала себя чувствовать властью…» Надоедливый звонок оборвался. Браун направился назад в ложу. У дверей коридора теперь находился чиновник. Он удивленно посмотрел на Брауна, попросил билет и недовольным тоном, хоть учтиво, заметил, что в Полуциркульный Зал могут входить только члены Государственной Думы. Сильный шум вблизи вдруг прервал слова чиновника. Из залы заседаний донеслись крики, гул голосов, отчаянный стук пюпитров.
— Ложа журналистов вон там, — сказал чиновник, поспешно отходя от Брауна.
Дверь ложи была раскрыта настежь, но пробраться туда было невозможно, — так была набита людьми ложа. Из зала несся бешеный крик: «Долой!.. В отставку!..» Браун остановился в недоумении. «Стоило хлопотать о билете… Не надо было выходить…» На пороге обменивались впечатлениями оставшиеся без мест журналисты.
— Безобразие!
— Исключать всех…
— Силой выведут, если не выйдут сами.
— Неслыханный позор!
— Что ж тут неслыханного? Горемыкина и не так встречали.
— Pour du chahut, c'est du chahut [43], — с некоторым удовлетворением в голосе пробормотал выходивший из ложи французский журналист. Он пожал плечами, захлопнул тетрадку и пошел по коридору направо. Браун направился за ним. В Екатерининском зале он остановился. «Что ж, уходить или еще подождать?» — спросил себя озадаченно Браун. Он сел в кресло, взяв со стола журнал. Какой-то запоздавший депутат взглянул на него с изумлением, пробегая в зал заседаний. Сквозь раскрывшуюся дверь с новой силой донеслись крики, стук, гул. По Екатерининскому залу быстро прошел отряд думской охраны. На пороге показался старый, седой человек с взволнованным, бледным лицом. Увидев солдат, он схватился за голову и бросился назад в зал заседаний.
«Вот он, Рок, — думал Браун. — Я не могу обосновать эту мысль, не могу даже найти для нее определения. Это последний логический обрыв… Порою мне казалось, что под красивым словом скрывается лишь мое отвращение от жизни, в котором нет ровно ничего замечательного… Но что же здесь я чувствую яснее, чем идею Рока? Да, отсюда могло прийти спасение, — и оно не придет. Поздно… Овладела всеми нами слепая сила ненависти и ничто больше не может предотвратить прорыв черного мира…»
Часть вторая I
— Николай Петрович, я вам возвращаю дело, — слегка грассируя, сказал товарищ прокурора Артамонов, входя в камеру следователя. — А у вас, кажется, лучше топят? Уж очень везде холодно… Я вам не помешаю?
— Нисколько, Владимир Иванович, садитесь. — ответил Яценко, здороваясь и кладя на стол папку № 16. — Неужели так быстро все прочли?
— О, нет, только пробежал главное. На некоторых ваших допросах я ведь был. Очень жаль, что не мог присутствовать при всех… пока я знаю дело только в общих чертах, вот, когда кончите, займусь им вплотную… Вы, кстати, когда думаете кончить?
— Вероятно, завтра вызову Загряцкого для предъявления ему следствия.
Артамонов только вздохнул, глядя на папку.
— Бог даст, он смилуется и откажется от чтения? Ведь вы ему все копии выдали… Я, правда, вам сейчас не мешаю?
— Да нет же… Опять вы нынче выступали, что-то уж очень часто в последнее время? — спросил Яценко, показывая глазами на новенький форменный сюртук товарища прокурора, очень ловко облегавший его осанистую фигуру крупного, сорокалетнего человека. Артамонов, не провинциал, а коренной петербуржец, никогда не надел бы форменного платья, если бы не выступать в суде. — У Брунста сюртук шили?
— Нет, у Дмитриева. Не хуже шьет и берет дешевле, чем Брунст.
Яценко слегка улыбнулся. Он знал, что Владимир Иванович, человек богатый и широкий, нарочно немного прибедняется в разговоре с ним, как бы для установления равенства. Эта, все же чуть-чуть заметная, деликатность, ничего не стоящая богатым людям, не раздражала Николая Петровича. Он любил Артамонова, хотя расходился с ним в политических взглядах: товарищ прокурора, вышедший из Училища Правоведения и отбывавший службу вольноопределяющимся в одном из аристократических полков, держался взглядов консервативных. Впрочем, в последнее время он, как все, либеральничал и бранил правительство. Самый вид этого жизнерадостного, красивого, немного легкомысленного барина, всегда прекрасно одетого, пахнущего какой-то необыкновенной, бодрящей lotion [44], был приятен Николаю Петровичу. В особенности же он ценил безупречную порядочность Артамонова. Чем старше становился Яценко, тем меньше он от людей требовал и тем больше ценил те простые, редкие качества, которые он определял словом джентльменство.
— Чаю не хотите ли? Пошлю в буфет.
— Нет, благодарю вас, я сам только что из буфета. Там Землин и Кременецкий меня задержали.
— Землин? Ах, да, фон Боден…
— Урожденный фон Боден. Фамилию новую выхлопотал, а частицы фон ему жалко… Не люблю немцев… Я знаю, вы мне не прощаете германофобства.
— Дались же вам эти немцы! — сказал, улыбаясь, Яценко. Николай Петрович чувствовал, что Артамонов в душе ровно ничего против немцев не имеет: по крайней своей впечатлительности, он только принял — без всякой злобы — единственное «фобство», сразу разрешенное и правой, и левой печатью.
— Кременецкий сияет, как медный грош, — продолжал Владимир Иванович. — Он при мне провожал к выходу эту самую нашу даму, госпожу Фишер… Поцеловал ей на рыцарский манер ручку, смотрит по сторонам этаким трубадуром. А красивая дама, Николай Петрович, правда?
— Ничего…
— Ничего?.. — недовольно протянул Артамонов. — Так-с… Я об этом нашем деле и хотел побеседовать. Заранее прошу сделать поправку на мое недостаточное пока знакомство с производством… Между нами комплиментов, слава Богу, не требуется, — вставил он шутливо, — разумеется, вы следствие произвели, как всегда, образцово. Но сказать, что я вполне удовлетворен результатами, по совести не могу…
— И я не могу. Никак не могу.
— Вы, однако, совершенно уверены, что убил Загряцкий?
— Я лично почти уверен… Но, во-первых, это почти… Во-вторых, пробелы в обвинительном материале и по-моему несомненны. Следствие сделало все, что могло, но вам задача предстоит нелегкая…
— То то и есть. Так вот, сначала о вашей внутренней уверенности. Прежде всего, как вы себе представляете самую картину убийства? Мне кое-что в ней неясно.
— Я себе представляю дело так. Фишер приехал туда незадолго до девяти часов вечера. Это точно установлено согласными показаниями… — Николай Петрович взял папку № 16 и перелистал бумаги… — согласными показаниями извозчика Архипенко, которые его туда отвез, и двух служащих гостиницы, — они видели, как он в девятом часу уехал из «Паласа»… Показанием извозчика твердо установлено также и то, что Фишер приехал на квартиру один.
— Это очень существенное обстоятельство.
— Очевидно, у них было условлено, что туда же приедет и Загряцкий. Кто из них приехал раньше, сказать с полной уверенностью не могу, да это и не так важно. Я склонен думать, что раньше приехал Фишер. В своей записке Фишеру Загряцкий обещает быть «там, где всегда» в десять часов. Правда, мы не имеем доказательства, что записка относилась именно к этому вечеру: она числом не помечена, конверт не сохранился, и дня доставки выяснить не удалось. Но записка может свидетельствовать о характере их встреч вообще…
— Виноват, я вас перебью: защита, конечно, скажет, что человек, замышляющий убийство, никогда не пошлет такой записки, — слишком грозная улика.
— Верно. Не всегда, правда, такие записки сохраняются, и, как вы лучше меня знаете, не всегда убийца обо всем подумает, — иначе какое же преступление можно было бы раскрыть? Но я и в самом деле склонен думать, что записка относилась к одной из предыдущих встреч. Встречались они в этой квартире не раз, и Петрова, швейцариха, признала в Загряцком человека, который бывал в доме с Фишером. Он, впрочем, этого и сам не отрицает.
— Но ведь и женщины должны же были явиться?
— Да, конечно. Здесь возможны два предположения. Либо женщин этих по уговору взялся привезти Загряцкий, — тогда он мог сказать Фишеру, что их что-либо задержало, что они приедут позднее. Либо женщин вызывали по телефону, — тогда до телефонного звонка, должно быть, дело не дошло. Очень нетрудно и симулировать телефонный разговор: Загряцкий мог снять трубку и фиктивно пригласить женщин, якобы вызвав нужный номер… Отпечатка пальцев на телефонной трубке не найдено. Первое предположение более правдоподобно. Как бы то ни было, и сыскная полиция с Антиповым, и свидетели по дому твердо стоят на том, что женщин в тот вечер не было, и я всецело к этому мнению присоединяюсь. Не тронута была, как вы знаете, и постель. Разумеется, никакие женщины следствию и не объявлялись.
— Еще бы они объявились! — с удивлением подняв брови, сказал Артамонов. — Кто же станет добровольно ввязываться в такую историю?
— У Антипова в этом мире большие связи, и никто из его осведомителей ему ничего указать не мог. Не удалось установить и личность женщин, которые бывали на квартире прежде. Это одно из слабых мест следствия, все мои усилия ни к чему не привели. И швейцариха, и дворник дома, и Загряцкий утверждают, что женщин вызывал сам Фишер и что они их по именам не знали. Отрицать такую возможность нельзя: может, и не знали. Наш полицейский розыск оказался в этом деле кое в чем не на высоте…
— Ах, да, кстати, — сказал вдруг Артамонов. — Или, вернее, некстати… Вы знаете новость? Федосьев на днях увольняется в отставку.
— Неужели? Об этом, впрочем, говорят давно. Говорили, я помню, еще до убийства Распутина.
— Но теперь, по-видимому, решено окончательно, я в министерстве слышал… Извините, что перебил вас. Итак, дальше, я вас слушаю.
— Остальное ясно. Они остались вдвоем и, в ожидании женщин, решили выпить вина. Загряцкий незаметно всыпал яд. Смерть последовала почти мгновенно… Затем Загряцкий вышел из дому и удалился. В одиннадцатом часу Петрова уже спала, и выйти незаметно было очень легко.
— Это, однако, опять слабое место. Загряцкий вошел в дом — никто его не видел. Вышел из дома — тоже никто не видел. Точно бестелесное существо. Конечно, все это вполне возможно, но наглядности нет, — вы меня понимаете? На Загряцкого прямо ничто не указывает. Ведь могли же бывать на квартире и другие люди.
— Однако, швейцариха видела только его, и сам он не мог назвать никого из других людей, якобы на той квартире бывавших. Это очень неправдоподобно: веселящиеся люди такого сорта обычно знают друг друга. По своей инициативе никто из бывавших там ко мне не зашел.
— Радости от огласки таких похождений мало… А правда, Николай Петрович, пошлите за чаем, я, пожалуй, выпью стаканчик.
— Конечно, выпейте.
Яценко встал и, кликнув сторожа, отдал распоряжение.
— Скорее всего, — сказал он, вернувшись и садясь снова за стол, — скорее всего, никто другой на этой квартире не бывал. Загряцкий был и главным собутыльником Фишера, и поставщиком живого товара… Милые нравы! — с отвращением произнес Николай Петрович.
— Это как во Франции в восемнадцатом веке, — fournisser de menus plaisirs …[45] Что ж, эти господа Фишеры и есть теперь настоящие короли… Так, значит, Загряцкий прибыл туда в десятом часу, проскользнул незаметно в дом и вошел в квартиру, открыв дверь ключом. Так?
— Да. Вам известны показания статского советника Васильева и его лакея Барсукова. Они, как вы помните, живут в квартире № 3, расположенной по другую сторону площадки. Оба свидетельствуют, что звонка в тот вечер в квартире № 4 они не слышали. Были дома, не спали и звонка не слышали. Между тем, произведенный мною опыт подтвердил, что звонок в квартире № 4 резкий и сильный: его нельзя не услышать из небольшой квартиры Васильева… А вот открыть дверь при помощи ключа и затем запереть ее можно почти без шума. Очевидно, убийца имел ключ от квартиры.
— Виноват, почему же непременно ключ? Быть может, у них был установлен стук, что ли, по которому кто первый пришел, тот и открывал дверь.
— Все может быть, — сказал Яценко, — но я не вижу, для чего Фишеру мог понадобиться какой-то условный стук? Он от Васильева не прятался. Двери открывают либо по звонку, либо ключом… Кроме того, стук, вероятно, тоже услышал бы если не Васильев, то его слуга, комната которого расположена почти у самой площадки… Нет, я думаю, можно безошибочно сказать, что убийца открыл дверь ключом. Возникает таким образом вопрос, у кого был ключ от квартиры № 4. Прежде было всего два ключа. Один, запасной, хранился у домовладельца и в счет не идет. Другой ключ был у Петровой. Его она и давала всем, кто эту славную квартиру снимал, — снимали ее и посуточно, и на неделю. Фишеру этот порядок не понравился, — вероятно, он не хотел находиться, так сказать, под контролем швейцарихи. По его предложению, Загряцкий заказал у слесаря Кузьмина еще два ключа. Из них Фишер один взял себе, а другой отдал Загряцкому, — вот какая у них была тесная дружба. Этот ключ, как вы помните, был найден при обыске у Загряцкого, — улика серьезная.
— Если хотите, даже слишком серьезная: непонятно, почему Загряцкий не уничтожил после убийства эту улику? Надо было выкинуть куда-либо этот ключ.
— Я опять отвечаю: Загряцкий мог просто об этом не подумать, мог и не успеть это сделать. Он, наверное, никак не предполагал, что следствие так быстро до него доберется. Кроме того, Загряцкий должен был понимать, что полиция разыщет слесаря, расспросит швейцариху и узнает, у кого были ключи от квартиры. Тогда, напротив, именно отсутствие у него ключа явилось бы очень серьезной против него уликой.
Владимир Иванович засмеялся.
— Темная вещь следствие, — сказал он, мягко кладя руку на рукав Николая Петровича. — Нашли вы у Загряцкого ключ — улика. Не нашли бы ключа — опять-таки улика.
— Ну, вы несколько упрощаете мою мысль, — сказал с легким раздражением Яценко.
— Я шучу, конечно…
Сторож внес на подносе два дымящихся стакана, сахар, лимон.
— Вот и чай, с удовольствием выпью, — сказал Артамонов. — И у вас все-таки холодно, мне только после коридора показалось, что тепло.
— Эта улика, — начал снова следователь, когда дверь закрылась за сторожем, — была бы чрезвычайно важной, если бы не одно обстоятельство: сам Загряцкий утверждает, что заказал не два, а три ключа. Вы, кажется, были при первом допросе слесаря? Он сначала твердо сказал: заказаны ему были два ключа. Ясно сказал: два… Затем я его допрашивал вторично, уже в присутствии Загряцкого… Старик видит, что от его показания может зависеть судьба обвиняемого. Вы русского человека знаете, — он начинает колебаться: как будто два ключа, а, может, и вправду три. Записей у него никаких не ведется. На суде, вероятно, слесарь сошлется на запамятование, и таким образом одна из самых важных улик пропадет. Ясное дело, защита все построит на этом лишнем ключе: убил, мол, тот, у кого последний ключ.
— И не говорите, — сказал со вздохом Владимир Иванович, грея руки около стакана. — При бойком защитнике нет ничего хуже этих гипотетических убийц. Кто-то мог убить, значит, кто-то убил, и неугодно ли обвинению доказать обратное? Они мастера выдумывать арабские сказки… Да, кое-что неладно в этом деле, вот, и дактилоскопические оттиски оказались не тождественными, — добавил он, раздавливая ложечкой лимон в светлевшем стакане.
Яценко махнул рукой.
— Ох, уж эта мне дактилоскопия! — сердито ответил он. — Сходство в отпечатках, видите ли, весьма большое, но полного тождества нет. Лишь с толку сбивают следствие. Право, прежде без дактилоскопии было лучше. Во всяком случае, на снимок с пальцев самого Фишера этот оттиск оказался совершенно непохожим.
— Я, однако, читал, будто на снимки с мертвого тела точно полагаться нельзя.
— Да и на снимки с живого человека, кажется, тоже нельзя. Что ни говорите, самое важное все-таки допрос. Должен вам сказать, на меня этот Загряцкий сразу произвел самое отталкивающее впечатление.
— На меня также.
— Есть люди, у которых преступность точно читается на лице…
— Хотя, знаете, и попасться можно здорово! — сказал Артамонов и с удовольствием отпил чаю из стакана.
— Его объяснения были весьма неудовлетворительны по целому ряду пунктов. Так, в вопросе о записке он сбился и сразу взял свое показание назад, происхождение векселя объяснил тоже не очень правдоподобно, о своих средствах к жизни дал неверные сведения, — очень важное обстоятельство. И, наконец, самая главная улика: ложное alibi. Заметьте, все его показания относительно картины «Вампиры» — содержание, имена актеров — оказались точными. Значит, он действительно был в кинематографе «Солей». Там эта пьеса шла три дня и должна была идти до конца недели. Вот что может свидетельствовать о заранее обдуманном намерении: Загряцкий готовил себе alibi. И в самом деле, если б не роковая для него случайность, порча ленты, было бы очень трудно доказать, что он в кинематографе не был… Он солгал, солгал искусно и обдуманно, но стал жертвой редкой случайности. Вы его не видели, Владимир Иванович, в ту минуту, когда я ему сообщил, что в вечер убийства «Вампиры» были заменены другой пьесой. Это было для него страшным, потрясающим ударом…
— Сослался на нездоровье, обычная в таких случаях ссылка, — сказал Артамонов.
— Разумеется. И на дальнейших допросах он по этому вопросу ничего путного сказать не мог: не помнит, мол, где был, только и всего. Весь день помнит до мелочей, а где был вечером, не помнит. Нет, улика решающая, неотразимая! — сказал Николай Петрович.
— Неотразимая, — повторил Артамонов и, точно успокоенный, допил чай. — Вы совершенно правы. Ну, а как вы формулируете мотивы преступления? — спросил он, подумав. — Ведь векселю вы большого значения не придаете?
— Нет, большого не придаю. Срок векселя мог иметь некоторое значение для выбора момента убийства, но не больше, Загряцкий мог думать, что неуплата денег по векселю испортит его отношения в Фишером и, следовательно, затруднить выполнение дела. Однако, мотивом преступления вексель, конечно, быть не мог. Мотив преступления ясен: наследницей богатства Фишера, всего или значительной части, была его жена.
— Вы, значит, считаете ее связь с Загряцким совершенно несомненной? Но это и есть, по-моему, наиболее уязвимое место обвинения. Связь эта не доказана, да и как ее доказать? Оба отрицают категорически. Правда, здесь их интересы сходятся.
— Совершенно сходятся, — подтвердил Яценко. — Ей желательно выкарабкаться из всей этой грязи и обеспечить за собой роль благородной жертвы. А он понимает, что, пока их связь не доказана, обвинение висит в воздухе. Конечно, доказать факт связи нелегко. Впрочем, показания служащих гостиницы в Ялте вы знаете: занимали они там комнаты рядом, со сквозной дверью, вместе выходили, вместе обедали. Платила, кстати, по счетам она, это точно установлено…
— Ее писем, однако, у него не найдено.
— Конечно, он не стал бы их у себя держать.
— Заметьте, я, как и вы, не сомневаюсь в их близких отношениях, — сказал Владимир Иванович, — достаточно было их видеть вместе на тех двух допросах. Но впечатление — одно, а доказательство — другое…
— Со всем тем кое-что в их отношениях мне, правду сказать, неясно. Она, кажется, его любила. Но для Загряцкого, видите ли, она была женой его друга и покровителя, больше ничего. В Ялту он ее сопровождал по просьбе мужа, — на этом оба сходятся, — чтобы ей, мол, не скучать и не быть одной в такое тяжелое время. По-видимому, что-то в Ялте между ними произошло, какая-то размолвка. Он просил у нее денег, она отказала. Затем она показывала, что застала его врасплох: он рылся в ее бумагах, в ящике. Это будто бы ее возмутило… Здесь мне многое непонятно: зачем ему было рыться в ее бумагах? Какие-такие секреты его там интересовали? Но она мне ничего ответить не могла, — кажется, она этого действительно сама не понимает. У меня было даже такое впечатление, что вопрос этот ее мучит… Я спросил, не было ли в ящике денег? Нет, деньги она носила всегда при себе, и он это знал. Кажется, ей очень хочется предположить в нем мотив ревности, — добавил Николай Петрович, — только очень это неправдоподобно: он во всяком случае был к ней равнодушен. Как бы то ни было, между ними тогда, в июле, произошла ссора, он уехал в Петербург, и они будто бы больше не встречались и даже не переписывались.
— Да и в то мне плохо верится, что она из-за этого с ним порвала. Что другое, а уж такие пустяки женщины легко прощают.
Яценко, улыбаясь, взглянул на Артамонова, который, по его предположениям, должен был хорошо знать женщин. Владимир Иванович имел прочную репутацию покорителя сердец. «И очень правдоподобна эта репутация», — с легким вздохом подумал Николай Петрович.
— Да, да, да, — не совсем кстати повторил он рассеянно. Яценко повел головой и вернулся к предмету разговора. — Да, вся эта история с их разрывом довольно неправдоподобна. Что было в действительности, я, конечно, не могу сказать. Может быть, с ее стороны была ревность, а может, он проговорился перед ней о каких-нибудь своих планах… Она, разумеется, с возмущением это отрицает. Возможно, что и разрыва настоящего не было. Теперь она страшно на него зла, видимо, за то, что он впутал ее в столь неприятное, компрометирующее дело: эта милая дама чрезвычайно любит радости жизни, деньги, поклонников, платья, шампанское, любит, кажется, и эффектные роли. Теперь она твердо вошла в роль несчастной жертвы…
— То-то бенефис устроит себе Кременецкий! — сказал весело Владимир Иванович. — Какую поэзию разведет!
— Вероятно… Я, кстати, у него сегодня в гостях, у них любительский спектакль.
— Вот как? Охота вам к нему в гости ходить.
Хоть он и проявлял с начала войны некоторый либерализм, Владимир Иванович все же немного гордился тем, что не бывает у левых адвокатов.
— С большим удовольствием у него бываю, — ответил Яценко, сразу насторожившись и как бы готовясь к отпору.
— А куш он сорвет с госпожи Фишер немалый, — сказал благодушно Владимир Иванович. Но Яценко, не любивший разговоров о заработках общих знакомых, вернулся к делу.
— Да, теперь она топит Загряцкого, но если бы все сошло гладко, то, независимо от их ссоры, Загряцкий отлично сумел бы на ней жениться и прибрать к рукам богатство Фишера… Во всяком случае, он мог так думать. Вот и мотив убийства.
— Мотив основательный. У покойника было, говорят, миллионов десять… Нам бы с вами, Николай Петрович, а?
— Вам, кажется, жаловаться нечего.
— Я не жалуюсь. Хотя австрийцы захватили мою землишку, к себе мою пшеницу тащат, разбойники…
— Вернется и землишка, — сказал Яценко, слышавший, что всего землишки у Владимира Ивановича было тысяч пять десятин.
— Разумеется, вернется. Вы знаете, наши дела на фронте в блестящем состоянии? Снарядов у нас теперь больше, чем у немцев. Этой весной, с генеральным наступлением на всех фронтах, все будет кончено.
— Слышали… Дай-то Бог! — сказал со вздохом Николай Петрович.
II
В будуаре Тамары Матвеевны Кременецкой был устроен буфет. За длинным, накрытым дорогой белоснежной скатертью, столом лакей во фраке разливал шампанское, крюшон, оранжад. Другой лакей и горничные Кременецких разносили по парадным комнатам подносы с бокалами, конфетами и печеньем. Первая половина спектакля кончилась, был объявлен получасовой антракт и большая часть гостей перешла из гостиной, где ставили «Анатэму», в будуар и в кабинет хозяина. Тамара Матвеевна беспрестанно исчезала из парадных комнат. Ей предстояла самая трудная часть приема, ужин, для которого с отчаянной быстротой шли приготовления на кухне и в столовой, — прислуга суетилась и волновалась еще больше, чем хозяева. Муси не было видно, о ней все спрашивали. Муся не играла в «Анатэме»; она исполняла роль Коломбины в «Белом Ужине» и предпочла до того не выходить в парадные комнаты. Гостям говорили, что она гримируется в дамской артистической.
Первая часть спектакля сошла хорошо. На долю Березина, который по-новому в сукнах поставил «Анатэму» и исполнял в ней заглавную роль, выпал шумный успех. Сергею Сергеевичу была устроена овация. Гости были очень довольны вечером и дружно хвалили спектакль даже в отсутствии хозяев. Натянутость, обычная в начале больших приемов, давно исчезла. В буфетной то и дело хлопали пробки бутылок, — Семен Исидорович приказал не жалеть шампанского.
— Милая, на редкость удачный ваш вечер, — говорила Наталья Михайловна Яценко, поймав у буфета хозяйку. — Мне ужасно весело!
— Нет, правда? Как я рада, — ответила Тамара Матвеевна, бегло и беспокойно осматривая буфет: всего ли достаточно? Но стол ломился от тортов, фруктов, пирожных. — Отчего же, милая, вы ничего не берете? Выпейте шампанского. Или, может быть, оранжада? А вы, Аркадий Николаевич, вам можно что-нибудь предложить?
— Благодарю, шестой бокал пью, — сказал, весело смеясь, Нещеретов. — Отличнейший был спектакль…
— Ах, я так рада… Правда, Березин был удивителен? По-моему, он теперь наш первый артист.
— Первый не первый, но один из первых, — сказал Фомин, отрываясь на минуту от разговора с дамой, которой он объяснял, что апельсины и яблоки надо покупать непременно у Романова, а шоколад у Балле. — Нет, уж вы мне поверьте, — продолжал он, обращаясь к даме, — земляничный пирог только у Иванова, шахматный у Гурмэ, а шоколад не иначе, как у Балле.
— Наталья Михайловна, как мило играл ваш сын… Вы знаете, я в первую минуту его и не узнала: кто это, думаю, высокий? Господи, да это же Витя!
— Ваш сын какую рольку играл? — спросил Нещеретов госпожу Яценко, равнодушно соображая, кто эта дама. Не дожидаясь ответа, он отвернулся и взял новый бокал шампанского.
— «Некто, ограждающий входы», — поспешно пояснила Тамара Матвеевна. — Ему всего семнадцать лет. Правда, он очень мило играл, Аркадий Николаевич?
— Ничего, ничего… А где же Марья Семеновна?
— Она готовится к спектаклю… Представьте, она так волнуется…
Нещеретов выпил залпом бокал, весело засмеялся и отошел от буфета.
— Еще бы не волноваться! — сказала Наталья Михайловна. — Я бы, кажется, умерла со страху, если бы меня заставили играть… Семен Сидорович, — позвала она проходившего по будуару хозяина дома, — Семен Сидорович!..
— Золотая! — сказал Кременецкий, рассеянно, но с чувством целуя руку Наталье Михайловне.
— Вы со мной сегодня в третий раз здороваетесь…
— Я не здороваюсь, я ручку целую, разве нельзя и в тридцатый раз?
— Правда, Витя хорошо играл? — спросила мужа Тамара Матвеевна и, с улыбкой передав ему гостью, поплыла дальше.
— Божественно! — ответил так же рассеянно Семен Исидорович. Он тотчас поправился: — Очень славно играл ваш Витя, очень…
— Да вы мной не занимайтесь, Семен Сидорович, — добродушно сказала Наталья Михайловна, — идите по своим делам… Вы в кабинет шли? Можно и мне туда? Там умные мужчины разговаривают, я ужасно люблю умные разговоры, даром что сама глупа.
— Дорогая, вы умница и вы здесь дома.
— Так пойдем туда, я одна боюсь.
— Я гарантирую вам полную безопасность, — сказал Семен Исидорович и, взяв под руку госпожу Яценко, направился с ней в кабинет. — Правда, недурно прошел «Анатэма»?.. Как надо говорить: прошел «Анатэма» или прошла «Анатэма»?
— Хоть «прошло» говорите, — пропади она пропадом! Извините меня, это я о пьесе… Вы меня убейте, Семен Сидорович, я ни одного слова не поняла! Читала и тоже не поняла ни слова. Сознайтесь, — я свой человек, — ведь никто не понимает? Я другим не скажу, ей Богу!
— Ну, что вы, что вы, дорогая! Это одно из высших достижений нашего искусства, — сказал испуганно Кременецкий. — С идеями Леонида Андреева можно и не соглашаться, но в смысле исканий и, так сказать, дерзновенности, это… Вот и Николай Петрович… Теперь больше не боитесь?
— А тот высокий с ним кто, я не помню? Не страшный?
— Разве вы его не знаете? Это милейший друг наш, князь Горенский, член Государственной Думы, — ответил с удовольствием Кременецкий. — Он тоже должен был у нас играть, да потом сдрейфил. Очень милый человек. Этого вы знаете, это профессор Браун, знаменитый ученый. А тот, что к ним подходит, Нещеретов, слышали? — поспешно сказал Семен Исидорович.
— Их я знаю.
— А этот молодой человек — господин Яценко, — шутливо продолжал Кременецкий, взяв за плечо неловко вошедшего в кабинет Витю. — Не бегите от нас, друг мой. Бегает нечестивый, ни единому же гонящу… Прекрасно играли, молодой человек.
— Благодарю вас… Вы это так говорите, — сказал Витя, не без труда возвращаясь после игры к обыкновенной речи.
— Ничего не так…
— Не верь, не верь, Витенька: так. И не огорчайся: твою роль самому Сальвини дай, он лучше тебя не сыграет… Что это у тебя так глаза блестят? Ах, да ты это их карандашом подвел… Я в углу сяду, Семен Сидорович, оттуда буду умных людей слушать, вон там и Анна Ивановна сидит одна-одинешенька… Теперь вы мне больше не нужны, ступайте с Богом.
— А, Витя, пожалуй сюда, — позвал сына Николай Петрович. — Ну, поздравляю, все было хорошо. Что, поволновался, ограждая входы?
— Нисколько!
— Ваша роль не очень благодарная, — сказал князь Горенский, — но вы вышли из нее с честью.
— Ведь вы, князь, кажется, тоже должны были играть? — спросил Кременецкий.
— Нет, меня, слава Богу, с самого начала признали негодным.
— Напрасно, напрасно, — заметил подошедший Фомин. — Я уверен, князь, что вы были бы прекрасным актером. Я недавно вас слышал в Думе, у вас очень хорошая дикция.
— Понимаю, это значит, что содержание моей речи произвело на вас удручающее впечатление, — сказал, смеясь, Горенский. — Но когда же вы меня слышали?
— По-моему, в начале декабря, незадолго до убийства Распутина… Кстати, — добавил он, — вы знаете, в городе настроение становится все более тревожным. Ожидают рабочих беспорядков, забастовки… Говорят, мука у нас на исходе. Мои знакомые уже делают запасы. Я тоже подумываю.
— Да вот потому и продовольствия нет, что люди делают запасы, — сказал Яценко.
— Ну, не поэтому. Обычная тупость нашей власти, — сердито ответил князь. — Она же теперь и меняется беспрестанно. Чему я рад в этой чехарде, Федосьева, кажется, турнут.
— Это положительно злой гений России, — сказал Кременецкий.
Нещеретов пренебрежительно засмеялся.
— Какой он злой гений! Умный чиновник, только и всего.
— Нет, не говорите, Федосьев человек значительный.
— Не знаю, в чем его значительность: делал то же, что и незначительные. Всем им главного недостает: дела не умеют делать, да. Бумаги писать и по тюрьмам людей сажать — штука нехитрая.
— Разумеется! — сказал Семен Исидорович и снова отошел к Наталье Михайловне. Он старался быть особенно любезным с семьей Яценко, искренно любя и уважая следователя: в последнее время их семьи еще больше сблизились. За Кременецким нерешительно последовал Витя. Ему не очень хотелось пристраиваться к матери, но там в углу было спокойнее: с Натальей Михайловной сидела пожилая, тихая, явно безопасная дама. Витя занял место сбоку и немного позади дамы: таким образом и разговаривать было не нужно, и никто вместе с тем не мог подумать, что его оставили одного.
— Так больше не боитесь, Наталья Михайловна? — спросил Кременецкий. — Ну, слава Богу… Анна Ивановна, не скушаете ли чего? Пирожное или бутерброд? Ведь до ужина, пожалуй, далеко? — заметил он вопросительно, точно находился не у себя, а в чужом доме.
Семен Исидорович поболтал с дамами минуты две, подсадил к ним еще кого-то и вышел снова в будуар. Витя принес Анне Ивановне кусок торта и, исполнив светские обязанности, занял прежнее место, очень довольный тем, что его оставили в покое. Обилие впечатлений от игры неожиданно сказалось в нем усталостью. Лицо еще горело от грима, только что снятого вазелином. Ему было скучно: Муся все не показывалась. Что-то в воспоминании беспокоило Витю. «Да, та фраза», — подумал он. Спектакль в самом деле сошел благополучно. Но на своей первой фразе Витя запнулся. Фраза, правда, была трудная: «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь». На репетициях Березин требовал, чтобы в этой фразе Витя достиг последнего предела металличности. На репетициях фраза шла гладко, но на спектакле Витя запнулся и последнего предела металличности не достиг. «Эх, промямлил! — подумал он, вздрогнув при этом воспоминании. — Если б еще это была не первая фраза, тогда не так было бы заметно… Муся едва ли слышала… Горенский, однако, похвалил…» Витя попробовал прислушаться к разговору взрослых. Ему показалось, что и раньше, на первом вечере у Кременецкого, был такой же или почти такой же разговор.
— Да, это очень характерно, что все выдающиеся люди отходят от власти в нынешнее грозное время.
— Я ничего грозного не вижу, господа. Вы говорите, революция на носу? Да мы ее ждем сто лет, и все что-то ее не видно.
— Бог даст, скоро увидите.
— И рад бы надеяться, но боюсь, что наши надежды будут обмануты. Я, напротив, слышал, что брожение среди рабочих идет на убыль.
— Вы, Алексей Андреевич, не выступаете на юбилее патрона? — оглянувшись, спросил вполголоса Горенского Фомин.
— Не знаю, едва ли. Я терпеть не могу юбилейных речей.
— Да, но вам нельзя не выступить: будет лютая обида.
— Тогда я выступлю, если лютая обида. Это в какой день? Вот вам, по-моему, вам надо произнести большую речь, дать, так сказать, общую характеристику…
— Благодарю вас: я уже смеялся.
— И юбилей, и спектакль… «Слишком много цветов!» Что это они так развеселились? Да ведь спектакль должен был состояться еще в декабре?
— Отложили из-за болезни Тамары Матвеевны… Теперь она, бедная, совсем измоталась с хлопотами по устройству юбилея. Сегодня еще мне говорит: «все так сочувственно отнеслись…» Elle est impayable [46].
Князь показал Фомину глазами на подходившего сзади Кременецкого.
— Мы о вашем юбилее толковали, не слушайте, — несколько игривым тоном сказал Горенский.
— Ох, и не говорите, смерть моя! — ответил шутливо, замахав руками, Семен Исидорович. — Вот тоже выдумали дело: чествовать meine Wenigkeit [47], как говорят коварные тевтоны.
— Не было у бабы забот, так купила порося, — сказал Нещеретов.
— Нет, что же, — взглянув на него и на Кременецкого, поспешно заметил князь. — Вы, Семен Сидорович, отказом обидели бы всех ваших почитателей, от них же первый есмь аз.
— Князь уже готовит экспромт…
III
В комнату, с видом скромного триумфатора, вошел Березин. Все осыпали его поздравлениями.
— Господа, моей заслуги нет никакой, — склонив голову набок, сияя ласковой улыбкой и подведенными глазами, говорил бархатным баритоном актер. — Сердечно вас благодарю. Быть может, основная идея моей постановки, мое толкование «Анатэмы» в самом деле свежи, ну, свободны от этой, знаете, академической условности, но, право, заслуга успеха принадлежит не мне, а труппе… Вот ему и другим, — шутливо пояснил он, показывая на вспыхнувшего Витю. Князь Горенский, взяв за пуговицу Березина, тотчас вступил с ним в оживленную беседу.
«Значит, в самом деле сошло недурно, — с облегчением подумал Витя, — и Сергей Сергеич не жалеет, что поручил мне эту роль». На первом заседании участников спектакля высказывалось мнение, что «Некто ограждающий входы» должен быть огромного роста. Березин с этим соглашался, но выбирать не приходилось: охотников взять эту роль было немного, и ее поручили Вите. «Ну, мы вас как-нибудь приспособим», — утешил его Сергей Сергеевич.
Витю действительно с внешней стороны приспособили. По роли ему полагались «длинный меч» и «широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню». Меч Березин доставил из своего театра; а с широкими одеждами вышло трудновато. Актерам полагалось изготовить костюмы на свой счет, — вернее, о расходах никто ничего не говорил. Главные участники спектакля шили платье у театральных костюмеров. Витя убедительно представил матери необходимость сделать то же самое. Но Наталья Михайловна твердо заявила, что таких одежд все равно никакой костюмер не сошьет, и предложила сшить костюм дома и использовать для него свой старый шелковый пеньюар. От этой мысли Витя сначала пришел в ужас. Однако затем оказалось, что предложение Натальи Михайловны было не так уж нелепо. Вообще Витя с неудовольствием замечал, что в его спорах с матерью ее указания, первоначально очень его раздражавшие, оказывались часто не лишенными справедливости. Так и на этот раз приглашенная Натальей Михайловной домашняя портниха Степанида сшила из пеньюара костюм, который на репетиции был признан вполне удачным. Заказывая одежды Ограждавшего входы, Витя с мучительной неловкостью объяснил Степаниде идею костюма. Но портниху удивить было трудно: вид у нее был такой, точно она всю жизнь шила — и притом из старых пеньюаров — широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню. Степанида, женщина интеллигентная, не удовлетворившись объяснением Вити, потребовала у него книгу Андреева и, одобрительно кивая головой, прочла вслух то, что относилось к внешнему облику Ограждавшего входы: «Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню, — медленно, с видом полного одобрения, читала Степанида. — Он скрывает лицо свое под темным покрывалом, и сам являет собой величайшую тайну. Единый мыслимый, един Он предстоит земле: стоящий на грани двух миров, он двойственен своим составом: по виду человек, по сущности Он Дух. Посредник двух миров, Он, словно щит огромный, собирающий все стрелы, — все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал, Он облекает речь свою в безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат, и в человеческое слово…» Витя и теперь краснел, вспоминая чтение Степаниды. Он говорил всем, что чрезвычайно любит «Анатэму».
«Да нет же, может и вправду все отлично сошло? — подумал Витя, с благодарностью глядя на Березина, который, все так же склонив голову набок и снисходительно улыбаясь, говорил с князем Горенским. — Сейчас и Мусю увижу!..» Его усталость вдруг сменилась радостным оживлением. Перед угловым диваном остановился с подносом лакей. Витя встал и залпом выпил бокал крюшона.
— Витенька! Однако! — с укором сказала Наталья Михайловна, пригрозив ему пальцем. Не раздражившись и не обратив внимания на замечание матери, Витя отошел к группе, собравшейся вокруг Сергея Сергеевича. Там все еще говорили о пьесе.
— Нет, Леонид Андреев очень талантливый человек и недаром он у нас властитель дум, — говорил ласково Березин, обращаясь преимущественно к Яценко и к Брауну, который слушал не очень внимательно. Вид у Брауна, впрочем, был много лучше и оживленнее, чем прежде.
— Его таланта я нисколько не отрицаю, — ответил Николай Петрович, — да и человек он, кажется, очень хороший.
— Не отрицаю и я, — сказал Браун. — Об Андрееве поэтому и должно говорить, что он талантлив и очень характерен для большой эпохи. Для историка он мог бы быть кладом, как первый, во всяком случае наиболее известный, писатель выдающегося, даже замечательного поколения, которое волей судьбы прожило свой век на ходулях… На ходулях оно и умирало, притом порой геройски. У нас театр, пожалуй, естественнее, чем жизнь.
— Сергей Сергеевич, так ли верно, что Андреев теперь властитель дум? — вмешался Фомин. — По-моему, он был им лет пять тому назад.
— Молодежь и сейчас очень им увлекается, — сказал Яценко, думая о Вите. — А, насколько я могу судить, наша молодежь, хоть и ломается немного, все же лучше и чище западной. Там только о карьере и думают, да еще о спорте. Возьмите Америку…
— Возьму, возьму, нам Америке надо в ножки кланяться, — сказал с усмешкой Нещеретов.
Яценко взглянул на него холодно.
— Не во всем, я думаю.
— А я так думаю, что во всем.
— В Америке, — сказал Браун, — людям, как всем известно, с детства внушают основной культ: культ богатства. Казалось бы, культ понятный и общедоступный; но человечество так косно, что ему нужно внушать даже величие доллара, и внушается оно там с необыкновенной силой, с замечательным искусством, всеми способами, — вот теперь нашли новый, самый действительный: кинематограф, с его картинами из жизни богачей… В лучшем случае получается Рокфеллер, в худшем — разбойник с большой дороги. Но именно благодаря прочности основного культа, американцы могут себе позволить и роскошь, например, культ Вашингтона, Линкольна, Эдисона, — вроде как в блестящую пору крепостного права наши помещики могли себе позволить вольтерьянство. Наблюдатели американской жизни говорят в последнее время о духовном голоде в Соединенных Штатах, — я спокоен: от этого голода Соединенные Штаты не пропадут.
«Ишь, как он разговорился, молчальник», — подумал Семен Исидорович.
— В том, что вы говорите, дорогой доктор, бесспорно много верного, — сказал Кременецкий (как все, произносящие эту фразу, он не чувствовал ее неучтиво-самоуверенного характера). — Однако разрешите мне сказать вам, что ведь и Россия не пропадет, правда?..
— Предприятие громадное, но не так, чтобы слишком солидное, — вставил, смеясь, Нещеретов.
— Ну, ничего, Бог даст, не пропадем… Не пропадем, Аркадий Николаевич, — с тонкой улыбкой продолжал Семен Исидорович. — И все же я думаю, что этот духовный голод, о котором вы говорили, дорогой доктор, эти мятущиеся искания, эта святая неудовлетворенность, составляют лучшее украшение русского духа… Мы очень отстали от запада в смысле культуры материальной. Но по духовности, если можно так выразиться, запад отстал от нас на версту…
— Изюминки там нет, это верно, — подтвердил князь Горенский. — Положительно, эта изюминка самое гениальное, что написал в своей жизни Толстой.
— Духовный голод у нас, конечно, велик, — сказал, не дослушав, Браун. — Но у средней нашей интеллигенции это голод несколько отзывается захолустьем. В последние пятьдесят лет у нас почти все молодое поколение воспитывалось в идее борьбы с правительством… Я не возражаю по существу, — добавил он, — но во имя чего ведется борьба? Во имя конституционного или республиканского строя, т. е. ради того, что на западе давно осуществлено. Тургеневский Инсаров герой, но он провинциал безнадежный.
— Да он болгарин, — сказал, смеясь, Яценко.
— В маленьких странах это чувствуется еще сильнее. Я скандинавскую литературу с ее захолустным богоборчеством просто не могу читать.
— Отчего же? У Ибсена отлично про Нору рассказано, как она мужа бросила, — заметил весело Нещеретов, видимо одинаково относившийся ко всем вообще литературным произведениям. — Или еще у него какой-то строитель, а? Башню они там все, кажется, строят… Правда, башню, Семен Сергеевич?
— Сергей Сергеевич, — поспешно поправил хозяин. Березин, ничего не ответив, с раздраженным видом вышел из комнаты. Нещеретов весело глядел ему вслед.
— Люблю актеров, смерть! — сказал он.
— Говорят, Аркадий Николаевич, что вы хотите основать свой театр? — спросил почтительно Фомин. — Поговаривают также о газете. Много вообще поговаривают.
— Вилами на воде все писано.
— Вы тоже в некотором роде строитель Сольнес.
— Федот, да не тот: Аркадий Николаевич не башню… Знаете, Аркадий Николаевич, кто от вас без ума? — вмешался с улыбкой Кременецкий. — Очень красивая дама… Не знаете? Елена Федоровна Фишер. Наша с Николаем Петровичем добрая знакомая…
— Та, с которой я у вас обедал? — спросил Нещеретов с интересом, несколько неожиданным для Семена Исидоровича. — Действительно, интересная дама… Что же ее дело?
— Это у Николая Петровича надо узнать.
Яценко неопределенно развел руками.
— Александр Михайлович, что такое собственно этот яд, которым отравлен Фишер? — спросил Брауна Кременецкий.
— Почем мне знать? Вы спросите у того аптекаря, который производил экспертизу.
— Ну, он не аптекарь, — сказал Кременецкий. — Это химик-фармацевт губернского правления.
— Вот у химика-фармацевта губернского правления и надо спросить.
«И об этом тогда на вечере говорили», — опять подумал Витя.
— Александр Михайлович, кажется, не очень высокого мнения о нашей экспертизе, — сказал Яценко.
— Хвалить ее действительно не за что, — резко ответил Браун.
Разговоры в кабинете стихли.
— Вы имеете основания сомневаться в выводах экспертизы? — спросил Кременецкий.
— Я очень мало о ней знаю, но чрезмерная определенность в решении вопросов, по меньшей мере темных, естественно должна вызывать сомнение… Да и все так называемое научное следствие!.. Знаете, как дети рисуют: начнет рисовать наудачу головку, вышло немного похоже на тетю Маню, — он и продолжает тетю Маню.
— Насколько я могу понять, вы вообще плохо верите в судебно-медицинское исследование, — заметил сухо Яценко: тон Брауна начал его раздражать. — Однако, на основании такой же экспертизы людей ежедневно отправляют в нашей отсталой стране на каторгу, а на западе и на эшафот.
— Я и думаю, что процент невинно осужденных среди этих людей довольно значителен, особенно среди тех, кого осуждают на основании разных последних слов науки.
— Да это ужасно! — сказала с искренним возмущением Наталья Михайловна. Все на нее оглянулись.
— Позвольте, значит вообще никогда нельзя установить правду? — спросил Горенский.
— Зачем же вообще и никогда? Очень часто можно, но далеко не всегда… Я не знаю толком, — продолжал Браун, — от какой болезни умер мой отец, хотя его лечили светочи науки, не чета химику-фармацевту губернского правления. Я не знаю, отчего покончил с собой мой брат, хотя вся его жизнь протекла у меня на глазах. Мы не знаем полной правды ни об одном почти историческом событии, хотя свидетелями и участниками каждого были сотни заслуживающих доверия людей, — ведь выводы разных историков часто исключают совершенно друг друга. Но вот в уголовном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца, да еще всем предписываете, как во Франции, говорить «правду, всю правду и только правду». А они, и виновные, и невиновные, обычно не могут не лгать, потому что вся их жизнь выворачивается наизнанку, на потеху публике.
— Не могу с вами согласиться, — сказал Яценко. — Порядочному человеку скрывать нечего и он на суде, под присягой, лгать не станет.
— Однако, в самом деле было бы ужасно предположить, что на эшафот и на каторгу часто посылают ни в чем неповинных людей! — воскликнул Горенский.
— Я это отрицаю категорически, — сказал, слегка бледнея, Николай Петрович. — Судебные ошибки составляют самое редкое исключение. Их процент совершенно ничтожен.
— Для того, кто невинно осужден, есть полных сто процентов судебной ошибки, — ответил Браун. — Но я, кроме того, позволяю себе думать, что ничтожен процент не судебных ошибок, а лишь тех из них, которые рано или поздно раскрываются. У людей, сосланных в Гвиану или в Сибирь, остается не так много способов доказать свою невиновность.
— А у казненных тем паче, — подхватил Нещеретов.
— На месте служителей правосудия я скорее утешался бы другим, — продолжал с усмешкой Браун, обращаясь к Николаю Петровичу. — Конечно, очень многие порядочные люди, случалось, подходили вплотную к преступлению. Однако на скамью подсудимых в уголовном суде в громадном большинстве случаев попадают все же люди весьма невысокого морального уровня. Преступления, в котором их обвиняют, они, может быть, и не совершили, но особенно жалеть о них тоже нечего. Вот чем бы я утешался на вашем месте.
— Это довольно странная мысль, — сказал, с трудом сдерживаясь, Яценко.
— Отчего же? — вставил Фомин. — Гамлет говорит: «если б с каждым поступать по заслугам, то кто избежал бы порки?»
— Вот это так! — засмеялся Нещеретов. — Ай, да Гамлет!
Фомин тоже засмеялся и повторил по-английски старательно заученную цитату. Произнося английские слова, он как-то странно, точно с отвращением, кривил лицо и губы, очевидно, для полного сходства с англичанами.
— Есть изречение еще более удивительное, — сказал, зевая, Браун. — Помнится, Гете заметил, что не знает такого преступления, которого он сам не мог бы совершить.
В гостиной зазвенел звонок.
— В зал, в зал, господа! — сказал Кременецкий. — Сейчас начнется «Белый ужин».
IV
Эстрады в большой гостиной не было; сцена отделялась от зрителей только шедшей по полу длинной белой доскою, с приделанными к ней изнутри электрическими лампочками. Люстру потушили в зале минутой раньше, чем следовало. Гости уже в полутьме поспешно занимали места, расстраивая ряды неплотно связанных между собой, взятых напрокат стульев, выделявшихся своей простотой в богатой гостиной. Слышались извинения, сдержанный смех. Потом наступила тишина. Звонок позвонил опять, короче, и занавес медленно раздвинулся, цепляясь и задерживаясь на шнурке. Одобрительный гул пронесся по залу. Сцена была ярко освещена и все на ней, — южные деревья, цветные фонарики, мебель, даже декорация с видом залива, — было довольно похоже на настоящий театр. Взволнованная Тамара Матвеевна присела на крайний стул у прохода. На сцене, вполоборота, почти спиной к публике, наклонившись над перилами, стояла Муся. «Марья Семен…» — негромко сказал кто-то и не докончил, видимо, испугавшись звука своего голоса. «Ах, как мила Муся, прелесть», — прошептала рядом с Тамарой Матвеевной госпожа Яценко. Тамара Матвеевна благодарно улыбнулась в ответ и немного успокоилась. Муся в своем белом платье Коломбины, сшитом у Воробьева по рисунку модного художника, была в самом деле очень хороша. Где-то в глубине заиграл рояль. «Нет, прекрасно слышно», — подумала Тамара Матвеевна: рояль после долгих споров и опытов решено было поставить в их спальной. Тамара Матвеевна тревожно обвела глазами зал, полуосвещенный ближе к сцене, более темный позади. Все гости уже разместились — приблизительно так, как подобало каждому, хотя их никто не рассаживал. В первом ряду было много свободных стульев, точно все стеснялись занять там места. Посредине первого ряда, с улыбкой глядя на Мусю, сидел, развалившись, Нещеретов. Сердце Тамары Матвеевны радостно забилось. Немного дальше, у прохода, тоже в первом ряду, она увидела в профиль Клервилля. «Какой красавец!» — почему-то испуганно подумала Тамара Матвеевна.
Рояль замолк. Муся долго разучивавшимся движением оторвалась от перил и повернулась к зрителям. Сердце у нее сильно билось. Муся знала, что очень хороша собой в этот вечер: ей это все говорили в «артистической», и по тому, как говорили, она знала, что говорят правду. Лицо ее, над которым, при помощи Лейхнеровского карандаша, помады, пудры, долго работал искусный гример, было точно чужое. Но это, как маска, придавало ей смелости. Выход, она чувствовала, удался хорошо. Муся сделала над собой усилие и справилась с дыханием. «Что же он не бросает букета?» — спросила себя она. Из-за перил справа к ее ногам упал белый букет. Муся слегка вскрикнула и наклонилась, поднимая цветы. И тотчас она почувствовала, что легкий крик удался, что она сделала то самое «гибкое, порывистое движение», которое делают красивые девушки в романах, и что платье облегает ее превосходно. В ту же секунду она стала совершенно спокойной. Обмахивая себя букетом, Муся вышла на авансцену. Рояль давно затих, но Муся сочла возможным немного затянуть немую сцену. Березин советовал актерам не смотреть со сцены на публику. Муся, однако, теперь была вполне в себе уверена. Она неторопливо обвела взглядом зал. Ей бросились в глаза Нещеретов, Клервилль. Она заметила даже сидевшую далеко Глафиру Генриховну. «Так Глаша голубое надела, — подумала Муся, спокойно отмечая в сознании, что все видит. — Теперь начать… Если еще с полминуты тянуть, будет нехорошо…» — сказала она себе, и, легким усилием поставив голос, совершенно естественно начала:
И вот уж сколько дней игра ведется эта, И каждый день ко мне влетают два букета…Муся теперь почти не думала о произносимых словах. Она знала стихи отлично, множество раз повторяла их без запинки, все интонации и движения были разучены и одобрены Березиным. «Только не думать, что могу сбиться, и никогда не собьюсь, — говорила себе Муся, хорошо и уверенно делая все, что полагалось. — А вот же я об этом думаю — и все-таки не собьюсь. Какой он красавец, Клервилль!.. Но зачем же Глаша не надела лилового? Нещеретов ловит мой взгляд… Не надо его замечать…»
…Да, два поклонника есть у меня несмелых, И одинаковых, и совершенно белых…«Жаль, что Клервилль плохо понимает по-русски… Рядом с Глашей Витя Яценко… А та дама кто?.. Сейчас нужно принять „притворно-суровый вид“. Потом перейти к столу… Сергей Сергеевич, верно, следит оттуда… Клервилль смотрит, кажется, на мою шею. Никонов говорил, что против таких красавцев полиция должна бы принимать меры… Мама бы чего не наговорила… Теперь повернуть голову направо…»
О ком же думать мне? Кто будет мне спасеньем? Кого мне полюбить? О, сердце, рассуди, Как хочешь, чтобы жизнь сложилась впереди: Сплошными буднями, иль вечным воскресеньем?Взгляд Муси встретился с блестящими глазами Клервилля и в них она, замирая, прочла то, о чем догадывалась, не смея верить. «Да, он влюблен в меня…»
Витя немного опоздал к началу «Белого Ужина». В ту самую минуту, когда раздался звонок, он вдруг подумал, что от костюма, сшитого Степанидой, на его белоснежном воротничке легко могла остаться темная полоса. Витя вздрогнул: это уже наверное многие заметили! С такой мыслью занять место в зрительном зале, имея прямо за спиной людей, которые только и будут смотреть на грязную полосу, было невозможно. Беда была по существу непоправима. В отчаянии Витя скользнул из кабинета в пустую переднюю. Однако, в большом зеркале рассмотреть себя сзади ему не удалось. Витя оглянулся по сторонам, — спектакль начался, теперь никто не мог зайти в переднюю, — дрожащими пальцами отстегнул воротничок. Полоса, действительно, была, но мало заметная, и приходилась она довольно низко, так что пиджак — все тот же, напоминавший смокинг, — по-видимому, должен был ее закрывать. Немного успокоенный, Витя быстро надел воротничок, завязал галстук и, горбясь, на цыпочках вошел в гостиную через опустевший кабинет, в котором тоже были погашены лампы. В последнем ряду, где хотел занять место Витя, чтобы не иметь никого за спиною, все стулья были заняты. Поближе к сцене оставалось свободным третье место от прохода. Витя скользнул туда. На него недовольно зашикали. Он отдавил ногу сидевшей у прохода даме, пробормотал извинение и сел как-то боком, хотя эта поза не могла скрыть пятна на воротнике. Но тотчас мысли его перенеслись к Мусе. Она была обворожительна, еще лучше, чем в том зеленом платье!
Муся уже закончила свой первый монолог. Перед ней находился Пьеро-веселый, которого играл Никонов. Сердце Вити сжалось от зависти и сожаления: он сам втайне мечтал об этой роли. Однако на первом же собрании актеров все тотчас сошлись на том, что Пьеро-веселого должен играть Никонов. «Совсем по вашему характеру роль, Григорий Иванович», — сказала Муся. На роль Пьеро-печального тоже сразу нашлись кандидаты, и Вите никто ее не предложил.
Печального Пьеро хотел играть Фомин. Этому, однако, под разными предлогами воспротивилась Муся, почувствовавшая смешное в том, что роли обоих Пьеро будут исполняться помощниками ее отца. У Муси был свой кандидат — Горенский. Но князь так-таки отказался зубрить стихи, — пришлось его освободить от игры, к большому огорчению Муси.
Горенскому собственно и вообще не хотелось участвовать в спектакле. Его привлекало преимущественно общение с молодежью, к которой он больше не принадлежал, — в передовом кругу, частью, вдобавок, полуеврейском: князь Горенский в своей природной среде почти так же (только с легким оттенком вызова) щеголял тем, что бывает у Кременецких, как Кременецкие хвастали им перед своими друзьями и знакомыми. Роль Пьеро-печального досталась Беневоленскому. Фомин, хоть и продолжал говорить: «со мной, как с воском», немного обиделся и отказался играть, отчасти, впрочем, из подражания князю.
Вообще, как всегда бывает в таких случаях, вначале не обошлось без обид и неприятностей. Не приняла участие в спектакле и Глафира Генриховна, недовольная ролью Суры, которую ей предложили в сцене из «Анатэмы». Пришлось подобрать сцены так, чтоб вовсе не было ролей пожилых женщин. Не раз ворчал и сам Березин. Но потом все пошло хорошо: обиды удалось загладить и репетиции проходили весело.
При сияньи лунном, Милый друг Пьеро, Одолжи на время Мне свое перо,— пел за сценой Никонов. У него был недурной голос. По залу опять пронесся одобрительный гул. «Да он прекрасно поет», — прошептала Наталья Михайловна. Никонов бойко перескочил через перила, — этого явления на репетициях особенно опасались: перила то и дело падали. С долгим раскатом смеха, показавшимся публике очень веселым, в Вите неприятно-неестественным, Григорий Иванович, в белом костюме, осыпанный густо пудрой, с замазанными усами, бросился к ногам Муси. Витя не ревновал Мусю к Никонову, — он чувствовал, что Григорий Иванович ей нисколько не нравится, — но его грызла тоска по роли веселого Пьеро, которая могла ведь достаться и ему.
Витя на репетициях окончательно влюбился в Мусю. В присутствии других она обращала на него мало внимания, — Витя по совести не мог обидеться (вначале хотел было), ибо все без исключения другие актеры были значительно старше его. Кроме того, Муся с первого же дня заявила, что не считает участников спектакля гостями и никем заниматься не будет: «мы здесь все у себя дома», — сказала она. Это ей не помешало остаться хозяйкой, а гостям — гостями. Но особенно любезна и внимательна Муся была только с Березиным.
Однажды, довольно поздно вечером, Витя после репетиции случайно остался последним гостем. Муся попросила его посидеть еще, подлила ему рома в чай и принялась расспрашивать его полунасмешливым, полупокровительственным тоном о разных его делах, начала с его родных, с училища и уроков, спросила не притесняют ли его дома. Характер ее расспросов подчеркнуто ясно свидетельствовал о том, что она считает Витю ребенком. Но в интонациях Муси слышалось и другое. Она сама не знала, зачем попросила Витю посидеть еще, не знала толком, о чем с ним говорить, — и вместе с тем ей было с ним интересно. Красивая наружность Вити нравилась Мусе, хотя он был «молокосос». От уроков она вдруг перешла к другому, и в упор, с особенным выражением в бегающих глазах, спросила Витю, был ли он когда-либо влюблен. Ироническая интонация Муси показывала, что она не совсем всерьез задает этот вопрос провинциальной барышни. Внутренний смысл вопроса был, впрочем, несколько иной: Мусе зачем-то хотелось получить ответ, узнал ли Витя женщин. Вероятно, она разъяснила бы свой вопрос, — этот разговор на сомнительную тему с мальчиком приятно щекотал ей нервы, — и положение Вити стало бы весьма трудным: он не умел лгать и ему пришлось бы, немного помявшись, признаться в том, что составляло главную заботу его жизни, — Витя женщин еще не знал. К его спасенью, в эту минуту в комнату вошла Тамара Матвеевна. Она тоже была с ним любезна, однако так зевала, стараясь скрыть зевки, и с таким интересом спрашивала, в котором часу ложатся спать у них дома, что Витя счел нужным проститься. Муся проводила его до дверей. Витя тревожно ждал, что в передней она повторит свой вопрос. Но Муся только ласково сказала, что рада была хорошо, по-настоящему с ним поговорить. Витя вдруг, уже перед выходной дверью, поцеловал ей руку — и вспыхнул. Он был хорошо воспитан и тотчас почувствовал, что сделал неловкость. Впрочем, он об этой неловкости не сожалел. Муся вечером, раздеваясь, долго с улыбкой вспоминала о Вите, о своей нетрудной победе…
…Спасти нас от тоски могла бы перемена, Но не меняется наскучившая сцена.«Да, не меняется, — с тоской подумал Витя, — а давно пора бы ей перемениться… И училище пора кончать…» Пьеса, видимо, нравилась публике. Несомненный успех, кроме Муси, имел и Никонов. Это раздражало Витю, хотя он не был завистлив. Веселый Пьеро уже побеждал Пьеро-печального, и близилась минута, когда он должен был поцеловать Коломбину, — сцена эта особенно украшала роль первого Пьеро в мечтах Вити. «Как скверно играет болван Беневоленский: тянет, тянет!.. Сейчас шестое явление, радостный Пьеро плачет… Ну, плачет Григорий Иванович слабо… „Вы плакать можете?..“ Как она хороша… „Вы плакать можете?“ Да, могу, могу, Марья Семеновна, очень могу, Муся… Вот теперь поцелуются… А я ограждал входы!..»
Майор Клервилль внимательно слушал пьесу, кое-что разобрал и искренне этому радовался. Игра Муси приводила его в восторг. Однако, и ему не понравилась сцена поцелуя, — он нашел ее неестественной и неудачно сыгранной. Когда «Белый ужин» кончился и раздались шумные рукоплескания, Клервилль поднялся с места и стоя долго аплодировал Мусе. Его высокая фигура, во фраке, о котором долго потом говорили молодые люди, привлекла общее внимание зала.
Лакей внес и подал Мусе два огромных букета. Сияя счастливой улыбкой, Муся взяла цветы и поднесла их к лицу, совершенно так, как это делала приезжавшая в Петербург Сара Бернар. Тамара Матвеевна знала, что один букет был от Березина. «А другой от кого? Не от Нещеретова ли?» — подумала она, густо краснея от радости. Нещеретов, сидя, снисходительно хлопал, переговариваясь со стоявшим Семеном Исидоровичем, который нежно посылал дочери воздушный поцелуй. «Из актеров никто не поднес цветов, значит и другие не догадались, или не надо», — утешал себя Витя. Муся быстро прошла за кулисы и вывела оттуда скромно упиравшегося Березина. Аплодисменты еще усилились, особенно после того, как Муся грациозным жестом протянула Сергею Сергеевичу цветы. В зале долго не смолкали рукоплескания. На сцене шутливо аплодировал, как бы самому себе, Никонов. «Кре-ме-нецкая!» — вдруг яростно заорал он, изображая галерку. Кто-то в зале со смехом подхватил это восклицание. «Браво, Никонов, бб-и-ис!» — ревел взвинченный своей игрой и успехом Григорий Иванович. Клервилль подошел к самой рампе, восторженно аплодируя Мусе.
— Это верно от него тот большой букет, — сказала вполголоса дама, сидевшая между Витей и Глафирой Генриховной.
— Что ж, англо-русское сближение теперь в моде, — ответила с улыбкой Глафира Генриховна. — Вот и спектакль пригодится.
— Les mariages se font dans les cieux. [48]
— Семен Исидорович поможет небесам…
Витя, как раз с поклоном и извинениями надвигавшийся на дам — он тоже стремился к рампе, — слышал этот разговор, который показался ему чрезвычайно неприятным. Он оборвал извинения и быстро отошел. Глафира Генриховна впоследствии так и не могла понять, почему Витя, до того столь милый и предупредительный, стал с нею вдруг нелюбезен, смотрел на нее почти с ненавистью и еле отвечал на ее вопросы.
V
Никто не мог бы назвать неудачником Яценко. Он имел заслуженную репутацию умного, образованного, прекрасного человека, был счастлив в семейной жизни, нежно любил жену и сына. Его служебная карьера, не будучи особенно блестящей, была достаточно успешной и быстрой. Однако, при всем ровном характере Николая Петровича, у него бывали дни, когда его жизнь представлялась ему ненужной, разбитой и бессмысленной. В такие дни Яценко по возможности избегал встреч с людьми, запирался у себя в кабинете и читал с некоторым ожесточением философские книги.
Николай Петрович понимал язык философских книг, и чтение это доставляло ему удовлетворение, — но преимущественно как своего рода умственная гимнастика, как экзамен по развитию, который он всегда с честью выдерживал. Душевного успокоенья эти книги ему не давали. Слишком трудно было перекинуть в его жизнь простой и короткий мост от ученых слов и отвлеченных мыслей. Наступала усталость, Яценко откладывал философские книги и раскрывал «Смерть Ивана Ильича», которая волновала его неизмеримо больше.
С Толстым у Николая Петровича был старый счет. Он думал, что другого такого писателя никогда не было и не будет, и в творениях Толстого видел подлинную книгу жизни, где на все, что может случиться в мире с человеком, дан — не ответ, конечно, но настоящий, единственный отклик. Николай Петрович был еще молодым судебным деятелем, когда появилось «Воскресение». Любя свое дело, гордясь судом, он болезненно принял этот роман, почти как личное оскорбление. Юридические ошибки, найденные им у Толстого, даже чуть-чуть его утешили, точно свидетельствуя, что не все правда в «Воскресении». Именно отсюда и началась глухая внутренняя борьба Николая Петровича с Толстым. Но со «Смертью Ивана Ильича» и бороться было невозможно. Яценко понимал, что уж в этой книге все правда, самая ужасная, последняя правда, на которую никто ничего ответить не может, как не может ответить и сам автор. Правда других книг Толстого была менее обязательной и общей. С Николаем Петровичем могло и не случиться то, что случалось с Болконским, Левиным, Нехлюдовым, Безуховым. Но от участи Ивана Ильича уйти было некуда, и Яценко иногда недоумевал, зачем, собственно, написан этот страшный рассказ. Самый тон, зловеще-шутливый, почти издевательский тон книги, особенно срединных глав, в которых Толстой, как убийца, подкрадывается к Ивану Ильичу, по мнению Яценко, свидетельствовал о полном отсутствии ответа. Николай Петрович раз двадцать читал «Смерть Ивана Ильича», и всякий раз якобы примиренная книга эта вызывала у него лишь приступ отвращения и ненависти к людям, к жизни, к миру. Впрочем, и это впечатление скоро проходило — чаще всего от общения с приятными людьми, от успешной повседневной работы. Николай Петрович приходил к мысли, что без твердой религиозной веры никак не может быть оптимистического миропонимания. У него твердой веры не было, настроен же он был в нормальное время оптимистически и потому в тяжелые свои дни представлялся самому себе живым парадоксом.
На следующее утро после спектакля у Кременецких Николай Петрович проснулся позднее обычного и сразу почувствовал дурной день. Легкая, о чем-то напоминавшая, головная боль сразу окрасила в черный цвет его мысли. Никаких неприятностей не было, но Яценко умывался и одевался с тревожным чувством, как бы в ожидании очень неприятных происшествий. Вынутый для бритья из восковой бумажки новый Жиллет оказался тупым, вода недостаточно согретой. Лампа плохо освещала зеркало. Галстук завязался неровно. Одевшись, Николай Петрович вышел в столовую. Перед его прибором лежала газета, два письма и сложенная вдвое записка без конверта. Это Витя, уже ушедший в училище, просил оставить ему в его комнате месячное жалованье, о чем забыл сказать отцу накануне. Витя писал без твердых знаков; в одном слове твердый знак был по привычке поставлен и тотчас заботливо зачеркнут. Яценко с усмешкой прочел записку. Хотя жалованье полагалось Вите только через неделю (прежде он был аккуратнее), Николай Петрович исполнил просьбу сына. Войдя в еще неубранную комнату Вити, он положил в ящик ночного стола деньги. При этом он рассеянно просмотрел лежавшие на столике книги: альманах «Шиповник», том стихов Блока и тоненькую книжку Каутского об экономическом материализме. Николай Петрович усмехнулся еще сердитее. «Какой сумбур у него в голове!.. Вот у Вити уж никакой веры нет и не будет… Хорошо же моральное наследство, которое он от меня получит… О материальном и говорить нечего…»
Яценко вернулся в столовую, торопливо выпил стакан остывшего чаю, не прикоснувшись к калачу, сунул в карман нераскрытую газету, нераспечатанные письма, ожидая и от них неприятностей; затем, не будя Наталью Михайловну, вышел на улицу. День был очень темный. Горели фонари. Трамвай как раз прошел, когда Николай Петрович подходил к остановке. Вопреки своему обыкновению, он нанял извозчика.
На морозном воздухе головная боль у Николая Петровича прошла, но дурное настроение осталось и даже усилилось. Извозчик вез медленно, сани очень трясло.
В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Павлович с очевидным удовольствием буравил и прошивал шелковыми шнуром бумаги в одной из папок. По тому, как с ним поздоровался Яценко, Иван Павлович сразу догадался о дурном настроении следователя и, не вступая в разговор, заботливо принялся пропечатывать вытянутые концы шелкового шнура.
— Загряцкого в одиннадцать приведут? — спросил Яценко. Получив поспешный утвердительный ответ, он сел за стол. Письмоводитель тихонько вышел с папкой из комнаты. Яценко проводил его недовольным взглядом, затем распечатал и пробежал письма. В них ничего неприятного не было, но оба письма требовали ответа. Корреспонденция угнетала Николая Петровича. Он сделал над собой усилие и принялся писать. Работа пошла хорошо. Дурное настроение Яценко понемногу рассеялось.
— Загряцкого привели, — робко доложил письмоводитель.
— Отлично, пожалуйста, введите его, Иван Павлович, — сказал Николай Петрович, смягчая тон. — И, пожалуйста, останьтесь в камере, сегодня вы будете нужны.
В камеру ввели Загряцкого. «Однако, и изменился же он!» — подумал невольно Яценко, отвечая на неуверенный поклон обвиняемого. Осунувшееся лицо Загряцкого было совершенно серого цвета, глаза воспалены и красны.
Николай Петрович расписался в книге, отпустил городового и показал Загряцкому на стул. Загряцкий сел и опустил голову, старательно теребя среднюю пуговицу пальто, плохо державшуюся на оттянутых нитках. Этот жест, как и весь вид обвиняемого, показался следователю и жалким, и неестественным. «Впрочем, очень нелегко держать себя естественно в их положении», — подумал Николай Петрович.
— Господин Загряцкий, — сказал он, — предварительное следствие по вашему делу закончено…
— Как? Закончено? — хриплым голосом перебил его Загряцкий. — Я думал…
Он замолчал. Яценко посмотрел на него вопросительно, подождал, затем продолжал ровно, точно читая по записке.
— Согласно 476-ой статье устава уголовного судопроизводства, я обязан, до отсылки товарищу прокурора всего следствия, предъявить его вам. Вы получили копии всех следственных актов. Тем не менее, если вы пожелаете, производство будет вам прочтено целиком.
— Нет, зачем же? Я читал копии, — ответил, теребя пуговицу, Загряцкий.
Николай Петрович вздохнул с облегчением.
— По закону я также обязан спросить вас, не желаете ли вы еще что-либо представить в свое оправдание?
Загряцкий быстро взглянул на следователя, снова опустил голову и сказал тихо:
— Зачем я буду говорить? Вы все равно мне ни в чем не верите.
Яценко за долгие годы службы очень часто слышал этот ответ от допрашиваемых. Однако что-то в выражении лица Загряцкого кольнуло Николая Петровича.
— Послушайте, господин Загряцкий, — помолчав, сказал он мягким тоном. — Как вы, конечно, понимаете, я не имею никаких причин желать вам зла. Но вы видите, что все обстоятельства дела складываются решительно против вас. Следствием собран ряд подавляющих улик. Подумайте, господин Загряцкий, не в ваших ли интересах чистосердечно во всем сознаться? — сказал с силой Николай Петрович и в ту же минуту, при своей искренности и прямоте, почувствовал укор совести: он знал, что улики следствия далеко не подавляющие и что чистосердечное признание отнюдь не в интересах Загряцкого.
Загряцкий засмеялся, как показалось следователю, несколько театрально.
— Я не могу сознаться в том, чего я не делал.
— Как знаете, это ваше дело, — сказал Яценко, возвращаясь к официальному тону. — Сейчас будет составлен протокол о предъявлении вам следствия. Угодно вам представить еще что-либо в ваше оправдание?
— Господин следователь, — сказал с видимым усилием Загряцкий и опять остановился. — Господин следователь, ведь вы живой человек, вы умный человек… Поймите же, что у меня не было никаких причин убивать Фишера.
— Об этом мы с вами достаточно говорили… Вы упорно стоите на том, что не были в связи с госпожой Фишер? Поймите и вы, господин Загряцкий, что отстоять эту позицию на суде вам будет трудно.
Загряцкий молчал. Николаю Петровичу вдруг показалось, что он колеблется.
— Вы же, наконец, знаете, господин следователь, — сказал нерешительно Загряцкий, — что с момента моего отъезда из Ялты между нами было порвано даже простое знакомство. Ведь мы поссорились, господин следователь.
— По этому вопросу ваши показания были особенно неубедительны, — ответил Николай Петрович, насторожившийся при слове Загряцкого «наконец». — Следствию так и осталось неясным, почему вы поссорились. Госпожа Фишер говорила о письмах, о том, что вы просили у нее взаймы десять тысяч рублей, в которых она вам отказала. Вы вначале совершенно это отрицали… Даже с негодованьем отрицали, господин Загряцкий. Вы говорили, что в материальном отношении всегда отстаивали свою полную независимость. Потом вы сказали, что вы не помните, было ли это так… Подумайте, могу ли я поверить такому ответу? Может ли человек забыть, просил ли он взаймы крупную сумму несколько месяцев тому назад? Неужели вы предполагаете, что суд этому поверит?
— Я на этом не настаиваю, — помолчав, сказал Загряцкий. — Да, я просил у нее взаймы десять тысяч.
— Отчего же вы это отрицали до настоящей минуты?
— Я давно хотел взять назад это свое показание… Я отрицал, потому что признаться в этом порядочному человеку, человеку из общества, не так легко. Хоть никакого преступления здесь нет… Вы мне в упор задали вопрос, просил ли я взаймы денег у дамы? Я сгоряча ответил: нет, не просил. Вы человек, господин следователь, вы должны это понять… Помните и то, что я был болен, когда вы меня допрашивали… Я был измучен обыском, арестом… Эти городовые, камера, этот подземный ход сюда из Предварилки… Вы все умеете обернуть против меня. А отвечать на ваши вопросы надо сразу, немедленно, не думая… Я и теперь боюсь каждого слова, которое говорю! — вскрикнул он и оторвал пуговицу пальто. Видимо, это его смутило: он зажал пуговицу в кулаке, затем сунул ее в карман. — Я сказал, что не помню… Разумеется, это неправдоподобно, вы правы… Но ведь это и так несущественно, господин следователь…
— Напротив, это очень существенно… Почему же вы могли думать, что госпожа Фишер даст вам такую сумму?
— Мы были с ней в приятельских отношениях, я для нее поехал в Ялту, по просьбе ее мужа… Я думал, что она даст. Она отказала… И в этом, если хотите, одна из причин ее злобы против меня… Не то, чтоб она пожалела денег, нет, она не скупа, это грех сказать… Да и денег у нее так много, я потому и попросил… Но она потеряла ко мне уважение… Она вообразила, что мне нужны были ее деньги, а не она сама, — сказал упавшим голосом Загряцкий.
Письмоводитель оторвался от протокола, поспешно взглянул искоса на Загряцкого, на Яценко и продолжал писать.
— Так, значит, до того госпожа Фишер предполагала, что вам, как вы сказали, нужна она? — спросил небрежно следователь.
— Я могу ошибаться… Это не показание, это только предположение.
— Вы, значит, отрицаете свою связь с госпожой Фишер, но допускаете, что могли ей нравиться?
— Да, я готов это допустить.
— Вы готовы это допустить, — повторил Николай Петрович. — Собственно почему же вы это допускаете?
— Мне так казалось… Мужчины ведь всегда это чувствуют. Простите нескромность, — она естественна в моем положении, — я нравился многим женщинам…
«Не без удовлольствия это говорит, как ни тяжело его положение», — подумал Яценко.
— И я имел основания думать, — продолжал, несколько оживившись, Загряцкий, — что Елена Федоровна не вполне ко мне равнодушна. Она, например, явно нервничала, если я в Ялте на прогулке провожал глазами женщин… Это, каюсь, со мной бывало, — сказал он и вдруг улыбнулся победоносной улыбкой, которая на измученном лице его показалась следователю жалкой.
— С вами бывало, — повторил Яценко. — Так что госпожа Фишер немного вас ревновала?
— Да, я думаю, с ее стороны было некоторое увлеченье.
— Но связи между вами не было, вы на этом стоите по-прежнему?
— Да, стою…
— Господин Загряцкий, — сказал решительно, с силой в голосе, следователь, — бросьте вы это! Я прекрасно понимаю те причины, по которым вы считаете нужным скрывать правду: вы думаете, что, поскольку ваша связь с госпожой Фишер не доказана, постольку отсутствуют и мотивы преступления. Но понимаете ли вы значение того, что вы сейчас сказали? Допустим, связи не было. Однако вы признали, что госпожа Фишер вас любила, что она ревновала вас к другим женщинам. Значит, если б вы того пожелали, если б этого потребовал ваш интерес, вы всегда могли бы вступить с ней в связь или жениться на ней. Вот и мотивировка преступления. Вы в сущности уничтожили все, на чем до сих пор стояли. Вопрос о связи теперь отступает на второй план.
«Прихлопнул, — подумал удовлетворенно Иван Павлович. — Ну, не совсем, а все-таки прихлопнул».
Загряцкий горящими глазами смотрел на следователя.
— Да, я был ее любовником, — вдруг сказал он.
— Вы были ее любовником, — повторил Яценко. Он помолчал немного, затем заговорил с новыми, сердечными интонациями в голосе. — Так лучше, господин Загряцкий, поверьте мне, я не желаю вам зла. В вашем положении лучше всего вступить на путь чистосердечного признания.
Загряцкий опять засмеялся.
— Вы это об убийстве? Нет, я этого удовольствия вам не сделаю. Я не убивал Фишера, господин следователь.
— Вы не хотите сказать правду, это ваше дело. Но я вас предупреждаю…
— Вам не о чем меня предупреждать! И не думайте, что я попался в вашу ловушку. Если я нравился женщине, то из этого не следует, что я мог на ней жениться. Нет, я еще раньше решил сказать правду… Решил сказать все то, что могу сказать! — вскрикнул он.
— Вы, значит, не все можете сказать? — с удивлением глядя на него, спросил Яценко. Им вдруг овладело тревожное чувство.
— Нет, не все.
— Можете ли вы сказать, где вы были в вечер убийства?
— Нет.
— Можете ли вы сказать, на какие средства вы жили?
— Я все вам объяснил.
— Вы не объяснили, господин Загряцкий. К сожалению, вы не объяснили…
— Я больше ничего не могу сказать. Можете кончать ваше следствие, — хрипло проговорил Загряцкий. Вид у него был совершенно измученный. «В самом деле, точно затравленный зверь», — подумал Яценко. Тревожное чувство еще усилилось в Николае Петровиче. Он мысленно себя проверил. «Нет, напротив, теперь все в порядке…»
— В виду признания вами, господин Загряцкий, факта, до сих пор вами отрицавшегося, я не нахожу возможным сейчас закончить следствие. Мне, вероятно, придется вас допросить еще раз в присутствии госпожи Фишер, — сказал Яценко и невольно опустил глаза перед тем выражением острой ненависти, которое он прочел в глазах Загряцкого.
VI
Автомобиль замедлил ход, протрубил и остановился. Сидевший рядом в шофером человек в штатском платье соскочил и почтительно открыл дверцы. Федосьев вышел из автомобиля и неторопливо направился к открывшейся настежь двери ярко освещенного подъезда. На мерзлых ступеньках он остановился и окинул взглядом улицу. Впереди у фонаря рядом с вытянувшимся, засыпанным снегом, жандармом кто-то соскочил с велосипеда. Проезжавший извозчик лениво постегивал лошадь вожжами. По тротуару шел с мешком булочник. Еще какие-то люди медленно шли по улице. Федосьев знал, что и эти люди, и булочник, и извозчик, и велосипедист, все были сыщики, предназначенные для его охраны: он на улице всегда подвергался большой опасности. Не очень веря в меры предосторожности, он принимал их больше по привычке, как по привычке всегда носил в кармане почти бесполезный браунинг.
Федосьев с шутливым видом говорил знакомым, что процент смертности на его посту не так уж сильно превышает смертность в передовых окопах пехоты. Обычно знакомые при этой шутке заботливо меняли разговор. В пору войны опасность покушений ослабела. Однако Федосьев имел основания думать, что его рано или поздно убьют, и с давних пор приучил себя рассматривать каждый благополучно сошедший день, как подарок Провидения. К мысли об опасности он привык, насколько к ней можно было привыкнуть, и без особого усилия принимал перед подчиненными совершенно спокойный, уверенный, даже беззаботный вид, точно самая эта мысль никогда ему не приходила в голову. Так и теперь он, нарочно задержавшись на улице, отдал не спеша распоряжения сопровождавшему его агенту. Тем не менее Федосьев вздохнул с облегчением, когда за ним захлопнулась огромная, тяжелая дверь.
«Вот теперь и этого ощущения больше не будет», — подумал он, отдавая шубу увешанному медалями великану-швейцару. Мысль эта не доставила ему удовольствия, как ни тягостно было то ощущение. С первых опасных постов, Федосьев представлял себе свой конец во всех подробностях, не останавливаясь перед самыми страшными и самыми грубыми. Конец мог прийти от бомбы или от пули, — пуля отталкивала его меньше: слова «разорван на части» вызывали в нем то жуткое чувство, с которым в детстве и первой юности он читал о четвертовании. «Да, так неужели я помру, как все, в своей постели, от непродолжительной, но тяжкой болезни? Это прямо у газетчиков отбить хлеб», — с улыбкой подумал он.
Мысль об отклике в газетах на его насильственную смерть тоже часто занимала Федосьева. Он будто видел перед собой статьи, — на том месте, на каком им надлежало появиться в каждой газете, где на первой странице, где на второй, где в два столбца, где всего строк на шестьдесят. «Еще одно злодеяние, при вести о котором с ужасом содрогнется Россия… Кровавый палач народа казнен рукой героя… Нам незачем доказывать наше принципиально-отрицательное отношение ко всякому террору, откуда бы он ни исходил, и в трагической гибели С. В. Федосьева (да, по случаю моей смерти на радостях удостоят меня инициалов, вместо буквы г.), мы усматриваем новое наглядное доказательство нашего основного положения о том, что…» Радость либеральной печати, худо скрытая под видом несочувствия террору, радость, которую он наперед читал на лицах самоуверенных, во всем преуспевающих адвокатов, больше раздражала Федосьева, чем откровенный восторг революционных прокламаций.
— Петр Богданович здесь?
— Так точно, в секретарской, Ваше Превосходительство, — почтительно ответил швейцар. Быстро проходивший чиновник, робея, усердно поклонился на бегу. Федосьев давно привык к атмосфере почета, власти и страха, которая его окружала в этом доме. Она больше не доставляла ему удовольствия, но он знал, что и с ней расстаться будет нелегко. «Верно, еще ничего не знает… Хоть и догадываются они, должно быть», — сказал он себе, внимательно вглядываясь в кланяющегося чиновника. Слухи об его отставке ходили давно по городу, здесь же всегда знали все раньше, чем где-бы то ни было. Теперь, с утра этого дня, отставка находилась в кармане Федосьева. В ней не было ничего позорного. Однако он испытывал свойственное всем уволенным людям сложное чувство злобы, обиды и стыда, которое чуть-чуть роднит уходящих в отставку сановников с рассчитанной хозяином прислугой. Федосьев не торопился сообщать эту новость подчиненным: при всем своем служебном опыте он не был уверен, что сумеет найти должный тон, одновременно и естественный, и корректный. «Ничего, без меня узнают», — подумал он.
В этом здании, которое посторонним людям могло представляться жутким и страшным, шла повседневная будничная работа, как на почте или в адресном столе. Федосьев поднялся во второй этаж, заметив с неприятным чувством, что на площадке лестницы ему захотелось передохнуть. Зеркало отразило сгорбленную фигуру, утомленное лицо в морщинах, седоватые волосы, совершенно седые брови. «Рано бы на пятьдесят третьем году, — подумал он. — От артериосклероза, верно, и умру… Давление крови повышенное… Рано, да по моей службе надо месяц считать за год, как в Порт-Артуре… Впрочем, еще лет пять, вероятно, могу прожить…»
— В приемной есть кто-нибудь? — спросил он курьера, вытянувшегося у двойных, обитых войлоком, дверей кабинета.
— Никак нет, Ваше Превосходительство.
— Бумаги на столе?
— Так точно, Ваше Превосходительство… Их Высокоблагородие положили.
Минуя секретарскую, Федосьев вошел в кабинет и устало опустился в тяжелое кресло с высокой прямой спинкой. «Теперь навсегда придется с этим расстаться», — подумал он, обводя взглядом знакомый ему во всех мелочах кабинет: все в этой громадной комнате было от тех времен, когда не жалели ни места, ни труда, — и труд, и место ничего не стоили. «Вот бы мне в ту пору и жить», — сказал себе Федосьев. Ему иногда казалось, что он любит то время, время твердой, пышной, уверенной в себе власти, время, не знавшее ни покушений, ни партий, ни Государственной Думы, ни либеральной печати. Однако годы, опыт, душевная усталость, привычка скрытности с другими людьми давно довели Федосьева до полной, обнаженной правдивости с собою: любовь к прошлому не так уж переполняла его душу. Огромная энергия Федосьева, которой отдавали должное и его враги, происходила преимущественно от ненависти к тому, с чем он боролся. «Да, верно и тогда умным людям было несладко, — сказал он себе и, не глядя, привычным движением протянул руку к тяжелой пепельнице, с помещеньем для спичек. — Тоже, верно, от тех времен… Нет, тогда и спичек не было… — Он раздраженно чиркнул спичкой, сломал ее, бросил и взял другую. — Бумаг сколько, покоя не дают… Вот это, верно, анонимное…»
Федосьев закурил папиросу, распечатал ножом желтенький конверт и развернул листок грязноватой бумаги в клеточку. Наверху листка был нарисован пером гроб, две перекрещенные кости. «Так и есть», — равнодушно подумал Федосьев. Он поставил штемпель с числом получения, и, не читая, вложил листок в папку, специально предназначенную для писем с угрозами и ругательствами. На папке было написано «В шестое делопроизводство. Кабинет экспертизы». В других обыкновенного формата конвертах были ходатайства за пострадавших людей, от родных и всевозможных заступников. Федосьев внимательно их прочел, справившись по документам там, где не все помнил (он, впрочем, помнил большую часть дел). Как ни ненавистны ему были политические преступники, на прощанье он удовлетворил ходатайства, сделал пометку на письмах, поставил свои инициалы «С. Ф.» и отложил в папку с надписью «Для исполнения». Затем он взялся за конверты большого формата. В одном из них был перлюстрационный материал. Федосьев быстро его пробежал. В письмах не было ничего интересного: сплетни из Государственной Думы, сплетни о великокняжеском дворце, сенсационный политический слух, накануне напечатанный в газетах. «Нашел что вскрывать!.. Выжил из ума наш старик, — подумал сердито Федосьев. — Да и ни к чему это… Хотя в самых передовых странах существует перлюстрация…» Он разорвал листы на мелкие клочки и высыпал их в корзину. Другие бумаги представляли собой служебные доклады и донесения. Он просмотрел те из них, которые были в красных конвертах, — срочные. Все они говорили об одном и том же: о близкой революции.
Федосьев знал, что революция надвигается; теперь, с его уходом, она казалась ему совершенно неизбежной. «Что ж, ставить пометки? Нет, неудобно, — ответил себе он. То же чувство неловкости мешало ему выносить решения, которые на следующий день могли быть отменены. — Пусть Дебен и решает, или Горяинов, или кого там еще назначат на мое место», — подумал он. Зная все тонкости работы правительственного аппарата, сложные, часто меняющиеся отношения разных влиятельных людей, Федосьев приблизительно догадывался, кто мог быть назначен его преемником. Людям, которые его свалили, он приписывал мотивы личные и мелкие. Федосьев старался презирать этих людей, но презрение не вполне ему удавалось: они одержали победу. Мысль о том, какую политику они поведут, невольно его занимала, хоть он и был уверен, что революция очень близка и что его собственная жизнь уже на исходе.
Рядом с бумагами на столе лежали газеты. Об его отставке в них еще не сообщалось. Федосьев пробежал одну из газет. Это чтение неизменно приводило его в состояние тихой радости. Тон статей был необычайно живой и как-то особенно, по-газетному, бодрый. Казалось, что все люди, работающие в газете, дружной семьей делают общее, очень их занимающее, веселое и интересное дело. Необыкновенно искреннее сознание своего умственного и морального превосходства чувствовалось и в полемической передовой статье, и в обзоре печати, однообразно-остроумно издевавшемся над противниками. Необыкновенно весело было, по-видимому, фельетонисту, он все шутил, подмигивая читателям. «Шути, шути, голубчик, дошутишься, — думал Федосьев. Ему пришло в голову, что никакой дружной работы эти люди не ведут, что, вероятно, между ними самими происходят раздоры, интриги, взаимное подсиживанье, борьба за грошевые деньги, и что, быть может, они друг другу надоели больше, чем им всем их общие противники, в том числе и он, Федосьев. — Что ж у них еще?.. Какой еще губернатор оказался опричником?.. Неужели сегодня ни одного изверга губернатора?.. „Нам пишут“… Бог с ними, неинтересно мне, что им пишут, ведь все врут… „Заседание общества ревнителей русской старины“… „Ревнителей“, — повторил мысленно Федосьев: слово это показалось ему слащаво-неестественным и доставило ту же тихую радость… — Так, так… А этот что наворотил? — Он заглянул в подвал, отведенный под философский фельетон. Автор этого фельетона, эмигрант-социалист, когда-то на допросе поразил его необыкновенным богатством ученого словаря и столь же удивительной гладкостью лившейся потоком речи. — Теперь в писатели вышел. Так, так… „Если для Ницше характерен аристократический радикализм…“ — прочел Федосьев. — Значит для кого-то другого будет характерен радикальный аристократизм или демократический консерватизм, — зевая, подумал он, — не стоит читать, наперед знаю эти словесные погремушки, для них ведь этот гусь и пишет…» Он развернул другую газету, более близкую ему по направлению, но от нее на него повеяло еще худшей скукой, лишь без того насмешливо-радостного настроения, которое дарили ему левые журналисты.
«Бог с ними, со всеми!.. О чем я думал?.. Да, лет пять еще могу прожить… Что же я буду делать? Мемуары писать? — спросил себя он. Эта шаблонно-ироническая мысль о мемуарах его кольнула: он сам часто смеялся над сановниками, садящимися за мемуары тотчас по увольнении в отставку. — Даже за границу нельзя уехать из-за войны… Воевать вздумали, ну, повоюйте, посмотрим, что из этого выйдет… В деревне поселиться? Скучно… Да и имения-то без малого двести десятин… — Федосьев вспомнил, что в революционных прокламациях говорилось, будто он всякими нечестными путями нажил огромное состояние. Эта клевета была ему приятна — она как бы покрывала то, что в прокламациях клеветою не было. — Нет, в деревню я не поеду… С Брауном еще философские беседы вести? Не договоримся… Так что же? Wein, Weib und Gesang ?[49].. Этим надо было раньше заняться, — подумал он с горькой насмешкой, вспоминая отразившееся в зеркале на площадке лестницы лицо с седыми бровями, глядя на темную сеть жил на худых руках… — Да, проворонил жизнь… Браун в лаборатории проворонил, а я здесь… Что-то надо было выяснить по делу о Брауне… Нет, не мог он убить Фишера, — неожиданно подумал Федосьев. — А впрочем?.. Эту историю с Загряцким, однако, надо распутать перед уходом. Нельзя рисковать скандалом на процессе и не оставлять же ее Дебену… — Федосьев представил себе передачу дел преемнику и поморщился: при всей корректности, при вполне выдержанном тоне, сцена передачи дел должна была у обоих вызвать неловкое, тягостное чувство. — С Дебеном они живо справятся, — сказал вслух Федосьев, распечатывая последний толстый конверт. — Вот кому я оставляю в наследство революцию!»
Из конверта выпали фотографии, — подчиненное учреждение присылало портреты разных революционеров. Федосьев брезгливо перебирал не наклеенные на картон, чуть погнувшиеся фотографии. Он почти всегда находил в этих лицах то, что искал: тупость, позу, актерство, самолюбование, часто дегенеративность и преступность. Федосьев ненавидел всех революционных деятелей и презирал большинство из них. Он вообще редко объяснял в лучшую сторону поступки людей; но действия революционеров Федосьев почти всецело приписывал низменным побужденьям, честолюбию, злобе, стадности, глупости. В их любовь к свободе, к равенству, особенно к братству, во все те чувства, которые они развивали в своих писаньях, в речах на суде, он не верил совершенно. «Этот себе на уме, ловкач, — равнодушно по лицам классифицировал он революционеров, перебирая фотографии. — Этот верно под фанатика (в фанатиков Федосьев верил всего менее)… Этот все в мире понял, все знает, а потому очень горд и доволен, — марксист, из провизоров… Этот — пряничный дед революции, „цельная, последовательная натура, единое, строгое мировоззрение“… То есть чужие мысли, книжные чувства, газетные слова… Так и проживет свой век фальсифицированной жизнью, ни разу даже не задумавшись над всей этой ложью, ни разу не заметив и самообмана. Для какой-нибудь „Искры“ или „Зари“ жил… Пустой человек! — брезгливо подумал Федосьев. — А вот у этого умное лицо, на Донского немного похож», — сказал себе он, вспоминая человека, который долго за ним гонялся. Портрет Донского он хорошо помнил и порою смотрел на него со смешанным чувством, в которое входили и жалость, и нечто, похожее на уважение, и чувство охотника, рассматривающего трофей, и удовлетворение от того, что этого человека больше нет на свете.
Федосьев спрятал фотографии и разложил донесения по папкам. «Что ж еще надо было сегодня сделать?.. Да, это несчастное дело… Петр Богданович должен был еще поискать». Он надавил пуговицу звонка и приказал появившемуся из-за двойной двери курьеру позвать секретаря. Через минуту в кабинет вошел мягкой походкой, не на цыпочках, но совсем как будто на цыпочках, плотный, невысокий, почтительный чиновник средних лет, с огромным университетским значком на груди. «Этот уж наверное знает о моей отставке, — решил Федосьев, взглянув на бегающие глаза секретаря. На хитреньком лице, впрочем, ничего нельзя было прочесть, кроме полной готовности к услугам. — Вот и этот опричник, — подумал Федосьев. По его суждению, Петр Богданович был не злой человек, не слишком образованный, очень любивший женщин, порою немного выпивавший. — И взяток, кажется, не берет… Зачем только он носит этот аршинный значок, кому в самом деле интересно, что он учился в университете… Да, конечно, уже знает… Ну, он и с Дебеном поладит, и с Горяиновым..».
— Петр Богданович, вы навели последнюю справку о дактилоскопическом снимке?
— Навел, Сергей Васильевич, и имею маленький сюрприз, — сказал секретарь. — Если хотите, даже не маленький, а большой.
Его лицо расплылось при конце фразы в радостную, приятную улыбку. Федосьев знал, что эта улыбка нисколько не притворная, но автоматическая, связанная у Петра Богдановича с концом любой фразы, независимо от ее содержания. «Звезд с неба не хватает наш опричник… Моей отставке он едва ли рад, но и не слишком огорчен…» И тон, и выражение лица секретаря показывали, что он знать ничего не знает об отставке Сергея Васильевича, а, если что и слышал, то это не мешает ему совершенно так же почитать и любить Сергея Васильевича, как раньше.
— В чем дело?
— Снимка, тождественного с тем, что вы мне дали, за литерой В, — пояснил секретарь, мельком с любопытством взглянув на Федосьева (его видимо интересовала эта литера), — и в регистрационном отделе не оказалось. Я и в восьмом делопроизводстве справлялся, и в сыскное опять ездил, и в охранное, нет нигде…
— Так в чем же сюрприз?
— Сюрприз в том, что ваше предположение, Сергей Васильевич, оказалось и на этот раз правильным. Вы мне заодно приказали узнать, не соответствует ли тот снимок, что остался на бутылке, кому-либо из людей, производивших дознание. Я съездил на Офицерскую и выяснил: так и есть! Рука околоточного Шаврова, Сергей Васильевич!
Федосьев вдруг залился несвойственным ему веселым смехом.
— Не может быть!
— Рука Шаврова, никаких сомнений… Эти подлецы еще сто лет будут производить дознание и так их и не научишь, что ничего трогать нельзя. Да, околоточный тронул бутылку. Я лично его допросил, и он, каналья, сознался, что, может, и вправду тронул.
— Так околоточный? — проговорил сквозь смех Федосьев. — Вот тебе и дактилоскопия!
— Он самый, Сергей Васильевич, уж я его бестию, как следует отчитал, — сказал, радостно улыбаясь, секретарь.
— Я так и думал, — проговорил Федосьев. — Торжество науки, а? Последнее слово… А следователь-то… — Он опять залился смехом. — Нет, либеральный Николай Петрович Яценко, а?
— В калошу сел Яценко, это верно. Ему первым делом бы надо было об этом подумать, не полиция ли?
— Да ведь и нам… и нам не сразу пришло в голову!
— Вам однако пришло, Сергей Васильевич… Нет, что ни говори, отстали мы от Европы.
— А почем вы знаете, верно, и в Европе так. И то сказать, как производить дознание, ни к чему не прикасаясь? Они не духи… Не духи же они… Вы взяли оба снимка?
— Взял… Заключение эксперта: совершенно тождественны.
— Так, так, так… Ну, хорошо, — сказал, перестав наконец смеяться, Федосьев. — Больше ничего?
— Сергей Васильевич, меня все в счетном отделе спрашивают, как выписывать жалованье Брюнетки?
— Брюнетки? — переспросил Федосьев и задумался. — Об этом я, вероятно, завтра скажу.
— Отлично… Не буду вам мешать.
Петр Богданович вышел, сияя счастливой улыбкой. Федосьев в раздумье взялся было за ручку телефонного аппарата и остановился в нерешительности.
«Если попросить Яценко приехать ко мне, он, пожалуй, вломится в амбицию. „Независимость суда“… „Судебные уставы“… „Недопустимое вмешательство административных властей“, — устало подумал он. Федосьев мысленно заключал в кавычки все такие слова и оттого они представлялись ему смешными. — Ну, что ж, поедем к нему…»
Он снова позвонил и приказал подать автомобиль.
VII
В этот поздний час в здании суда уже было пустовато и скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следователе, стараясь не обращать на себя внимания, Федосьев поднялся по лестнице и столкнулся лицом к лицу с Кременецким, который выходил из коридора с Фоминым, оживленно с ним разговаривая. Семен Исидорович значительно толкнул в бок Фомина и раскланялся с Федосьевым: они были знакомы по разным ходатайствам Кременецкого за подзащитных. Фомин тоже с достоинством поклонился, оглядываясь по сторонам. Столкнулись они так близко, что Семен Исидорович счел недостаточным ограничиться поклоном. Знакомство с Федосьевым было и лестное, и вместе чуть-чуть неудобное. Его знали все выдающиеся адвокаты; близкое знакомство с ним было бы невозможным, однако совершенно не знать Федосьева тоже было бы неприятно Семену Исидоровичу.
— В наших палестинах? — подняв с улыбкой брови, спросил Кременцкий, не говоря ни «вы», ни «Ваше Превосходительство», как он не говорил ни «вы», ни «ты» своему кучеру. Семен Исидорович, впрочем, тотчас пожалел, что употребил слова «наши Палестины», — в связи с его еврейским происхождением они могли подать повод к шутке.
— Как видите… Ведь кабинет прокурора палаты, кажется, там, дальше?
— Прямо, прямо, вон там…
— Благодарю вас… Мое почтение, — сказал, учтиво кланяясь, Федосьев и направился в указанном ему направлении.
— Говорят, конченый мужчина, — радостно заметил вполголоса Семен Исидорович. — Может теперь на воды ехать мемуары писать.
— Il est fichu …[50] Я из верного источника знаю: мне вчера вечером сообщили у графини Геденбург… Elle est bien rensejgnée [51], — сказал Фомин; при виде сановника он как-то бессознательно заговорил по-французски.
— А все-таки, что ни говори, выдающийся человек.
— Ma foi, oui… Еще бы, — перевел Фомин, вспомнив, что Сема не любит его французских словечек.
— Я очень рад, что эта клика останется без него. Все мыслящее вздохнет свободнее…
— Ваше Превосходительство ко мне по делу Фишера? — спросил Яценко, с некоторой тревогой встретивший нежданного гостя.
— Да, по этому делу… Вы разрешите курить? — спросил Федосьев, зажигая спичку.
— Сделайте одолжение. — Яценко пододвинул пепельницу. — Должен, однако, сказать Вашему Превосходительству, что со вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я уже отослал производство товарищу прокурора Артамонову.
Федосьев, не закурив, опустил руку с зажженной спичкой.
— Вот как? Уже отослали? — с досадой в голосе спросил он. — Я думал, вы меня предупредите?
— Отослал, — повторил сухо Яценко, сразу раздражившись от предположения, что он должен был предупредить Федосьева. — Последний допрос обвиняемого дал возможность установить весьма важный факт: связь Загряцкого с госпожой Фишер. Загряцкий сам признался в этой связи, и очная ставка, можно сказать, подтвердила его признание. Вашему Превосходительству, конечно, ясно значение этого факта? Без него обвинение висело в воздухе, теперь оно стоит твердо.
— Стоит твердо? — неопределенным тоном повторил Федосьев.
— Так точно. — Николай Петрович помолчал. — Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который Ваше Превосходительство проявляли к этому делу. Во всяком случае теперь, если вы продолжаете им интересоваться, вам надлежит обратиться к товарищу прокурора Артамонову.
— Что ж, так и придется сделать, — сказал Федосьев. — Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал: теперь формальности будут сложнее.
— Формальности? — переспросил с недоумением Яценко.
— Формальности по освобождению Загряцкого из этого тяжелого дела, — сказал медленно Федосьев, заботливо стряхивая пепел с папиросы. — Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович, что с самого начала следствие ваше направилось по ложному пути. Загряцкий невиновен в том преступлении, которое вы ему приписываете.
— Это меня весьма удивило бы! — сказал Яценко. Его вдруг охватило сильное волнение. — Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова?
Федосьев, по-прежнему не глядя на Николая Петровича, втягивал дым папиросы.
— Полагаю, Ваше Превосходительство, я имею право вас об этом спросить.
— В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам ответить. Однако, при всем желании, я другого выхода не вижу… Да, Николай Петрович, вы ошиблись, Загряцкий не убивал Фишера и не мог его убить, потому что в момент убийства он находился в другом месте… Он находился у меня.
Наступило молчание. Яценко, бледнея, смотрел в упор на Федосьева.
— Как прикажете понимать ваши слова?
— Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их надо понимать так, что Загряцкий наш агент, Николай Петрович… Агент, приставленный к Фишеру по моему распоряжению.
Снова настало молчание.
— Почему же Ваше Превосходительство только теперь об этом сообщаете следствию? — повысив голос, спросил Яценко.
Федосьев развел руками.
— Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете, Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится Загряцкий, у нас равносильна гражданской смерти… Лучшее доказательство то, что он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным сказать вам, где он был в вечер убийства. Не счел возможным сказать, откуда он брал средства к жизни… Разумеется, это вещь поразительная, что у нас люди предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту… Это будет памятником эпохе, — со злобой сказал он. — Но это так, что ж делать?
— Ваше Превосходительство, разрешите вам заметить, что интересы этого господина, служащего, как вы изволили сказать, государству, не могут иметь никакого значения сравнительно с интересами правосудия.
— Пусть так, но принципы, которыми руководятся люди, управляющие государством, имеют некоторое значение. Мы воспитаны на том, что выдачи сотрудников быть не может [52]. А вы, как следователь, не имели бы возможности, да, пожалуй, и права, хранить в секрете роль Загряцкого… Ну, человек пять вы уж непременно должны были бы посвятить в это дело. А какой же секрет, если о нем будут знать пять добрых петербуржцев. Это все равно, что в агентство Рейтера передать… Нет, я до последней минуты не мог ничего вам сказать, Николай Петрович. Я ведь рассчитывал, что, в силу естественной логики вещей, невиновного человека следствие и признает невиновным. Но вышло не так… Опять скажу: что ж делать! Бывает такое стечение обстоятельств. Оно бывает даже чаще, чем я думал, хоть, поверьте, я никогда не обольщался насчет разумности этой естественной логики вещей…
Яценко встал и прошелся по комнате. Он был очень бледен. «Нет, я ничем не виноват, — подумал Николай Петрович, — мне стыдиться нечего!..»
— Я остаюсь при своем мнении относительно действий Вашего Превосходительства, — сказал он, останавливаясь (Федосьев снова слегка развел руками). — Но прежде всего я желаю выяснить факты. Значит, в вечер убийства Загряцкий находился у вас, в вашем учреждении?
Федосьев улыбнулся не то наивности следователя, не то его тону.
— Со мной, но не в моем учреждении, — ответил он, подчеркивая последнее слово. — С секретными сотрудниками я встречаюсь на так называемой конспиративной квартире. Они ко мне ходить не могут, это азбука.
— По каким причинам вы приставили к Фишеру агента?
— Я не буду входить в подробности… Впрочем, я сообщил вам при первом же нашем разговоре, почему я считал себя обязанным следить за Фишером… Он вдобавок, как вы догадываетесь, не единственный человек в России, находящийся у меня на учете.
— Значит, и письма госпожи Фишер к мужу Загряцкий читал по предписанию Вашего Превосходительства?
Федосьев посмотрел на следователя.
— Я предписываю установить наблюдение за тем или другим лицом — и только. Техника этого наблюдения лежит на ответственности агента и его непосредственного начальства, меня она не касается… Загряцкий мог и переусердствовать.
— Да… Вот как… — сказал Яценко. Он вернулся к столу и снова сел в кресло. Волненье его все усиливалось.
— Кто же убил Фишера? — вдруг негромко, почти растерянно, спросил он.
— Этого я не могу знать.
— Однако, вы заинтересовались ведь этим делом не только для того, чтобы выгородить вашего агента?.. Да, ведь вы тогда меня спрашивали, оставил ли завещание Фишер, — сказал, вспомнив, Яценко. Он вдруг потерял самообладание. — Ваше Превосходительство, я решительно требую, чтоб вы перестали играть со мной в прятки! Я прямо вас спрашиваю и прошу мне так же прямо ответить: вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?
— Это одно из возможных объяснений, — помолчав, ответил Федосьев. — Но уверенности у меня никакой не было и нет… Я действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами.
— Революционерами? — с изумлением переспросил Яценко. — Какими революционерами?.. Зачем революционерам было убивать Фишера?
— Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери, которая, как вы знаете, связана с революционным движением.
Яценко продолжал на него смотреть, вытаращив глаза.
— Позвольте, Ваше Превосходительство, — сказал он. — Можно думать что угодно о наших революционерах, я и сам не грешу к ним особыми симпатиями, но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтоб завладеть его состоянием… Ваше подозрение совершенно неправдоподобно! — сказал он решительно.
— Я, напротив, думаю, что оно вполне правдоподобно, — холодно ответил Федосьев. — И позволю себе добавить, что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше, или даже чем мнение всей нашей либеральной интеллигенции: как-никак, я посвятил этому делу всю свою жизнь. Вы спрашиваете: когда же революционеры делали такие вещи? Я отвечаю: за ними значатся вещи гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве Шмидта? Известны ли вам дела террористов в Польше? О кровавой субботе не слышали? Об экспроприации на Эриванской площади? О Лбовской организации?.. Я вам вкратце напомню…
Он заговорил, входя в подробности зверств, убийств, грабежей. Яценко смотрел на него сначала с недоуменьем, потом с некоторой тревогой.
… — А Горинович, которого облил серной кислотой один из их самых уважаемых, иконописных вождей? А анархист-террорист Шпиндлер, прежде обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных изданиях? А тот — как его? — что переоделся в офицерскую форму и оскорбил действием германского консула: нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с извинениями генерал-губернатор, которого они по дороге собирались убить? А Кишиневская группа «мстителей»? А дондангенские «лесные братья»?.. А Московская «Свободная Коммуна»? Не помните? Разрешите напомнить…
Обычно холодный и бесстрастный, Федосьев говорил возбужденно, увлекаясь все больше, точно этот счет чужих преступлений, это мрачное свидетельство о жестокости людей, с которыми он вел борьбу, доставляли ему наслаждение. Он все валил в одну кучу: и подонки революции, и ее вожди все точно были для него равны.
— …А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые, за компанию с министрами и генералами, убивают с ангельски-невинным, мученическим видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей, что затем нисколько им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик! Всегда ведь можно найти хорошие успокоительные изречения: «лес рубят, щепки летят», «любовь к ближнему, любовь к дальнему», правда? Они и в Евангелии находят изречения в пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из Священного Писания… Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу, но сами на счет партийной кассы живут и недурно живут! Грабят и убивают одних богачей, а деньги берут у других, — дураков у нас, слава Богу, всегда было достаточно!.. Двойная бухгалтерия, очень облегчающая и облагораживающая профессию… Из убийств дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, неученых, ни в чем неповинных людей перебили, как кроликов… Да что говорить! Нет такой гнусности, перед которой остановились бы эти люди… Они нас называют опричниками! Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы, да еще, в отличие от нас, на словах так и дышут человеколюбием… Дай им власть и перед их опричниной не то, что наша, а та, опричнина царя Ивана Васильевича, окажется стыдливой забавой!..
Яценко слушал его со странным чувством, в котором к беспокойству и недоверию примешивалось нечто похожее на сочувствие, — этого Николай Петрович потом не мог себе объяснить. Многое из того, о чем говорил Федосьев, было совершенно неизвестно следователю; кое-что он знал или смутно вспоминал по газетам. Яценко понимал односторонность нападок Федосьева, несправедливость разных его доводов, но в таком подборе и рассказе доводы эти звучали убедительно и грозно. «А все-таки здесь он ошибается… Преступление преступлению рознь… Да, то они могли сделать, а это невозможно… Притом как же они могли отравить Фишера? Ведь все это чистая фантазия… Нет, люди ему подобные, видно, становятся маниаками», — думал Николай Петрович.
— Разрешите формулировать вашу мысль, — сказал он, когда Федосьев, наконец, кончил. — По вашим подозрениям, какой-то революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его, в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их на революционные цели? Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери Фишера? Но ведь она находится за границей…
Вдруг мысль о докторе Брауне ужалила Николая Петровича. «Какая ерунда!» — сказал себе он.
— Не преувеличивайте значения моих слов, — уже спокойно, даже с некоторым сожалением, ответил Федосьев. — Я сказал вам, что это только одна из возможностей, если хотите, возможность чисто теоретическая. Вы изволили мне возразить: это совершенно неправдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели, и я изложил вам — слишком пространно, — почему я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю.
— Значит, вы не настаиваете на своем подозрении? — спросил Яценко.
— Нет, теперь не настаиваю, — ответил нехотя Федосьев. — Да я и прежде только смутно подозревал… Во всяком случае вам виднее. И, добавлю, теперь это уж никак не мое дело, — сказал он, улыбаясь. — Разрешите поделиться с вами маленьким секретом, вы о нем завтра прочтете в газетах. Мои услуги признаны ненужными русскому государству, и я ко всеобщей радости уволен в чистую отставку, с мундиром и пенсией, но больше ни с чем.
«Вот оно что! — подумал Николай Петрович. — То-то он так демоничен… Что ж, не сочувствие же ему выражать, в самом деле».
— Очень быстро у нас идут теперь перемены, — уклончиво сказал Яценко.
— Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее правительство совершенно уверено в своей силе, прочности и государственном искусстве. Слава Богу, конечно… Да, так видите ли, я не считал себя вправе оставлять своему преемнику дело о Загряцком. Я эту кашу заварил, я ее должен был и расхлебать. Скажу еще, что Загряцкий значится не за охранным отделением, там о нем ничего не знают, вы о нем там и не справляйтесь. А у меня он известен только под кличкой «Брюнетка», которую я поэтому также вынужден вам открыть.
— «Брюнетка», — повторил Яценко. Оставившее его было раздражение вновь им овладело. — Не могу, однако, не сказать Вашему Превосходительству, что вы напрасно называете ваши действия расхлебыванием каши. Напротив, расхлебывать ее придется нам, а эта каша с «Брюнетками» невкусная, Ваше Превосходительство.
— Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем, оно ведь не так уж велико? Прокуратура направит дело к доследованию в порядке 512-й статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации, она достаточно прочна… Я все-таки хотел бы и очень бы вас просил, чтобы настоящая роль Загряцкого осталась неразоблаченной. Очень бы вас просил, Николай Петрович… Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, — вставая, сказал он с подчеркнутой иронией, — то ведомству вашему, да и лично вам, тревожиться нечего. Вся одиозность дела падет на наше ведомство, точнее на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее… Прощайте, Николай Петрович, я у вас засиделся.
Яценко, с трудом сдерживаясь, сухо простился с посетителем. Он счел, впрочем, необходимым проводить его до дверей коридора именно ввиду отставки и опалы Федосьева.
— Да, кстати, — добавил у двери Федосьев, — не трудитесь искать убийцу по дактилоскопическому снимку. Это рука околоточного, который производил дознание. Да, да, да… Он по неосторожности прикоснулся к бутылке… Околоточный Шавров… Я случайно выяснил… Прощайте, Николай Петрович, — любезно, почти ласково повторил он, выходя из камеры.
Яценко растерянно смотрел ему вслед.
VIII
Банкет по случаю двадцатипятилетнего юбилея Кременецкого должен был состояться в одном из лучших ресторанов, в большой зале, вмещавшей около трехсот человек. Еще за несколько дней до банкета запись желающих принять в нем участие была прекращена по отсутствию места. Хотя в феврале было еще несколько юбилеев, день, выбранный для чествования, оказался удачным и не совпал ни с какой другой общественной или театральной сенсацией. Газетная подготовка юбилея прошла отлично: заметки в печати, вначале глухие, в две-три строки, потом понемногу все более подробные, появлялись часто. У Семена Исидоровича были враги в адвокатском мире. Но в газетных кругах, где он был чужой, к нему в общем относились хорошо. Он часто выступал в суде по литературным делам и в этих случаях неизменно отказывался от гонорара, даже тогда, когда его подзащитные были люди со средствами. Правда, доброе отношение к Кременецкому у некоторых старых журналистов сочеталось с насмешкой. Так, Федор Павлович, секретарь газеты «Заря», принимал заметки об юбилее с ругательствами; но все же принимал их и печатал на видном месте. В правых газетах Семен Исидорович тоже злобы не возбуждал.
Комитета по устройству юбилея было решено не образовывать, так как при этом неизбежны были жестокие обиды. Все делалось способом семейным, безымянным. Главная тяжесть работы выпала на долю Тамары Матвеевны и Фомина; им помогали близкие друзья дома. В течение месяца, предшествовавшего юбилею, у Тамары Матвеевны, кроме чисто деловых заседаний, происходили и небольшие обеды в тесном кругу. Сам Семен Исидорович, разумеется, не присутствовал на заседаниях, а с обедов рано уезжал, ссылаясь на неотложные дела. Но Тамара Матвеевна по вечерам наедине подробно все сообщала мужу и узнавала его мнение, которое он, впрочем, всегда высказывал отрывисто и уклончиво, ибо его это дело совершенно не касалось.
Работа была трудная и сложная. Постоянно возникали новые вопросы, то мелкие, технические, то серьезные и принципиальные. Так, на первом же обеде в тесном кругу, перед устроителями встал вопрос о самом характере чествования. За кофе Тамара Матвеевна, повторяя и слова, и беглые застенчивые интонации мужа, указала, что Семен Исидорович не только один из первых адвокатов России (из приличия она не сказала первый): он кроме того политик и общественный деятель. Должно ли придать чествованию характер политический? В глубине души Тамара Матвеевна предпочла бы отрицательный ответ на этот вопрос. Она боялась преследований со стороны правительства, травли черносотенных организаций. Ее мнение разделял и Фомин. Но другие участники обеда высказались решительно против этого мнения. Особенно горячо высказался Василий Степанович.
— Вы не можете не знать, дорогая Тамара Матвеевна, — сказал он решительно, подливая себе бенедиктина, — что юбилей Семена Исидоровича не только праздник русской адвокатуры: это праздник всей левой России!
«Эк, однако, хватил!» — подумал князь Горенский. Он озадаченно посмотрел на редактора. Но добрые голубые глаза Василия Степановича выражали такую глубокую уверенность в правоте его слов, что Горенский заколебался: может быть, действительно он недооценивал Семена Исидоровича и его заслуги? Быстро обдумав вопрос, князь тоже заявил, что чествованию необходимо придать характер общественно-политический. Против этого мнения осторожно возражал Фомин.
— Левая Россия это хорошо, но Россия просто еще лучше, — сказал он. — Если мы поставим ударение на слово «левый», то магистратура во всяком случае не примет участия в нашем празднике.
— Тем хуже для магистратуры! — воскликнул Василий Степанович. Однако Тамара Матвеевна не могла признать, что тем хуже для магистратуры: она догадывалась, что и Семену Исидоровичу этот выход не будет особенно приятен. В спор вмешался Никонов. Раздраженный словами Василия Степановича, он высказался со свойственной ему шутливой резкостью:
— Ну, уж там левая Россия, или не левая Россия, или никакая не Россия, — сказал он (все немного смутились), — но я прямо говорю: весь смысл банкета именно в политической манифестации. Наш святой долг, господа, показать кукиш правительству!.. Поэтому и публика к нам так валит… Теперь, после убийства Гришки, настроение такое, что и магистратура к нам повалит, голову даю на отсечение!
— Может быть, вы не так дорожите своей головой, Григорий Иванович, — сказал язвительно Фомин, — но могу вас уверить, что сенатор Медведев на политический банкет не явится.
— Вот еще кто вам понадобился, зубр этакой! — воскликнул возмущенно князь. — Мы устраиваем банкет не для Беловежской пущи.
Василий Степанович от негодования пролил ликер на скатерть.
— Об этом надо, конечно, очень серьезно подумать, — заметила озабоченно Тамара Матвеевна, не имевшая твердого мнения до тех пор, пока не высказался Семен Исидорович.
Вечером она доложила о споре мужу.
— Фомин отчасти прав, — сказала она нерешительно. — Не только Медведев тогда не придет, Бог с ним! — но и многие другие. Я не уверена даже, что придет Яценко?
— Все-таки странно, что русские люди никогда ни на чем не могут сойтись, — сказал с горечью Семен Исидорович. — Во всякой другой стране существуют бесспорные ценности: в Англии, во Франции, в Бельгии («Бельгия» сорвалась у него как-то нечаянно). Одни мы, русские, всегда без нужды грыземся… Делайте, как хотите! — в сердцах отрывисто добавил он.
Расстроенная Тамара Матвеевна немедленно перевела разговор на другой предмет. Она принялась рассказывать о том, как все, решительно все, стремятся попасть на банкет и в какое отчаянье приходят люди, узнавая, что мест уже нет. Семен Исидорович понемногу смягчился. Характер чествованья так и остался неясным. Было решено предоставить полную свободу ораторам.
Вопросы непринципиальные Тамара Матвеевна разрешала сама. Ресторан был выбран очень дорогой, но плату за обед установили низкую — пять рублей с человека, — чтобы сделать участие в банкете возможно более доступным. При этом Тамара Матвеевна поручила Фомину доплатить ресторатору столько, сколько будет нужно, не останавливаясь ни перед какими расходами. У Тамары Матвеевны, благодаря щедрости мужа, уже года три были собственные деньги и текущий счет в банке. Из этих же денег она оплатила свой дорогой подарок Семену Исидоровичу: портрет Муси работы известного художника. Меню обеда было поручено выработать Фомину, который имел репутацию тонкого гастронома. Он очень хорошо справился со своей задачей: любо было смотреть на проект разукрашенной карточки с разными звучными и непонятными «Homard Termidor», «Médaillon de foie gras», «Coupe Chantilly» [53], и т. п.
Фомину пришлось особенно много поработать по делу об устройстве чествования. Тамара Матвеевна трудилась усердно, но она, по своему положению, часто должна была оставаться в тени. Никонов помогал больше советами, да и то преимущественно шутливыми. Муся вначале только делала радостно-изумленное лицо и относилась к юбилею отца приблизительно так, как к приезду Художественного Театра или к другому событию подобного рода, которое само по себе было очень приятно, но никаких действий с ее стороны не предполагало. Потом ее все же привлекли к общей работе. Она взяла на себя распределение гостей за столами. Столов было много: один в длину зала, почетный, и десять обыкновенных, перпендикулярных к почетному. Рассадка гостей за почетным столом была чрезвычайно трудным и ответственным делом: здесь все обдумывалось и обсуждалось сообща. Боковые же столы были поручены Мусе. Она съездила с Никоновым в зал банкета, купила огромные листы картона и начала озабоченно рисовать план столов с номерами мест. Но вскоре ей это надоело, на первом же столе номера не поместились и план так и остался недоконченным. Распределение гостей тоже перешло к Фомину. Он с ожесточением говорил знакомым, что совершенно сбился с ног, — проклинал и банкет, и юбиляра, и самого себя «за глупость». Однако в действительности Фомина захватила эта работа, требовавшая опыта, такта, дипломатии и вдобавок дававшая материал для его упорного остроумия. В удачном устройстве юбилея Фомин видел как бы собственное свое торжество, хоть и не слишком любил Семена Исидоровича.
Большого такта требовал вопрос о речах на банкете. Этот вопрос, по выражению Фомина, нужно был заботливо «провентилировать». Недостатка в ораторах не было: говорить желали многие, но на беду не те, кого особенно приятно было бы услышать Семену Исидоровичу. Было получено письмо от дона Педро, — он заявлял о своем желании выступить с речью почти как об одолжении, которое он готов был сделать юбиляру. Альфред Исаевич принял столь самоуверенный тон больше для того, чтобы вернее добиться согласия устроителей банкета: ему очень хотелось сказать слово. Однако дон Педро был сразу всеми признан недостаточно декоративной фигурой, и Фомин в самой мягкой форме ответил ему, что, как ни приятно было бы его выступление, слово не может быть ему дано по условиям времени и места. Эту непонятную фразу «по условиям времени и места» Фомин употреблял постоянно, и она на всех производила должное впечатление. Альфред Исаевич, по свойственному ему благодушию, не обиделся; он лишь огорчился, да и то ненадолго: что ж делать, если условия времени и места лишали его возможности выступить?
Виднейшие политические деятели либерального лагеря любезно благодарили за приглашение, обещали непременно прийти на банкет, но не выражали желания говорить. Уклонился, в частности, самый видный из всех, что было особенно досадно Семену Исидоровичу. Он даже приписал это уклонение скрытому антисемитизму вождя либерального лагеря. «Ах, они все явные или тайные юдофобы!» — сердито сказал жене Семен Исидорович, еще накануне восторженно отзывавшийся об этом политическом деятеле. Вместо него был единогласно намечен князь Горенский, но он никак уклонившегося не заменял. Должны были говорить Василий Степанович и Фомин. Наметилось и еще несколько ораторов.
Вся эта юбилейная кухня была не очень приятна Кременецким. Помимо обид и огорчения, было беспокойство: удастся ли вообще чествование? Настроение в Петербурге без видимой причины становилось все тревожнее. Ожидали беспорядков и забастовок; говорили даже, что кое-где начинаются голодные бунты. Кременецкий сожалел, что по разным случайным причинам двадцатипятилетие его адвокатской деятельности было назначено на февраль. «Не следовало оттягивать», — думал он.
Насмешек или неприятных отзывов о чествовании он не слышал. Семен Исидорович думал, что такие отзывы непременно должны были бы до него дойти, все равно как до автора, через возмущенных приятелей, почти неизбежно доходят ругательные рецензии об его книгах, даже помещенные в захудалых или иногородних изданиях: «а вы видели, какую гадость написал о вас такой-то?.. Просто стыдно читать этот вздор!..» Насмешки, однако, не доходили до Семена Исидоровича. Связанные с праздником мелкие огорчения потонули в той волне сочувствия, симпатии, похвал, которая к нему неслась. Письма, телеграммы, адресы стали приходить еще дня за два до юбилея. В день праздника их пришло больше ста. Все утро на квартиру Кременецких носили из магазинов цветы, торты, бонбоньерки. Приветствия, особенно от прежних подзащитных, были самые трогательные. Некоторые из них Семен Исидорович не мог читать без искреннего умиления. К тому часу дня, когда к нему на дом стали съезжаться друзья и прибыла делегация от совета присяжных поверенных, он уже пришел в состояние подлинного сердечного размягчения.
Одно приветствие особенно его взволновало. Оно было от адвоката Меннера, с которым Семен Исидорович в течение долгих лет находился в состоянии полускрытой, но острой и жгучей вражды. В выражениях не только корректных, но чрезвычайно лестных и теплых, Меннер поздравлял своего соперника, отмечал его большие заслуги и слал ему самые добрые пожелания. Кременецкий не верил своим глазам, читая это письмо: он ждал от Меннера в лучшем случае коротенькой сухой телеграммы. В одно мгновенье исчезла, растаяла долголетняя ненависть, составлявшая значительную часть интересов, действий, жизни Семена Исидоровича. В том размягченном состоянии, в котором он находился, их вражда внезапно показалась ему нелепым и печальным недоразумением. Больше того, это поздравительное письмо в каком-то новом свете представило ему самую жизнь. «Да, жизнь прекрасна, люди тоже в большинстве хороши и надо быть безумцем, чтобы отравлять себе существование всеми этими мелочными дрязгами», — подумал он. Тамара Матвеевна также была взволнована письмом Меннера.
— Конечно, он во многом перед тобой виноват, — сказала она. — Особенно в том деле с Кузьминскими… Но он все-таки выдающийся человек и адвокат… Не ты, конечно, но один из лучших адвокатов России.
— Один из самых лучших! — с горячим чувством признал Семен Исидорович.
По его желанию, Тамара Матвеевна позвонила по телефону Меннеру, сердечно его поблагодарила от имени мужа и просила непременно приехать вечером на банкет. Семен Исидорович во время их разговора приложил к уху вторую трубку телефона.
— Я сам очень хотел быть, но я слышал и читал, что все триста мест уже расписаны, — ответил взволнованно Меннер.
— Все триста пятьдесят мест давно расписаны, но для Меннера всегда и везде найдется место, — сказала Тамара Матвеевна: за долгие годы она усвоила и мысли, и чувства, и стиль своего мужа. Семен Исидорович взглянул на жену и с новой силой почувствовал, что эта женщина — первый, самый преданный, самый главный из его ныне столь многочисленных друзей. Яснее обычного он понял, что для Тамары Матвеевны никто кроме него на свете не существует, что жизнь без него не имеет для нее смысла. Слезы умиления показались на глазах Кременецкого, он порывисто обнял Тамару Матвеевну. Она застенчиво просияла.
Семен Исидорович стал со всеми вообще чрезвычайно добр и внимателен. Накануне банкета он разослал по благотворительным учреждениям две тысячи рублей и даже просил в отчетах указать, что деньги получены «от неизвестного». Никто ни в чем не встречал у него отказа. Так, дня за два до банкета Кременецкий получил билеты на украинский концерт, который должен был состояться «25-го лютого, в Олександровской Залi Мiйськой Ради» (в скобках на «квитках» значился русский перевод этих слов). Семена Исидоровича рассмешило и немного раздражило то, что люди серьезно называли Городскую Думу Мiйской Радой. Тем не менее он тотчас отослал устроителям концерта пятьдесят рублей, хотя «квитки» стоили гораздо дешевле.
IX
Муся в те дни переживала почти такое же состояние счастливого умиления, в каком находился ее отец. Она была влюблена. Началось это, как все у нее, с настроений светско-иронических. Муся жила веселой иронией и выйти их этого болезненного душевного состояния ей было очень трудно, — для нее оно давно стало нормальным. Когда Муся в разговоре о Клервилле, закатывая глаза, сообщала друзьям, что она погибла, что Клервилль наверное шпион и что она без ума от шпионов, это надо было понимать как небрежную, оригинальную болтовню. Так друзья действительно это и понимали. Если б у Муси спросили, что на самом деле скрывается за ее неизменным утомительно-насмешливым тоном, она едва ли могла бы ответить. Что-то, очевидно, должно было скрываться: нельзя было жить одной иронией, — Муся это чувствовала, хоть думала об этом редко: она была очень занята, ровно ничего не делая целый день. В откровенных беседах Муся часто повторяла: «Надо все, все взять от жизни»… В ее чувствах что-то выражалось и другими фразами: «сгореть в огне», «жечь жизнь с обоих концов», «отдаваться страстям»; но это были провинциальные фразы довольно дурного тона, которых не употребляла и Глаша.
Впрочем, дело было не в выражении мысли: ее некому и незачем было выражать. Тягостнее было то, что в действительности Муся брала у жизни очень немногое. Флирт с Григорием Ивановичем, отдаленное подобие флирта с Нещеретовым, сомнительные разговоры с Витей, — все это щекотало нервы, но заполнить жизнь никак не могло. Страх, общий уклад жизни, привычки, брезгливость мешали Мусе пойти дальше. Ей было двадцать два года. Она знала, что не останется без жениха. Но с ужасом чувствовала, что все легко может кончиться очень прозаично и буржуазно, уже без всякой грациозной иронии. Муся как-то прочла у Оскара Уайльда: «Несчастье каждой девушки в том, что она рано или поздно становится похожей на свою собственную мать». От этой фразы Муся похолодела, хотя любила Тамару Матвеевну и очень к ней привыкла.
Клервилль появился так неожиданно. Он не укладывался в привычные настроения Муси, но буржуазности в нем не было или, если была, то другая. Слово «буржуазность» часто употреблялось в кружке Муси, правда в несколько особом смысле: так, дама из буржуазного общества, ездившая со светскими людьми в отдельные кабинеты первоклассных ресторанов, тем самым уже возвышалась над рядовой буржуазностью. Возвыситься над буржуазностью можно было, читая определенные книги, восхищаясь надлежащими писателями, артистами, художниками и презирая надлежащих других, живя врозь с мужем или называя его на вы. Вообще это было нетрудно и часто вполне удавалось даже на редкость глупым женщинам (мужчинам удавалось еще легче). Клервилль не возвышался над буржуазностью: он был как-то от нее в стороне: этому все способствовало, от мундира и боевых наград до его имени Вивиан, до его чуть пахнущих медом английских папирос. И Муся могла говорить, что она погибла, без риска оказаться ниже своей репутации.
Так было при их первом знакомстве. Но после любительского спектакля в их доме Муся почувствовала, что она влюбилась, влюбилась по-настоящему, в первый раз в жизни, почти без заботы об ощущеньях, без всякой мысли о том, буржуазно ли это или нет.
Клервилль занимал ее воображение целый день, и в мыслях о нем теперь заключалось ее лучшее наслаждение. Прежде Муся была не в состоянии провести вечер дома одна. Теперь она предпочитала одиночество и, возвращаясь после театра домой, с радостью вспоминала, что сейчас в ванне, в постели останется с мыслями о нем одна, что, быть может, он приснится ей ночью. Муся проверяла свои чувства по самым страстным романам и с гордостью убеждалась, что это и есть та любовь, которую почти всегда совершенно одинаково и совершенно верно описывали романы. Прежде Мусе было страшно подумать, что ей, быть может, предстоит за всю жизнь знать только одного человека. Теперь самая мысль эта казалась ей одновременно и смешной, и гадкой. Муся была так счастлива, как никогда до того в жизни. От счастья она стала добрее, не отвечала на колкости Глаши, была ласкова с матерью, больше не старалась кружить голову Вите: он под разными предлогами забегал к ним часто, так что в кружке уже смеялись, а Тамара Матвеевна полушутливо грозила ему пальцем. Муся теперь говорила с Витей «так, как могла бы говорить с братом любящая старшая сестра», — этот новый книжный тон беспокоил и сердил Витю. Никонов утверждал, что в доме Кременецких установился дух первых времен христианства — и притом с некоторым опозданием, ибо Семен Исидорович крестился двадцать пять лет тому назад.
Клервилля Муся видела довольно редко. Он сделал им визит, был с Мусей на выставке «Мира Искусства», слушал Шаляпина в опере у Аксарина. После третьей встречи, с английской легкостью в сближении, он попросил разрешения называть ее по имени и произносил ее имя забавно-старательно. Это очень ее удивило, — она думала, что все англичане «чопорны». Слово Вивиан звучало волшебно. Клервилль был не только красавцем. Он оказался милым, любезным, обаятельным человеком. «Умен он или нет?» — не раз спрашивала себя Муся и вначале ей было трудно ответить на этот вопрос: Клервилль, очевидно, не был умен в том смысле, в каком были умны сама Муся, Глаша или Никонов. Но Муся догадывалась, что в этом смысле Гете, Наполеон, Пушкин тоже не были, пожалуй, умны. Муся скоро все узнала о Клервилле, об его родных, об его планах. Как-то, в присутствии ее матери, он упомянул о том, что небогат. Это несколько расхолодило Тамару Матвеевну: она сама начинала неопределенно думать о Клервилле. Ей, впрочем, объяснили, что в Англии человек, имеющий состояние в сто тысяч фунтов, не считает себя богатым. Мусе теперь было почти безразлично, богат ли или небогат Клервилль. Ее гораздо больше беспокоил вопрос, зачем он сказал об этом: надо ли отсюда заключить, что он «сделает ей предложение» (это слово, прежде неприятное Мусе, теперь звучало иначе). Клервилль не делал предложения, но после спектакля Муся почти не сомневалась в том, что он предложение сделает.
Она не могла привыкнуть к этой мысли. В их кругу никто никогда не выходил за англичанина. Клервилль в разговоре упомянул о том, что его, быть может, пошлют после войны в Индию. Муся не представляла себе жизни вне Петербурга и невольно улыбалась, воображая себя в Бомбее женой боевого английского офицера. Но и в этой мысли было что-то, волновавшее Мусю: она, смеясь, говорила друзьям, что родилась с душой авантюристки. «Неужели, однако, всю жизнь говорить с мужем на чужом языке?.. Да правда ли еще, что он влюблен?.. Но когда же, когда? Говорят, война скоро кончится… Это, однако, говорят уже три года…» Муся вспомнила частушку, которую газеты откопали где-то в Рязанской губернии:
Девки, очень я сердита На германца сатану! Дролю отдали в солдаты И угнали на войну…Муся с сочувственной улыбкой думала о «девке», которая тосковала по дроле. Ей была приятна мысль, что она сама похожа на эту девку и она от всей души желала ей найти с дролей счастье. У нее теперь был свой дроля.
Семен Исидорович ничего не знал о новом увлечении Муси. Тамара Матвеевна едва догадывалась: она в мыслях примеривалась ко всем неженатым мужчинам, бывавшим у них в доме. Родителей Муси все еще занимала мысль о Нещеретове. Однако, здесь их постигло разочарование. Нещеретов был любезен, но решительно ничто не свидетельствовало об его увлечении Мусей. Им вдобавок сообщили, что Аркадий Николаевич стал часто бывать у госпожи Фишер. «Очень нужно было его с ней знакомить», — с досадой думал Кременецкий. Он вообще был недоволен своей клиенткой, как и ходом ее иска. Дело Загряцкого было направлено к доследованью. В связи с этим какие-то темные слухи поползли по Петербургу. Но в те дни ходило по столице так много самых удивительных слухов, что им большого значения не придавали.
У Кременецких в феврале бывало особенно много гостей, частью в связи с предстоявшим торжественным днем, частью оттого, что в их доме всегда рады были гостям и не жалели денег: из-за росшей дороговизны многие в Петербурге начинали сокращать расходы. Настроение в столице, несмотря на войну и тяжелые слухи, было после убийства Распутина необыкновенно приподнятое и радостное. Особенно оживлена была молодежь, точно гордившаяся бессознательно тем, что историческое убийство, столь нашумевшее во всем мире, совершили блестящие молодые люди.
Муся часто выезжала в театр. В театрах тоже шли очень веселые пьесы, — где «Наша содержанка», где «Веселая вдова», где «Любовь… и черти… и цветы». После спектакля она нередко заставала дома гостей. Ужинали в два часа ночи «чем Бог послал», как неизменно говорил Кременецкий, в действительности очень хорошо. Кружок Муси имел текучий состав и часто совершенно изменялся в течение года. Теперь в него входили преимущественно участники их любительского спектакля. Молодежь собиралась отдельно, — мостом между нею и старшими был князь Горенский. К старшим Муся редко выходила надолго и в своем кружке, когда ее звали в гостиную к Тамаре Матвеевне, со вздохом, закатывая глаза, терла пальцем щеку, что по-парижски должно было означать «La barbe!» [54] (Муся знала argot лучше уроженцев Монмартра). Для некоторых старших она, впрочем, делала исключение, в особенности для Брауна: почему-то он ее интересовал и даже немного беспокоил.
Зимой в комнате Муси, по ее просьбе, был поставлен отдельный телефон. Аппарат стоял на письменном столе, так что Муся могла разговаривать, сидя в своем любимом атласном кресле. Телефонные разговоры поздним вечером, когда в доме и на улице устанавливалась тишина, стали новым удовольствием Муси. Без всякого дела она вызывала — кого было можно — в двенадцатом, в первом часу ночи, и болтала подолгу, часто дурача собеседника. Она по телефону говорила негромко, особенно отчетливо, и ей приятно было слушать красивый, выразительный звук своего голоса. Что-то в этом напоминало хороший модный театр.
Как-то раз, набравшись храбрости, Муся вызвала по телефону Клервилля. Она давно собиралась пригласить его на банкет. Кружку Муси было отведено место в конце последнего бокового стола. Этим подчеркивалось, что они свои люди и что для них, в отличие от остальной публики, не могло иметь значения, где сидеть. Муся шутливо называла их «Камчаткой». Разумеется, для нее самой место было отведено там же, а не рядом с родителями, как предлагала Тамара Матвеевна. «И вот еще что, друзья мои, — объявила Муся незадолго до праздника, — так как — между нами — будет, верно, очень скучно, то мы оттуда едем все на острова! Идет?» Это предложение было немедленно принято; Никонов взял на себя заказать тройки, — по просьбе дам, не розвальни, а обыкновенные четырехместные сани. Тамара Матвеевна вначале слабо возражала, что не совсем прилично ехать на острова дочери с банкета в честь отца: гораздо лучше было бы им втроем вернуться из ресторана домой и еще потом посидеть немного, поболтать, обменяться впечатлениями в семейном кругу. Но перспектива обмена впечатленьями в семейном кругу не соблазнила Мусю, и Тамара Матвеевна уступила.
— Может быть, тогда и Нещеретов с вами поедет? — вскользь небрежно осведомилась она.
— Нет, Нещеретов с нами не поедет, — сердито ответила Муся.
— Вот ты хочешь сидеть на банкете Бог знает где… Если уж не с нами, то не лучше ли тебе отвести двадцать второй номер? Он еще свободен, это рядом с Аркадием Николаевичем… Он такой приятный собеседник, а?
Муся хотела было огрызнуться, но ей пришло в голову, что Клервилля никак нельзя будет посадить с молодежью на Камчатку. «Как я раньше не сообразила!» — с досадой подумала она.
— Нет, двадцать второго номера я не хочу, — сказала Муся. — Но мы действительно неудачно выбрали место… Я думаю, нам лучше быть за первым столом. Так в самом деле будет приличнее, я скажу Фомину.
В этот вечер Муся вернулась домой раньше обычного, в одиннадцать. Перебирая бумаги в ящике, она наткнулась на старый иллюстрированный проспект пароходного общества, как-то сохранившийся у нее от поездки за границу перед войною. Муся рассеянно его перелистала. На палубе в креслах сидели рядом молодой человек и дама. Перед ними на столике стояли бокалы, бутылка в ведерке со льдом. Изумительно одетый молодой человек держал сигарету в руке с изумительно отделанными ногтями, влюбленно глядя на изумительно одетую даму. Вдали виднелся берег, какие-то пышные сады, замки… Мусю внезапно охватило страстное желание быть женой Клервилля, путешествовать на роскошном пароходе, пить шампанское, говорить по-английски. «Ах, Боже мой, если бы кончилась эта проклятая бойня!» — в сотый раз подумала она с тоскою. Муся положила проспект и, замирая от волненья, вызвала гостиницу «Палас». Клервилль был у себя в номере. По первым его словам — голос его звучал в аппарате так странно-непривычно, — Муся почувствовала, что он не «шокирован», что он счастлив…
— … Да, непременно приезжайте, — говорила она, понижая голос почти до шепота. — Будут политические речи, это наверное вас интересует.
В ту же секунду Муся инстинктом почувствовала, что поступила неосторожно. Ее последние слова встревожили Клервилля. Он смущенно объяснил, что, в таком случае, ему, как иностранному офицеру и гостю в России, лучше было бы не идти. Муся заговорила быстро и сбивчиво, забыв о модуляциях голоса. Она объяснила Клервиллю, что никакого политического характера банкет, конечно, иметь не будет:
— Вы догадываетесь, что иначе я бы вас и не приглашала… Я прекрасно понимаю, что вы не можете участвовать в наших политических манифестациях… Нет, будьте совершенно спокойны, Вивиан, я ручаюсь вам, — говорила она, с наслажденьем называя его по имени. — Нет, вы должны, должны прийти… Впрочем, может быть, вы просто не хотите?.. Тогда я, конечно, не настаиваю, если вам скучно?..
Клервилль сказал, что будет непременно, и просил посадить его рядом с ней.
— Я плохо говорю по-русски и мне так, так хочется посидеть рядом с вами…
Муся обещала исполнить его желание, «если только будет какая-нибудь возможность».
Они простились, чувствуя с волнением, как их сблизил этот ночной разговор по телефону. Муся положила ручку аппарата, встала и прошлась по комнате. Счастье заливало, переполняло ее душу. Ей казалось, что никакие описывавшиеся в романах ivresses [55] не могли бы ей доставить большего наслаждения, чем этот незначительный разговор, при котором ничего не было сказано. Муся подошла к пианино и почти бессознательно, как в тот вечер знакомства с Клервиллем и Брауном (почему-то она вспомнила и о нем), взяла несколько аккордов, чуть слышно повторяя слова: «E voi — o fiori — dall'olezzo sottile — vi faccia — tutti — aprire — la mia man maledetta!..»
Майор Клервилль весь этот вечер провел у себя в номере за чтением «Братьев Карамазовых», иногда отрываясь от книги, чтоб закурить свою Gold Flake [56]. В комнате было тепло, однако радиатор не заменял настоящего жарко растопленного камина. Удобств жизни, того, что иностранцы называли комфортом и считали достоянием Англии, в Петербурге было, пожалуй, больше, чем в Лондоне. Но уюта, спокойствия не было вовсе, как не было их в этой необыкновенной, мучительной книге.
Клервилль читал Достоевского и прежде, до войны: в том кругу, в котором он жил, это с некоторых пор было обязательно. Он и выполнил долг, как раньше, в школе, прочел Шекспира: с тем, чтобы навсегда отделаться и запомнить наиболее знаменитые фразы. К жизни Клервилля Достоевский никакого отношения иметь не мог. Многое в его книгах было непонятно Клервиллю; кое-что казалось ему невозможным и неприличным. Национальный английский писатель не избрал бы героем убийцу, героиней проститутку; студент Оксфордского университета не мог бы убить старуху-процентщицу, да еще ради нескольких фунтов стерлингов. Клервилль был умен, получил хорошее образование, немало видел на своем веку и знал, что жизнь не совсем такова, какою она описана в любимых английских книгах. Но все же для него убийцы и грабители составляли достояние «детективных» романов, — там он их принимал охотно. Достоевский защищал дело униженных и оскорбленных, — Клервилль искренно этому сочувствовал и не видел в этом особенности русского писателя: такова была традиция Диккенса. Сам Клервилль, кроме профессиональной своей работы, кроме увлечения спортом и искусством, интересовался общественными вопросами и даже специально изучал дело внешкольного образования. Он понимал, что можно быть недовольным консервативной партией, можно ставить себе целью переход власти к партии либеральной или даже социалистической. Но знаменитая страница о джентльмене с насмешливой физиономией, который, по установлении всеобщего счастья на земле, вдруг ни с того, ни с сего разрушит хрустальный дворец, столкнет разом к черту все земное благополучие единственно с той целью, чтобы опять пожить по своей воле, — страница эта была ему непонятна: он чувствовал вдобавок, что Достоевский, ужасаясь и возмущаясь, вместе с тем в душе чуть-чуть гордится широтой натуры джентльмена с насмешливой физиономией. Клервилль искренно восторгался «Легендой о великом инквизиторе», мог бы назвать в английской, во французской литературе книги, до некоторой степени предвосхищающие идею легенды. Однако, его коробило и даже оскорбляло, что высокие философские и религиозные мысли высказывались в каком-то кабаке, странным человеком — не то отцеубийцей, не то подстрекателем к убийству… Это чтение досталось Клервиллю нелегко и он был искренно рад, когда со спокойной совестью, с надлежащей долей восхищения отложил в сторону обяозательные книги Достоевского.
Но это было давно. С тех пор все изменилось: и он, и мир. Достоевский был любимым писателем Муси. Она сказала об этом Клервиллю и постаралась вспомнить несколько мыслей, которые от кого-то слышала о «Братьях Карамазовых». Клервилль немедленно погрузился в книги ее любимого писателя. Ему стало ясно, что он прежде ничего в них не понимал. Только теперь через Мусю он по-настоящему понял Достоевского. Он искал и находил в ней сходство с самыми необыкновенными героинями «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Бесов», мысленно примерял к ней те поступки, которые совершали эти героини. В более трезвые свои минуты Клервилль понимал, что в Мусе так же не было Грушеньки или Настасьи Филипповны, как не было ничего от Достоевского в ее среде, в ее родителях. Однако трезвых минут у Клервилля становилось все меньше.
Потом эти книги и сами по себе его захватили. То, что он пережил в годы войны, затем долгое пребывание в Петербурге, было как бы подготовительной школой к Достоевскому. Он чувствовал, что его понемногу, со страшной силой, затягивают в новый, чужой, искусственный мир. Но это волшебство уже не так его пугало: ему искусственной казалась и его прежняя жизнь, от скачек Дерби до народных университетов. Оглядываясь на нее теперь, Клервилль испытывал чувство некоторой растерянности, — как человек, вновь выходящий на обыкновенный солнечный свет после долгого пребывания в шахте, освещенной зловещими огнями. Самые бесспорные положения, самый нормальный склад жизни больше не казались ему бесспорными. У него уже не было уверенности в том, что составлять сводки в военном министерстве, лезть на стену из-за боксеров и лошадей, платить шальные деньги за старые марки, за побитый фарфор 18-го века — значило жить в естественном мире. Не было уверенности и в обратном. Он только чувствовал, что прежний мир был несравненно спокойней и прочнее.
Клервилль не понимал, что вопрос об естественном и искусственном мире сам по себе не имеет для него большого значения. За размышлениями по этому вопросу в нем зрела мысль о женитьбе на Мусе Кременецкой. Только Муся могла осветить ему жизнь. Клервилль подолгу думал о значении каждого ее слова. Он все записывал в своем дневнике, и там словам Муси об инфернальном начале Грушеньки было отведено несколько страниц комментариев. Муся не всегда говорила Клервиллю то, что логически ей могло быть выгодно. Она и вообще не обдумывала своих слов, говорила все, что ей в первую секунду казалось милым и оригинальным. Как-то раз она ему сказала, что просто не может понять обязательства верности в браке. Но именно вырывавшиеся у нее слова, о которых Муся потом сама жалела, всего больше возвышали ее в представлении Клервилля. По понятиям его старого, английского мира, женитьба на Мусе была почти таким же диким поступком, как действия героев Достоевского. Но в новом мире все расценивалось по-иному. Клервилль за чтением думал о Мусе в ту минуту, когда она его вызвала, — и в эту минуту его решение стало бесповоротным. Он только потому не сказал ничего Мусе, что было неудобно и неприлично объясняться в любви по телефону.
X
Браун не предполагал быть на банкете, но в заботах занятого дня забыл послать телеграмму и вспомнил об этом, лишь вернувшись в «Палас» в седьмом часу вечера. Можно было, на худой конец, позвонить Тамаре Матвеевне по телефону. Поднявшись в свой номер, Браун утомленно опустился в кресло и неподвижным взглядом уставился на пол, на швы малинового бобрика, на линию гвоздей, обходившую по сукну мраморный четырехугольник у камина. Край потолка у окна отсвечивал красноватым светом.
Так он сидел долго. Вдруг ему показалось, что стучат в дверь. «Войдите! — вздрогнув, сказал он. Никого не было. Браун зажег лампу и взглянул на часы. — Однако не оставаться же так весь вечер, — угрюмо подумал он, взял было со стола книгу и тотчас ее отложил: он проводил за чтением большую часть ночей. — Пойти куда-нибудь?.. Куда же?.. — Знакомых у него было очень много. Браун перебрал мысленно людей, к которым он мог бы поехать. — Нет, не к ним, тоска… Пропади она совсем… Разве к Федосьеву поехать? — Он подумал, что по складу ума этот враг ему гораздо интереснее, да и ближе друзей. — Сходство в мире В… Нет, разумеется, нельзя ехать к Федосьеву… — Он снова вспомнил об юбилее Кременецкого. Теперь звонить по телефону было уже неудобно. — Разве туда отправиться? Скука…» Но он подумал об ожидавшем его длинном, бесконечном вечере…
Из камина выползло большое буро-желтое насекомое и поползло по мрамору. Браун вздрогнул и уставился глазами на многоножку. Она замерла, притаилась, затем зашевелила сяжками и быстро поползла назад в камин.
«Так и я прячусь от людей, от яркого света… Этим живу, как живет Федосьев своей мнимой ненавистью к революционерам, которых ненавидеть ему трудно, ибо они не хуже и не лучше его… Невелика и моя мудрость жизни, немного же она принесла мне радости. Нет, ненадежно созданное мной perfugium tutissimum [57] и, наверное, не здесь, не здесь скрывается ключ к свободе…»
Банкет, как всегда, начался с опозданием, и Браун приехал почти вовремя. В ту минуту, когда он поднимался по лестнице, музыка впереди заиграла туш. Раздались бурные рукоплескания: Семен Исидорович, бледный и растроганный, как раз входил в зал под руку с Тамарой Матвеевной. Браун перед раскрытой настежь дверью ждал конца рукоплесканий и туша. Вдруг сзади, покрывая шум, его окликнул знакомый голос. В другом конце коридора, у дверей отдельного кабинета, стоял Федосьев. Он, улыбаясь, показывал жестом, что не желает подходить к дверям банкетной залы.
— Я увидел вас из кабинета, — сказал, здороваясь, Федосьев, когда рукоплескания, наконец, прекратились.
— Вы как же здесь оказались?
— Да я теперь почти всегда обедаю в этом ресторане, — ответил Федосьев. — По знакомству и кабинет получаю, когда есть свободный: мне ведь не очень удобно в общем зале. Так вы тоже Кременецкого чествуете? — с улыбкой спросил он.
— Так точно.
— А то не заглянете ли потом и сюда, ко мне, если не все речи будут интересные?
— Если можно будет выйти из залы, загляну… Вы долго еще останетесь?
— Долго, я только что приехал и еще ничего не заказал. Мне вдобавок и торопиться некуда: теперь я свободный человек…
— Да, да…
— Свободный человек… Ну, торопитесь, вот и туш кончился.
— Так до скорого свиданья…
Гости рассаживались по местам. Пробегавший мимо входной двери Фомин остановился и взволнованно-радостно пожал руку Брауну.
— Ваш номер сорок пятый, — сказал он, — вон там, на краю главного стола, рядом с майором Клервиллем… Ведь вы говорите по-английски?.. А по другую сторону я, если вы ничего против этого не имеете…
Он побежал дальше. Браун прошел к своему месту. Клервилль радостно пожал ему руку. Англичанин занимал первый стул по боковому столу. По другую сторону Клервилля сидела Муся. К неудовольствию Фомина, который находил неудобным менять все в последнюю минуту, кружок Муси был переведен с Камчатки. Сам Фомин занимал место за почетным столом; собственно, по своему положению, он не имел на это права (очень многие претендовали на места у этого стола и из-за них вышло немало обид), но роль Фомина в устройстве чествования была так велика, что его претензия никем не оспаривалась.
«Хоть разговаривать, кажется, не будет нужно, — угрюмо подумал Браун, взглянув на Клервилля и на Мусю. — Слава Богу и на том…» Весь вид банкетного зала вызвал в нем привычное чувство тоски. Он взял меню и принялся его изучать.
XI
Муся приехала в ресторан с родителями, но отделилась от них тотчас по выходе из коляски. У парадных дверей Семена Исидоровича и Тамару Матвеевну окружили распорядители и боковым коридором проводили их в небольшую гостиную, откуда, по заранее выработанному церемониалу, они позднее должны были совершить торжественный выход в залу банкета. О Мусе распорядители не подумали, а Тамара Матвеевна была так взволнована, что тоже забыла о дочери, едва ли не первый раз в жизни. Недостаток внимания чуть-чуть задел Мусю: какая пропасть ни отделяла ее от родителей, в этот день она гордилась славой отца и сама себя чувствовала немного именинницей. Муся прошла в раздевальную, где у отделявшего вешалки барьера, с шубами и шапками в руках, толпились люди. Она скромно стала в очередь, но ее тотчас узнали. Какой-то незнакомый ей господин с внушительной ласковой интонацией сказал очень громко:
— Господа, пропустите мадмуазель Кременецкую!..
На Мусю немедленно обратились все взгляды. С ласковыми улыбками, гости вне очереди пропустили ее к барьеру, помогли ей отдать шубу и получить номерок. По выражению лица дам, Муся почувствовала, что и ее платье произвело должное впечатление. Она быстро оглядела себя в зеркало, поправила прядь волос и, провожаемая сочувственным шепотом, вышла из раздевальной.
Гости собрались в большой зеркальной комнате, примыкавшей к банкетному залу. Парадная толпа гостей еще не освоилась с местом. Невидимые музыканты где-то наверху настраивали инструменты. Несмотря на привычку к обществу, Муся испытывала смущение от нестройных звуков музыки, от симпатии и восхищенья, которые она вызывала, от того, что она входила в зал одна. Вдруг у нее забилось сердце. Ей бросилась в глаза высокая фигура Клервилля. Он увидел ее и, изменившись в лице, поспешно к ней направился.
— Я сижу с вами? — спросил он по-английски. — Это необходимо…
Тот механизм кокетства, который работал в Мусе почти независимо от ее воли, должен был изобразить на ее лице удивленно-насмешливую ласковую улыбку. Однако, на этот раз механизм не выполнил своей задачи. Муся растерянно кивнула головой; ее сердце билось все сильнее. Клервилль, видимо, хотел сказать что-то еще, что-то очень важное. Но в эту секунду Мусю увидели свои. Здесь были Глаша, Никонов, Березин, Беневоленский, был и Витя, смертельно страдавший от своего пиджака, единственного на этот раз в зале. Витя все время с тоскливой надеждой смотрел на входивших: неужели никто, никто другой не окажется в пиджаке? Последний удар нанес ему Василий Степанович: он явился во фраке, который на тощей сутуловатой его фигуре сидел так, как мог бы сидеть на жирафе.
Среди своих Муся быстро успокоилась, — страстно-радостное чувство не покидало ее, но ушло внутрь, все освещая счастьем. Теперь механизм работал правильно. Тон его работы означал: «Хоть и очень странно и забавно, что мы, мы, оказались среди этих странных и забавных людей, но если уж так, давайте развлекаться и в их обществе…» В этот тон не мог попасть один Клервилль. Он просиял, когда Муся пригласила его принять участие в поездке на острова.
— Да, мы будем ехать, — сказал он по-русски с волнением.
Князя Горенского в кружке на этот раз не было. Он явился с небольшим опозданием и привез тревожные известия. На окраинах города все усиливалось брожение. С минуты на минуту можно было ждать взрыва, выхода рабочих на улицу. Горенский даже решил, по дороге в ресторан, не сообщать там своих сведений, чтобы не испортить настроения на празднике. Однако, он не удержался и рассказал все еще в раздевальной. Его новости мигом облетели зеркальную комнату, но настроения отнюдь не испортили. Напротив, оно очень поднялось, хотя не все понимали, почему на улицу должны выйти именно рабочие.
— Ох, дал бы Господь! — сказал Василий Степанович, ежась в оттопыренной, туго накрахмаленной рубашке. — Вы будете нынче говорить? — сказал он значительным тоном, который ясно показывал, что от речи князя на банкете кое-что могло и зависеть.
— Да, я скажу, — взволнованно ответил Горенский.
— Князь, при такой конъюнктуре ваша речь, я чувствую, может стать общественным событием, — сказал убежденно дон Педро. — Я жду ее со страстным нетерпением.
Послышался звонок, гул усилился. Двери банкетной залы раскрылись настежь.
— Ну, пойдем садиться, леди и джентльмены, — воскликнул весело Никонов, хватая под руку Сонечку Михальскую, хорошенькую семнадцатилетнюю блондинку, последнее приобретение кружка. — Милая моя, вы идете со мной, не отбивайтесь, все равно не поможет…
— А Марья Семеновна с кем сидит? — небрежно осведомился Витя.
— Разумеется, с Клервиллем, — ответила Глафира Генриховна.
На пороге банкетной залы показался озабоченный Фомин. Звонок продолжал звонить. Все направились к столам. При виде этих столов тревожное настроение сразу у всех улеглось: ни с какой революцией такие столы явно не совмещались.
Туш и рассаживание кончились, гости удовлетворили любопытство: где кто посажен, и обменялись по этому поводу своими соображениями. Вдоль стен уже шли лакеи. Фомин объяснял соседям, что он нашел компромисс между русским и французским стилем: будучи врагом системы закусок, он все же для оживления оставил водку и к ней назначил canapés au caviar [58]. Вместо водки желавшим разливали коньяк, по словам Фомина, столетний. Этот коньяк гости пили с особым благоговеньем. Витя сказал, что никогда в жизни не пил такого удивительного коньяка. Никонов заставил пить и дам.
В кружке сразу стало весело. Муся, к большому восторгу Клервилля, выпила одну за другой две рюмки. «Нет, кажется, было не очень смешно, — говорила себе она, вспоминая выход родителей (Муся побаивалась этого выхода). — Вивиан, во всяком случае, не мог найти это смешным… Да он только на меня и смотрел… Кажется, и платье ему понравилось», — думала она, с наслажденьем чувствуя на себе его влюбленный взгляд. Никонов, бывший в ударе, сыпал шутками, — его, впрочем, немного раздражал англичанин. Березин с равным удовольствием ел, пил и разговаривал. Витя тревожно себя спрашивал, как понимать слова этой ведьмы: «Разумеется, с Клервиллем». Глафира Генриховна делала сатирические наблюдения. Фомин то озабоченным хозяйским взглядом окидывал столы, гостей, лакеев, то, волнуясь, пробегал в памяти заготовленную им речь. Браун много пил и почти не разговаривал с соседями, изредка со злобой поглядывая на Клервилля и Мусю.
Обед очень удался, праздник шел превосходно. Речи начались рано, еще с médaillon de foie gras [59]. Вначале говорили присяжные поверенные, восхвалявшие адвокатские заслуги юбиляра. Это все были опытные, привычные ораторы. Они рассказали блестящую карьеру Семена Исидоровича, упомянули о наиболее известных его делах, отметили особенности его таланта. Говорили они довольно искренно: над Семеном Исидоровичем часто подтрунивали в сословии, но большинство адвокатов его любило. Кроме личных врагов, все признавали за ним качества оратора, добросовестного, корректного юриста, прекрасного товарища. Прославленные адвокаты благодушно разукрашивали личность Кременецкого в расчете на то, что публика, вероятно, сама сделает должную поправку на юбилей, на вино, на превосходный обед. В этом они ошибались: большая часть публики все принимала за чистую монету; образ Семена Исидоровича быстро рос, приняв к десерту истинно гигантские размеры.
Ораторы говорили недолго и часто сменяли друг друга, так что внимание слушателей не утомлялось. Всех встречали и провожали аплодисментами. Семен Исидорович смущенно кланялся, обнимал одних ораторов, крепко пожимал руку или обе руки другим. Тамара Матвеевна, имя которой не раз упоминалось в речах, сияла бескорыстным счастьем. Лакеи едва успевали разливать по бокалам шампанское.
— Странный, однако, ученый, смотрите как он пьет, — шепнула Никонову Глафира Генриховна, не поворачивая головы и лишь быстрым движением глаз показывая на Брауна. — Говорят, он умный, но он всегда молчит. Может быть, умный, а может быть, просто мрачный идиот. Я знаю из верного источника, что он человек с психопатической наследственностью.
— Нет, он молодчина! — сказал Никонов. — Он всегда пьет, как извозчик, и никогда не пьянеет.
— Не то, что вы.
— Я ни в одном глазе.
— Дать вам зеркало? Глаза у вас стали маленькие и сладенькие, — заметила уже громко Глафира Генриховна.
— Низкая клевета! У меня демонические глаза, это всем известно. Правда, Мусенька?.. Виноват, я хотел сказать: Марья Семеновна.
— Самые демонические, стальные глаза, — подтвердила Муся. — Прямо Наполеон! Но много вы все-таки не пейте, помните, что мы еще едем на острова.
— Да, на острова, — сказал Клервилль. — И на островах тоже будем пить. Возьмем с собой несколько бутылок…
— О, да, будем пить.
— И выпьем за здоровье вашего короля… Он и сам, говорят, мастер выпить, правда?
На это Клервилль ничего не ответил. Он не совсем понял последние слова Никонова, но шутка о короле ему не понравилась. Муся тотчас это заметила.
— Господа, мы постараемся улизнуть после речи князя, — сказала она. — Как вы думаете, а? Ведь она самая интересная… Как и речь Платона Михайловича, — добавила Муся: ей хотелось в этот день быть всем приятной.
— Fille dénaturée [60], это невозможно, — возразил польщенный Фомин, отрываясь от мыслей о своей близящейся речи, — вы никак не можете улизнуть до ответного слова дорогого нам всем юбиляра.
— Ах, я и забыла, что будет еще ответное слово… Ничего, папа нас простит.
— Да он и не заметит, ему не до нас, — сказал Березин.
За почетным столом, председатель, старый, знаменитый адвокат, постучал ножом по бокалу.
— Слово принадлежит Платону Михайловичу Фомину.
Муся энергично зааплодировала, ее примеру последовал весь кружок; рукоплескания все-таки вышли довольно жидкие: Фомина мало знали. Он встал, повернулся к Кременецкому и, криво улыбнувшись, заговорил. Фомин приготовил речь в том невыносимо-шутливом тоне, без которого не обходится ни один банкет в мире.
— … Личность глубокоуважаемого юбиляра, — говорил он, — столь разностороння и, так сказать, многогранна, что лично я невольно теряюсь… Господа, знаете ли вы, как зачастую поступают дети с дорогой подаренной им игрушкой, сложный механизм которой зачастую превышает их способность понимания? Они разбирают ее на части и изучают отдельные кусочки (послышался смех; Семен Исидорович смущенно улыбался, Тамара Матвеевна одобрительно кивала головой). Так и нам остается разбить на грани многогранный образ Семена Исидоровича, который ведь тоже есть в своем роде, так сказать, произведение искусства. На мою долю, mesdames et messieurs, приходится лишь одна скромная грань большой фигуры… Милостивые государыни и государи, я вынужден сделать ужасное признание: господа, я ничего не понимаю в политике! (Фомин улыбнулся и победоносно обвел взглядом зал, точно ожидая возражений, — в действительности он считал себя тонким политиком). Согласитесь, что это столь печальное для меня обстоятельство имеет по крайней мере одну хорошую сторону: оно оригинально! Ибо, как известно, политику понимают все… Но я, господа, будучи в некотором роде уродом, я лишен этой способности и потому лишен и возможности говорить о Семене Исидоровиче, как о политическом мыслителе и вожде. Это сегодня сделает, господа, со свойственным ему авторитетом, мой друг, князь Алексей Андреевич Горенский. Моя задача другая… Увы, господа, здесь я немного опасаюсь, как бы со стороны моих недоброжелателей не последовало возражение, то возражение, что я ничего не понимаю и в юриспруденции! (он улыбнулся еще победоноснее, снова послышался смех; Никонов закивал утвердительно головою). Господа, вы молчите, — я констатирую, что у меня нет недоброжелателей! По крайней мере я хочу думать, что ваше молчание не есть знак согласия!.. Как бы то ни было, я не намерен говорить о нашем глубокоуважаемом юбиляре и как об юристе, — это уже сделали, с несравненной силой и красноречием, наши старшие товарищи и учителя. Моя задача скромнее, господа! Мое слово будет не о большом русском адвокате Кременецком, а моем дорогом патроне, наставнике и, смею сказать, друге («Семе», — подсказал Никонов, Фомин на него покосился), о моем старшем друге Семене Исидоровиче…
Так он говорил минут пятнадцать. Он говорил о Семене Исидоровиче, как об учителе младшего поколения, об его дружеском внимательном отношении к помощникам, о той работе большого адвоката, которой не видели посторонние.
— О ней, — сказал Фомин, — кроме меня может судить только один человек в этой зале и я не сомневаюсь, что мой дорогой коллега, Григорий Иванович Никонов, присоединяется к моим словам со всей силой убеждения, со всей теплотой чувства («Впрочем, за здоровье Его Благородия», — пробормотал Никонов, изобразив на лице умиление и восторг).
Со всей теплотой чувства, хотя и в почтительно-игривой форме, Фомин коснулся семейного быта Кременецких, сказал несколько лестных слов о Тамаре Матвеевне, о Марье Семеновне, в любви и преданности которых Семен Исидорович находить забвение от бурь юридической, общественной и политической деятельности, как успокаивается в тихой пристани после большого плаванья большой корабль. О Мусе до Фомина не говорил никто. Раздались шумные рукоплесканья. Неожиданно для самой себя Муся смутилась и покраснела. Как ни мучительны были потуги Фомина на шутливость и заранее подготовленные сердечные ноты, речь его имела выдающийся успех. В ней было все, что полагается: мост между двумя поколениями служителей права, смена богатырям-старшим, неугасимый факел, доблестно пронесенный, передаваемый молодежи Семеном Исидоровичем, и многое другое. На неугасимом факеле Фомин и кончил свою речь. Под громкие рукоплескания зала он прошел к средине почетного стола, обнялся с Семеном Исидоровичем и поцеловал руку сиявшей Тамаре Матвеевне, которая с искренней нежностью поцеловала его в голову. «Я так вас за все благодарю, дорогой!..» — прошептала она. Затем Фомин вернулся к своему месту, где к нему тоже протянулись бокалы. Один Браун выпил свой бокал, не дожидаясь возвращения Фомина и даже до конца его речи.
— Чудно, чудно, — говорила Муся. — Каюсь, я не знала, что вы такой застольный оратор!..
— Да и никто этого не знал, — добавила Глафира Генриховна.
— Помилуйте, он уже светоч среди богатырей-младших, — сказал Никонов. — Что будет, когда он подрастет!.. Дорогой коллега, разрешите вас мысленно обнять… Это было чего-нибудь особенного!
— Чего-нибудь особенного! — с жаром подтвердил Клервилль, чокаясь с Фоминым. Улыбки скользнули по лицам соседей. Витя сердито фыркнул: он не любил Фомина, а Клервилль, прежде так ему нравившийся, теперь вызывал в нем мучительную ревность. Фомин, скромничая, благодарил, он не сразу мог вернуться к своему обычному тону. Лакеи разливали по чашкам кофе и разносили ликеры.
— Ну, а теперь остался главный гвоздь, речь князя Горенского, — сказала Гафира Генриховна.
— А вы знаете, князь волнуется. Посмотрите на него!..
— Его речь будет политическая и, говорят, очень боевая.
— Он докажет, что в двадцатипятилетии Семена Исидоровича кругом виновато царское правительство, — сказал Никонов. — Господа, на кого похож Горенский? Вы какой бритвой бреетесь? Вы, Витя, еще совсем не бреетесь, счастливец. А вы, милорд?.. — Клервилль посмотрел на него с удивлением. — Доктор, вы, наверное, бреетесь Жиллетом?
— Жиллетом, — подтвердил Браун, очевидно без всякого интереса к следовавшему за вопросом пояснению.
— Ну, так вы знаете: на обертке бритвы печатается светлый образ ее изобретателя. Горенский — живой портрет мистера Жиллета. То же бодрое, мужественное выражение и то же сознание своих заслуг перед человечеством.
— Совершенно верно, я видела, — сказала, расхохотавшись, Муся.
— Очень верно, — подтвердил Клервилль.
За почетным столом опять постучали.
— Слово имеет Алексей Андреевич Горенский, — внушительно сказал председатель, для разнообразия несколько менявший свою фразу. Легкий гул пробежал по залу и тотчас затих. Настроение сразу изменилось, и улыбки стерлись с лиц. Князь Горенский встал, видимо волнуясь и с трудом сдерживая волнение. В левой руке он нервно сжимал салфетку. Князь начал, без обычного обращения к публике или к «глубокочтимому, дорогому Семену Исидоровичу».
XII
Князь Горенский пользовался в обществе репутацией превосходного, вдохновенного оратора. Все сходились на том, что особенность его красноречия заключается в богатом темпераменте. Горенский, веселый, остроумный и благодушный человек в обыденной жизни, совершенно изменялся, всходя на ораторскую трибуну. О чем бы он ни говорил, им неизменно овладевало сильнейшее волнение. Он редко готовил речь наперед, и только набрасывал в нескольких словах ее общий план, да еще иногда выписывал цитаты, о которых, впрочем, часто забывал в процессе речи. Не заботился он и о литературной форме, предоставляя полную свободу падежам, родам, числам; иногда и отдельные слова у него выскакивали довольно неожиданные. Но большинство слушателей этому не улыбалось: волнение оратора, его мощный, с надрывом, голос, резкая, энергичная манера, — все это обычно заражало аудиторию, особенно слушавшую его впервые. В Государственной Думе, где князь выступал часто, и свои, и чужие не всегда очень внимательно его слушали. Горенский принадлежал к умеренно-либеральной партии, но ее основную линию нередко обходил, то справа, то слева. Глава партии, — тот самый, который уклонился от выступления на юбилее Семена Исидоровича, — несколько опасался речей своего младшего товарища. Вождь либерального лагеря, человек чрезвычайно умный, проницательный и опытный, очень хорошо разбирался в людях и знал каждому из друзей и врагов настоящую человеческую цену. Но свое мнение он обычно держал про себя, а в общественной жизни принимал и расценивал людей исключительно по их идейным ярлыкам. При этом неизбежны бывали ошибки, однако, в общем счете, он признавал такую расценку наиболее верной, простой и целесообразной. В огромном, все разраставшемся партийном хозяйстве нужны были или по крайней мере могли пригодиться безупречный ярлык князя, его совершенная порядочность, его знатное имя и связи в земских, аристократических, гвардейских кругах, из которых он вышел. Однако вождь партии считал Горенского человеком без царя в голове и всегда с неприятным чувством удивлялся успеху, выпадавшему на долю речей князя.
Муся от волнения, от выпитого вина не сразу сосредоточилась и не расслышала первых слов Горенского. Вначале она только смотрела на него в упор. Затем Муся напрягла внимание и стала слушать.
— …Да, прав был Фомин, — говорил князь, — тысячу раз прав был Фомин (Горенский произносил эту фамилию с непонятным надрывом, как-то Ф-фами-ин), утверждая. что в лице юбиляра русская общественность… чтит не только большого адвоката, но и большого общественного деятеля, одного из своих идейных руководителей! Как часто нам, волей судьбы профессиональным политикам… в бурях и тревогах повседневной политической… каши (князь употребил это существительное, не найдя сразу другого) приходилось и приходится на него с тревогой оглядываться… Как часто, принимая то или иное решение, нам приходилось и приходится себя спрашивать: а что скажет на это Семен Сидорович? И всякий раз, когда мы узнавали, что Семен Сидорович нас одобрил… что он с нами!.. — радостно вскрикнул князь так громко, что Муся невольно вздрогнула, — … точно камень скатывался с горы… с души!.. Его разумное, мудрое слово имело для нас огромное, часто решающее значение… Он стоял под грозою, как непоколебимый кряжистый дуб…
Характеристике Семена Исидоровича Горенский посвятил начало своей речи. Юбиляр тихо, застенчиво улыбался, опустив голову. Раскрасневшаяся Тамара Матвеевна млела от восторга. «Как все-таки человеку не стыдно!» — думал начинавший злиться Никонов.
— … Господа, кто из нас теперь ежедневно не вспоминает проникновенных слов поэта: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… Его призвали Всеблагие, как собеседника на пир»… Нам, господа, дано было стать зрителями и участниками одной из самых роковых минут… быть может, самой роковой минуты в истории рода человеческого. Нам довелось приобщиться титанической борьбы за право и свободу! Быть может, впервые в истории… столкнулись с такой силой два начала, Ормузд и Ариман. Германский милитаризм бронированным кулаком… наступил на маленькую Бельгию. Сила поставила себя выше права!.. Но зло, господа, пробуждает добро. Против права силы мощно поднялась сила права! (послышались первые, тотчас погасшие рукоплесканья). На борьбу с чертополохом грубой солдатчины выступила лучшая часть человечества… Она погибнет или восторжествует! Ибо третьего не дано, не дано историей, господа! Рука об руку с англо-саксонской, с латинской расой довелось подняться на величайшую борьбу и нам, русским. Но, господа, господа! — вскрикнул он с яростью, — надо заслужить… заслужить!.. моральное право участвовать… в святом деле освободительной борьбы за право! И этого права мы — увы! — не имеем, не имеем не по нашей вине!..
Князь обладал замечательной способностью произносить фразы, которые все тысячу раз читали в газетах, совершенно так, как если бы они только что впервые зародились у него в голове и еще никому не были известны. Лицо Горенского побагровело. Слова о бронированном кулаке он бросил с чрезвычайной силой. Раздались бурные рукоплескания, затем снова настала напряженная тишина. Смысл этой части речи князя заключался в том, что в то время, как Семен Исидорович сразу разобрался в борьбе Ормузда с Ариманом и занял в ней надлежащую позицию, на сторону Аримана стала звездная палата и камарилья. Прогнившая насквозь власть бросила вызов всему народу русскому, в частности, рабочему классу, требующему, со всей силой убеждения, новой энергии, новых путей, новых методов войны за освобождение народов!
Зал затрясся от аплодисментов. Горенский вытер лоб платком и остановился, глядя на слушателей налитыми кровью глазами. Рукоплесканья всегда его пьянили. За минуту до того он еще не знал, что скажет дальше. Теперь речь его потекла свободно. Слова о народе русском (он в речах для красоты слога обычно ставил прилагательное после существительного) неожиданно дали ему возможность попутно набросать характеристику русской души. Он высказал мысли о русском народе, как о носителе идеи вечной правды, которую лишь бессознательно чувствовал серый русский мужик и которую за него выражали его духовные вожди, в том числе Семен Исидорович.
— Да, господа, эта «святая серая скотинка» медленной, тяжелой, но упорной тропою… идет к тем же высшим началам права и справедливости… к каким, во всеоружии опыта гражданственности… несутся англо-саксонская и латинская расы. И кто знает, господа, не суждено ли нам их опередить? Я верю, господа, в прыжок из царства необходимости в царство свободы! Больше того, господа, с риском быть обвиненным в утопизме, я не верю вообще в царство необходимости! Человечество властно кует свое будущее!.. Господа, я верю только в царство свободы!
Аплодисменты гремели все чаще. Теперь их вызывала почти каждая фраза. Муся аплодировала изо всей силы. От нее не отставали другие. В кружке презирали политику, но на этот раз все были взволнованы. Витя восторженными глазами уставился на оратора. Горенский уже с трудом связывал фразы. Он задыхался. Из дверей на него с испугом смотрели лакеи. За дверьми толпились люди.
— … Господа!.. Имеющий уши да слышит!.. Но эти слепцы не видят и не слышат!.. Господа, в эти трагические дни… да будет повторено слово великого писателя земли русской: «Не могу молчать»!.. Да, господа, есть минуты, когда молчать — преступленье, которого не простит нам потомство, как не простит народ русский!.. Выйдите на окраины города!.. Взгляните, взгляните же вокруг себя!.. Переполняется вековая чаша терпения народного!.. Приходит позорный конец миру кнута и мракобесия!.. Завтра, может быть, уже будет поздно! Господа, Ахерон выходит на улицу!.. Нет, не аплодируйте, — вскрикнул князь, подняв руку, — вы не смеете аплодировать! завтра, может быть, прольется кровь!.. (Аплодисменты мгновенно оборвались). Господа, никто из нас не знает, что его ждет. Но в эти жертвенные дни да будет же девиз наш: Sursum corda! [61] Господа, имеем сердца горе́! Вершины духа человеческого с нами!.. С нами люди, подобные Семену Сидоровичу… С нами и те, кто выявляет во вдохновенном творчестве тончайшую духовную эманацию толщ народных! Господа, в эти дни обратимся мыслью к нашим провидцам! Писатель, который со всей справедливостью может быть назван совестью народа русского, из толщи и крови которого он вышел, — я назвал Максима Горького (несмотря на просьбу оратора, загремели долгие рукоплесканья)… — писатель этот во вдохновенном прозрении своем пророчески воспел… грядущий, близящийся Ахерон.
Князь поднял с тарелки листок бумаги.
— Вы помните, господа, дивную аллегорию Горького? Птицы ведут между собой беседу… Здесь и солидная пуганая ворона, и действительный статский снегирь, и почтительно-либеральный старый воробей, птица себе на уме, которая тихо сказала: «Да здравствует свобода!» и тотчас громко добавила: «в пределах законности»! (послышался смех)… И этим, с позволения сказать, пернатым — имя же им легион в трижды печальной русской действительности — грезится вдохновенный образ другой птицы… Слушайте!
Он развернул листок и, из последних сил справляясь с дыханьем, прочел с надрывом в громовом голосе:
«Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют. Ветер воет… Гром грохочет… Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!…»
Князь Горенский отступил на шаг назад и бросил на стол салфетку. Зал стонал от рукоплесканий. Все повставали с мест. Браун незаметно прошел к выходной двери.
XIII
— Что ж, пообедали? — спросил он, входя в кабинет Федосьева. — Я думал, вы давно кончили и ушли…
— Кончаю. Вас поджидал, мне торопиться некуда. Вы пили кофе?
— Пил.
— Выпейте еще со мною. Я и чашку лишнюю велел подать в надежде, что вы зайдете. Для меня готовят особое кофе… Вот попробуйте. — Он налил Брауну кофе из огромного кофейника. — Предупреждаю, заснуть после него трудно, но я и без того плохо сплю… Если выпить на ночь несколько чашек такого кофе, можно себя довести до удивительного состояния. Тогда думаешь с необычной ясностью, видишь все с необычной остротой. Мысли скачут как бешеные, все несравненно яснее и тоскливее дневных.
— Да, я это знаю, — сказал Браун. — В пору этакой ночной ясности мыслей очень хорошо повеситься.
— Очень, должно быть хорошо… Интересные были речи на юбилее?
— Ничего… Я, впрочем, не слушал… Кофе действительно прекрасное.
— Я немного знаю Кременецкого, — сказал, улыбаясь, Федосьев. — Разумеется, любой столоначальник имеет право на юбилей после двадцати пяти лет службы, однако мне не совсем понятно, почему именно этот праздник революции так у вас раздувается. Ведь Кременецкий — второй сорт?
— Третий… Но юбилейное красноречие, как надгробное, никого ни к чему не обязывает. Вы, что ж, принимаете всерьез и некрологи?..
— Поверьте, публика все принимает всерьез.
— Вы думаете? Возможно, впрочем, что в этом вы и правы. Если у нас в самом деле произойдет революция, то главные неприятности могут быть от смешения третьего сорта с первым. Несчастье революций именно в том и заключается, что к власти рано или поздно приходят люди третьего сорта, с успехом выдавая себя за первосортных. В этом они легко убеждают и историю, — ее даже, пожалуй, всего легче… Но ведь и вы, собственно, всех валите в одну кучу. Нетрудная вещь ирония… И нетрудное дело обобщение. «Праздник революции»? Нет, все-таки не революции, а того пошлого, что в ней неизбежно, как оно неизбежно и в контрреволюции. Герцен — революция, и Кременецкий — революция. Но, право, Герцен за Кременецкого не отвечает. Говорят о пропасти между русской интеллигенцией и русским народом, — общее место. По-моему, гораздо глубже пропасть между вершинами русской культуры и ее золотой серединой. На крайних своих вершинах русский либерализм замечательное явление, быть может, явление мировое. А на золотой средине… — Он махнул рукой. — И «Фауста» подстерегло оперное либретто… Что до низов… Волей судьбы вершины нашей мысли сейчас указывают то самое, чего хотят низы — и это наше счастье. Но, может быть, так будет недолго: связь ведь в сущности случайная, — и это наше несчастье. Иными словами, вполне возможно, что в один прекрасный день низы нас с нашими идеями пошлют к черту. А мы — их.
— Непременно так и будет. Только вы их пошлете к черту фигурально, а они вас без всяких метафор.
— Не радуйтесь, то же самое и в вашем лагере. Чем проще и грубее идеология, тем легче ее приукрасить. Так Сегантини посыпал золотой пылью краски на своих «Похоронах». Невыгодный прием: золото от времени почернеет, картина потеряет репутацию.
— Нашей картине и терять нечего. Репутация у нее твердая.
— Я этого не говорю. В области чистого отрицания русская реакционная мысль достигла большой высоты. Но только в этой области. Зато, когда вы начинаете умильно изображать человека с положительными идеалами, у меня всегда впечатление странное, — вот как в старых повестях, когда писатель так же умильно изображает, что думает кошечка или о чем переговариваются между собой березки… Бросьте вы, право, «созидание»…
— Что ж, для созидания вы придете нам на смену, — сказал Федосьев. «Очень сегодня разговорчив, — подумал он. — И, по обыкновению, отвечает больше самому себе, чем мне… Опять придется издалека начинать, надоели мне эти философские беседы. А пора, давно пора довести до конца этот глупый разговор… Но как? Ох, театрально…» — Разрешите налить вам еще чашку… Я говорю, вы придете, в самой общей форме: вы, левые. Личные ваши взгляды мне, как я уже вам говорил, весьма неясны, — добавил он полувопросительно, глядя на необычно оживленное, бледное лицо Брауна.
— Личные мои взгляды?.. Гете на старости как-то сказал Эккерману: «С всем моим именем я не завоевал себе права говорить то, что я на самом деле думаю: должен молчать, чтоб не тревожить людей. Зато у меня есть и небольшое преимущество: я знаю, что думают люди, но они не знают, что думаю я…» Цитирую, вероятно, не буквально, однако довольно точно передаю мысль Гете. Так вот, видите ли, — добавил он, прочитав иронию в глазах Федосьева, — то Гете, в семьдесят пять лет, на вершине мировой славы. Куда ж нам, грешным, соваться, если б даже и было, что сказать!
— Да ведь очень трудно удержаться, Александр Михайлович: хочется иногда сказать и правду. Разумеется, вредишь прежде всего самому себе, — что ж, за удовольствия всегда приходится платить. Ничего не поделаешь. Верно, и Гете не всегда следовал своему правилу… Я, кстати, не знал этой его мысли. Надо будет перечитать на досуге Гете. Благо досуга у меня теперь достаточно.
— Как же вы это переносите?
— Солгал бы вам, если б сказал, что я очень доволен. Но выношу гораздо лучше, чем думал… Я думал, будет совсем плохо… Знаете, в известном возрасте человек должен начать заботиться — ну, как сказать? — о зацепках, что ли… Какую-нибудь надо придумать зацепку, чтобы поддержать связь с жизнью. Лет до сорока можно и так прожить, а потом становится трудно. Нужно обеспечить себе для отступления заранее подготовленные позиции… Начиная с пятого десятка, человек и морально растрачивает накопленное добро. У большинства людей есть семья, — самая простая и, вероятно, самая лучшая зацепка. Но я человек одинокий, а другими зацепками не догадался себя обеспечить, когда еще было можно…
— Я в таком же точно положении… Положительно, мы очень похожи друг на друга, — добавил Браун, неприятно улыбаясь, — все больше в этом убеждаюсь.
— Немного похожи, правда, я очень польщен. Однако положение наше разное. У вас есть наука, вы «Ключ» пишете…
— Вот, поверьте, плохое утешение.
— Неужели? — Федосьев с любопытством взглянул на Брауна. — Я думал, утешение немалое. Подвинулся «Ключ»?
— Нет, не подвинулся.
— Очень сожалею, как читатель… Но вы можете к нему вернуться… А у меня нет ничего, — медленно, точно с удовольствием, проговорил Федосьев. — Ничего! Пробовал было читать астрономию: казалось бы, лучше чтения нет. Прочтешь, например, о спиральных туманностях, что в них около миллиона миров, что луч света идет от них к нам, кажется, двести тысяч лет… Ведь это должно очень убавить интереса к земле, к политике, к жизни, — не говорю к собственной, но хоть к чужой. А вот, что поделаешь, не убавляет. Откроешь после астрономии газету — и где твоя новая мудрость? Неприятное назначение по министерству так же бесит, как если б и не читал о спиральных туманностях.
— Нет, здесь никакая астрономия не поможет… Вы теперь вроде тех «лишних людей», о которых так сокрушались наши беллетристы, — точно не все люди лишние… А сознайтесь, все-таки неприятно быть не у дел, с астрономией и без астрономии, — сказал Браун: он как бы задирал Федосьева. — Так, я думаю, писатель, которому вернули рукопись или которого изругали критики, считает себя гонимым чернью.
Федосьев засмеялся.
— Охотно сознаюсь.
— Казалось бы, незачем огорчаться. Невелика ведь радость быть политическим деятелем. Всю жизнь вас ежедневно враги поливают грязью, а друзья больше молчат, да и чаще всего не так уж за вас огорчаются. Раза два в жизни, в юбилейные дни, вас славословят, — радости от этого тоже немного: вот и Кременецкого славословили не хуже. Да еще в день ваших похорон противники «отдают должное», «обнажают голову», и тоже плоско, и не без колкостей. Надо иметь огромный запас искреннего презрения к людям, чтобы, занимаясь профессионально политикой, долго на его счет жить. Необходимо также запастись большой долей снисходительности к самому себе. Это — если говорить теоретически. А на практике — у больших политических деятелей, кажется, ничего такого нет, а есть чаще всего природная и благоприобретенная толстокожесть, да еще, как ни странно, разливанное море благодушия. Я всегда любуюсь: какие они все оптимисты!.. Ведь для меня оптимизм и глупость нечто вроде синонимов… Нет, что и говорить, политика ремесло среднее. Но вот, подите же, ничто так не влечет людей, даже у нас, где ванны из помоев обычно не компенсируются удовольствиями власти. А вы, реакционеры, хотите бороться с этим повальным запоем! Вы в сущности запрещаете политическую борьбу, т. е. рассчитываете закрыть людям доступ к самой увлекательной из игр. Вы, господа консерваторы, мечтатели и утописты похуже юношей революционеров.
— А если бороться не для чего? — в тон Брауну спросил Федосьев. — Вдруг у нас такая умная, благородная, проницательная власть, которая как раз все то и делает, что нужно России? Не лучше ли тогда оттеснить немного юношей? Пусть в самом деле выберут себе какую-либо другую, более безобидную игру: свет на политике не клином сошелся.
— Утописты, — повторил Браун. — В цивилизованных странах нарочно организуют для народа такие игры. Возьмите хотя бы Америку: ни один американец ведь не знает толком, в чем принципиальная разница между демократической и республиканской партиями. Если некоторая разница и существует, то она изменяется постоянно, да и относится она к таким вопросам, которые сами по себе здорового человека волновать не могут. А посмотрите на агитацию в пору президентских выборов. Люди заранее старательно выдумывают, на чем бы им разойтись, а затем, выдумав, дают страстный бой другу…
— Стилизация в устах левого человека неожиданная, — сказал Федосьев. Он позвонил. — Меня, впрочем, трудно удивить и скептицизмом, и пессимизмом. Когда я читаю, как левые ругают правых, я думаю: совершенно верно, но мало, стоило ругнуть их хуже. А когда я читаю, как правые ругают левых, я думаю приблизительно то же самое. Правительство наше и наша общественность напоминают мне ту фигуру балета, когда два танцовщика, изображая удалых молодцов, с этаким задорным видом, с самой хитрой победоносной улыбкой, то наскакивают друг на друга, то вновь отскакивают, подняв ручку и этак замысловато семеня ножками. Меня эта фигура и в балете всегда очень смешила. Ну, а если подумать, что здесь не удалые молодцы, а беспомощные калеки так весело изображают ухарей!.. Скоро Мальбруки сойдутся, будет «сильно комическая, тысяча метров, гомерический хохот в зале»… Кровавый водевиль, но водевиль.
— С высоты орлиного полета обе стороны, конечно, равны и крошечны. Но вы обладаете способностью видеть во враждебном лагере только то, что вам видеть угодно… Я скажу, как Мария-Терезия, некрасивая жена Людовика XIV. Когда ей представляли новых людей, она им объясняла: «смотреть надо не сюда, — показывала на свое лицо, — а сюда», — показывала на свои бриллианты. Вы не видите бриллиантов «освободительного движения».
— Полноте, какие уж тут бриллианты… Я, впрочем, готов допустить, что демократическая лавка выше, т. е. лучше знает, как вербовать клиентов. Вот и настоящие лавочники очень хорошие психологи. Они не скажут в объявлении: продается сукно, — скажут: оставшееся сукно продается. И цену назначат не рубль, а непременно девяносто пять копеек, — так покупателю приятнее: все же не полный рубль… «Война до полной победы, с наименьшим количеством жертв», — со злобой произнес Федосьев. — Правда, хорошо? Оставшееся сукно и крайне дешево, девяносто пять копеек аршин… Счет, — сказал он вошедшему лакею. — А все-таки люди много столетий жили гораздо спокойнее, когда этот клапан был умной властью закрыт наглухо… Скажу вам больше: современный государственный строй во всех странах света в такой степени основан на обмане, угнетении и несправедливости, что всякая, даже самая лучшая, власть, заботящаяся о «поднятии политической самодеятельности и критической мысли масс» — кажется, так у вас говорят? — тем самым собственными руками готовит свою же гибель. Это не всегда заметно, но только потому, что процесс постепенного самоубийства весьма длителен.
— Разрешите теперь мне сказать: стилизация в устах правого человека неожиданная. Но мы терпимее вас.
— Ах, ради Бога, не говорите о терпимости: для нее существуют особые дома, как сказал какой-то французский дипломат… Так что же было на банкете? Кто говорил? Горенский? Верно о том, что проклятое правительство, вопреки воле армии, собирается заключить сепаратный мир?
— Кажется, говорил и об этом.
— Дурак, дурак, — с сокрушением сказал Федосьев. — Солдаты в нашей армии, да и во всех воюющих армиях, спят и во сне видят мир — общий, сепаратный, какой угодно… Если не все, то девять десятых. Разумеется, не высшее офицерство: оно и в мирное время мечтает о войнах, — как же может быть иначе? Возьмите какого-нибудь Гинденбурга, — кто бы он был, не случись война? Заурядный, никому неизвестный генерал в отставке. А теперь национальный кумир! Как же им не желать войны? Но другие!.. Если б князек хоть лгал, лгал по демагогическим мотивам! Нет, он возмущается совершенно искренно. А катастрофа именно в том, что правительство наше не хочет заключить мир. Поверьте, «камарилья» думает о коварном германце совершенно так же, как князь Горенский. Я эту камарилью, слава Богу, знаю, вот где она у меня со своей политикой сидит!
— Да, может, он именно вас имел в виду.
— Полноте, я человек маленький и вдобавок вполне отставной.
— Уж будто вы не рассчитываете вернуться к власти?
— К власти? — удивленно переспросил Федосьев. — Помилуйте, какое уж там возвращенье к власти! Революция дело ближайших месяцев… Ну, а ваши планы каковы, Александр Михайлович? — спросил он, меняя сразу и разговор, и тон.
— Трудно теперь делать планы. До конца войны буду заниматься тем же, чем занимаюсь теперь.
— Противогазами?
— Да, химическим обслуживаньем фронта.
— Но разве вы точно для этого сюда приехали?.. Только для этого? — поправился Федосьев.
В эту минуту издали донеслись рукоплесканья. Лакей вошел со счетом. Федосьев приподнял с подноса листок, бегло взглянул на него и расплатился.
— Вы как, располагаете временем? — обратился он к Брауну, повышая голос (рукоплесканья все росли). — Еще посидим или пойдем?
— Я предпочел бы пройтись. Мне трудно долго сидеть на одном месте.
— Это, не в обиду вам будь сказано, считается в медицине признаком легкого душевного расстройства, — сказал весело Федосьев. — У меня то же самое.
Семен Исидорович подготовил заранее свое ответное слово, но во время банкета, слушая речи, решил кое-что изменить. Он не хотел было касаться политических тем, чтоб не задевать людей другого образа мыслей, которые, правда, в незначительном меньшинстве, присутствовали на банкете. Однако теперь Кременецкий ясно чувствовал, что не откликнуться вовсе на речь князя Горенского невозможно. У него сложился план небольшой вставки. В ее основу он положил ту же антитезу начал Ормузда и Аримана в русской общественной жизни. Но, как на беду, Семен Исидорович забыл, какое именно начало воплощает Ормузд и какое Ариман. Эту трудность можно было, впрочем, обойти, строя фразы несколько неопределенно. Несмотря на весь свой ораторский опыт, Семен Исидорович волновался. Он и впитывал в себя с жадностью все то, что о нем говорили, и вместе желал скорейшего конца чужих речей, — так ему хотелось говорить самому. Имея привычку к банкетам, перевидав на своем веку множество знаменитых юбиляров, Кременецкий, несмотря на усталость и волнение, вел себя безукоризненно: застенчиво улыбался, ласково кивал головой жене, Мусе, друзьям, в меру пил, в меру переговаривался с соседями, а во время речей слушал ораторов с особенно застенчивой улыбкой, опустив голову: он твердо знал по книгам, что люди от смущения всегда опускают голову. Волнение его, однако, росло. В ту минуту, когда председатель дал слово глубокоуважаемому юбиляру, раздались «бурные аплодисменты, перешедшие в настоящую овацию», — так написал на полоске бумаги дон Педро, спешно готовивший газетный отчет об юбилее. Кременецкий встал и, бледный, долго раскланивался с гремевшим рукоплесканьями залом. Он еще волновался, но уже ясно и радостно чувствовал, что скажет вдохновенную речь.
Браун долго ждал в коридоре лакея, посланного за шубой. Федосьев, выйдя из кабинета, исчез. Дврь зала теперь была раскрыта настежь. Перед ней на цыпочках теснилось несколько посторонних посетителей побойчее. Браун подошел к двери.
— … О, я не заблуждаюсь, господа, — говорил Семен Исидорович. — Я прекрасно понимаю, что в моем лице чествуют не меня или, разрешите сказать, не только меня, а те идеи, которым…
Лакей подошел к Брауну с шубой.
— Их Превосходительство велели сказать, что ждут на улице, — прошептал он. Браун кивнул головою.
— … И буду, как каждый рядовой, в меру скромных сил, служить своему знамени до последнего издыхания! До «ныне отпущаеши», господа!
Зал снова задрожал от рукоплесканий.
XIV
Снег светился на мостовой, на крышах домов, на ограде набережной, на выступах окон. Розоватым огнем горели фонари. Облака, шевеля щупальцами, ползли по тяжелому, бесцветному, горестному небу. На страшной высоте, неизмеримо далеко над луною, дрожала одинокая звезда. Ночь была холодна и безветренна.
В веренице экипажей, выстроившихся у подъезда ресторана, маскарадным пятном выделялись две тройки. Редко, нерешительно и неестественно звенел колокольчик. Слышался невеселый, злобный смех. Извозчики разочарованно-презрительно смотрели на вышедших господ. Браун и Федосьев шли некоторое время молча. «Теперь, или уж не будет другого случая, — подумал Федосьев. — Грубо и фальшиво, но надо идти напролом…»
— Хорошая ночь, — сказал Браун, когда они перешли улицу.
— И не очень холодно.
— Ну, и не тепло…
— Так как же, Александр Михайлович, вы все не имеете известий от вашей ученицы, Ксении Карловны Фишер? — спросил Федосьев, подчеркивая слова «так как же», явно не вязавшиеся с содержанием всего их разговора.
— Нет, не имею никаких, — ответил не сразу Браун. — Вы второй раз меня о ней спрашиваете, — добавил он, помолчав. — Почему она, собственно, вас интересует?
— Да так… Не столько интересует, сколько интересовала… Меня очень занимает дело об убийстве ее отца… Ведь вы не думаете, что его убил Загряцкий? — спросил Федосьев.
— Мне-то почем знать?
Федосьев помолчал.
— По-моему, не Загряцкий убил, — сказал он.
— Почему вы думаете? Кто же?
— Вот то-то и есть — кто же?
Голос его звучал намеренно-странно.
— Я слышал, что против Загряцкого серьезных улик не оказалось, — сказал, опять не сразу, Браун. — Ведь дело направлено к доследованию.
— Да… Кажется, теперь следствие предполагает, что убийство имеет характер политический.
— Неужели?.. Значит, это по вашей части?
— Прежде действительно было по моей части, но тогда следствие еще думало иначе… Символическое дело, правда?
— Отчего символическое?
— Разве вы не чувствуете? Объяснить трудно.
— Не чувствую… Вам бы, однако, следовало найти и схватить преступника.
— Да вы все забываете, Александр Михайлович, что я в отставке. Притом, скажу правду, это меня теперь меньше всего интересует.
— Почему?
— Почему? Потому что в ближайшее время в России хлынет настоящее море самых ужасных преступлений, из которых почти все, конечно, останутся совершенно безнаказанными. Странное было бы у меня чувство спраделивости, если б я уж так горячо стремился схватить и покарать одного преступника из миллиона. Нет, у меня теперь к этому делу чисто теоретический интерес. Вернее даже не теоретический, а — как бы сказать?.. Да вот, бывает, прочтешь какую-нибудь шараду. Вам по существу глубоко безразличны и первый слог, и второй слог, и целое, — а попадется вам такая шарада, можно сна лишиться. Эта же шарада, вдобавок, повторяю, символическая.
— Как вы сегодня иносказательно выражаетесь!
— Наша профессиональная черта, — пояснил, улыбаясь, Федосьев. — Ведь в каждом из нас сидят Шерлок Холмс и Порфирий Петрович… Кстати, по поводу Порфирия Петровича, не думаете ли вы, что Достоевский очень упростил задачу своего следователя? Он взвалил убийство, вместе с большой философской проблемой, на плечи мальчишки-неврастеника. Немудрено, что преступление очень быстро кончилось наказанием. Да и свою собственную задачу Достоевский тоже немного упростил: мальчишка убил ради денег. Интереснее было бы взять богатого Раскольникова.
«Хорошо напролом!.. О Достоевском заговорил», — подумал он, с досадой ощущая непривычную ему неловкость.
— Может быть, было бы интереснее, но от житейской правды было бы дальше, — ответил Браун. — Скажу по собственному опыту: из всего того зла, горя, несчастий, которые я видел вокруг себя в жизни, наверное три четверти, так или иначе, имели первопричиной деньги.
— Какая тут статистика! Во всяком случае в моей бывшей профессии я этого не наблюдал… Мне обо всем этом поневоле приходилось думать довольно много. Ведь одна из моих задач собственно заключалась в том, чтобы перевоплощаться в них, революционеров. Разновидность этой задачи, частная и личная, но не лишенная интереса, сводилась к следующему вопросу: как бы я поступал, если б главная цель моей жизни заключалась в том, чтобы убить Сергея Васильевича Федосьева?
— Правда? Это, должно быть, хорошая школа.
— О, да, прекрасная: жить изо дня в день, вечно имея перед собой этот вопрос, зная, что от верного его разрешения зависит то, разорвут ли тебя бомбой на части или не разорвут. Это, разумеется, предполагало и многое другое. В самом деле, перевоплощаясь в революционера технически, я не мог отказаться от соблазна некоторого психологического перевоплощения. Тогда вопрос ставился так: почему мне, революционеру Икс, страстно хочется убить Сергея Федосьева?..
— Я думаю, этот вопрос мог повлечь за собой интереснейшие заключения, — вставил Браун. — Федосьев, разоблаченный Федосьевым…
— Так вот, видите ли, денежные побуждения не могли играть особой роли в действиях революционера Икс. Трудно мне было объяснить целиком его действия и побужденьями карьеры: рискована карьера террориста, многие обожглись… Само собой, иксы бывали разные. Для иных несмышленышей вопрос, может быть, и в самом деле ставился очень просто: Сергея Федосьева надо убить, потому что он изверг и палач народа. Или: Сергея Федосьева надо убить, потому что так приказали мудрые члены Центрального Комитета. Мы-то с вами, слава Богу, знаем, что эти святые и гениальные люди за столиками в Парижских и Женевских кофейнях почти одинаково озабочены тем, какого бы к кому еще подослать убийцу, и тем, где бы перехватить у буржуя на кабачок сто франков, сверх полагающегося обер-убийцам партийного оклада. Но несмысленыши этого не знают. Центральный Комитет вынес боевой приказ, чего ж еще! — Он весело засмеялся. — Удивительно, как засела в душе у этих «свободных людей», «антимилитаристов», обличителей «грубой солдатчины», самая пышная военная терминология. У них все: бой, знамя, победа, дисциплина, тактика. Прямо юнкера какие-то!.. Они и партию себе выбирают, как другие юноши полк, — по звучности названия, по красоте идейного мундира… Но это случай менее интересный.
— А более интересный какой?
— Более интересный вот какой, — сказал медленно Федосьев. — Я представляю себе революционера, не мальчика-несмысленыша, а пожившего, умного, очень умного человека, с душой, скажем поэтически, несколько опустошенной. Такие революционеры в истории бывали, хоть и не часто. Я бы сказал даже, что это не профессионал революции, а человек, изведавший другое, очень многое взявший от жизни, хорошо ее знающий, хорошо знакомый и с так называемыми правящими классами… Мне ведь о красоте правящих классов говорить не надо: имею о них твердое мнение… Жизнь этому человеку очень надоела, — его кривая начинает опускаться… Изведано, испробовано почти все. Что делать? Где взять силу и терпение, чтобы жить? В былые времена такие люди отправлялись в Новые Земли с разными Кортесами и Пизарро; у нас позднее шли воевать на Кавказ. Теперь новых земель больше нет, Кавказ завоеван, а окопная война скучнее скучного. В Америке, например, таким людям совершенно нечего делать, — прямо хоть в Ниагару бросайся. Но в Европе, — у нас в особенности, — судьба послала им в последний подарок революцию. Ведь романтика конспирации, восстаний, террора пьянит — увы! — не только мальчишек. Для современного Пизарро, прямо скажу, нет лучше способа «возродить себя к новой жизни». А если для этого, например, нужно отправить к праотцам такого злодея, как Сергей Федосьев, то уж, конечно, грех было бы стесняться. Этот спорт очень захватывает, Александр Михайлович. Ведь революционный Пизарро, должно быть, так же перевоплощается в меня, как я перевоплощаюсь в него. Выслеживает он меня — ощущение, из подворотни прокрадывается к моему автомобилю — жгучее ощущение, наконец выстрел, грохот снаряда — сильнейшее ощущение… Вообще для современного человека с душою Пизарро только две в сущности и остались карьеры: революционная — и моя.
Он остановился и поднял бобровый воротник шубы, глядя с усмешкой на Брауна, который внимательно его слушал. Они стояли у моста над Зимней Канавкой. По Миллионной длинным ровным рядом мерцали желтые огни. Два высоких фонаря по сторонам от Эрмитажного подъема заливали дрожащим светом фигуры каменных гигантов с заломленными за голову руками. Впереди на белом поле темнела тень колоссального дворца. Свет луны играл на снежной пелене Зимней Канавки. За нею, справа, перемежался матовыми пятнами бесконечный синеватый простор, где-то далеко мигавший разбросанными огоньками.
— А если Пизарро гурман, — сказал Федосьев тоном вместе и вкрадчивым, и грубым, — то он бомбы и браунинги предоставит светлой молодежи. Сам Пизарро сумеет сблизиться с тем человеком, жизнь которого мешает народному счастью, будет дружелюбно с ним беседовать, и в нужный момент «за чарой вина» возьмет и подольет ему белладонны…
— Да, может быть, — сказал Браун, глядя вниз через перила моста. — Мы как пойдем, по Мойке или по Морской? В «Палас» Мойкой, пожалуй, ближе.
— Как хотите, — ответил Федосьев, скрывая разочарование. — По-моему, всего приятнее прямо, к Александровскому саду.
Они пошли цепью прекраснейших в мире площадей. Облака рассеялись, в небе появились бледные звезды. Верх колонны печально поблескивал голубоватым светом. В строгом полукруге штаба кое-где светились окна. Посредине гигантского полукруга таинственно чернело отверстие арки. У горевшего багровым пламенем костра городовой подозрительно оглядел прохожих. Мимо них пронеслась длинная тень, низкие сани быстро проскрипели полозьями по твердому снегу. Лихач придержал рысака, вопросительно оглянулся на господ и понесся дальше.
— Так вы думаете, что Фишера отравил какой-либо революционный Пизарро? — спросил после долгого молчания Браун.
— Это допустимая рабочая гипотеза. Дочь Фишера участвует в революционном движении, всей душой ему предана. Она наследница богатства отца… У ее друзей возникает мысль: хорошо было бы помочь умереть Фишеру. Мысль на первый взгляд злодейская, но ведь как рассудить? Фишер был, вероятно, человек скверный… Деньги же пойдут на цели самые возвышенные, на низвержение тирании, на освобождение человечества. Как смотреть? Нет такой злодейской мысли, которую, при некотором логическом навыке, нельзя было бы облагородить… А на известном, очень высоком, умственном уровне, вероятно, все вообще довольно безразлично… Вы как думаете?
Браун молча на него смотрел.
— Вот оно что! — наконец сказал он точно про себя.
Он снова замолчал.
Слева бесконечной огненной стрелою сверкнул Невский Проспект.
— И давно у вас эта рабочая гипотеза?
— Давно, — ответил Федосьев. — По-вашему, она не годится?
— По-моему, не годится, — сказал Браун. — Нельзя, конечно, отрицать a рriori, что возможен и такой Пизарро, который для сильных ощущений готов отравить знакомого банкира. Но это был бы весьма исключительный случай. Людей со столь редкостными ощущеньями можно не принимать в расчет при составлении рабочей гипотезы.
— Вы забываете главное: есть ведь и идейная сторона… Притом… Вы помните, Диоген Лаэртский говорил: все ощущенья равноценны по качеству, дело лишь в их остроте… Ведь это, кажется, ваш любимый философ? Его книга и тогда у вас лежала на столе.
— И тогда? — переспросил Браун. — Когда? Да, лежала…
Он нахмурился.
— А вам откуда это известно?
— Помнится, вы мне сказали.
— Нет, помнится, я вам не говорил.
— Значит, я слышал от кого-либо из общих знакомых.
— Вот как, — хмурясь все больше, сказал Браун. — Вот как!..
— Ведь вы были хорошо знакомы с Фишером? — спросил Федосьев.
— Да, я его знал… — Браун недолго помолчал, затем продолжал равнодушно. — Малозамечательный был человек. Не без поэзии, конечно, как большинство из них, дельцов, вышедших в большие люди. Они ведь все считают себя гениями. Вы читали книги, которые пишут в назидание человечеству разные миллиардеры? Совершенно одинаковые и необыкновенно плоские книги. Все они нажили миллиарды главным образом потому, что вставали в шесть часов утра и отличались крайней честностью. Я понимаю, впрочем, что деловая стихия захватывает не меньше, чем политика или война. Но, по моим наблюдениям, эти Наполеоны из аферистов не слишком интересны…
— Да, да… Я слышал, вы бывали у него на той квартире? — спросил Федосьев с особой настойчивостью в тоне, как бы показывая, что он все-таки вернет разговор к своей теме.
— От общих знакомых слышали?
Федосьев не ответил. Они подходили к освещенному подъезду «Паласа».
— Может, зайдете?.. Давайте, тогда еще поговорим, — предложил Браун.
— Давайте, правда, закончим этот разговор… Если вы не очень утомлены?
— Весь к вашим услугам.
XV
В Hall'е гостиницы почти все огни были погашены. За столиками никого не было. Ночной швейцар окинул взглядом вошедших, снял с доски ключ и подал его Брауну. Мальчик дремал на скамейке подъемной машины. Он испуганно вскочил, сорвал с себя картуз и поднял гостей на третий этаж, со слабым четким стуком закрыв за ними дверь клетки. В длинном, узком, слабо освещенном коридоре, у низких дверей, неприятно выделялись выставленные сапоги и туфли.
— Простите, я войду первый, — сказал Браун, открывая дверь в конце коридора. Он зажег лампу на потолке, осветил небольшую, неуютную комнату, и пододвинул Федосьеву кресло.
— Хотите коньяку? — спросил он. — У меня французский, старый…
— Спасибо, не откажусь, — ответил Федосьев, садясь и закуривая папиросу.
Браун взял с окна бутылку, рюмки, тарелку с сухим печеньем, затем зажег лампу на столе.
— Вы что ищете? Пепельницу?
— Да, если есть… Благодарю… У вас можно разговаривать? — спросил Федосьев. — Не побеспокоим ли соседей так поздно? Впрочем, ваш номер ведь угловой.
— Да, угловой, — сказал Браун, садясь на диван. — Вот ведь какая у вас была рабочая гипотеза. Что ж, я должен признать, она не так дика… На первый взгляд она, правда, может легко показаться признаком профессиональной мании. Какие-такие Пизарро! Уж очень вы демоничны — и порою, извините меня, по-дешевому. В вас в самом деле есть, есть Порфирий Петрович. И разговоры у вас, оказывается, не совсем бескорыстные, — добавил он, засмеявшись. — Вы как та девица из газетных объявлений, которая дала обет посылать всем желающим замечательное средство для ращения волос… А я думал, благородный спорт разговора. Но, если вдуматься, ваша рабочая гипотеза допустима. Натянута, но допустима.
— Не правда ли?
— Правда. Однако, почти всегда можно придумать несколько рабочих гипотез. Иначе еще, пожалуй, арестовали бы какого-либо человека, в котором следствие заподозрило бы Пизарро?
— Может случиться… Каюсь, я другой гипотезы так и не придумал.
— У меня некоторые соображения есть. Если хотите, я с вами поделюсь?
— Сделайте милость.
— Вы совершенно уверены в том, что Фишер был отравлен?
— Ах, вы хотите отстаивать версию самоубийства? Я долго ее взвешивал и должен был решительно ее отвергнуть. В этом следствие не ошиблось. У Фишера не было никаких причин для самоубийства. Кроме того — и главное — он никак не поехал бы кончать с собой в ту квартиру, это полная нелепость.
— Нет, я версию самоубийства не отстаиваю… Я вообще ничего здесь не отстаиваю и отстаивать не могу… У Фишера в самом деле как будто не было причин кончать с собою. Я говорю: как будто, — с уверенностью ничего сказать нельзя. Но, может быть, не было ни убийства, ни самоубийства? Могло быть случайное самоотравление.
— Очень трудно случайно проглотить порцию белладонны. Экспертиза ясно констатировала отравление ядом рода белладонны.
— Да, мне это говорил Яценко. Именно эти слова мне и показали сразу, что экспертизе грош цена. Белладонна есть понятие ботаническое, а не химическое. Это растение из семейства пасленовых. В его листьях и ягодах содержится не менее шести алкалоидов. Из них хорошо изучен атропин, на него есть чувствительные реакции. Атропин, однако, действует не слишком быстро. Смерть обычно наступает далеко не сразу, лишь через несколько часов… Другие же алкалоиды белладонны… Темная это материя, — сказал Браун, махнув рукой. — А что такое яд рода белладонны, это остается секретом эксперта.
— Я все-таки не совсем вас понимаю. Вы, значит, предполагаете, что Фишер умер естественной смертью? — спросил Федосьев. Он перестал играть рюмкой, положил докуренную папиросу в пепельницу и откинулся на спинку кресла.
— Нет, не совсем естественною. Но я думаю, что смерть последовала не от «белладонны».
— От чего же?
— Целый ряд ядов могли дать при вскрытии приблизительно ту же картину: некоторую воспаленность почек, расширение зрачков, венозную гиперемию мозга и т. д. А химический анализ желудка, по-видимому, производился весьма грубо. Эти господа за все берутся, — вот как теперь на войне врачи ускоренного выпуска делают сложнейшие операции, перед которыми прежде останавливались знаменитые хирурги.
— Однако какой-то яд был все же при анализе обнаружен.
— Да, но какой?
— В конце концов это не так важно. Ведь яд не мог сам собой оказаться в желудке Фишера.
— Есть ряд ядовитых алкалоидов, которые употребляются в качестве лекарств. Предположите, что Фишер ошибся дозой. При слабом сердце его могло убить сравнительно небольшое увеличение дозы. А сердце у него было слабое, это я от него слышал.
— Лекарства принимают больные, — ответил Федосьев. — Если б Фишер чувствовал себя плохо, он не поехал бы, вероятно, на ту квартиру. К тому же людям с сердечной болезнью даются врачами безобидные вещества и в очень ничтожных дозах. Чтобы умереть от такого лекарства, Фишер должен был бы, вероятно, проглотить добрый десяток пилюль или целую склянку жидкости. Такая ошибка с его стороны мало вероятна.
— Мало вероятно, пусть, но все же возможна, — сказал Браун. Он еще помолчал, всматриваясь в Федосьева тяжелым, внимательным взглядом. — Возможно, наконец, еще и другое, — сказал он. — Есть яды, которые веселящимися людьми употребляются с особой целью. Тогда ваше возражение падает. Вполне возможно и правдоподобно, что, отправляясь на ту квартиру, Фишер принял одно из таких средств. Да, вот, кантаридин. Есть такой яд особого назначения, ангидрид кантаридиновой кислоты… Он вообще мало изучен, и немногочисленные исследователи чрезвычайно расходятся насчет того, какова смертельная доза этого вещества. Яд этот должен был бы дать при вскрытии приблизительно те же симптомы, что и «белладонна».
Федосьев передвинулся в кресле, отпил глоток коньяку и закурил новую папиросу.
— Но как же?.. — начал было он и замолчал с некоторым замешательством. — Это, конечно, неожиданное предположение. Но отчего же вы?.. Отчего следствие не направилось по этому пути?..
Браун саркастически засмеялся.
— Ваш вопрос не по адресу, — сказал он. — По-моему, здесь та же стадность, о которой мы с вами говорили. Полиция первая решила, что произошло убийство. Для полиции преступление — естественная гипотеза. Эта ее уверенность немедленно повлияла на следствие. Следователь, однако, допускает возможность самоубийства… Заметьте, здесь тоже некоторая косность мысли: либо убийство, либо самоубийство. Ему не приходит в голову, что возможно и случайное самоотравление. Далее вступает в свои права экспертиза… По-моему, это основная язва современного правосудия. Проблемы, от разрешения которых зависит жизнь человека, следовало бы поручать светочам науки. Но светочи науки или заниматься не могут или не желают, и они обычно достаются ремесленникам второго, если не третьего, сорта, которые вдобавок, как все полуученые люди, слепо верят в безошибочность своих заключений и в последнее слово науки…
— Следователь, однако, имеет право привлечь к экспертизе самых выдающихся специалистов.
— Имеет право, но не всегда имеет возможность: вероятно, и денег для этого у него недостаточно, да и трудно ему беспокоить людей, занятых другим делом. Следователь к тому же верно думает, что у всякой экспертизы есть простые безошибочные методы на любой случай. Фактически экспертиза в первое время следствия всегда в руках ремесленников. Позднее, особенно когда дело сенсационное и когда на этом настаивают адвокаты, которые у нас вдобавок не допускаются к предварительному следствию, позднее привлекаются и выдающиеся специалисты. Но тогда в большинстве случаев уже почти невозможно произвести надлежащую экспертизу.
— Однако, и рядовые эксперты, занимаясь всю жизнь одним и тем же делом, в конце концов не очень сложным, должны же ему научиться?
— Вы напрасно думаете, что это не сложное дело. Чрезвычайно сложное и трудное, Сергей Васильевич. Оно часто требует самостоятельного научного творчества. А у этих людей ничего нет, кроме веры в учебник анализа, да еще в последнее слово… Заметьте, в науке большие люди чуть ли не каждый год бросают новые последние слова, и по каждому из этих последних слов маленькие люди, ремесленники, производят десятки и сотни исследований, — подтверждают гипотезу, укрепляют теорию, berechnet, beobachtet …[62] Затем гипотеза неизбежно умирает естественной смертью, а десятки работ, которые ее подтверждали, пропадают совершенно бесследно. О них просто забывают, потому что незачем и неловко вспоминать. И ведь все-таки то ученые… А в уголовном суде на основании работы ремесленников отправляют человека на смерть или в каторжные работы! Лучше всего то, что обычно обвинение вызывает одних экспертов, защита — других, мнения их почти всегда противоположны друг другу, но это доверия к экспертам нисколько не подрывает.
— Как вы, однако, все это хорошо изучили и обдумали, — сказал Федосьев.
— У меня не каждый день отравляются знакомые. И не каждый день другие знакомые арестовываются по подозрению в убийстве.
— Да, правда, ведь вы знали и Загряцкого… Вы, однако, знали все общество Фишера?
— Нет, только самого Фишера и Загряцкого.
— Говорят, он охотно принимал от Фишера денежные подарки, и немалые? Так ли это?
— Не знаю. Очень может быть… Вид у него был горделивый и он часто называл разных знакомых «мещанами». Это признак почти безошибочный: люди, любящие жить на чужой счет, всегда зовут мещанами тех, кто на чужой счет жить не любит.
— Так, так, так…
Федосьев помолчал. Мысль его работала напряженно. «Если он говорит правду, то, быть может, все объясняется. Но возможно и то, что он тут же сочинил или заранее подготовил эту версию и заметает следы. Это актер первоклассный…»
— Если б я был на месте Фишера, — сказал он снова, после довольно продолжительного молчания, — я бы обратился за нужными разъяснениями о разных химических средствах к какому-нибудь специалисту, из хороших знакомых, что ли?.. Но ведь этот специалист, узнав о смерти Фишера и об аресте Загряцкого, вероятно, счел бы своим долгом сообщить следователю о данной им консультации?
— Может быть, — равнодушно ответил Браун.
Федосьев опять замолчал.
— Если же он этого не сделал, то у него, верно, были какие-нибудь причины. Можно предположить, например, что он сам вместе с Фишером развлекался на той квартире.
— Да, можно предположить и это, — сказал Браун.
— Тогда в самом деле зачем бы он стал откровенничать со следователем? Огласка таких дел всегда чрезвычайно неприятна. А тут еще разные медикаменты, да откуда они взялись, да кто дал рецепт? Печать непременно подхватила бы, как всегда у нас, — левая, если этот специалист правый, правая, если он левый. Ученый человек, быть может, с большим именем, ну, общественная репутация, ну, борода до колен, — и вдруг такие похождения! Нехорошо!.. Самые свободные духом люди чрезвычайно боятся подобных историй. В Англии видный государственный деятель покончил с собой, чтобы избежать огласки одного дела. А на легкий компромисс с совестью не беда пойти… Очень может быть, что дело было именно так.
— Очень может быть.
— Но с другой стороны, — продолжал с досадой Федосьев, — все это ведь только предположения и притом ни на чем не основанные. Следствие, пожалуй, поступило бы правильно, если б не дало сбить себя с пути. Может быть, все-таки перед нами убийство, и Фишера убил Пизарро.
— Конечно… А может быть и то, что прав следователь: не Загряцкий ли в самом деле убил Фишера? Вот уж, стало быть, есть целых четыре гипотезы: следователя, ваша и две мои. И все они более или менее правдоподобны. Если вдуматься, ваша самая интересная… Очень может быть, что вы ближе всего к истине.
Лицо Брауна было холодно и спокойно. Только в глазах его, как показалось Федосьеву, мелкала злоба.
— Что ж, — продолжал Браун, — вам, верно, приходилось читать сборники известных уголовных процессов? Почти во всех, от госпожи Лафарг до Роникера, правда так и осталась до конца невыясненной. Во Франции за десять лет было двести отравлений, в которых до разгадки доискаться не удалось.
— А вдруг здесь как-нибудь узнаем всю правду до конца?
— Вдруг здесь и узнаете, — повторил Браун. — Ведь и разгадки шарады иногда приходится ждать довольно долго.
— Что ж, подождем.
— Подождем… Куда торопиться?..
Он вдруг насторожился, повернув ухо к окну. Федосьев тоже прислушался.
— Мне показалось, выстрелы, — сказал Браун.
— И мне показалось. Революция, что ли, — усмехнувшись, ответил Федосьев. — Ну, что ж, пора… То есть, это мне пора, а не революции, — пошутил он. — Вам, верно, давно хочется отдохнуть.
— Нет, я не устал.
— И разговор был такой интересный… Я прямо заслушался, беседуя с вами.
— Все удовольствие, как говорят французы, было на моей стороне, — ответил Браун.
XVI
На острова должен был ехать почти весь кружок, кроме Фомина, который никак не мог оставить банкет. Ему предстояла еще вся довольно сложная заключительная часть праздника: проверка счетов, начаи и т. д. В последнюю минуту, к всеобщему сожалению, отказался и Горенский. Князю и ехать с молодежью очень хотелось, и остаться в тесном кругу друзей было приятно: он был теперь вторым героем дня. Кроме того дон Педро хотел предварительно прочесть Горенскому свою запись его речи.
— Вините себя, князь, что вам докучаю, — шутливо пояснил он. — Ваша речь — событие… Завтра будет в нашей газете только первый краткий отчет, а подробный, разумеется, послезавтра…
Семен Исидорович, услышавший эти слова, поспешно поднялся с места и, крепко пожимая руку дону Педро, увлек его немного в сторону.
— Я хотел бы вам дать точный текст своего ответного слова, — озабоченно сказал он. — Зайдите, милый, ко мне завтра часов в одиннадцать, я утречком набросаю по памяти… Будьте благодетелем… И, пожалуйста, захватите весь ваш отчет, я желал бы, если можно, взглянуть, — прибавил он вполголоса.
Альфред Исаевич встревожился: в черновике его отчета ответная речь Кременецкого была названа «яркой». Теперь, при предварительном просмотре, о таком слабом эпитете не могло быть речи. Альфред Исаевич тотчас решил написать «блестящая речь юбиляра»; но он почувствовал, что Семен Исидорович этим не удовлетворится. «Как же ему надо? „Ослепительно блестящая“? „Вдохновенная“? — спросил себя с досадой дон Педро. — Пожалуй, можно бы, черт с ним! Но все равно Федя никакого „ослепительно“ не пропустит, еще будет полчаса лаять… Дай бог, чтобы „блестящую“ пропустил. Он Сему отнюдь не обожает… — Альфред Исаевич решил не идти дальше „блестящей“. — Ну, в крайнем случае, добавлю: „сказанная с большим подъемом“…»
— С удовольствием зайду, милый Семен Исидорович, — сказал он. В обычное время дон Педро не решился бы назвать Кременецкого милым. Но теперь, как автор отчета об юбилее, он чувствовал за собой силу и намеренно подчеркнул, если не равенство в их общественном положении, то по крайней мере отсутствие пропасти. Семен Исидорович еще раз крепко пожал ему руку и вернулся на свое место.
— Конечно, поезжай, Мусенька, — нежно сказал он дочери, целуя ее в голову. — Вам, молодежи, с нами скучно, ну, а мы, старики, еще посидим, побалакаем за стаканом вина… «Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»… — с легким смехом добавил он, обращаясь преимущественно к председателю. — Пожалуйста, не стесняйтесь, господа. Спасибо, Григорий Иванович… Дорогой Сергей Сергеевич, благодарствуйте… Майор, от всей души вас благодарю, я очень тронут и горжусь вашим вниманием, майор… Вы знаете к нам дорогу…
— Ради Бога, застегнись как следует, — говорила дочери Тамара Матвеевна. — Григорий Иванович, я вам поручаю за ней смотреть… Не забывайте нас, мосье Клервилль…
— До свиданья, мама. Я раньше вас буду дома, увидите…
Клервилль, Никонов, Березин поочередно пожали руку юбиляру, поцеловали руку Тамаре Матвеевне и спустились с Мусей вниз. Глафира Генриховна, Сонечка Михальская, Беневоленский и Витя уже находились там в шубах: они, с разрешения Муси, сочли возможным уйти, не простившись с ее родителями. Муся рылась в шелковой сумке. Витя выхватил у нее номерок, сунул лакею рубль и принес ее вещи. Он помог Мусе надеть шубу, затем взглянул на Мусю с мольбою и, опустившись на колени, под насмешливым взглядом Глафиры Генриховны, надел Мусе белые фетровые ботики. Застегивая сбоку крошечные пуговицы, Витя коснулся ее чулка и, точно обжегшись, отдернул руку.
— Готово? — нетерпеливо спросила Муся, завязывая сзади белый оренбургский платок: по новой, немногими принятой, моде она носила платок, как чалму, делая узел не на шее, а на затылке. Это очень ей шло.
Витя поднялся бледный. Муся, с улыбкой, погрозила ему пальцем. Она почти выбежала на улицу, не дожидаясь мужчин. От любви, шампанского, почета ей было необыкновенно весело. Кучер первой тройки молодецки выехал из ряда на средину улицы. У тротуара остановиться было негде. Муся перебежала к саням по твердому блестящему снегу и, сунув в муфту сумку, легким движением, без чужой помощи, села в сани с откинутой полостью.
— Ах, как хорошо! — почти шепотом сказала она, с наслаждением вдыхая полной грудью разреженный, холодный воздух. Колокольчик редко и слабо звенел. Глафира Генриховна, ахая, ступила на снег и, как по доске над пропастью, перебежала к тройке, почему-то стараясь попадать ботиками в следы Муси. Муся протянула ей руку в белой лайковой перчатке. Но Глафиру Генриховну, точно перышко, поднял и посадил в сани Клервилль, она даже не успела вскрикнуть от приятного изумления. К тем же саням направилась было и Сонечка. Мужчины громко запротестовали.
— Что ж это, все дамы садятся вместе…
— Это невозможно!
— Мальчики протестуют! Через мой труп!.. — закричал Никонов, хватая за руку Сонечку.
Вторая тройка выехала за первой.
— Господа, так нельзя, надо рассудить, как садиться, — произнес внушительно Березин, — это вопрос сурьезный.
— Мосье Клервилль, конечно, сядет к нам, — не без ехидства сказала Глафира Генриховна. — А еще кто из мальчиков?
Муся, не успевшая дома подумать о рассадке по саням, мгновенно все рассудила: Никонов уже усаживал во вторые сани Сонечку, Березин и Беневоленский не говорили ни по-французски, ни по-английски.
— Витя, садитесь к нам, — поспешно сказала он, улыбнувшись. — Живо!..
Витя не заставил себя просить, хоть ему и неприятно было сидеть против Глафиры Генриховны. Ее «конечно», он чувствовал, предназначалось, в качестве неприятности, и Мусе, и ему, и англичанину. В последнем он, впрочем, ошибался: Клервиллю неприятность не предназначалась, да он ее и просто не мог бы понять. Швейцар застегнул за Витей полость и низко снял шапку. Клервилль опустил руку в карман и, не глядя, протянул бумажку. Швейцар поклонился еще ниже. «Кажется, десять. Однако!..» — подумала Глафира Генриховна.
— По Троицкому Мосту…
— Эй вы, са-ко-олики! — самым народным говорком пропел сзади Березин. Колокольчик зазвенел чаще. Сани тронулись и пошли к Неве, все ускоряя ход.
За Малой Невкой тройки понеслись так, что разговоры сами собой прекратились. От холода у Муси мерзли зубы, — она знала и любила это ощущение быстрой езды. Сдерживая дыханье, то прикладывая, то отнимая ото рта горностаевую муфту, Муся смотрела блестящими глазами на проносившиеся мимо них пустыри, сады, строенья. «Да, сегодня объяснится», — взволнованно думала она, быстро вглядываясь в Клервилля, когда сани входили в полосу света фонарей. Глафира Генриховна перестала говорить на трех языках неприятности и только вскрикивала при толчках, уверяя, что так они непременно опрокинутся. Клервилль молчал, не стараясь занимать дам: он был счастлив и взволнован необыкновенно. Витя мучился вопросом: «Неужели между ними вправду что-то есть? Ведь ведьма-немка все время намекает.» (Глафира Генриховна, дочь давно обрусевшего шведа, никогда немкой не была). Витя упал духом. Он ждал такой радости от этой первой своей ночной поездки на острова…
Развив на Каменном острове бешеную скорость, тройка на Елагином стала замедлять ход. У Глафиры Генриховны отлегло от сердца. Из вторых саней что-то кричали.
— Ау! Нет ли у вас папирос?
Клервилль вынул портсигар, он был пуст.
— I am sorry…
— Папирос нет… Не курите, простудитесь! — закричала Глаша, приложив к губам руки.
— Да все равно нельзя было бы раскурить…
Никонов продолжал орать. Спереди подуло ветром.
— Так холодно, — проговорил Клервилль.
— Сейчас Стрелка, — сказала Муся, хорошо знавшая Петербург. Тройка пошла еще медленнее. «Стрелка! Ура!» — прокричали сбоку. Вторые сани их догнали и выехали вперед, затем через минуту остановились.
— Приехали!
Все вышли, увязая в снегу, прошли к взморью и полюбовались, сколько нужно, видом. На брандвахте за Старой Деревней светился огонь.
— Чудно! Дивно!
— Ах, чудесно!..
— Нет, какая ночь, господа!..
Все чувствовали, что делать здесь нечего. Березин, возившийся у саней, с торжеством вытащил ящик. В нем зазвенело стекло.
— Тысяча проклятий! Carramba!
— Неужели шампанское разбилось?
— Как! Еще пить?
— Нет, к счастью, не шампанское… Разбились стаканы.
— Кто ж так укладывал! Эх, вы, недотепа…
— Что теперь делать? Не из горлышка же пить?
— Господа, все спасено: один стакан цел, этого достаточно.
— Узнаем все чужие мысли.
— То-то будут сюрпризы!
— А если кто болен дурной болезнью, пусть сознается сейчас, — сказал медленно поэт, как всегда, вполне довольный своим остроумием. Муся поспешно оглянулась на Клервилля.
— Давайте в снежки играть…
— Давайте…
— Разлюбезное дело!
— Что же раньше? В снежки или шампанское пить?
— Господа, природа — это, конечно, очень хорошо, но здесь холодно, — сказала Глаша.
— Ах, я совсем замерзла, — пискнула Сонечка.
— Сонечка, бедненькая, ангел, — кинулся к ней Никонов, — трите же лицо, что я вам приказал?
— Мы согреем вас любовью, — сказал Беневоленский.
«Боже, какой дурак, как я раньше не замечала!» — подумала Муся.
— А что, господа, если б нам поехать дальше? Мы, правда, замерзнем.
— О, да! — сказал Клервилль. — Дальше…
— Куда же? В «Виллу Родэ»?
— Да вы с ума сошли!
— Ни в какой ресторан я не поеду, — отрезала Глафира Генриховна.
— В самом деле, не ехать же в ресторан со своим шампанским, — подтвердил Березин, все выбрасывавший осколки из ящика.
— А заказывать там, сто рублей бутылка, — пояснила Глафира Генриховна.
— Господа, в ресторан или не в ресторан, но я умру без папирос, — простонал Никонов.
— Ну и умрите, — сказал Сонечка, — так вам и надо.
— Жестокая! Вы будете виновницей моей смерти! Я буду из ада являться к вам каждую ночь.
— Пожалуйста, не являйтесь, нечего… Так вам и надо.
— За что, желанная?
— За то, как вы вели себя в санях.
— Сонечка, как он себя вел? Мы в ужасе…
— Уж и нельзя погреть ножки замерзающей девочке!..
— Гадкий, ненавижу…
Сонечка запустила в Никонова снежком, но попала в воротник Глаше.
— Господа, довольно глупостей! — рассердилась Глафира Генриховна, — едем домой.
— Папирос! Убью! — закричал свирепо Никонов.
— Не орите… Все равно до Невского папирос достать нельзя.
— Ну, достать-то можно, — сказал Березин. — Если через Строганов мост проехать в рабочий квартал, там ночные трактиры.
— Как через мост в рабочий квартал? — изумился Витя. Ему казалось, что рабочие кварталы отсюда за тридевять земель.
— Ночные трактиры? Это страшно интересно! А вы уверены, что там открыто?
— Да, разумеется. Во всяком случае, если постучать, откроют.
— Ах, бедные, они теперь работают, — испуганно сказала Сонечка.
— Нет, как хорошо говорил князь! Я, право, и не ожидала…
— Господа, едем в трактир… Полцарства за коробку папирос.
— А как же снежки?
— Обойдемся без снежков, нам всем больше шестнадцати лет.
— Всем, кроме, кажется, Вити, — вставила Глаша.
Витя взглянул на нее с ненавистью.
— А вам… — начал было он.
— Мне много, скоро целых восемнадцать, — пропела Сонечка. — Господа, в трактир чудно, но и здесь так хорошо!.. А наше шампанское?
— Там и разопьем, вот и бокалы будут.
— Господа, только условие: под самым страшным честным словом, никому не говорить, что мы были в трактире. Ведь это позор для благородных девиц!
— Ну, разумеется.
— Лопни мои глаза, никому не скажу!
— Григорий Иванович, выражайтесь корректно… Так никто не проговорится?
— Никто, никто…
— Клянусь я первым днем творенья!
— Да ведь мы едем со старшими, вот и Глафира Генриховна едет с нами, — отомстил Витя. Глафире Генриховне, по ее словам, шел двадцать пятый год.
— Нет, какое оно ядовитое дите!
— В сани, в сани, господа, едем…
Ехали небыстро и довольно долго. Стало еще холоднее, Никонов плакал, жалуясь на мороз. По-настоящему веселы и счастливы были Муся, Клервилль, Сонечка. Мысли Муси были поглощены Клервиллем. Тревоги она не чувствовала, зная твердо, что этой ночью все будет сказано. Как, где это произойдет, она не знала и ничего не делала, чтобы вызвать объяснение. Она была так влюблена, что не опускалась до приемов, которые хоть немного могли бы их унизить. Муся даже и не стремилась теперь к объяснению: он сидел против нее и так смотрел на нее, — ей этого было достаточно; она чувствовала себя счастливой, чистой, расположенной ко всем людям.
Старый, низенький, грязноватый трактир всем понравился чрезвычайно. Дамы имели самое смутное понятие о трактирах. В большой, теплой комнате, выходившей прямо на крыльцо, никого не было. Немного пахло керосином. Когда выяснилось, что огромная штука у стены есть машина, а со скамьи встал заспанный половой, которого Березин назвал малый и братец ты мой, дамы окончательно пришли в восторг, и даже Глафира Генриховна признала, что в этом заведении есть свой стиль.
— Ах, как тепло! Прелесть!
— Здесь надо снять шубу?
— Разумеется, нет.
— Отчего же нет? Mesdames, вы простудитесь, — сказал Березин, сдвигая два стола в углу. — Ну вот, теперь прошу занять места.
— Право, я страшно рада, что нас сюда привезли. А вы рады, Сонечка?
— Ужасно рада, Мусенька! Это прямо прелесть!
— Господа, я заказываю чай. Все озябли.
— Папирос!..
— Ну-с, так вот, голубчик ты мой, перво-наперво принеси ты нам чаю, значит, чтоб согреться, — говорил Березин: он теперь играл купца, очевидно, под стиль трактира. Дамы с восторгом его слушали.
— Слушаю-с. Сколько порций прикажете? — говорил еще не вполне проснувшийся половой, испуганно глядя на гостей.
— Сколько порций, говоришь? Да уж не обидь, голуба, чтоб на всех хватило. Хотим, значит, себя чайком побаловать, понимаешь? Ну, и бубликов там каких-нибудь тащи, што ли?
— Слушаю-с.
— Папирос!..
— А затем, братец ты мой, откупори ты нам эту штучку. Своего, значит, кваску привезли… И стаканы сюда тащи.
— Слушаю-с… За пробку с не нашей бутылки у нас пятнадцать копеек.
— Пятиалтынный, говоришь? Штой-то дороговато, малый. Ну, да авось осилим… И ж-жива!
Отпустив малого, Березин засмеялся ровным, негромким смехом.
— Нет, право, он очень стильный.
— Здесь дивно… Григорий Иванович, положите туда на стол мою муфту.
— Ага! Прежде «ну, и умрите», а теперь «положите на стол мою муфту»?.. Бог с вами, давайте ее сюда, ваше счастье, что я такой добрый.
— И такой пьяный…
— Вам нравится здесь, Вивиан? Вы не сердитесь, что мы все время говорим по-русски?
— О, нет, я понимаю… Мне так нравится!..
Клервилль действительно был в восторге от поездки, в которой мог наблюдать русскую душу и русский разгул. Самый трактир казался ему точно вышедшим прямо из «Братьев Карамазовых». И так милы были эти люди! «Она никогда не была прекраснее, чем в эту ночь. Но как, где сказать ей?» — думал Клервилль. Он очень волновался при мысли о предстоящем объяснении, об ее ответе; однако, в душе был уверен, что его предложение будет принято.
— Мосье Клервилль, давайте поменяемся местами, вам будет здесь удобнее, — предложила Глафира Генриховна. — Григорий Иванович, несут ваши папиросы. Слава Богу, вы перестанете всем надоедать…
— Господа, кто будет разливать чай?
— Глаша, вы.
— Я не умею и не желаю. И пить не буду.
— Напрасно. Чай великая вещь.
Никонов жадно раскуривал папиросу.
— Григорий Иванович, дайте и мне, — пропела Сонечка. — Я давно хочу курить.
— Сонечка, Бог с вами! — воскликнула Муся. — Я маме скажу.
— А страшное честное слово? Не скажете.
Она протянула руку к коробке, Никонов ее отдернул. Сонечка сорвала листок.
— Господа, это стихи.
— Стихи? Прочтите.
— Отдайте сейчас мой листок.
— Григорий Иванович, не приставайте к Сонечке. Сонечка, читайте.
В дни безвременья, безлюдья Трудно жить — кругом обман. Всeм стоять нам надо грудью, Закурив родной «Осман». Десять штук — двадцать копeек, —прочла нараспeв Сонечка. Послышался смeх.
— Как вы смeли взять мой листок? Ну, постойте же, — грозил Сонечкe Никонов.
— Mesdames, на моей коробкe еще лучше, — сказал Березин. — Слушайте:
Ручеечки вспять польются, Злое сгинет навсегда, Пeсни «Пери» раздадутся, Так потерпим, господа. Десять штук — двадцать копeек.Смех усилился. Настроение все поднималось.
— Господа, ей-Богу, это лучше «Голубого фарфора»!
— Какая дерзость! Поэт, пошлите секундантов.
— Слышите, злое сгинет навсегда. Горенский, собственно, говорил то же самое.
— Ах, как жаль, что князь с нами не поехал.
— Господа, несут шампанское.
— Несут, несут, несут!
— Вот так бокалы!
— Наливайте, Сергей Сергеевич, нечего…
— Шампанское с чаем и баранками!
— Я за чай.
— А я за шампанское.
— Кто как любит…
— Кто любит тыкву, а кто…
— Ваше здоровье, mesdames.
— Господа, мне ужасно весело!
— Вивиан…
— Муся…
— Сонечка, я хочу выпить с вами на ты.
— Вот еще! И я вам не Сонечка, а Софья Сергеевна.
— Сонечка Сергеевна, я хочу выпить с вами на ты… Нет? Ну, погодите же!
— Григорий Иванович, когда вы остепенитесь? Налейте мне еще…
— Mesdames, я пью за русскую женщину.
— О, да!..
— Лучше «за того, кто „Что делать?“ писал»!
— Выпила бы и за него, да я не читала «Что делать?».
— Позор!.. А я и не видела!
— Можно и не читамши и не видемши.
— Мусенька, какая вы красавица. Я просто вас обожаю, — сказала Сонечка и, перегнувшись через стол, крепко поцеловала Мусю.
— Я вас тоже очень люблю, Сонечка… Витя, отчего вы один грустный?
— Я нисколько не грустный.
— Отчего ж вы, милый, все молчите? Вам скучно?
— Атчиго он блэдный? Аттаго что бэдный…
— Выпьем, молодой человек, шампанского.
Сонечка вдруг пронзительно запищала и метнулась к Никонову, который вытащил из ее муфты крошечную тетрадку.
— Не смейте трогать!.. Сейчас отдайте!
— Господа, это называется: «Книга симпатий»!
— Сию минуту отдайте! С-сию минуту!
— Что я вижу!
— Муся, скажите ему отдать! Сергей Сергеевич…
— Григорий Иванович, отдайте ей, она расплачется.
— Господа, здесь целая графа: «Боже, сделай так, чтобы в меня влюбился»… Дальше следуют имена: Александр Блок… Собинов… Юрьев… Не царапайтесь!
Все хохотали. Сонечка с бешенством вырвала книжку.
— Сонечка, какая вы развратная!
— Я вас ненавижу! Это низость!
— Я вам говорил, что отомщу. Мессалина!
— Я с вами больше не разговариваю!
— Сонечка, на него сердиться нельзя. Он пьян так, что смотреть гадко… Налейте мне еще, поэт.
— Поверьте, Сонечка, ваш донжуанский список делает вам честь.
— Господа, а вы знаете, что здесь был убит Пушкин? — сказал Березин.
Вдруг наступило молчание.
— Как? Здесь?
— Не здесь-здесь, а в двух шагах отсюда. С крыльца, может быть, видно то место. Хотя точного места поединка никто не знает, пушкинианцы пятьдесят лет спорят. Но где-то здесь…
Большинство петербуржцев никогда не было на месте дуэли Пушкина. Муся полушепотом объяснила по-английски Клервиллю, что сказал Березин.
— … Наш величайший поэт…
— Да, я знаю…
Он действительно знал о Пушкине — видел в Москве его памятник, что-то слышал о мрачной любовной трагедии, о дуэли.
— Место, на котором был убит Пушкин, ничем не отличается от места, на котором никто не был убит, — произнес с расстановкой Беневоленский.
— Это очень глубокомысленное замечание, — сказала Муся, не вытерпев. Она встала.
— А вы знаете, господа, здесь очень душно и керосином пахнет… У меня немножко кружится голова.
— У меня тоже.
— На воздухе пройдет… Но поздно, друзья мои, пора и восвояси…
— В самом деле, пора, господа… Так вы говорите, с крыльца видно?
Муся открыла дверь. Пахнуло холодом. Березин подозвал полового. Муся вышла на крыльцо. Справа жалостно звенел колокольчик отъехавшей тройки. Слева у соседней лавки уже вытягивалась очередь. Дальше все было занесено снегом.
«Нет, ничего не видно… Он, однако, не вышел за мною…» — подумала Муся. Вдруг сзади сверкнул свет и она, замирая, увидела Клервилля.
— Ах, вы тоже вышли, Вивиан? — спросила она по-английски. — Нет, отсюда ничего не видно… Смотрите, это очередь за хлебом. Бедные люди, в такой холод! Верно, у вас в Англии этого нет?
Он не сводил с нее глаз.
— Какая прекрасная ночь, правда? — сказала она дрогнувшим неожиданно голосом. «Да, сейчас, сейчас все будет сказано», — едва дыша, подумала Муся.
— Я вышел, чтобы остаться наедине с вами… Мне нужно вам сказать… Нам здесь помешают… Пройдем туда…
Видимо очень волнуясь, он взял ее под руку и пошел с ней в сторону, по переулку. Через минуту он остановился. Снизу приятно пахло печеным хлебом. Было почти темно. Людей не было видно. «Неужели у места дуэли Пушкина?.. Это было бы так удивительно, память на всю жизнь… Нет, это простой переулок… Стыдно думать об этом… Сейчас все будет кончено… Но что ему сказать?» — пронеслось в голове у Муси.
— Муся, я люблю вас… Я прошу вас быть моей женою.
Слова его были просты и банальны, — Муся не могла этого не заметить, как взволнована она ни была, какой торжествующей музыкой ни звучали эти слова в ее душе. «Так с сотворения мира делали предложение. Но теперь мне!.. Сейчас ответить или подождать?.. И как сказать ему? Лишь бы не сказать плоско… И не сделать ошибки по-английски…»
— Я не могу жить без вас и прошу вас стать моей женой, — повторил он, взяв ее за руку. — Согласны ли вы?
— Я не могу отказать вам в таком пустяке.
Он не понял или не оценил ее тона, затем с усилием засмеялся, — смех оборвался тотчас.
— Вы говорите правду?.. Вы шутите?
— Это была бы довольно глупая шутка.
Он поцеловал ей руку, затем обнял ее и поцеловал в губы. Она чуть-чуть отбивалась. Опять, с еще гораздо большей силой, чем при их телефонном разговоре, счастье залило душу Муси, вытеснив все другое. Ей стало стыдно и себя, и своих мадригалов… «Надо стать достойной его!»
Они молча пошли назад. Не доходя до крыльца, Муся остановилась. «Так нельзя войти. Все сейчас догадаются по нашим лицам, уж Глаша, конечно… Ну, и пусть!.. Нет, не надо», — подумала она. Как она ни была счастлива и сердечно-расположена ко всем людям, Муся не хотела так сразу все открыть Глаше.
— Оставьте меня, Вивиан… Я хочу побыть одна.
Он взглянул на нее с испугом, затем, по-видимому, как-то очень сложно объяснил ее слова. Наклонив голову, он выпустил ее руку и отошел, взбежал на крыльцо своим легким, упругим шагом. Муся вздохнула легче. «Да, все решено! Неужели может быть так хорошо? — книжной фразой выразила она самые подлинные свои чувства. — Он изумительный!..»
Теперь все было другое, дома, снег, эти оборванные люди. Конец очереди, у фонаря, был от нее в двух шагах. «Бедные, бедные люди!.. — Муся оставила сумку в муфте, да и в сумке почти не было денег, — она все раздала бы этим людям. — Нет, теперь и им будет житься легче, идут новые времена», — подумала Муся, вспомнив речь Горенского. Она ясным, бодрящим, сочувственным взглядом обвела очередь, встретилась глазами с бабой и вдруг опустила глаза, — такой ненавистью обжег ее этот взгляд. Мусе стало страшно. Она быстро направилась к крыльцу.
— Шлюха! — довольно громко прошипела баба. — …… в шубе…
В толпе засмеялись. У Муси подкосились ноги. На крыльце сверкнул свет, появились люди. Колокольчик зазвенел. Тройки подъехали к крыльцу.
— Мусенька, что же вы скрылись? Вот ваша муфта, — сказала Сонечка.
Назад ехали скучно. Было холодно, но по-иному, не так, как по дороге на острова. Клервилль сел во вторые сани: по-видимому, сложное объяснение слов Муси включало и эту деликатность, давшуюся ему нелегко. Вместо него рядом с Витей на скамейку сел Никонов. Он начинал скисать, — петербургская неврастения в нем сказалась еще сильнее, чем в других. Глафира Генриховна была крайне озабочена, даже потрясена. Она сразу все поняла. В том, что, по ее догадкам, произошло, она видела завершение блестящей кампании, которую Муся мастерски провела собственными силами, при очень слабой помощи родителей. «Да, ловкая, ловкая девчонка, нельзя отрицать», — думала Глаша. Она думала также о том, что ей двадцать седьмой год, что жениха нет и не предвидится, и что для нее выход замуж Муси — тяжкий удар, если не катастрофа. Глафира Генриховна сразу приняла решение перегруппировать фронт и сосредоточить силы на одном молодом адвокате, который, правда, не мог идти в сравнение с Клервиллем, но был очень недурен собой и уже имел хорошую практику. «Что ж делать… Да, она очень ловкая, Муся. И молчит, будет мне теперь подавать его по столовой ложке…»
«Рассказать или нет? — спрашивала себя Муся. — Зачем рассказывать? Глупо… В такую минуту плюнули в душу… За что? Что я им сделала?..» — Она говорила себе, что не стоит об этом думать, но ей хотелось плакать. Ее разбирала предрассветная мелкая дрожь. Чуть-чуть жгло глаза.
Хотелось плакать и Вите. Не глядя на Мусю, он молчал всю дорогу, думая то о самоубийстве, то о дуэли. «Вот и Пушкин послал тому вызов… Нет, дуэль глупость, конечно. Да он и не виноват, если она его любит… И самоубийство тоже глупости… Не покончу я самоубийством… Но, может быть, ничего и не было? Вот ведь она сидит грустная… Может, она ему отказала?»
Глафира Генриховна для приличия время от времени говорила что-то скучное. Муся, Никонов скучно и коротко отвечали.
Они подъезжали к Неве. Луна скрылась, стало совершенно темно. Вдруг слева, где-то вдали, гулко прокатился выстрел. Дамы вскрикнули. Никонов поднял голову. Встрепенулся и Витя. Кучер оглянулся с испуганным выражением на лице. За первым выстрелом последовали другой, третий. Затем все стихло.
— Что это?.. Стреляют? — шепотом спросила Муся.
— Ну да, стреляют. Р-революция, — угрюмо проворчал Никонов, как полушутливо говорили многие из слышавших первые выстрелы февраля.
«Ах, если бы вправду революция! — вдруг сказал себе Витя. В его памяти промелькнуло то, что он читал и помнил о революциях — жирондисты, Дантон у Минье, Дмитрий Рудин. Витя увидел себя на баррикаде, со знаменем, с обнаженной саблей. Баррикада была под окнами Муси. — Да, это был бы лучший исход… Ах, если бы, если бы революция!.. Только гроза может принести мне славу и сделать меня достойным ее любви!.. А если не славу, то смерть», — с тоской и страстной надеждой думал Витя.
XVII
Николай Петрович почувствовал себя нездоровым в день юбилея Кременецкого и должен был отказаться от участия в банкете, поручив своей жене передать извинения юбиляру. На следующий день Яценко не пошел на службу, ничего не ел с утра и за обедом не прикоснулся к супу: вид и запах еды вызывал в нем отвращение. Сославшись на острую головную боль, он заявил, что не будет обедать. Наталья Михайловна, которая как раз собиралась с толком, подробно рассказать о банкете, обеспокоилась.
— Ну, да, в городе свирепствует грипп. Вот что значит так работать, — не совсем логично сказала она мужу. — Сколько раз я тебе говорила: никто, никто не работает десять часов в сутки. Конечно, это от переутомления, оно всегда предрасполагает к гриппу… Хоть супа поешь, я тебя умоляю…
Николай Петрович работал в последнее время не больше обычного. Усталость его была преимущественно моральная и сказывалась в крайней раздражительности, которую он сдерживал с большим трудом. Ничего не ответив на предложение поесть хоть супа, он ушел к себе в кабинет и лег на твердый кожаный диван, взяв первую попавшуюся книгу. Но книги этой он не раскрыл. У него очень болела голова, ломило тело. Наталья Михайловна принесла и подложила ему под голову большую подушку. Измученный вид мужа ее расстроил.
В спальной, в огромном, красного дерева шкапу, среди разложенного в чрезвычайном порядке тонкого белья (к которому имела слабость Наталья Михайловна), между высокими стопками полотенец и носовых платков, с давних времен хранился семейный термометр. Наталья Михайловна осторожно его вынула из футляра, глядя на лампу и морщась, необыкновенно энергичным движеньем сбила в желтеньком канале столбик много ниже красного числа, затем с испуганным и умоляющим выражением на лице вошла на цыпочках в кабинет. Николай Петрович знал, что у него сильный жар, и не хотел пугать своих. Однако, чтобы отделаться от упрашивания, он согласился измерить температуру и даже о минутах не очень торговался. Оказалось 39,2 — больше, чем предполагал сам Яценко. Наталья Михайловна перепугалась не на шутку. Ее авторитет немедленно вырос и, несмотря на слабые протесты Николая Петровича, по телефону был приглашен домашний врач Кротов.
Витя, узнав о болезни отца, зашел в полутемный кабинет, но, по настоянию Натальи Михайловны — грипп так заразителен, — должен был остановиться в нескольких шагах от дивана. Николай Петрович, слабо и ласково улыбаясь, успокоил сына.
— Да, да, конечно, пустяки. Завтра буду совершенно здоров… Иди, иди, мой милый.
Николая Петровича и трогали, и немного раздражали заботы близких. Он всегда, в шутливых спорах с женою, уверял, что одинокому человеку и болеть гораздо легче. Теперь ему хотелось, чтоб его оставили одного и чтоб ему дали чаю с лимоном. Наталья Михайловна, однако, сомневалась, не повредит ли чай больному. Николай Петрович, от усталости и раздражения, не настаивал. Он лежал на диване, глядя усталым, неподвижным взглядом на висевшие против дивана портреты Сперанского, Кавелина, Сергея Зарудного. Мысли Яценко беспорядочно перебегали от Загряцкого и Федосьева к его собственной неудавшейся жизни. «И следователь, оказывается, плохой… Нет, так нельзя ошибаться… А тот негодяй, Загряцкий, по формальным причинам все еще в тюрьме, хоть я знаю, что он не виновен в убийстве… Вот она, формальная правда», — думал он. Почему-то ему часто вспоминался Браун, его визит, его странные разговоры — он тотчас с неприятным чувством гнал от себя эти мысли. «Да, нехорошо, очень нехорошо!..» — вслух негромко сказал Яценко, прикрывая рукой глаза. Единственное светлое был Витя. Но и с мальчиком что-то было неладно. От Вити Яценко переходил мыслью к судьбам России. «Всюду грех, ошибки, преступления, — тоскливо думал Николай Петрович, вглядываясь в лица своих любимых политических деятелей. — Они бы до этого не довели… Но они умерли… И я скоро умру… Какое же мне дело до всего этого?» Голова у него мучительно болела.
В десятом часу вечера прибыл Кротов, добродушный старик, крепкий, лысый и краснолицый. Он признал болезнь инфлюэнцой, прописал лекарство и строгую диету; чай с лимоном, однако, разрешил, но не иначе, как очень слабый. Наталья Михайловна попросила доктора приехать и на следующее утро.
— Вот еще, стану я приезжать, у меня есть больные посерьезней, чем он, — сказал весело Кротов, с давних пор свой человек в доме: он знал, что для Яценко пять рублей деньги и что о бесплатном леченьи — «ах, полноте, какие между нами счеты» — не может быть речи. — Денька через два загляну… Если буду жив, — сказал он Наталье Михайловне, — так, миленькая, всегда говорил Толстой, наш ненавистник… Не любил нас, ругал, а у нас лечился всю жизнь, Лев Николаевич (доктор произносил по-старинному: Лёв; речь у него вообще была старинная, хоть он щеголял разными новыми словечками и прибаутками). И прав: ведь я романов не пишу, а ругать романистов ругаю…
— И поделом, — сказала уверенно Наталья Михайловна.
— Разумеется, поделом. Как их, теперешних, не ругать: какие-то пошли Андреевы, Горькие, Сладкие. В наше время настоящие были писатели: ну, Тургенев, Достоевский, или Станюкович… Это не фунт изюма… Ну-с, так аспиринцу сейчас скушаем, а то, второе, что я пропишу, через час. И завтра будем здоровы…
Кротов говорил с Николаем Петровичем так, как мог бы говорить с Витей. Недоброжелатели утверждали, что старик давно выжил из ума и перезабыл все лекарства. Однако практика у него была огромная, — так бодрил больных его тон.
— Натурально, пустяки, — сказал он Наталье Михайловне, садясь в столовой писать рецепт. — Через три дня может идти на службу… Ну-с, а наши почки как, миленькая?
Наталья Михайловна не прочь была за те же пять рублей спросить доктора и о своем здоровьи. Он дал успокоительные указания.
— Сто лет гарантирую, миленькая, больше никак не могу, себе дороже стоит… А вы знаете, в городе беспорядки, — сказал доктор, вставая и помахивая в воздухе бумажкой. — Еду сюда, идут мальчишки, рабочие, поют, дурачье… Как это, «Варшавянка», что ли? Дурачье!.. А ночью даже постреливали.
— Да, мне Витя говорил, он на островах катался и слышал стрельбу. Только я не пойму, кто в кого мог ночью стрелять?
— Стреляли, стреляли, — радостно повторил старик.
— Вдруг в самом деле революция, а?
— Вздор! Семьдесят лет живу, никакой революции не видал. Я сам в шестьдесят первом году что-то пел, болван этакой, да не допелся… Нет, верно это было позже, в шестьдесят четвертом… Не будет революции, пропишут им казачки варшавянку, все и кончится, — решительно сказал доктор. — А засим мне все равно, посмотрю и на революцию… Давно пора и тех господ проучить, звездную палату… Так вот, миленькая, это отдайте Марусе… А, Витька, здравствуй, ты как живешь?
Наталья Михайловна вышла с рецептом в кухню. Доктор подвел упиравшегося Витю к лампе.
— Нехорошо, — сказал он. — Под глазами круги. И глаза красные… Плакал, что ли?
Он задал несколько вопросов, от которых Витя густо покраснел.
— Гимнастику надо делать, балбес, — сказал строго Кротов. — Я, кажется, старше тебя, да? Чуть старше: пошел семьдесят первый год (с некоторых пор он остановился в возрасте), а каждый день делаю гимнастику. Каждый день, чуть встаю, еще перед гошпиталем. Вот так… — Он присел, действительно довольно легко, поднялся и сделал несколько движений руками. — Раз — два… Раз — два — три… Обливание и гимнастика, гимнастика и обливание… И спать на твердом тюфяке… И об юбках меньше думать, слышишь? И ни на какие острова по ночам не ездить… Зачем вы его на острова пускаете? — обратился он к вошедшей Наталье Михайловне. — Ну-с, до свиданья, миленькая… До свиданья, Витька… Послезавтра, хоть и не нужно, заеду, если буду жив…
— Да вы моложе и крепче нас всех!
— Не жалуюсь, не жалуюсь…
Демонстративно отказавшись от помощи хозяев, он сам надел древнюю норковую шубу, еще пошутил и ушел, оживив весь дом, наглядно и несомненно доказав пользу медицины. «Прямо удивительный человек, таких больше не будет, не вам чета!» — с искренним восторгом сказала Вите Наталья Михайловна. Успокоенная врачом, она взяла дом в свои руки, чувствуя приступ особенной энергии и жажды деятельности: теперь все было на ней. Николай Петрович разделся и перешел в спальную, где к кровати был приставлен низенький, покрытый салфеткою, столик. Горничная поставила самовар. Маруся побежала в аптеку.
Утром на службу дали знать о болезни Николая Петровича. Болезнь эта, разумеется, не была серьезной. Однако в нормальное время несколько человек, ближайших друзей и сослуживцев (родных у Яценко не было), наверное тотчас зашли бы его «проведать» или, по крайней мере, справились бы по телефону. На этот раз никто не зашел, что не совсем приятно удивило Наталью Михайловну: визиты были совершенно не нужны, скорее мешали; но они входили в обычный уютно-волнующий церемониал неопасных болезней.
В этот же день Маруся вернулась с базара в большом возбуждении. Она радостно повторяла, что народ совсем взбунтовался: на Выборгской стороне разгромили лавки. Глаза Маруси сияли торжеством. Хотя Наталья Михайловна разделяла либеральные взгляды своего мужа, ее первое впечатление от слов прислуги и особенно от ее бестолково-торжествующего вида было неприятное. Съестных припасов Маруся принесла очень немного, — на базаре ничего не было; курицу для бульона больному барину удалось достать лишь по доброму знакомству с торговкой, у которой они всегда покупали. Наталья Михайловна не поверила, что ничего нельзя получить, и сама пошла за покупками. Но поблизости от их квартиры лавки в большинстве были закрыты наглухо. Кое-где торговля еще шла, однако Наталья Михайловна, к собственному удивлению, не решилась стать в длинную очередь, — такой недружелюбный вид был у стоявших там женщин. Когда она, с пустыми руками, возвращалась домой, по улице на рысях, с отчетливым, волнующим топотом, проехал казачий отряд. Сердце у Натальи Михайловны забилось сильнее обыкновенного. Швейцар, с тем же бестолково-торжествующим видом, вполголоса ей сообщил, что фараон с угла куда-то ушел и что на Невском, слышно, разбили трамвайные вагоны. Такие же известия привез из Тенишевского училища взволнованный Витя. На улицах были столкновения толпы с полицией.
Наталья Михайловна не решилась сказать Николаю Петровичу о том, что происходило, боясь его взволновать. Витя после скудного обеда куда-то исчез. Наталья Михайловна расположилась в кресле у высокой стоячей лампы и раскрыла утреннюю газету. Она прочла отдел мод, хронику, телеграммы, лениво подумала о том, что могло быть на месте белого просвета (к просветам привыкли), просмотрела интересные объявления и список недоставленных телеграмм, приступила было к думскому отчету и задремала: плохо спала ночью. Вдруг ее разбудил какой-то грохот… Наталья Михайловна вскрикнула, схватилась за сердце и бросилась к окну. Люди бежали с растерянным видом по слабо освещенной, печальной улице. Пальба трещала четко и часто. Один из бежавших по мостовой людей метнулся в сторону и укрылся в подворотне. За ним то же сделали другие. В это мгновенье в комнату вбежали в волнении горничная, Маруся. Затем появился швейцар, уже бывший навеселе. По его словам, это били пулеметы на Невском. Однако, он радостно советовал не подходить к окнам.
Тут Наталья Михайловна с ужасом подумала, что Вити нет дома. Она заметалась по квартире, бросилась было к мужу, но остановилась у дверей. Николай Петрович спал: спальная выходила окнами во двор, и там стрельба была менее слышна. Наталья Михайловна вспомнила о телефоне и принялась звонить к товарищам Вити. Везде телефон был занят, приходилось долго ждать соединения. Вити нигде не было. Прислуга ахала. Задыхаясь от отчаянья, Наталья Михайловна уже себе представляла, как по лестнице несут на носилках тело Вити. Вдруг раздался звонок — и Витя появился живой и невредимый. Никаких приключений с ним не было, но он тоже слышал вблизи стрельбу, видел бегущих людей и понял, что дома будут о нем беспокоиться.
Наталья Михайловна набросилась на сына. От шума взволнованных голосов проснулся Николай Петрович. Он чувствовал себя гораздо лучше. Наталья Михайловна сочла возможным рассказать мужу о событиях. Витя привез новости, восходившие, через три промежуточных инстанции, к Государственной Думе. Все партии объединились в общем порыве к освобождению страны. Войска заперты в казармах, — очевидно, правительство никак не может на них положиться. Офицерство на стороне народа. Волнение Николая Петровича было радостным, почти восторженным, — эти события точно разрешили что-то тяжелое в его личной жизни. Николай Петрович не сомневался в победе страны над правительством. Остаток вечера они провели в спальной, втроем, в таком сердечном, любовном и приподнятом настроении, которого, быть может, никогда не испытывала их дружная семья. Эта атмосфера в представлении Натальи Михайловны как-то соединилась с происходившими событиями и повлияла на ее отношение к ним.
На следующий день Николай Петрович почти совсем оправился, температура упала до 36 градусов. В городе же начались невиданные и неслыханные дела. Газеты не вышли. Только тут петербуржцы почувствовали, какое огромное место газеты занимали в жизни и какую тревогу вносило в нее их отсутствие. Телефон заработал, передавая самые удивительные известия. Закрылось все, фабрики, магазины, учебные заведения. Но радость и оживление в столице были необычайные. Наталья Михайловна телефонировала друзьям мужа. Разговор о впечатлениях был тоже бестолковый и восторженный. Люди без всякого стеснения говорили по телефону о таких вещах, о которых прежде в тесном кругу разговаривали, понижая голос. Друзья Николая Петровича принадлежали преимущественно к либеральному лагерю. Однако, так же восторженно высказался о событиях консерватор Артамонов, считавшийся «несколько правее октябристов». Он еще больше волновался, чем другие.
— Что? Болен? — кричал он по телефону. — Ну, разумеется, пустяки… События-то каковы, а? Давно пора убрать всех этих швабов и германофилов!.. Что?.. Сердечно поздравьте Николая Петровича… Как с чем?.. Уберем господ Штирмеров и всем народом дружно возьмемся за войну… Да, впряжемся с новой силой!.. Армия должна сказать свое слово… А?.. Что?.. Кто говорит?
Наталье Михайловне помнилось, что Штюрмер ушел и что у власти находятся люди с русскими фамилиями. Но желание понять происходившие события, как патриотический бунт армии против германофилов, было, видимо, слишком сильно в Артамонове. В эту минуту с ним соединили кого-то еще. Наталья Михайловна услышала новый взрыв восторженных речей Владимира Ивановича. Она повесила трубку и радостно пошла передавать поздравления мужу.
Все было бы хорошо, если б не Витя. С ним с утра произошел неприятный разговор, и от атмосферы предыдущего вечера осталось немного. Наталья Михайловна решительно заявила, что только сумасшедший человек может в такое время выходить на улицу. Витя не менее решительно ответил, что, если все так будут рассуждать, некому будет вести борьбу.
— Обязанность каждого гражданина приобщиться к делу и принять в нем личное участие, — горячо сказал он.
По существу Наталья Михайловна ничего возразить не могла, однако заперла на замок меховую шапку сына. Это не помогло. Витя, в последние месяцы отбившийся от рук, ушел из дому тайком в летней шляпе. Николай Петрович, в ответ на страстную жалобу жены, сказал ей, что понимает сына, — Наталья Михайловна только махнула рукой. Впрочем, теперь поблизости от их квартиры стрельбы не было слышно, и это ослабляло ее тревогу. Но телефон приносил все более грозные известия. В разных частях города действовали пулеметы. Некоторые, приукрашивая, даже говорили: «идут бои» — совсем как в сообщениях ставки. К удивлению Натальи Михайловны, почти все знакомые, к которым она звонила за сведениями, оказывались у себя дома. Позвонила она и к Кременецким, и оттуда ей, в том же тревожно-восторженном тоне, сообщили новости, шедшие прямо от князя Горенского. В войсках настроенье явно сочувственное Государственной Думе, ждут с минуты на минуту их перехода на сторону революции, — Наталья Михайловна тут впервые услышала, в применении к происходившим событиям, слово «революция», брошенное твердо, как самое естественное.
— Ну, слава Богу! — сказала она и поделилась с Тамарой Матвеевной своей тревогой. Узнав, что Витя ушел из дому, Тамара Матвеевна, воплощенная доброта, ахнула.
— Но как же вы его отпустили? Господи!.. Все сидят дома… Я…
Тамара Матвеевна чуть не сказала, что она утром прямо вцепилась в Семена Исидоровича, который рвался в Государственную Думу. «Именно теперь ты должен беречь себя… Теперь такие люди, как ты, особенно нужны России!» — сказала она мужу. Семен Исидорович уступил, но почти не отходил от телефона, беспрерывно сносясь с известнейшими людьми столицы.
— Да что же можно было сделать? Он тайком удрал… Ошалел мальчишка, не в чулан же было его запереть! — сказала в отчаянии Наталья Михайловна, тревога которой опять усилилась от слов Тамары Матвеевны.
— Ну, Бог даст, ничего не случится. Но когда он вернется, заприте вы его и не выпускайте. Это безумие!..
— Милая, — умоляющим тоном сказала Наталья Михайловна, — я ему велю позвонить вам. Скажите вы ему, ради Бога!.. Пусть ему Муся скажет, она имеет на него влияние… Спасибо, родная. Ну, прощайте… Господи!..
Витя опять вернулся вполне благополучно и даже победителем, но вид у него был измученный и потрясенный, хоть торжествующий. На этот раз он принимал участие в огромном уличном митинге на Невском Проспекте, у здания Городской Думы. На митинге этом произносились такие речи, от которых, в передаче Вити, у Натальи Михайловны остановилось сердце. Появилась полиция. В толпе запели одновременно «Марсельезу» и «Вихри враждебные». Произошло столкновение. Откуда-то раздался выстрел, и тотчас затрещали пулеметы. Все бросились врассыпную. На глазах у Вити свалилось несколько человек. Витя весь дрожал, рассказывая, хоть старался спокойно улыбаться. Он подумывал о том, чтобы обзавестись оружием; у него даже был на примете револьвер, «правда, не браунинг и не парабеллум, а смит-вессон, но хороший и большого калибра». Наталья Михайловна с ужасом слушала сына. Теперь ей все было безразлично, лишь бы кончились такие дела и вернулась спокойная жизнь. Она сказала Вите, что Муся Кременецкая звонила по телефону и просила ее вызвать. Витя немедленно это сделал. Муся подошла к аппарату, выслушала его рассказ и прочла ему наставление.
— Да, да, если вы хоть немного обо мне думаете, — сказала она и тотчас поправилась, — о нас всех, о ваших родителях… Вы уже исполнили свой долг и довольно. Сделайте это для меня, Витя, если вы не думаете о себе.
Необыкновенно тронутый и взволнованный ее словами, Витя обещал больше не выходить из дому, пока все немного не успокоится. «Нет, ничего с Клервиллем не было», — подумал он, и душа его зажглась радостью. Он сдержал слово. На улицах пальба грохотала день и ночь. В соседнем доме разгромили квартиру какого-то генерала. Об этом, с тем же торжествующим, даже несколько вызывающим видом, рассказывала господам Маруся. Однако в доме Яценко стало спокойнее. Николай Петрович встал с постели и обедал с семьей. Обед был источником веселья. Подавали то, что можно было найти в кладовой, да еще в соседней лавке, открывавшейся иногда часа на два: шпроты, «альбертики», ветчину, варенье.
Затем стрельба ослабела. Стали приходить приятели, знакомые; среди них были и такие, фамилии которых не помнили хозяева. Зашел нотариус, живший в первом этаже дома, никогда до того у них не бывавший. При встрече люди поздравляли друг друга и обнимались, точно это был какой-то вновь установленный обряд. Сначала это показалось Яценко странным и неестественным; потом он привык, первый обнимал друзей и чуть не обнялся с нотариусом. Николай Петрович был совершенно здоров и собирался выйти, но не знал, куда отправиться: о службе не могло быть речи, идти «в гости» не хотелось.
Поздно вечером Яценко сказали по телефону, что горит здание Суда. Это столь неожиданное известие потрясло следователя. Он немедленно надел шубу и вышел на улицу, несмотря на протесты и просьбы Натальи Михайловны.
XVIII
Стрельба затихла. На улицах было оживление необыкновенное. Толпы народа валили с Невского по Литейному, по Надеждинской, по Знаменской. Шли и по мостовой, хотя было достаточно места на тротуарах. Яценко вглядывался в проходивших мимо людей и не узнавал петербургской толпы. Одни шли, как на сцене статисты во время победного марша, другие — так, точно неслись куда-то на крыльях. Восторженное волнение выражалось на всех лицах. У многих было даже молитвенное выражение, которое показалось Николаю Петровичу неестественным. Он был человек чрезвычайно искренний и не мог оставаться долго в состоянии фальшивых чувств.
Вид этой толпы немного изменил настроение Николая Петровича. События по-прежнему переполняли его душу радостью, но уже меньше, чем дома. Он еще неясно сознавал эту перемену и несколько ее стыдился. «Нельзя быть впечатлительным, как нервная дама! — сказал себе Яценко. — Все радуются освобождению страны и совершенно правы. Сбылась мечта декабристов, мечта десятка поколений… Но все-таки что-то не то… Вот и после взятия Перемышля такая же была радость на улицах — искренняя и не совсем искренняя… Собственно настоящий восторг может быть только от событий личных», — нерешительно подумал он. Загораживая дорогу Николаю Петровичу, два человека заключили друг друга в объятия. Он раздраженно на них взглянул, пытаясь короткими шажками обойти их то справа, то слева.
— … Да, как же, у казарм войска братаются с народом! — восторженно сказал господин в котиковой шапке, — я сам видел!..
— Господи, неужели это окончательно? Довелось же дожить!.. Из тюрем выпустили узников, которые там томились…
«Как однако неестественно стали говорить люди, — подумал Яценко, проходя. — Разумеется, прекрасно, что войска отказываются стрелять в народ, но „братаются“!.. Как это делают? Что такое „братаются“?» — Он едва ли не впервые услышал тогда это слово.
Казачий отряд проехал легкой рысью, разрезая проход на улице. Отшатнувшаяся к тротуарам толпа смотрела на казаков с тревожным чувством, как бы еще не выяснив своего отношения к этому явлению. У казаков вид был тоже странный, чуть растерянный и вместе молодцеватый более обычного, — словно и они еще не решили, что нужно делать: не то брататься с толпою, не то взяться за нагайки. Николаю Петровичу показалось, что и то, и другое одинаково возможно. Казаки свернули в боковую улицу и скрылись. Все вздохнули свободнее. «По Литейному, пожалуй, не пройти, — сказал себе Яценко, — надо выйти на Шпалерную… Не может быть, однако, чтобы сгорел суд…» Он думал о своей камере, о делах, о документах. Вдруг впереди раздались рукоплесканья. В одно мгновенье они распространились по улице и смешались с криками «Ур-ра»!.. Справа медленно выезжал грузовик с красным флагом. На нем сидели и стояли солдаты в ружьями в самых странных позах: свесив ноги как с телеги, на коленях, на корточках, во весь рост. Высокий солдат стоял на грузовике, приложив ружье к плечу, несколько прищурив глаз. Рядом с Николаем Петровичем молодые люди с яростью аплодировали изо всей силы и что-то ревели. Яценко вдруг хлопнул раза два в ладоши, — на нем были толстые ватные перчатки, аплодировать было невозможно, но и этого случайного поступка он потом себе долго не прощал. Грузовик проехал к Невскому, мимо Николая Петровича прошло дуло ружья, — он невольно уклонился с неприятным чувством. Ему навсегда запомнился этот высокий скуластый и прыщеватый солдат с фуражкой набекрень, с пулеметной лентой через плечо; лицо у него было тупое, испуганное и злобное. «Нет, не то, не то…» — тоскливо подумал Яценко.
По Шпалерной пройти было легче. Николаю Петровичу попадались в толпе знакомые лица. Весь Петербург высыпал на улицу. Яценко шел довольно быстро. Волнение его все усиливалось по мере приближения к Суду. Вдруг он снова услышал впереди крики «ура!» К нему приближался странный шатающийся огонь. Николай Петрович увидел молодых рабочих, бежавших по мостовой с факелом. У факела, подняв левую руку и оглядываясь по сторонам, неестественно-большими шагами шагал человек в тулупе; в правой руке он держал обнаженную саблю. За ним толпа несла на плечах, с трудом поспевая за факельщиками, странно одетых людей, которые кричали и махали шапками, то неловко поднимаясь, точно в стременах, то хватаясь за плечи и шеи несущих. Процессия поровнялась с фонарем. Яценко остановился, — лицо его дернулось: среди людей, которых несли на руках, он узнал Загряцкого.
Суд, по-видимому, был подожжен давно. Здание горело изнутри. К небу валил густой рыжеватый дым. Мостовая была засыпана кипами бумаг, осколками стекол. На противоположном тротуаре Литейного стояла толпа. Но никто и не пытался тушить пожар. Здесь было тише, чем на прилегавших улицах. Одно из окон здания ровно светилось бледным светом. Там еще горела каким-то чудом уцелевшая лампа, — этот ровный свет не могли забыть люди, видевшие пожар Суда. На углу Захарьевской Николай Петрович увидел знакомых адвокатов: они озабоченно суетились около больших портретов, прислоненных к стене дома. Яценко, чувствуя слабость и дрожь в ногах, пробрался к углу и поздоровался со знакомыми. Здесь были Кременецкий, Фомин. Семен Исидорович молча, крепко и взволнованно сжал руку следователя. В нескольких шагах от них у фонаря неподвижно стоял Александр Браун. В глазах Николая Петровича скользнул испуг. Браун смотрел на пожар холодным, почти безжизненным взглядом.
— … Положительно злой рок преследует все творения Баженова, — говорил сокрушенно Фомин. — Вспомните Царицынский дворец или Кремлевский… В этом чудесном здании намечалось возвращение к нашему удивительному, еще не оцененному барокко. Я думаю…
— Ах, полноте, до того ли теперь? — сказал, морщась, Кременецкий. Оглушительный треск прервал его слова. Полуовальное окно второго этажа лопнуло, стекло повалилось на улицу. Семен Исидорович схватился за голову.
— Все-таки здесь прошла наша жизнь, — сказал он. Голос его вдруг дрогнул от искреннего волнения. Яценко увидел слезы в глазах Семена Исидоровича и почувствовал, что у него у самого подходят к горлу рыданья. «Да, здесь прошла наша жизнь… Может быть, и всему конец… Ведь это Россия горит! — подумал Николай Петрович. Пламя метнулось в окно, изогнулось, лизнуло фреску над овалом, изображавшую какой-то профиль. — Пусть же хоть дети наши будут счастливее, чем были мы!..»
Огонь вырвался наружу и охватил здание, стены, крышу, отсвечиваясь заревом в небе, освещая невеселый праздник на развалинах погибающего государства.
Примечания
1
Мосье, извините, что беспокою вас (фр.)
(обратно)2
опыт (лат. usus)
(обратно)3
Сделал тот, кому выгодно (лат.)
(обратно)4
Его превосходительство мосье Федосьев (фр.)
(обратно)5
«маленькие шалости» (фр.)
(обратно)6
Бремя доказательства (лат.)
(обратно)7
простите за выражение (фр.)
(обратно)8
здесь: менее значительных (лат.)
(обратно)9
Ему наплевать (фр.).
(обратно)10
Древняя история (фр.)
(обратно)11
платье-рубашка (фр.)
(обратно)12
ради Бога (фр.)
(обратно)13
модель (фр.)
(обратно)14
Ровно девять часов (фр.)
(обратно)15
Профессиональная тайна (фр.)
(обратно)16
Это хорошо звучит (фр.)
(обратно)17
кожа бархатная (фр.)
(обратно)18
кожа атласная (фр.)
(обратно)19
я очень рад (фр. enchant)
(обратно)20
Позвольте
(обратно)21
Вам трудно угодить, князь
(обратно)22
Для чего? Каким образом? С чьей помощью? (лат.)
(обратно)23
право на неприкосновенность личности (лат.)
(обратно)24
венецианских кружев
(обратно)25
О вы, цветы, благоухающие нежно, повелевает вам раскрыться моя проклятая рука
(обратно)26
страсть
(обратно)27
Весьма очаровательная девушка, действительно (англ.)
(обратно)28
Ворота Фонтанки (англ.)
(обратно)29
Варвикский замок — средневековый замок в Англии, место преступлений; Холирудский дворец — в Шотландии, там был убит любовник Марии Стюарт
(обратно)30
Формалин (фр.)
(обратно)31
не больше, не меньше! Между нами говоря, я облапошил этого господина (фр.)
(обратно)32
Великое «может быть»
(обратно)33
Николай-он — псевдоним Н. Ф. Даниельсона (1844–1918) писателя-экономиста, переводчика и популяризатора «Капитала» К. Маркса
(обратно)34
«Если это и неправда…» Полностью итальянская поговорка такова: «Если это и неправда, то хорошо выдумано»
(обратно)35
борец за существование (англ.)
(обратно)36
диванные валики (фр.)
(обратно)37
глубокое кресло (фр.)
(обратно)38
остаток (лат.)
(обратно)39
был окрашен (древнегреч.)
(обратно)40
Хорошо, я не настаиваю (фр.)
(обратно)41
старо (фр.)
(обратно)42
Я и Оно (нем.), чистое Я (англ.), меняющиеся личности (фр.)
(обратно)43
Вот уж скандал, так скандал (фр.)
(обратно)44
лосьон
(обратно)45
поставщик мелких удовольствий (фр.)
(обратно)46
Она презабавна (фр.)
(обратно)47
мою незначительность (нем.)
(обратно)48
Браки заключаются на небесах (фр.)
(обратно)49
Вино, женщины и песня (нем.)
(обратно)50
Конченый (фр.)
(обратно)51
Она хорошо осведомлена (фр.)
(обратно)52
Столкновения между интересами правосудия и принципами высшей политической полиции действительно иногда происходили в России (как и в других странах) и порою приобретали чрезвычайную остроту. Департамент полиции строго стоял на том, что он и в случае такого столкновения не должен выдавать своих сотрудников. Полковник Мясоедов (впоследствии столь известный, благодаря дуэли, процессу и казни) был в свое время уволен в отставку за то, что счел возможным на суде сообщить о принадлежности какого-то лица к охранному делу. Бывали и редкие исключения. Так, например, в пору процесса Бейлиса, после долгих колебаний, после доклада министру внутренних дел, Департамент Полиции разрешил начальнику киевского губернского жандармского управления заявить на суде, что Махалин, один из важных свидетелей по процессу, в свое время состоял секретным сотрудником охраны (начальник жандармского управления, однако, этого не сделал). Слова "розыскные офицеры, в смысле выдачи сотрудников, были воспитаны в том, что эта тайна должна умереть вместе с ними: они не могли ее открыть" принадлежат одному из самых выдающихся представителей политической полиции России, с которым, впрочем, не имеет ничего общего Федосьев, фигура полусимволическая и вымышленная (как все действующие лица романа "Ключ").
Принцип безусловного хранения такого рода тайн, по-видимому, проводится органами высшей политической и военной полиции при любом государственном строе. Ему одинаково следовали и Третье отделение, не опубликовавшее записки Бакунина (хотя оно, конечно, могло нанести весьма тяжкий моральный удар знаменитому революционеру), и республиканские власти Германии, они, как известно, до сих пор ничего не сообщили о сношениях некоторых большевистских вождей с немецким генеральным штабом во время войны (хотя опубликование соответственных документов могло бы быть весьма выгодно германским правящим кругам). (Автор.)
(обратно)53
омары «Термидор», паштет из гусиной печени, мороженое со взбитыми сливками (фр.)
(обратно)54
«Скучища!» (фр.)
(обратно)55
здесь: обольщения (фр.)
(обратно)56
сорт сигар (англ.)
(обратно)57
совершенное убежище (лат.)
(обратно)58
булочки с икрой (фр.)
(обратно)59
паштет из гусиной печени (фр.)
(обратно)60
Бесчеловечная девушка (фр.)
(обратно)61
Откройте сердца! (лат.)
(обратно)62
производят расчеты и наблюдения (нем.)
(обратно)

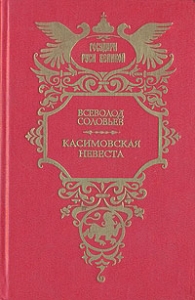
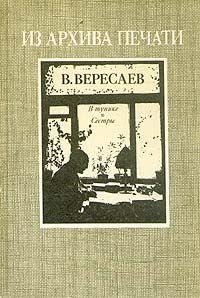
Комментарии к книге «Ключ», Марк Александрович Алданов
Всего 0 комментариев