Глеб Иванович Успенский
ЧУДАК-БАРИН
1
Вспомнив, что с этих неприветливых мест "пошла русская земля", невольно приходишь к убеждению, что древнейшему нашему прародителю-новгородцу, начинателю жизни на русской земле, действительно должна была прийти в голову мысль о необходимости призвания варягов, то есть начальства, которое своими мероприятиями давало бы какое-нибудь оправдание местному обывателю на существование в такой трущобе, как лядина. В самом деле, представим себе древнейшего нашего прародителя-новгородца, ведущего беспрерывную и бесплодную борьбу с трясиной, "откуда есть пошла русская земля". Не приходили ли ему в голову примерно такие размышления: "спрашивается, зачем, на каком основании и вообще почему я обязан торчать в этой трущобе, воевать с комарами и вообще более или менее пропадать в болоте, в прутняке, в гари? Изза чего? Положим, что вот у соседей, у немцев, та же самая трясина и прутняк... Но я понимаю, что там совсем другое дело: там земля завоеванная; пришли чужие люди, забрали в руки все, обложили каждый лоскут данью. Это все попятно. Там, я понимаю, человек притиснут к стене.
Плати или убирайся вон! Не на воздухе же жить с семейством... Разумеется, будешь жить в трясине... Но здесь?!
(Новгородец восклицает почти в ужасе.) Зачем, из-за чего здесь?.. Нет здесь ни завоевателей, никто тебя по шее не гокит, никто тебя данью не опутывает; из-за чего ж все это мучение? Я понимал бы это безобразие, если бы меня, как немца, притиснул к этому прутняку какой-нибудь бесстыжий завоеватель. Разумеется, тогда бы жил, должен был жить, потому ничего не поделаешь... Но ничего этого нет, и... я не понимаю!"
Вот именно какое недоумевающее о самом себе существование и было причиною того, что в образованном ляднинском обществе того времени стала бродить мысль о необходимости введения в нашей стороне порядков, хотя в приблизительной только степени, по западноевропейскому образцу.
Если нет заправских завоевателей, которые бы приструнили нашего брата, "новгородского начинателя", на немецкий манер, то, очевидно, необходимо самим позаботиться об этом, самим установить нечто вроде завоевания. Нельзя сказать, чтобы расчет был плох; напротив, в нем видна значительная доля чисто русской сметливости, глазомера и вообще недюжинного ума. В Европе сначала - завоевание, потом - дань; у нас - прямо дань, а на завоевании прародители наши очевидно остались в чистом барыше. С тех пор до настоящего времени обитателю лядин есть чем отговориться, когда к нему пристанут с вопросом, зачем он торчит в этой трясине и из-за чего бьется?
- Подати, батюшка, - говорит он, - пода-а-ти!.. Подати надоть платить, из-за того и бьемся.. Недоимка!
И действительно, недоимки накопил лядинец сверх всякого вероятия.
Итак, если лядина обладает вышеописанными свойствами; если древнейший прародитель наш, новгородец, должен был призывать варягов только для того, чтобы они заставили жить и страдать в этих трясинах; наконец если в настоящее свободное время местные обыватели не хотят приобрести лядину и за половину той цены, которую они давали во время крепостного права; если, повторяем, все это так, то спрашивается: чем, какими резонами можно объяснить попытку какого-то чудака превратить это пустое место в нечто обитаемое? Какие резоны имел этот чудак начать постройку (и не кончить) большого двухэтажного дома в одной из этих трясин? Кого он хотел удивить, начав (и не кончив) копать в этой болотной трясине канавы, как известно, мгновенно зарастающие прутняком и всякой травой? Что, кроме величайших неудобств, имел в виду неизвестный чудак, пытаясь перекинуть через некоторые трясины довольно приличные мостики, так как выбраться из трясины на мост и затем уже с некоторой высоты вновь опрокинуться в трясину же ни крестьянину с возом, ни охотнику столичному, шаг за шагом пробирающемуся на тряской телеге в какой-нибудь откупленный для охоты уча-"
сток, не представляет ни малейшей приятности. И вообще что это был за чудак?
Такие мысли невольно должны приходить в голову как крестьянину, пробирающемуся на дровнях за дровами или за сеном в лес, так и столичному охотнику и всякому случайному прохожему, путь которого почему-либо лежит мимо покинутой, но, очевидно, очень недавно начатой, и притом в широких размерах, мызы, раскинутой в довольно глухой местности одной из лядин новгородских.
Мыза задумана в широких размерах: деревянный, двухэтажный с мезонином дом стоит недостроенный, очевидно брошенный своим владельцем; стекла в окнах нижнего этажа кой-где целы; во втором нет ни стекол, ни даже рам; в мезонине то же самое. Дом, надо думать, предполагалось поставить в саду, о чем свидетельствует повалившаяся в разных направлениях загородь. Новые в то время ворота стоят покачнувшись и перекосившись. Баня, людская просторная изба, сарай, скотный двор, погреб - все это ново, пахнет свежим лесом, носит следы недавнего струга, рубанка, пилы. Масса щеп вокруг дома также свидетельствует о том, что затея поселиться в трясине - затея недавняя, и все это, несомненно стоящее больших денег, брошено, покинуто на произвол судьбы. На расспросы случайных посетителей извозчик или проводник из окрестных крестьян обыкновенно отвечают, что "хо-о-роший был барин... и - и, какой человек! одно слово - доброта, душа-человек! Не нажить такого барина и вовек!" А куда он исчез, этот "хороший барин", никто не знает. Рассказывали, что ушел в заморские земли... "И как ушел-то? Думали было, что в город поехал на день, на два, ан - глядь - вот уж второй год его нету, и посейчас неизвестно где"... Точно так же неизвестна местным обывателям и причина, почему барин нашел нужным бросить все добро, бросить такую кучу денег, уйти, не сказав ни слова знакомым мужикам, которые "оченно и премного барином довольны были и завсегда"
и т. д.
И затем, если бы случайный посетитель пожелал разузнать о барине что-нибудь поподробнее, то ему сообщили бы множество фактов, доказывающих необыкновенную доброту и простоту (похвальная сторона этого последнего качества в устах крестьянина имеет весьма сомнительное свойство), но решительно ничего в объяснение причин появления его в этой трясине. Расскажут вам для характеристики барина: "Уж и добер только был человек, на редкость даже!.. Ценой не скупился: вперед давал, сколько хошь, - по сту, по двести рублей, и по триста давывал, работой не неволил... Бывало, как лес чистили, часика с два потукаешь топором, дерев с пяток свалишь, уж бежит: не устали ли, мол, ребята? Водки тащат, закуски - пей... Это, например, чай с сахаром за всякое время пей, сколь хошь! Внакладку пивали, сказать ежели вам по совести, истинным богом...
всей артелью человек в тридцать внакладку - пей! Ничего!
Никаких вредов не делал... Это уж что говорить!.. Иди ты, братец мой, к нему в полночь - запрету нет, иди прямо - допускает без разговору, садись, пей чай али там вино, кофей - это у него сделай милость, не опасайся!.. Скажешь: "А что, Михал Михалыч, хотел я у вас увспросить, коровенку хочу..." - "Много ль?" И сию минуту даст, ежели есть, а ежели нету - "вот, говорит, съезжу в город, привезу..." И верно!.. Одно слово, барин был добреющий, худова слова даже ни единого разу не сказал; а надо говорить уж правду, случалось, с им худо поступали, что греха таить!.. И верно, как ему уйти, народишко-то вокруг него малым делом поиспортился... Бывало так, что только топором стучит об дерево, а рубить не рубит. Стучат пострелы по пням, а потом идут расчет получать. И платил и вперед давал. До чего баловство проникло например, что Мишка - вот тут есть мальчонка - так тот, постреленок, бывало, в людской сидим, чай пьем, набьет себе в чашку кусков восемь, а то и десять сахару, сидит в шапке перед образами, да еще и на стол, с позволения сказать, садился!
Истинным богом, садился, вот до чего их обуяло! А иной и совсем худо делал. Даст ему Михал Михалыч сотельную:
"Поди, мол, хошь там Микита или Егор, разменяй, мол, бумагу-то, да кстати, отдай тому-то, либо тому..." - "Слушаю", - скажет и пойдет, да, вместо того чтобы отдать кому приказано, приходит назад и докладывает: "Уж вы меня, Михал Михалыч, не браните: я деньги ваши истратил, купил себе тесу или там лошадь, корову; уж вы меня поставьте на работу, я вам отслужу". И то не серчал. "Ну что ж!" - только всего и было от него... Вот какой был человек!.. Ну, а как стал он мало-маленько хмелем зашибать - ну уж тут с ним стали орудовать, надо сказать, прямо не по-хорошему... Во хмелю-то хоть раздевай его. Плачет, а с него счищают деньгу-то: охотников-то у нас на эти дела, господин, весьма предовольно!.. Я так думаю, что должно быть, что капиталу он своего решился в наших местах оттого и ушел. А уж этакой был барин!.. Не нажить такого барина нам, нет, не нажить! Под конец-то он чего-то уж больно затужил, выпьет, бывало, - и крепко иной раз выпивал, - и зальется, а с чего - не сказывает..."
И если бы случайному человеку захотелось узнать, "с чего же это он грустил так", то местный обыватель не нашел бы, что ответить, или ответил бы что-нибудь вроде:
"А господь его праведный знает... Капиталу своему, может, сожаление было али что-нибудь, какие прочие предлоги, - неизвестно нам это. Господь его ведает!"
И ничего более местный обыватель и даже очевидец не сообщит о чудаке добром барине. Анекдотов об этой доброте, разных случаев, в которых она выказывалась, сообщат многое множество; но все эти сведения нарисуют пред вами только фигуру барина, правда доброго, но вообще человека не нарисуют. Источник доброты, этой чудачливой панибратской обходительности барина с крестьянами, этой заботливости о том, "что, мол, не устал ли", наконец источник этого невозможного равнодушия к деньгам - все это для местного обывателя и даже очевидца объясняется именно барскими, отличающими барина от мужика, свойствами.
Барин может так чудачить, куралесить, барин волен куралесить на такой образец, как пожелает: на то он не мужик, а барин, на то у него и денег много.
2
Несколько лет тому назад совершенно случайно пришлось нам познакомиться с этим, отсутствующим теперь в неизвестности, добрым барином, Михаилом Михайловичем, и теперь иной раз, сидя на крыльце его мызы (приведенной в порядок одним моим знакомым) и толкуя с обывателями обо всякой всячине, до некоторый степени могу себе представить поистине трагическое состояние духа, в котором должен был находиться добрый Михаил Михайлович...
Добрый барин! Что может быть ужаснее для человека с его направлением мыслей! Он, в ту пору молодой, двадцатипятилетний барчонок, только что оставивший университетскую скамью, приехал сюда вовсе не для того, чтобы величаться капиталами, барством и довольствоваться всеобщим раболепием. Для охотников ко всему этому есть другие поприща, а не лядинская трущоба. Он явился здесь именно в уверенности, что он порвал связи как с своим семейством, так и с городским обиходом жизни, с своекорыстным употреблением своего капитала, знания и т. д. и т. д. Все это он бросил позади себя и явился нарочно в трущобу, в бесплодное, дикое место, где человек терпит, нуждается, бьется... Михаил Михайлович пришел сюда с тем, чтобы "на новом месте" совершенно по-"новому" начать жить, жить так, чтобы каждый кусок, который попадает ему в рот, не пахнул чужим трудом, чужим пбтом. Он пришел трудиться наравне со всеми, как равный в правах и обязанностях, спать вместе с другими на соломе, есть из одного котла, а деньги, как нажитые общим трудом (так был М. М. в этом глубоко уверен в то время юношеских фантазий), должны быть достоянием той кучки людей, которая должна была образоваться как из крестьян, так и из искренно разорвавших с прошлым интеллигентных людей. Что среди крестьян он непременно отыщет людей, которые всецело не только поймут, но еще и разовьют его мысли, - в этом он был совершенно уверен. Крестьянин - это одетый в полушубок живой памятник всего, чего не упишешь в двадцати шести томах истории Соловьева. Мало того: в то прекрасное время к фигуре крестьянина как-то невольно примыкало, кроме двадцати шести томов Соловьева, еще вс? мучительно передуманное и пережитое европейскою жизнью.
Сообразив все это и соединив все так безобразно-трудно пережитое человечеством в лице крестьянина, которому, наконец, настало время вздохнуть свободно, Михаил Михайлович не мог не подозревать, что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов, - должен, непременно должен питать ненасытную жажду устроить жизнь по-новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дождется, он страстно хочет вздохнуть полной грудью.
Пред этим величием Михаил Михайлович - пигмей; он ничего не имеет права желать, как только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знание, труд. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Он пришел униженным и смиренным работником. Так Михаилу Михайловичу казалось. . Он готов был простить всякую грубость, невежество, всякую неприятность со стороны его народных сотоварищей; он знал, что иначе не может быть, что не из чего выработаться было тонкостям и деликатностям; он был готов все простить и все претерпеть... Но, увы! - народ никаким образом не мог простить Михаилу Михайловичу ни капли из прошлого, потому что прошлое было крепостное, - как не мог забыть и своего крепостного прошлого.
Этот крепостной опыт крестьян - с одной стороны, и с другой - то, что Михаил Михайлович был ведь в самом деле барин, и сокрушило и планы и деньги Михаила Михайловича без остатка.
Да и какие бы другие представления мог иметь только что вышедший "из крепости" крестьянин о людях, подобных Михаилу Михайловичу? Разве было что-нибудь и когда-нибудь подобное? А что Михаил Михайлович - барин, это местный обыватель заключил по тысяче мелочей, которые для Михаила Михайловича казались ничтожными, не имеющими никакого значения в таком серьезном деле, как то, за которое он брался. Уж одно то, что он приехал в деревню со станции в тарантасе, а не пришел пешком с котомкой за плечами и босыми ногами, не попросил христа ради испить, - уж это доказывало, что он не мужик. Он щедро дал на водку, дал столько мелочи, сколько попалось в руку в кармане, - "и карьера его была решена!" А когда к Михаилу Михайловичу стали приезжать его приятели, всё люди простые, честные, добрые, тогда местные обыватели, нимало не сомневавшиеся в том, что люди эти - господа, окончательно убедились еще в том, что они и добрые. Один послал за газетой на станцию и дал рубль серебра за хлопоты - заработок небывалый и новый, что немедленно же убедило обывателей в доброте господ и в том, что они - чудаки.
Вот почему рассуждения Михаила Михайловича и его приятелей о том, зачем они сюда приехали, что будут делать и как это выгодно и прекрасно для всех, как это все справедливо и т. д. - местные обыватели не только не понимали, но не желали понимать. Пожелай они - поймут отлично; вся задача в том и состоит, чтобы пожелать! Но они считали своим долгом поддакивать. Своему брату или вообще человеку, который бы пришел с деньгами в эту трясину и объявил бы, что он хочет здесь жить и кормиться, они бы прямо сказали: "ступай отсюда, пропадешь!"
Но раз перед ними барин с деньгами и с своей повадкой (фантазии Михаила Михайловича не более как повадка), то дело другое: тут только "потрафляй". Вот почему рассуждения Михаила Михайловича, рассуждения, которых крестьяне даже не считали нужным внимательно выслушивать (хотя делали самый внимательный вид), получили от всех их полнейшее одобрение.
- Ведь и эта земля, которая вот, кажется, никуда не годится, ведь она посмотрите какая будет, если сделать вот то-то и то-то.
- Это уж само собой! Этой земле цены не будет! Одно слово...
- Вот я вам расскажу, - робко начиная поучать, говорил Михаил Михайлович, - например, в Америке...
И рассказывал историю какой-нибудь американской общины, которая на безлюднейших местах сумела развести цветущие довольством поселения, и только благодаря знаниям и определенности цели.
- Цель... вот главное.
- Само собой! Это уж первым долгом!
Словом, какие бы невозможно-идеальные, фантастические идеи ни развивал в это время Михаил Михайлович перед местными обывателями, все они без исключения принимались последними без малейшего протеста и возражения и всегда, напротив, с величайшим одобрением: "само собой!", "Чего лучше?", "Первое дело!", "Первым долгом!"
Если бы Михаил Михайлович в это время не был помешан на своих фантазиях, то он и теперь уж мог бы услышать из уст своих крестьян-сотоварищей (так он думал)
нечто, потрясающее все его иллюзии. Так, одобряя и соглашаясь, некоторые из крестьян проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь вроде: "мы завсегда хорошим господам с охотой готовы... Что наших сил... Для господ". Но Михаил Михайлович в эту пору никого и ничего не слыхал, занятый новым делом, как и мужики не слышали, что он толкует, занятые своим старым. Он полагал, что все рассуждения - сущая правда и неопровержимы, и мужики думали, что они ловко потрафляют барину, поддакивая, - и не ошиблись. Барин оказался - "рубаха!".
3
Начав общее дело с взаимного и совершенно основательного нежелания слушать друг друга, добрый барин и добрый мужик так это дело и продолжать стали. Барин "гнал свою линию", всячески угождая мужикам и относясь к ним с полным почтением; мужики погнали свою линию, также всячески угождая барину и относясь к нему с полным почтением. Все это, говоря обывательским языком, произошло в полной мере "само собой!". И не прошло трех-четырех месяцев после того, как Михаил Михайлович вступил во владение лядинской пустыней, как однажды, проснувшись утром в наскоро сколоченном мужиками сарае, не без некоторого ужаса почувствовал, что в его житье-бытье чтото неладно...
- Канавы прикажете, Михаил Михайлович, гнать аль мосты наводить? спросил его крестьянин, сняв шапку.
Михаил Михайлович молчал.
Он был поражен.
"Что ж это, - думал он: - ведь я, кажется, приказываю... командую..."
Однако, собравшись с духом, он все-таки отдал какое-то приказание. Но, поднявшись с сена, на котором спал, наскоро напялил рваное пальтишко, в котором ходил по приобретенной трясине, грязные сырые сапоги, вытащил из-под подушки и надел на голову смятую шляпу и почему-то немедленно уехал в Петербург.
Недели две он бегал по петербургским приятелям, не замечая своего странного костюма и грязи, толстым слоем лежавшей на лице и рубахе, и предаваясь все это время непрестанным разглагольствованиям, причем обсуждалась на тысячу ладов справедливость делаемого Михаилом Михайловичем дела. Уже в это время его начинали одолевать припадки острой и мрачной тоски. Думает-думает, остановится на улице с вытаращенным неподвижным взором, постоит и, как сонный, войдет в портерную, спросит кружку, выпьет, спросит другую-третью и не замечает, что его одолевает хмель...
Так он долго промаялся в Питере; но когда воротился в трясину, то был уже не тем, чем в первый приезд. Он уже не разглагольствовал, убедившись, что его не слушают; он уж не панибратствовал, убедившись, что в братья мужику он не годится, хотя и продолжал вместе спать и вместе есть. Длинным рядом всевозможных рассуждений о своей задаче он пришел к тому, что только пример, результат видимый, осязательный, доступен будет пониманию теперешнего крестьянина и научит его лучше всяких многословных рассуждений. Стало быть, надо не разглагольствовать, а взять все дело на себя, на свою ответственность.
Теперь роются канавы, осушаются сырые места; но когда будет, назло всем преградам, получен первый урожай, словом - когда получатся плоды трудов и знаний, Михаил Михайлович на деле покажет, что значит справедливость.
Теперь же он просто будет "пока" распоряжаться.
Решив так, Михаил Михайлович почувствовал себя спокойнее, да и, в самом деле, отношения сделались между ним и мужиками естественнее. Он стал приказывать, а они стали исполнять. "Рой тут канаву!" - скажет Михаил Михайлович и уж не разглагольствует о будущем благополучии, а молчит и молча думает: "потом сами увидите, чтб это значит!" Став на эту точку, он уже начал отвыкать от сплошного взгляда на весь толкавшийся вокруг него народ; он уже не мог смотреть на всех них одинаково, как смотрел еще недавно, полагая, что пред ним в каждом полушубке ходят все двадцать шесть томов истории Соловьева, а стал различать в одном экземпляре двадцати шести томов - хитрость, в другом - глупость, в третьем - самодурство, в четвертом - ловкость, понятливость и ум.
Появились, таким образом, любимцы, приближенные, доверенные.
Таким образом, если уж в то время, когда Михаил Михайлович был пред мужиком тише воды, ниже травы, если, повторяем, и в то уже время в нем нетрудно было разыскать и рассмотреть барина, барскую повадку, то теперь-то и подавно. Полагая, что он только временно, так сказать, надел на себя шкуру барина, Михаил Михайлович незаметно, в силу того же, что он был барин в самом деле, стал сбиваться с равноправной ноги, и воспитанное долголетним прошлым барство стало, сначала понемногу, выступать в его уме, и сердце, и душе, а потом и очень скоро вылилось во всей своей прелести.
Вместе с тем, по мере того как в Михаиле Михайловиче стал проступать уж неприкрашенный барин, в крестьянине (который, просим не забывать, только что вышел из крепости) стал навстречу барину выступать неприкрашенный раб.
Барин начал повелевать, а крестьянин принялся его надувать.
Началась самая утонченная борьба двух естественных врагов, и надо отдать мужикам справедливость - молодцы они в этой борьбе. Лаской, угождением, потрафлением, предупреждением еще не родившихся, но имеющих рано ли, поздно ли родиться желаний, вот как они, и самые талантливые из них, принялись действовать...
У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше праздного времени, ему становилось все легче и беззаботнее, точно кто по-матерински заботился о нем. Он даже лесть стал слушать как должное, поддался на похвалу, на удивление его уму, знанию. Неведомо как и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тут вокруг да около лебезить. И другая и третья...
4
Михаил Михайлович вновь очнулся, опамятовался и совершенно упал духом. Сначала, когда какое-то ничтожное обстоятельство заставило его прийти в себя, он мгновенно (барская привычка) ожесточился на мужиков. Все в них показалось ему отвратительным: и эти бороды и лица, но пуще всего эти улыбки, эти снятые шапки. "Холопье!" - возопил он всем нутром. Противными ему показались все эти: "Будьте покойны!", "Дело явное, чего лучше!", "Само собой!", "В аккурате!" и множество других ничего не значащих слов, которыми такой мастер отделываться русский человек, когда он не хочет ничего сказать или когда желает сказать не то, что думает.
Бывали у Михаил Михайловича минуты сурового ожесточения против всех и вся. Бывало так, что, ожесточившись решительно на всех толкавшихся вокруг него на работах и постройках людей, ожесточившись на всех огулом и на каждого поодиночке, Михаил Михайлович прекращал всякие приказания и распоряжения, упорно молчал, не давал ни на что никаких ответов. Тогда народ, толпившийся вокруг него, немедленно же начинал разбредаться; никому не было расчета терять минуты времени даром. Всякий знал: "понадобится пришлют", и, взвалив котомку на плечи, расползались по лесным тропинкам к новому заработку.
Но по мере того, как равнодушие этих разбредавшихся людей (лично к Михаилу Михайловичу, а не к заработку)
становилось все яснее и яснее, ожесточение его против этих людей ослабевало, а перспектива не сегодня, так завтра остаться одиноким в этой трясине - совершенно уничтожала в нем гнев и ненависть. Так же быстро, как и в начале хандры, ненависть его с мужиков переносилась на самого себя, а мужик, напротив, - начинал вырастать, вырастать...
в чем же? - в прямоте и правде... Начинало оказываться, что во всем поведении мужика, поведении, которое возмущало так недавно до глубины души, не было ничего, кроме самой сущей искренности и глубочайшей правды. Михаил Михайлович в эти минуты ясно видел собственную свою дрянность, гнилость, негодность, негодность во всех смыслах - в физической силе, в твердости убеждений, в силе мысли, в прочности нравственности и т. д. И во всем этом мужик несравненно выигрывал. Какое необычайное преимущество мужика пред ним уж в одном том, что цель его проста, мала - какая-нибудь коровенка, недоимка! Купить коровенку, уплатить недоимку, а сколько он тратит на это силы, не сердясь, не беснуясь, не хвалясь, не чванясь?.. Ему все простительно, он все из-за хлеба...
5
В такие минуты Михаил Михайлович мрачно пил и под хмельком ворочал мужиков назад, вновь пил "на мировую", под хмельком ехал в деревню в гости, вновь пил в гостях...
И тут уже с ним стали поступать без церемонии... Тут-то вот Мишутка сел под образа в шапке, наклал сахару в чашку доверху и на стол грозился сесть. В эту-то пору стали у него брать деньги почти из рук и почти без церемонии...
Не препятствовал Михаил Михайлович этому, убедившись, что другого назначения для него нет, как быть расхищенным на пользу ближнему...
"По-настоящему, - думал он, - надо бы просто послушать совета: отдай имение свое - и ступай!.. Бери, ребята, бери!.."
Он уж совершенно в это время не рассуждал и не фантазировал, а изрекал где-нибудь в крестьянской избе за бутылкой водки краткие изречения, вроде, например, следующего:
- Нет, ребята, мы с вами одного поля ягода... И много, много в вас и в нас разных блох крепостных сидит...
И долго-долго, ребята, выбивать из нас этих блох-то придется...
- Само собой! - откликается кто-нибудь на эту речь.
- Да перестань ты болтать черт знает что! - раздражительно восклицает Михаил Михайлович. - Ну, что это значит "само собой"? - какой тут смысл? Что значит "в аккурате", "к примеру", "первым долгом"? Зачем болтать вздор? Неужели, наконец, после всего, ты прямо не можешь сказать, что тебе от меня нужно? Корову? Лошадь? Тесу? Овцу? Телегу? Ведь непременно же что-нибудь подобное, а ты какое-то "само собой", а потом "в аккурате"... Чего тебе нужно?..
- Да лошадку бы точно что...
- Ну вот и прекрасно... а то "первым долгом", "в том числе". Еррунда!..
- Михаил Михайлович! - восклицает востроглазая солдатка, появляясь в избе. - Ты что ж солдатку-то забыл? Чего ж чайку-то не зайдешь напиться?
- Забыл? Нет, я зайду, непременно зайду...
- Ты думаешь, солдатке тоже пить-есть не надо?..
- Как можно! Я-то думаю?.. Что это ты?.. Отлично понимаю. Именно пить-есть...
- То-то, заходи, стало быть, в гости-то...
- Непременно... Тебе чего, тесу или чего?..
А уехал Михаил Михайлович потому, что денег у него не осталось ни копейки.
"Чудак-барин" - очерк из цикла "Непорванные связи". Первоначально очерк назывался "Непорванные связи", а весь цикл - "Из деревенского дневника". Впервые цикл опубликован у журнале "Отечественные записки" в 1880 году (No 9). В ходе работы над собранием сочинений Успенский дал название циклу "Непорванные связи", а очерку - "Чудак-барин".
Настоящий текст печатается по изданию: Г. И. Успенский.
Собрание сочинений в 9-ти т. Т. IV. М., ГИХЛ, 1956.


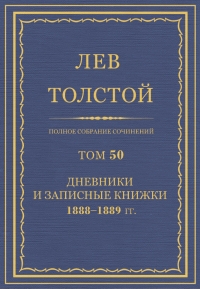

Комментарии к книге «Чудак-барин», Глеб Иванович Успенский
Всего 0 комментариев