Михаил Осоргин ЧУДО НА ОЗЕРЕ
ЗЕМЛЯ
I
Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку корельской березы, наполненную землей.
Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими: резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:
— Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.
И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.
Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:
«Ибо прах ты — и в прах обратишься».
Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом, в очень солнечный день из под снега показывается земля: в городе — раньше, в деревне — позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь грязное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем — и на утро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:
— Весна?
— Весна!
— Как сразу все стаяло!
— В одну ночь!
Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе — не так заметно.
Широкой полосой, от морей, надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где то в Европах (одним словом не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись — сразу за работу.
И тогда отец говорил:
— Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать?
Мышку об этом излишне спрашивать, разве что, так, шутя.
День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.
Сада у нас при доме нет, — да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она — коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластикус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь — так и останется, зарубцуется на всю зиму.
И отец говорит:
— Расстилай газеты.
Самая удобная газета была «Новое Время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных — две страницы. Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затхлая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно. А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей — и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами — отставляем в сторонку и любуемся.
— Готово. Считай, Мышка, — раз!
— Раз!
— Теперь давай второе.
— Два!
— Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай — два!
— Два!
Так понемножку, от герани и флексов, добираемся до фикуса и даже до пальм. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, — зовем маму.
— Смотри, мама, хорошо?
— Да, хорошо.
— Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.
— Да, — говорит мама, — и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.
Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:
К о-окнам, да, к окнам побли-и-же-е, Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!— Ну, Мышка, теперь бей в барабан.
И я весело колочу цветочными палочками по табурету.
Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!
Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц — в деревню поедем, в Загарье, на речке Егошихе.
Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке корельской березы. Мы — люди от земли, крепко с нею спаяны.
Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю — из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, конечно, не долго: осели на земле; одни жили близ Мурома в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их история начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабки, имена которых я соединил в своем.
Портрет прабабушки блистал не красотой, а строгостью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глубоком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собранным в складки черным крепом. Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли, — она смотрит в глаза пристально сурово и осуждающе.
И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И висел так, что его было видно через две комнаты — посередке стены. И вот однажды бабка моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует — беспокойно ей. Словно бы кто то стоит за спиной — а быть там некому. Наконец, не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шерсти на пяльцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты — как в ней обвалился потолок — и пяльцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.
Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бывает. Сколько раз — помню — разверзалась под моими ногами земля и сколько раз на голову рушилось небо, — и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым, — гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки, да вчера прочитанный приключенческий роман.
Прабабушкин портрет и у нас висел посередке стены, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало — глядишь на него издали — и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок. Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего — днем прабабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз, прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.
А вот бабку свою я знал живой, незадолго до ее смерти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, няньчившая моего отца и всех его сестер и братьев.
Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие, и были послабее, а одно кресло стояло в углу и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась, да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар» или «когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:
Ах, право, хуже оплеухи, Как, не видавшись тридцать лет, Найдешь в развалинах старухи Любви восторженный предмет. Ах, Маша, в прежние годочки С тобой встречались мы не так; Тогда ты нюхала цветочки — Теперь ты нюхаешь табак.И бабушка прибавляла: «Вот уж верно-то!».
Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанный местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка, вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Малашка тащит молоко утреннего удоя. После, читая Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:
— Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.
Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, — литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне неведомым предкам.
В первый же день приезда нашего она мне говорила:
— Проси отца свозить тебя в именье, посмотреть нашу землю. Земли то теперь мало осталось, все разделено, да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.
Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой, вскоре по приезде в родной город, внезапно заболел и умер.
Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:
— Папа, откуда берется дерево?
— Из семени.
— Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное то откуда?
— Остальное из земли, из ее соков.
— И листья, и ствол, и все?
— Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое, и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.
В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве, в дружном и свободном сожитии, ни из за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбовал на склоне горы между лесом и деревней: там была густа трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатую полянку: тут непременно быть скрытому роднику!
И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет:
— Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!
Отец на пути говорит:
— А ведь это клад и есть. Не было воды и вдруг — вода! И какая вода, — чистая и холодная, как лед. Правда, Мышка?
Уж значит правда, если это папа говорит. У него была улыбка, добрая и немного насмешливая.
Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:
— Быть тут ключу живой воды!
Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровненькую и аккуратную, как сразу же начала ямка наполняться водой, правда, грязной. Но эта сбежит — дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.
— Папа, а как ты угадал?
— Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.
— Нужно будет укрепить землю, — говорю деловито.
Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.
Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке не вкусная, и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой мути.
Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля, — и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслажденье родной природой.
Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом, на середине пути, было, а может быть и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:
— Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.
Кто он был — не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.
Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже сказал — мистическое ей поклонение, не к земле-собственности, а к земле-матери, — к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, — это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это — атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков, — то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по моему, производное от преклонения перед притягающей и плодотворной силой земли. Но не портретами и не бархатной книгой внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, беспрерывно твердя ему, что все человеческие достижения — не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба — подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки, — в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.
Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому неведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к небытию, — и так же чудесно и необъяснимо призовет меня обратно:
«Ибо прах ты — и в прах обратишься».
II
Признак чего — если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным воспоминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть — признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?
Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность, Пустяком представлялась детская книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года — и на кованой бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять — как в детстве — личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.
Склонившись над коробочкой из корельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли — всем земным шаром, и какая неудача постигла наивную попытку.
Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда то поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это беспрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слиняют. Я напрягаю зрение, протягиваю руку — и всей горстью хватаю пустоту; только вглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.
Я долго берегу ее, перекатываю на ладони, и ищу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.
* * *
В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многажды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще не мало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах — Петербург и Москва.
Совсем же близким именем, кроме имени родного города, было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.
Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.
Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.
Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, — хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания — до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивишь: он умеет ждать.
И вот я вспоминаю, как я пытался — и не без успеха — подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина, блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыханье вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.
Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнеприязни и молодого восторга со своего на не свое; усыновив себя остальным пяти-шестым земли.
Перед статуей Апполона Печального я говорил:
— Вот рождение искусства!
И, указывая на скаты Юнг-Фрау:
— Вот женственнейшая белизна снегов!
И переплыв Калэ:
— Вот колыбель и оплот политической свободы!
И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:
— Вот красивейшее в природе!
Верил сам и уверял других.
Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.
Они уезжали, — а я оставался наслаждаться чужими красотами.
В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионами жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в горах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.
В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами — и она невредимо подымалась и оживала. Надписи «воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:
— Как удается вырастить такую удивительную траву? Вероятно это требует длительного ухода?
Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что складка на брюках не портилась от лежанья на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:
— Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточны, если стричь траву аккуратно.
Это было по меньшей мере горделиво. И я вспомнил свою прогулку по восточной Ривьере Италии, где как то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно накопанную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком и шел обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:
— Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!
Год спустя, я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочна. У нас такую капусту считают неуродившейся и скармливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.
И вдруг мне представилась такая картина:
Я стою среди поля, где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.
Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбию итальянца.
И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот.
Нотр-Дам де Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале — и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая то невольная, я знаю — совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийскаго озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозовыми тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького европейского государства? Хребтом Царского в Якутии — о котором еще не слыхали европейцы? О, слишком многим!
Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:
— Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?
И мне нечего им ответить.
Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди, и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:
— Мы разно смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.
Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивленья. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишить меня радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.
И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егошихе.
Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.
На острове Мурано, близ Венеции, сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля.
— Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.
Мадонна, действительно, прекрасна. Я спросил:
— А вы видали других?
— Если бы не видал, — не смел бы говорить.
И он мне рассказал, как однажды кучка англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапливать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны — и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть он жив и по сей час.
Слушая его рассказ, я думал:
— Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых.
Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.
Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.
Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, наглядевшись на чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте, святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, — и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот, сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, — но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.
Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем — таков он и есть.
* * *
Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.
Но все эти образы — лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени молодых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо — стило найдено в ее недрах, чернила — ее продукт. Передо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все… отец был прав, говоря:
— Все из земли, Мышка, и живое, и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.
Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки и пригибают меня обратно к земле.
Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срастается с землею, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности — растущая тяга к земле и в землю.
Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем не родственного ей растения. Лист, унесенный ветром на чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.
Судьба человека — как старинный курган. В наших краях их было много по течению больших рек. В них, вместе с телом, клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский профессор показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:
— Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что наши предки, скифы, занимались земледелием еще в доисторические для нас времена.
Мы, студенты, по очереди склонялись над стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало почерпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.
В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все таки — вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.
Мы об этом редко думаем — да и стоит ли понапрасну себя тревожить?
Но ощущение будущей судьбы всего живого забегает вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке корельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, — чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи — к земле, — «Ибо прах ты — и в прах обратишься».
Св. Женевьева Лесов.
ПОРТРЕТ МАТЕРИ
Из старой женщины с грустными глазами, какою взяла ее смерть, она превращается для меня в девочку лет четырнадцати, изображенную художником на миниатюрном портрете: худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевой пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый ноготок виден особо.
Такою она была в институте в Варшаве. Она была там единственной русской, училась прекрасно, но окончила без шифра, «потому что во время мессы тянула кошку за хвост».
Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замяукала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской. Вероятно, это было для девочки большим огорчением, — мать вспоминала об этом всю жизнь. Когда я был маленьким, пятым в семье ребенком, я представлял себе странную картину: идет обедня, и кто то за стеной нарочно дергает за хвост кошку, чтобы не дали маме большого банта на платье (так представлялся мне шифр).
Институткой она осталась до конца жизни. Одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не видал ее непричесанной. Молилась она по книжечке, — хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжке: французским, немецким и английским.
Эта книжка, толстая, переплетенная в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и непотрепанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому — вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась, — и по английскому припоминались идиотизмы двух других языков; затем открывался текст немецкий.
Толстую книгу мать знала наизусть. Когда (очень редко в глухой провинции) ей приходилось говорить с французом, англичанином или немцем, она их поражала своим языком: они объяснялись попросту, разговорно, она же подавала реплики на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, а и писать уже перестали. С содержателем же колбасной, приходя за покупками, она говорила по польски; этот язык, знакомый с детства, она никогда не забывала: говорила на нём, как полька, и напевала на нем старинную песенку о месяце, заглянувшем к окошко.
— Легкий язык, — говорил мой отец, никогда в Польше не бывавший. — Отец — ойтец, мать — майтец, мыло — мыдло, было — быдло… А еще — не пепшь Петше пепшем вепша…
Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это не легко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, скарлатина, гимназия… Когда дошло дело до младшего, до меня, мать отлично знала не только геометрию, но и латинский язык. И в первый класс я поступил, обучившись у нее большему, чем должны были научить меня к концу первого года. Даже Цезаря немножко разбирал. И когда начали мы читать в классе: Gallia est divisa in partes tres. — заботами матери моей я уже давно знал, что это значит.
Но кроме латыни есть и арифметика. Уже одиннадцать часов, спать пора, — а третья задача из Евтушевского еще не решена. Мать только что кончила заниматься с сестрой, которая никак не могла запомнить названия полуостровов.
— Ну, Пиренейский же, Пиренейский, ты запомни: «перина», на которой спят. Повтори все полуостровы.
Сестра повторяет, — и опять забыла Пиренейский.
— Я же научила тебя, как запомнить. Ну на чем спят?
И кончиками губ шепчет моя сестренка:
— По-ду-шечный?
Сестра идет спать, а я все еще пишу напрасные палочки в тетради. Рядом со мной мать тоже решает задачку, шепча про себя: — 354 фунта, 8 лотов и три золотника картофеля помножить на 17 и 6 в периоде…
Ну за что мучат и ребенка и мать! Все-таки она решила, я переписал в свою тетрадку. Крестит меня, целует — иду спать и я.
А на другой день двойка за устный ответ. Спрашивали пустяк, а я не ответил, потому что голова устала от глупых этих цифр, от вечного сиденья над задачником. Мне горе, маме тоже грустно: смотрит глазами печальными. Ушел в свою комнату, опустился перед постелью на колени, голову уткнул в подушку, заплакал и заснул. Сколько буду жить — никогда не прощу своих слез сухому учителю арифметики: зачем мальчика мучил!
Проснулся оттого, что мать обняла за шею. Она тоже на коленях перед кроватью и тоже заплаканная. Слезы из детских и взрослых глаз, потому что так трудно помножить картофель на 17 и 6 в периоде, когда и другой зубрежки много, когда нужно еще запомнить, что Максимилиан Первый любил ходить на охоту, чтобы переплетать книги в кожаный переплет, и что город Брюссель славится своими кружевами. Так до самой смерти не перестану не любить педагогов; ведь это они выдумали и кошку за обедней в мамином институте!
Когда я родился, матери не было еще тридцати лет. Она вышла замуж семнадцати, значит почти такой, как на портрете: голубые глазки и тонкие, миниатюрные пальчики. Когда я надел фуражку гимназиста (с большой тульей и гербом), — мать все еще казалась молоденькой, только начала полнеть. Она смущалась и краснела от нескромных слов и кокетливо оправляла перед зеркалом волосы, без единого седого. Но жизнь в провинциальном городе была однообразна и скучна, а большая семья требовала вечных мелких забот. Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши — при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной — при порезах, теплым деревянным маслом — если стреляло в ухе. Когда детей пятеро — один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее — тоже идет за ребенка. Мало оставалось у матери свободного от забот времени. И вокруг ласковых голубых глаз появились тонкие морщинки.
Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу, или хоть поближе к центру, или, наконец, хотя бы на родину отца, где было бездоходное именье на реке Бугуруслане; хоть немного пожить бы, отдохнуть, — а там пусть опять служба и семейные заботы. Так мечтали двадцать два года. А сбылась бы мечта, — взволновались бы безмерно, не знали бы, как расстаться с насиженным местом, с привычками, с кругом знакомых, как приспособиться к новым местам.
Но мечта не сбылась.
Однажды весной отец получил отпуск, взял с собой меня, младшего, и поехал в родной город Уфу, навестить свою мать, повидать именье. По дороге, в Пьяном Бору, где пересадка с Камы на Белую, и где тогда приходилось целую ночь ждать на пристани парохода, отец простудился, а по приезде в Уфу, едва увидав родной город и старый дом моей бабушки, — слег и умер. Мать приехала, когда на уфимском кладбище уже стоял новый намогильный крест.
Семья стала маленькой (две сестры вышли замуж и уехали в Москву). Была приличная бедность: ели хорошо, а носили штопаное. Осталась кухарка Савельевна. По субботам мать ходила с ней на рынок. Заяц в шкурке стоил пять копеек, без шкурки — десять (снять шкурку — тоже работа). Близ города были леса — тянулись через Урал на тысячи верст. И стерлядка стоила пятачок (из кормилицы — Камы!). А вот ученье стоило дорого. Впрочем, доучивался теперь один я.
Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками, — целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза — разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышиванье, пасьянс. В перерывах брала из коробочки кедровый орешек, разбивала камушком и ела. Зубы стали плохи. Но утром, прежде всяких занятий, открывала институтскую книжку и шепотком повторяла старинные фразы — по-французски, по-немецки, по-английски.
— Зачем, мама?
— Ну, я привыкла. Может и пригодится еще.
А когда, уже студентом, я стал работать в газетах и летом секретарствовал в нашей провинциальной, — она переводила для меня статейки из иностранной почты и небольшие рассказы. И нечаянно я узнал, что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной. Откуда это — у институтки, всю жизнь прожившей в губернском городке Приуралья?
Теперь я видал мать только летом, когда приезжал из Москвы на каникулы (пароходом по Волге и Каме! Незабвенное время! Счастливые дни! Любимый кусок родины!). А как то приехал и зимой, нежданно: выслан был на родину за «защиту чести студенческого мундира».
Всплакнула мать, обнимая сына-героя:
— Ну, из за чего это вы? Лучше бы учились хорошенько. Вот теперь год и потеряешь.
— Нам не дают учиться, мама. Мы не можем допустить…
— Я знаю, милый, я читала, а все таки лучше бы сначала выучились, а уж потом… Твое дело, но ведь лишний год так трудно.
И посмотрела на мою папиросу:
— Вот ты все куришь…
Утром, вставши, вижу: беднее стало у мамы в квартире. Все старенькое. Сама, в черном старомодном платье, сидит за книжкой, передвигает закладку, шепчет английские фразы.
Был на третьем курсе. Написал матери:
«Пришли мне, пожалуйста, поскорее нотариальное разрешение жениться; оно нужно для представления в университет ректору, так как без этого не венчают. Я, мама, решил жениться. Моя невеста…»
Она ответила:
«Посылаю тебе разрешение. Что-ж поделать, если ты решил жениться, хотя, по моему, тебе рано. Лучше бы сначала окончил и устроился. Но дело твое, мой мальчик, я не противоречу; значит уж такая твоя судьба…»
На каникулы приехал и говорю:
— Свадьба моя отложена, мама. Может быть еще и не женюсь…
У нее радостно и хитро заиграли глазки.
— Как знаешь, милый. По моему тебе рано, ты еще совсем мальчик. Но как знаешь, делай, как хочешь. Если женишься — я полюблю твою жену.
Прожил дома лето. Нотариальное разрешение отдал матери обратно:
— Не нужно, мама.
— Я знаю; ты все получал письма. А ты бы, если уж суждено тебе жениться, женился бы на Катеньке.
Катенька была моим другом детства, любимицей матери; жила в нашем городе.
— Нет, мама, я вообще не собираюсь.
Перекрестила и отпустила опять в Москву.
Потом был девятьсот пятый год, коротенькая «эпоха свобод». И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией, чем практикой:
«Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал».
Она каждый день читала «Новое Время», ходила ко всенощной и к обедне и горько плакала (я это хорошо помню, хотя был тогда совсем маленьким), когда убит был Александр Второй. Он, царь-освободитель, был ее кумиром, может быть, потому, что мой отец был скромным участником крестьянской и судебной реформы Александра.
Теперь отца уже не было; был сын; и радость сына могла стать радостью матери. Она всю жизнь жила радостями и горестями мужа и детей.
Но «эпоха свобод» окончилась быстро. Мать знала, что мне грозит. Все равно ей не пережить бы этого несчастия; даже мысли об этом она, старенькая, пережить не могла.
И когда следователь в Таганской тюрьме, предъявив мне статью закона, которую я и ждал, начал официальный допрос: «Ваш отец? Ваша мать?..» — я ответил ему:
— Тоже умерла.
— Когда?
— Сегодня утром получил письмо.
Он посмотрел на меня исподлобья и смущенно выразил соболезнование.
* * *
Ни одного письма, ни одной строчки, писанной ее четким бисером, нет в моем архиве: все похоронено в архивах Охранки и Чека. Нет даже картонного квадратика, которым она закрывала текст институтской книжки и на котором записан был для памяти порядок пасьянсов:
Восемь королей.
Rouge et noir.
Горница.
Тринадцать.
Concordance.
Веер.
Взаимность.
Кадриль.
Марьи Павловны.
Для тасовки.
Мой.
Пока мог — я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями, погиб в скитаньях и при обысках.
Остался — чудом и дружеской услугой — только портрет работы польского художника, с пометкой «54 г.». Такой она была три четверти века тому назад: худенькой институточкой с тонкими прозрачными пальчиками.
И вот уходят из памяти черты лица молодой женщины и старухи. Но каждый день, когда смотрю на портрет в круглой черной рамке — освежается и укрепляется в памяти (уже навсегда) лицо девочки с голубыми глазами.
Когда смотрю — думаю;
— Я — сын этой девочки!
И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть счастливым, а может быть и не очень счастливым.
Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать:
— Я сын, или я — дочь этого мальчика в теплой курточке.
Никто никогда, потому что некому…
ДНЕВНИК ОТЦА
Отец! Прости мне это кощунство! Я перелистываю тетрадь пожелтевших от Бремени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки — и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием. Передо мной и твоя карточка — последняя, покойная: сложены руки, и голова ровно примяла подушку, окруженную гирляндой цветов. Я прикрываю бумагой твою седую бородку и узнаю в мирно спящем, в спящем на веки — себя самого: лоб, нос, надбровные дуги. Только спокойствие и серьезность — не мои, еще не мои…
Эта тетрадь, да миниатюрный портрет матери — все мое наследство; и я большого не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии 50–60 годов, две тени прозрачных душ. Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль моя не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все исчезнет.
Разве это — кощунство? Со всей силой любви и благодарности, — благодарности за жизнь, которую оба вы мне даровали, — я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и сумею вплести в венок вашей памяти. Простите же меня! Уже и до меня доносится холодок грядущего небытия, уже и на моих часах стрелка неумолимо близится к неведомой мне минуте покоя в Востоке вечном.
То, что я пишу сейчас, — пишется лишь один раз в жизни, и в груде исписанных за многие годы листов бумаги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, — близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, — сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня — о вас, — когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги.
«Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может придти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе непривлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то писать к тебе, без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но Боже мой! Ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с своей воображаемой Леночкой, или лучше — говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь когда об этом?»
Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда.
Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра Второго, с крестьянской и судебной; но в дневнике — только его любовь, эпоха в нем не отразилась. Работал он по проведению крестьянской реформы, позже — судебным следователем первого призыва, еще позже — членом окружного суда в приуральской провинции, откуда, уже человек многосемейный, никак не мог выбраться.
Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына — меня. Тому времени прошло больше тридцати пяти лет. Ему хотелось еще показать мне остатки неразделенного нашего родового поместья, — но не удалось. Помню, что оттуда, из деревни, приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар, глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня, гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, именье, которого я так и не видал никогда, продано было крестьянам.
Мне не верится, чтобы отец мой был таким «непривлекательным» и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. «Близких и милых друзей у меня нет, и сам я такой скверный человек, что не способен к большой откровенности. В жизни моей такая скудость и пустота. Мне страшно, что время уходит без следа и напрасно; мне грустно, что такая пустота и пошлость представляется моим глазам и так мало истинно-прекрасного я вижу». — Влюбленный — может ли писать иначе? Но я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе. В молодости не было друзей? Возможно. Но не выше ли дружбы, не богаче ли ее — любовь, которой посвящены его записки?
«Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. Я пришел в театр усталый от работы, пришел измученный и грустно настроенный. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия — обратили на тебя толки и лорнеты. Многие уже готовили тебе фразы и улыбки; другие разузнавали. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся. Такая ты была молоденькая и свеженькая; так славно смотрели твои чудные глазки; столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил, скрытно от других и тебя, твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Я долго мог после этого вызывать на память твой образ. Я тешился этим в минуты тоски и грусти. В этой форме стало у меня слагаться все лучшее, о чем я думал. Мне хотелось верить, что ты действительно чудная девушка; и если бы для тебя потребовали у меня жертв, я на все готов бы был решиться. Я глупый мечтатель, милая Леночка; но право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты».
Ей, этой хорошенькой девушке, привлекшей к себе «толки и лорнеты», было 17 лет; она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу не трудно было с нею познакомиться и часто ее видать; губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Хотя отец и «выключил себя давно из разряда уфимских кавалеров», но он был очень молод, хорошей фамилии, умен, образован, талантлив, всюду принят.
Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед»? Мешала еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное — самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты, — разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?
«Помню я и всегда буду помнить одну заутреню на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Признаться, ты не была у меня в мыслях; но Бог знает отчего я был весел. Ты была у заутрени и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно, рядом со своею сестрой. Но вот кончилась заутреня, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно; ты устала видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая — Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут же какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобою любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье и только строго-строго взвесил его качества. Для себя я сберег бы — но нет, что я говорю? Я никому тебя не доверил бы; я окружил бы тебя любовью, окружил бы тебя такими попечениями о твоем счастии, — только бы дали мне возможность самому сделать это счастье».
Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков и пересуд. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши. Толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски, и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны.
«Не влюблен, потому что не мальчишка». А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей неподходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы:
«Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену; такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль! А между тем, как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями, — бесил меня. Я едва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях; я во время опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал и от общего смысла твоей роли, хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе также посторонний человек и даже более, чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!»
Наедине с собой — зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и «отеческого чувства» к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльд Гарольда:
«Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое названье. Что же теперь делать, моя милая?»
Та ли она, какою кажется? Имеет ли право он, такой дурной, испорченный, усталый, негодный человек — думать о ней, говорить с ней в своем дневнике, мечтать о более близком знакомстве, о счастии быть замеченным, выделенным из толпы поклонников?
«Если бы я мог взвесить холодным рассудком все будущее, я собрал бы всю волю, весь эгоизм свой; я заперся бы внутри себя и задушил бы в себе это тяжелое чувство».
И разумеется, — «разбил бы свою жизнь и умчался Бог знает куда». О забвении и новом счастье уже не мечтать, уже не создать себе новой жизни. — «Лета разве только возьмут свое, и под гнетом их я стану бесстрастен и спокоен. — Все кончено к лучшему. — Дальше все пойдет так незаметно и постепенно. Сегодня одно разобьется на сердце, завтра другое, там третье, а потом и ничего не будет, — холодно, ровно и мертво».
Страницы и страницы, отданные грустным и трагическим размышлениям о своей ненужности, неинтересности, о муке любви неразделенной и безнадежной.
Уж такой ли безнадежной? Правда, она сказала как-то в случайном разговоре, что «не понимает романтической любви» и что «любить не может никого». Но ведь сказала это девушка 17 лет и сказала с таким ласковым сиянием голубых глаз, что у бедного страдальца сразу согрелась душа и забилось сердце нечаянной радостью.
Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная, — с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто — с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходить, — и он, оставшись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему неоцененному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, непохожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное — несчастного. Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И также часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочна и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречьи и смеяться. Голубые глазки знают свою власть, — но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами? Он умнее и интереснее других, — но было бы лучше, если бы он был весел, как другие, потому что, ведь, жизнь так хороша, и рано в 17 лет мучить себя загадками и вопросами.
«Как я счастлив сегодня, как мне весело и отрадно! Такая ты добрая была, Леночка, такая милая, такая хорошенькая. Ты не оттолкнула меня, ты не засмеялась надо мной после всего, что я сказал тебе, не приняла за фразу мое слово. Ты говорила со мной так хорошо, так искренно. И ты могла помышлять, чтобы я дурно о тебе думал? Ты могла думать, что я нахожу удовольствие тебя мучать? Да разве ты не знаешь еще, что вся моя жизнь, все мое дорогое и прекрасное — в тебе одной? О, я был бы хорошим человеком, если бы ты, Леночка, не отнимала у меня радости и надежды — не быть тебе чужим».
Чередуются в дневнике эти «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив». И всегда: «Что же мне делать, что делать?» — Сказать о своей любви? Но «по какому праву?»
Это в наше время можно говорить о своей любви хоть накануне ее появления, и девушке, и замужней, и той, которая желанна, и той, без которой можно обойтись. На рубиконе же 50–60 годов было нужно иметь на это право! Сказать о любви — а дальше? Быть отвергнутым, — значит жизнь разбита и исчерпана! Быть выслушанным благосклонно и услыхать ответное «да»? Но ведь для этого…
Кто такой ее отец? Чего хочет он для своей дочери? Человека, по настоящему ее любящаго, или жениха с деньгами и положением в обществе? Зачем нибудь да позаботился он, не богатый и не знатный, дать дочери тонкое образование и ввести ее в лучшее общество, ей доступное. И кто претендент? Бедный дворянчик, служака, работник, ничем не выдающийся человек? И что за тип этот их знакомый по Варшаве, поляк Г., богач, к которому с таким расположением относится ее отец? Жених? Может быть, она уже любит его или полюбит? Ну что ж!
«Если ты будешь истинно любить Г., — для твоего счастья довольно. О, я тогда, если бы и погиб вовсе для счастливой жизни, — я помирился бы с тобой, и ты навсегда осталась бы для меня чистым и светлым существом, явившимся мне, чтобы осветить хоть на время мое существование. Издали и идеально, мечтательно и грустно, я всегда любил бы тебя. Мысль, что тебе хорошо на свете с другим, была бы мне мучительна на время и может быть долго; но это не было бы разочарованием и не прибавило бы никакого темного пятна к моей житейской опытности…»
Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, — она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?
«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидал — разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. Верно у вас Г., — подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».
Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу…
Кажется — все кончено!
Но нет еще две краткие записи:
— «Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастлив?»
— «Два нехороших дня. Я решился не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к счастию я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?».
Когда же это?
Такова — последняя строчка полных грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.
«Судьба этих глупых писем — быть сожженными» — писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет, — и аккуратная тетрадочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», — лежит передо мною.
Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку, и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарованья унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.
Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена — зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?
Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти несожженные во время записки? Пеняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «неспособная полюбить никого?»
Я вижу эту Леночку с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, неспособную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.
Эта Леночка — моя покойная мать.
Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись, — все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.
Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидать больше этих разлученных могил.
Сыновним чувством, проснувшимся в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности, — единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было, где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.
Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.
Что останется?
Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После — дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.
Живя этим реальным, — они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире, — в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.
Как хрупкий, засохший цветок, — я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.
ЧАСЫ
О. X. Лопатиной
Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя — фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.
На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим — блестело; все, что было старо и поизносилось от времени — сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.
Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.
Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии, и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях — от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.
И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено — знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти.
Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти — два, вместо двух — одиннадцать, вместо одиннадцати — восемь и так далее. Однако, половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью — значит четверть седьмого, — нужно только прибавить три.
И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку — единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень — значит полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только два раза. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.
И, действительно, — какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их — неизвестно. А потом — прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять — значит восемь, а восемь — значит одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три; тем более, что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.
Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, — в старости слезы льются и от радости и от горя совсем одинаково.
Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.
Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала, и слыхала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя — и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка.
— И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай, — неровен час — что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастия.
Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, — царство ему небесное.
Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:
— Это почему же, бабушка, они так мало бьют?
Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.
— Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.
— Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.
И опять заговорили о разном, пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:
— Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены.
Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старые часы.
Когда инженер заторопился уходить, — опоздал на важное свидание, — бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.
— Это что, бабушка?
— А это — положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, места займет немного, а иногда посмотришь.
— Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!
И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:
— Может ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.
И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:
— Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?
— Есть бумага, Ванечка.
— Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдет.
Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу.
— Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить, сколько нужно, совсем правильно.
— Ванечка, да мне не нужно!
Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые.
Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далекие звонкие колокольчики, — а вот их нет. Были разные думы. Во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом — и дзынь! — часы рассыпались. Старалась утешить себя:
— Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.
А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занес часы:
— Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.
Прошумел и исчез.
Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет.
И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.
Так пошла жизнь дальше и часы били теперь правильно. Бьют пять — значит пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, — удобно.
— Главное — Ванечке приятно, — думала бабушка. — Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну.
Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять, — ой, проспала! — а оказывается, и действительно всего на всего пять часов.
Старый человек иногда загрустит, а отчего — и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили, и не хуже жили.
За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает, — все же слушает. Слова нет — бьют часы верно и ни в чем не стали хуже. Однако, радости в их бое нет, — да и чему старухе радоваться.
Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил и пробовал. Никакой с их стороны не было измены.
В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась — и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожиданье: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили — все продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить-пробили, а не совсем так, Как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась — сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет — на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось — и волненье.
Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.
Было самой немного стыдно: «И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!»
И решила:
— Подожду до четверти, да и лягу.
Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:
— Раз, два…
А вместо третьего, четвертого и пятого, — изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.
Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы — подумала, да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься! Ведь если сказать по чистой совести — ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час. Сама себе не сказала — а ждала: пять ли пробьют, или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!
И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.
Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась, — а сна нет, хочется еще услыхать, как будут часы бить половину.
Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: «Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!» А как подошло время к половине шестого, — звоном колокольчиков ясным и уверенным пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.
И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты.
ВЕЩИ ЧЕЛОВЕКА
Умер обыкновенный человек.
Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая печатка), его кожаный портсигар, пряно-протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных.
Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения.
Но он умер — и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама.
И его письма — запертые на ключ ящики пожелтевших страниц.
Теперь стало уже излишним сохранять кургузый остаток карандаша, который несколько лет ютился в цветном стакане на письменном столе, пережив невредимо ряд периодических уборок. Он жалел этот огрызок карандаша, как добрый хозяин жалеет старого, больного, износившего силы работника. Карандаш доживал дни свои в покое, в почете, хоть и в пыли — на дне стакана. Теперь этот бесполезный огрызок потерял своего защитника и осужден исчезнуть.
Женская рука с обручальным кольцом, особенно белая от каемки траурных кружев, перебирает вещицы, открывает коробки, касается конвертов и страниц. Его ключом она отпирает ящики его стола, выдвигает их, неторопливо берет верхнюю коробочку. В коробке орлиный коготь в золотой оправе, несколько камушков с морского пляжа (не очень красивых, обыкновенных), старая оправа золотого пенснэ, бисером вышитая закладка. И тут же прокуренная трубка со сломанным мундштуком. Разве он курил трубку? И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? Что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике, под ключом?
С ними, с этими вещицами, не соединялось никаких интимных и запретных воспоминаний о «ней» или даже? о «нем», вообще о людях. Камушки были когда-то найдены на пляже, у моря. Вероятно, было в те дни солнечно и хорошо, — и отблеск солнца, соль моря и ощущенье простора остались на камушках. Ну, как же бросить их! Он их жалел. Дальше пошла жизнь непростая, несолнечная, непросторная. В этой коробочке похоронен бодрящий морской воздух и кусочек былой свободы.
Коготь, вероятно, подарок, но и памяти о подарившем уже не было, а была только знакомая взору вещица, по своему красивая, — ну как ее бросить? А трубка…. Он курил трубку очень давно, еще когда носил широкополую шляпу, а галстук завязывал свободным бантом (в конце жизни он носил котелок).
Столько лет прожить вместе — и — не знать, что когда-то он курил трубку! Конечно, это — мелочь; но все же не знала об этом белая рука в трауре. Правда, он уже много лет курил только папиросы и редко-редко сигару.
Белая рука берет другую коробочку. В ней давно остановившиеся маленькие карманные часы; на стрелках — четверть седьмого, момент, когда часы остановились. В той же коробке модель топорика венецианской гондолы и половина брелка с колечком и надписью: «séparés, mais», — и на обороте: «toujours unis». Где-нибудь есть другая половина, с другим колечком и такою же надписью. Должно быть — след старой мимолетной встречи: надломили распиленный брелок, взяли каждый по половинке. Но ведь только «séparés» осталось, а «toujours unis» — наивность, воображенье! И опять же хранилось уже не воспоминание, а только вещица, которую нельзя же бросить. Куда? В сорную корзину? Просто за окно? Вещица занимает так мало места, она никому и ничему не мешает, ее нельзя не жалеть.
Он жалел ее, как карандаш, как сломанную трубку.
Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей человека — вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они улыбались приветливо, даже когда он смотрел на них рассеянно, на все сразу, мельком. Просыпались — для него, и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им казалось — так будет всегда. Сейчас их трогала рука незнакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин умер — и вещи его стали тусклыми, испуганными, старенькими, блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь на другого человека? Нет, вещи не изменяют.
А затем белая рука с каемкой траура спокойно, не дрогнув, как бы в сознании права, пошла на преступленье. Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала тонкую бечевку, — и пачка писем рассыпалась.
Рассыпалась пачка, но складки мелко исписанной бумаги слежались давно и тесно. Ни фразы, ни слова уже не имели никакого значения, и вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели, сохранили, не бросили, потому что нельзя же (то есть можно, но трудно) бросить то, что было когда-то свято и полно трепетного интереса. А спустя час — письма, набухшие, разбитые, потерявшие тесную друг с другом связь (складка со складкой, листик с листом) лежали оскорбленной и ненужной грудой, и сложить их по-прежнему было уже нельзя.
И белая рука не знала, что с ними делать дальше. Нервнее, чем прежде, она перебирала их, снова отыскивая слова и фразы, не ею писанные — и писанные не ей. В эту минуту к вещам ненужным и бесхозяйным, с которыми никто не считается и которых не уважают, присоединилась еще одна: умерший человек.
Он стал первой вещью, ушедшей из привычного уюта. Он ушел совсем и навсегда, оставив на стене большой свой портрет, плоский, с остановившимся взглядом и надетой на лицо улыбкой — для других. Глаз, которыми он смотрел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький храм его духа был нетронут, — человек жил в пачке писем, в трубке, в полужетоне с французской надписью, в огрызке карандаша. Теперь, когда вскрыты его смешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма, — он ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками.
И было велико смятенье его любимых вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных в кучу, обреченных на уход — сегодня ли, завтра ли. Осколки храма стали мусором.
Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь, — еще живя в материи — умерли в духе вещи человека.
МУМКА
Мумку назвали Мумкой в честь тургеневского «Му-му», хотя наш Мумка не был похож на своего тезку ни характером, ни наружностью, ни судьбой. Но имя дается слепорожденному щенку, — а как узнаешь, что получится из собаки, родители которой неизвестны? Так же случается с тщедушными Олегами и лысыми Самсонами.
Детства и юности Мумки я не помню, хотя мы с ним были одних лет; это значит, что он был уже старцем, когда я поступал в гимназию. Оба мы были любимцами моей матери, и оба взаимно друг друга ненавидели. Впрочем, за исключением матери, Мумку ненавидели все, и домашние, и посторонние; он это знал и отвечал тем же чувством всему миру, — и живым существам, включая кошку, и неодушевленным предметам, исключая съедобные.
Мумка был маленький, когда то черный, в старости седой, отвратительно жирный, до того, что ноги его не были параллельны, а расползались, брюхо задевало пол, а сидеть он мог только на боку. Относительно его породы споров не было: с первого взгляда определяли его «надворным советником». Он был наделен всеми пороками, какие свойственны невоспитанным собакам: был неопрятен, жаден, глуп, подл, злопамятен, корыстен, ехиден и беспримерно злобен. Более злобного существа я никогда не встречал даже среди литературных критиков и классных дам. Избыток злости, как это бывает и с людьми, заменял ему ум.
Мумка жил под креслом моей матери, выходя оттуда только по важнейшим личным делам. При этом он никогда не проходил по открытому пространству комнаты, а только под креслами и стульями, от этапа к этапу, дрожа, озираясь и грозно ворча, как бы ожидая нападения. Несколько спокойнее он чувствовал себя на собственной подушке под кроватью в маминой спальне и здесь даже решался оставаться один, то ли обдумывая какой-нибудь новый подвох, то ли оберегая спрятанную кость.
Подушку чистили, мыли, меняли, но все, — таки она была отвратительна. И на ней и под ней Мумка устраивал склады недоеденного. Так как кости ему давали не голые, а с мясом и с жиром, то подушка была всегда засалена, да еще покрыта седыми его волосами. Добывать ее из-под кровати приходилось половой щеткой, — и за это Мумка ненавидел щетку тою же лютой ненавистью, как и мои башмаки. Она вся была искусана и подвергалась нападению даже тогда, когда, не думая о подушке, мирно подметала пол: Мумка бросался на нее из-под ближайшего стула, вцеплялся зубами и катался вслед за нею кубарем со злобным рычанием, а Савельевна говорила:
— Не собака, а прямо нечистый, прости Господи! И как его земля терпит. Хоть бы с жиру лопнул, — а не лопает.
Живя под креслом у матери, Мумка не проводил времени в праздности. Прежде всего он хватал за ноги всякого, кто подходил к матери или близко проходил мимо кресла. Он не довольствовался нанесением материального ущерба, кусая панталоны или юбку (тогда носили юбки длинные). Он стремился причинить боль и увечье и потому хватал всегда за носок башмаков мертвой хваткой, быстро вонзал клык и так держал, пока его не стряхивали другой ногой или не били по голове. Мои сапожки были всегда в дырочках от мумкиных зубов, а на пальцах не заживали раны.
Если не было жертвы, Мумка чесал спину о деревянную перекладину кресла. Чесал он ее во всякое свободное время, безостановочно, с яростью, повизгиванием, сладострастно. Давно уже не было на его спине волос и были только болячки — но он все-таки чесался. Лишь в эти моменты очевидного высокого наслаждения лицо его одухотворялось подобием улыбки, в глазах появлялась живая искорка, слегка затуманенная страстью, а в мерном повизгивании — намек на ритм и хроматическую гамму. Несомненно, чесанье спины уводило Мумку в иной мир, возвышало его над обыденностью, — как поэта возвышает процесс стихотворчества, по существу столь же бессмысленный, но дающий нервам нужное раздражение.
Мумку пробовали лечить от этой страсти: мазали ему спину мятной мазью, всего его мыли зеленым мылом. Но, как те же стихотворцы, он был неизлечим, да и не стремился вылечиться, не понимая собственной пользы. Может быть, и не следовало лишать его единственной доступной ему тихой радости; но уж очень было противно его чесанье всем, даже матери, относившейся к нему с крайним снисхождением и высшей человеческой добротою.
Решено было принять крайние меры — и выполнение поручено мне. Кто-то посоветовал набить гвоздей, остриями наружу, во все перекладины, годные Мумке по росту. Конечно, я с радостью приступил к делу: прежде всего изукрасил гвоздями испод маминого кресла, а головки гвоздей срезал кусачками и еще заострил подпилком. Работа сложная, — но рукой моей водила давняя вражда и жажда мести.
Смотря на мою работу, мать сказала, качая головой:
— Бедный Мумка; но правда — нужно его отучать. Только не делай гвоздей слишком острыми.
Посмотреть, как Мумка будет разочарован, пришли все его враги, даже Савельевна, жарившая в это время рыбу. Но не таков он был, чтобы доставить нам немедленное удовольствие; прочно забившись под кресло, он смотрел на нас одним злым глазом и ворчал. Савельевне пришлось уйти, так как запахло рыбой, и только у меня, главного врага Мумки, хватило терпенья дождаться результатов моей работы. Я принес книжку, сел поодаль, притворился читающим, а сам время от времени поглядывал на кресло. Наконец, Мумка встал, высунул из-под кресла морду, блаженно оскалил зубы и хотел приступить, — но взвизгнул и забился глубже под кресло.
Не трудно представить мой восторг. Но мама была очень расстроена:
— Бедный Мумка, он, кажется, сильно укололся.
Все-таки у этого злого тупицы хватило смысла перенести свое упражнение под кресло соседнее; это не было так безопасно, как под креслом материнским, и слишком на виду; но страсть придает решимости. Пришлось мне снова браться за молоток и кусачки. В короткое время все кресла под бахромой были усажены острыми гвоздями, и Мумка был побежден.
Он еще ухитрился как-то находить пространство между гвоздиками и осторожно двигать спиной, но почти всегда кончал тем, что накалывался, взвизгивал и отступал. Попытки тереться боком о ножку кресла не давали ему нужных переживаний: все дело было в спине. Мумка суетился, волновался, жалобно вздыхал, — но в данном случае даже со стороны моей матери он не встретил сочувствия и помощи. Ему пришлось смириться и отказаться от величайшего из наслаждений его мрачной жизни.
Он и смирился, даже как будто привык. Спина его залечилась и начала обрастать седой щетиной. Но за него мстили обстоятельства.
Эти обстоятельства заключались в том, что время от времени кто-нибудь из нас, а чаще всего гости, накалывали себе о гвозди ногу и рвали платье. Однажды очень почтенный господин, пришедший навестить мою мать, вставая с кресла, так неосторожно зацепился ногой за острый гвоздь, что поранил себя и опрокинул кресло. Пришлось долго объяснять ему, что особое устройство нашей мебели вызвано состраданием к собаке, совершенно расчесавшей свою спину. Господин старался улыбаться и говорил, что это ничего и совсем не больно, — но я уверен, что он сильно себя поцарапал, и новые брюки его были порваны. Во всяком случае Мумка мог считать себя отмщенным, — хотя и приобрел нового недоброжелателя.
Однако, когда неприятная история повторилась с одной дамой, вырвавшей из юбки целую полосу материи, — и эта дама даже расплакалась, — мать велела мне немедленно выдернуть гвозди из всех кресел, кроме ее собственного.
— К тому же, — уверяла она, — Мумка уже отвык чесаться. Ты увидишь.
Я увидал в тот же день. Этот подлый и в конец испорченный любимчик матери даже не пожелал выждать приличный срок. Глядя прямо на меня, ехидно обнажив желтый клык, он с таким остервенением чесался о первое кресло, к которому ему удалось приспособиться, что обе передние ножки кресла подпрыгивали и стучали об пол. Мою попытку подойти и помешать ему он встретил яростным рычанием и, не ожидая пинка, мгновенно тем же клыком вцепился мне в ногу. Он выбрал при этом не новое место, а уже раньше прокушенную дырочку, где укус оказался больнее, и я долго с криком мотал ногой, пока удалось отшвырнуть Мумку в другой конец комнаты.
Мне было настолько больно, что мама решила Мумку наказать, хотя виноват был, конечно, я. Она схватила Мумку за шиворот и три раза ударила по расчесанному месту. У нее были такие маленькие и нежные ручки, что не только Мумка испытал лишь удовольствие, а и я бы непрочь подвергнуться такому наказанию: в нем ласки было гораздо больше, чем обиды.
Так мы жили, в вечной взаимной ненависти и в ожидании подвоха и мести. Не знаю, что думал обо мне Мумка; я же часами рисовал себе картину страшной мести. Я беру половую щетку или, еще лучше, ухват, прижимаю Мумку к стене, сам забираюсь на стул, чтобы он не мог схватить меня за ноги, и затем каким-то путем его уничтожаю, во всяком случае чем то долго бью. Очень дурные чувства рождала во мне ненависть к Мумке.
Уничтожить его совсем, конечно, невозможно: за ним стоит мама, которая его очень любит, хотя совсем непонятно — за что. Но было бы хорошо, если бы Мумка сам уничтожился. Если бы, например, у него вдруг выпали все зубы, — тогда пускай жует башмак, сколько ему хочется; я бы даже и отнимать не стал.
Если это правда, что бытие определяет сознание, то развитие моего сознания в значительной степени определялось бытием Мумки. Так, например, во второй стадии моего младенчества, в бытность мою эсером, я представлял себе буржуазию в образе, подобном мумкиному; впрочем, и сейчас от этого определяющего образа не отрешился. Он же рано пробудил во мне ненависть к деспотизму и насилию. Меня до глубины души возмущало, что личность Мумки, несомненного всеобщего тирана, как бы священна и охранена неписанным законом — любовью и жалостью моей матери. Причиняя боль ему — я как бы причиняю боль ей. В этом я чувствовал неразрешимую нелогичность, — по тем временам еще не подозревая, что любовь не имеет с логикой ничего общего. В Мумке, — в его спине, в его подушке, в его обжорстве, в его инстинктах собственника и трусливой злобе, — олицетворялась для меня вся человеческая, обывательская, мещанская пошлость, вся прочность жирного эгоистического быта, доводы которого — зубы, поэзия которого — почесыванье. И я понял, что держится он, этот уклад, не своей силой, даже и не своими зубами (его можно далеко отшвырнуть пинком ноги), а каким-то веками освященным предрассудком, ни на чем не основанным признанием, или же боязнью, что, сокрушив его, — сокрушишь вместе с ним и подлинные радости бытия, подрубишь сук, на котором сидишь и будто бы благоденствуешь.
Я думаю, что сознание Мумки определялось, в свою очередь, бытием моим, половой щетки и гвоздиков в креслах. Мы вечно угрожали его самодержавному господствованию над подушкой и под креслами.
И тайные и злые мечты его были, конечно, подобны моим. Он мечтал быть высокого роста, чтобы кусать за нос меня и всех, подходящих к креслу, мечтал иметь огромный желтый клык невероятной остроты, чтобы перегрызать одним махом не только кожу ботинок, но и каблук, а щетку обращать в щепки и труху. Ему еще хотелось иметь бронзовую спину, чтобы гвозди не только не причиняли ей поранений, а сами тупились и гнулись при сладостном его почесываньи. Еще он хотел бы иметь подушку в полмира величиной, чтобы под нее можно было засунуть все кости от всех обедов, съедаемых презренным человечеством, насквозь пропитать ее салом и жиром и понаделать в ней тысячу ямочек и углублений для удобного спанья.
Теперь, на отдалении времен и в бесстрастии воспоминания, я не сужу Мумку так строго. Я знаю, что только близость к людям и их влияние развивают в животных дурные наклонности: злость, подхалимство, неопрятность. Живи Мумка не в комнатах, он был бы, вероятно, отличным псом, без огромного живота, кривых ног и расчесанной спины. Он ценил бы вольный воздух и знал бы в молодости и иные утехи, кроме жирных костей и мягкой постели. Злым и нетерпимым сделала его тусклая жизнь вынужденного холостяка и ограниченность духовных интересов. Пол вместо земли и потолок вместо неба делают противными и сонными буржуями не одних собак. Но у людей есть книги и газеты, дающие им иллюзию более яркого существования; люди ухитряются жить чужими мыслями и вычитанными геройскими подвигами, и это их хоть чуточку возвышает над бытом спальни и столовой, ванна заменяет им море, женитьба — любовь, счет белья — созерцанье бесчисленных звезд. Но чем мог Мумка заменить себе общенье с ему подобными, аромат влажной земли и ласку чистого воздуха? Он родился честным псом, — а стал домашней утварью. Будь он человеком и попади в такие же условия, он стал бы присяжным поверенным или писателем и убедил бы себя, что хорошо выполнил свою миссию на земле. Но он родился тупорылым щенком надворной породы, — и стал Мумкой. Будем к нему справедливы и снисходительны.
Век собаки не долог. К десяти годам Мумка был уже отвратительно стар; теперь даже злоба его была бессильна, да и ноги плохо его держали. К тому же у него развился маленький порок, описать который без слов иносказательных очень трудно: внезапная своеобразная музыкальность, сопровождавшаяся открытием в комнате форточки. Нельзя было его так закармливать — но ведь еда была единственной и последней нормальной радостью его клонившихся к закату дней. Мы, домашние, особенно мать, кое-как привыкли и к этому недостатку Мумки. Но тут начался ряд неприятнейших недоразумений.
Как сказано, он весь день проводил под креслом матери и вслед за нею переходил из комнаты в комнату, из-под кресла — под стул или под диван. И вот, когда приходили гости, случалось не раз, что Мумка, ютясь у ног матери где-нибудь под диваном, внезапным проявлением музыкальности нарушал чинный стиль светской беседы. При этом, привыкнув, что в таких случаях его стыдят и гонят, он немедленно же, тайком и у стенки, незаметно ускользал в другую комнату — переждать время и избавиться от шлепка.
И тогда случалось, что гости, чтобы доказать свою воспитанность и избавить хозяйку от всяких неуместных подозрений, с вежливой шутливостью и покачивая головой, слегка наклонялись под диван, ища глазами бедную старую собачку. Но бедной старой собачки там не было, и напрасно мама, больше всех смущенная, хлопала рукой по дивану и говорила:
— Пошел отсюда, ах, какой противный! Вы уж простите, пожалуйста.
Мумки там уже не было, он выскользал незаметно. Гости улыбались, подчеркивая этой улыбкой, что они не сомневаются, что Мумка был под диваном, — но все-таки выходила неловкость, и мама очень краснела. Однако, было невозможно и выдать за скрип кресла мумкину невоспитанность, так как никакой скрип кресла не мог вынудить отворять форточку. Все это выходило ужасно досадно и с мѵмкиной стороны довольно подло.
Вообще нужно было быть святым человеком, чтобы терпеть около себя такое сокровище, да еще защищать его от нападок и осуждений. Мать моя терпела, и это потому; что она была святым человеком. И Мумка, старый, дряхлый, больной, развалившийся, до последнего дня своей жизни от нее не отходил: он умер под ее креслом. Перед тем, как околеть, он выполз на минуту, сел, как обычно: обе задние ноги на одну сторону, посмотрел на мать слезящимися от слабости глазами, сейчас же полез обратно — и уже больше не вышел.
Хоронила его Савельевна, а где и как — я этого не знаю, мне не сказали. Куда-то Савельевна ушла, унесла его труп, а вернувшись — сейчас же пошла в спальню, щеткой достала из-под кровати мумкину подушку и сожгла ее в печке. Под кроватью она не только вымела, но и вымыла, и все время приговаривала:
— Хоть и жалко собачки, барыня убивается, а скажу: слава те, Господи! За такой собакой не наубираешься, и вони этой на будет.
Я пробовал спросить:
— Савельевна, а ты куда его унесла? Где он теперь?
— Мумка-то где? А где ему быть, — в собачьем раю. Барыня вам сказывать не велела.
— Почему?
— Разве же я знаю почему? Уж верно ей неприятно, что ее любимца в помойку бросили. Барыня наша всех любит, что человека, что собаку.
И стали мы жить без Мумки.
Сказать, что многое от этого переменилось, было бы преувеличением. Но все таки странно было подходить к матери и не бояться, что Мумка схватит за ногу; не было под постелью подушки, и вытащили клещами последние гвоздики из кресла; не слышно было постоянных окриков, меньше ворчала Савельевна, и словно бы воздух стал получше. Но к таким переменам привыкаешь легко.
Со смертью Мумки исчезла и моя к нему ненависть; даже как будто теперь я вспоминал о нем с жалостью: все таки всю жизнь вместе прожили.
Как то помню, сидел я за маминой спиной у окна, читал, а ногой, по мальчишеской привычке, болтал и шуршал по креслу. И вдруг мама сказала, слегка ударив по креслу ладонью:
— Будет тебе, Мумка, лежи!
Это она задумалась и, слыша шуршанье, по привычке окрикнула собаку, чтобы та перестала чесаться.
— Мама, да ведь это я, Мумки нет.
Мама оглянулась, потом положила свое вязанье и тихонечко заплакала. Меня это так поразило, что я не знал, что сказать. Она скоро смахнула слезу и опять принялась за работу. Тогда я спросил:
— Почему, мама? Ты про Мумку вспомнила?
— Ну да.
— Тебе его жалко?
— Видишь, милый, не то, что жалко, он ведь был очень старый, да и совсем больной, а привыкла я к нему. Он десять лет был около меня, да так и умер. Вы все уйдете, вон Оля уже замуж вышла и уехала, и ты уедешь. А Мумка бросить меня никогда не мог.
— Так ведь он, мама, был собака.
Она помолчала, а потом сказала:
— Ну, конечно. Только собака так и может. Собаки очень верные, очень верные; человек так не может.
— Я, мама, от тебя тоже никогда не уйду.
Она рассмеялась, растрогалась, похлопала меня по щеке и сказала:
— Ты то уйдешь, но это ничего, так нужно. Ну, пойди к себе, почитай или позанимайся. А отчего ты не погуляешь, сегодня воскресенье?
Я и правда — взял коньки и пошел покататься.
В ЮНОСТИ
Заглянешь в будущее — и ничего в этом будущем не усматривается положительного, только слабая надежда, что вот хорошо бы напоследок пожить и склонить голову там, где хочется. Голова совсем не буйная, а с обыкновенным пробором в волосах, которые у почтенного человека начинают светлеть с висков.
Настоящее без перемен. Не то что бы… но и не так что бы. О настоящем вообще не рассказывают, а им живут. Похвастаешь счастьем — станет другому завидно; а начнешь печаловаться — лица сделаются сочувственно-далекими и тревожно-усталыми, потому что каждому человеку довольно своей заботы.
И остается рассказывать о прошлом.
Я ни разу не был министром, ни в Петербурге, ни в Уфе, ни за Уралом, ни в других местах, где этим занималось множество людей вполне приличных и на вид серьезных. Не пришлось быть также ни офицером, ни солдатом; вообще — управлять, командовать и совершать подвиги не доводилось. Всю свою жизнь я прожил простым человеком, безо всякой особенной биографии: родился от папы с мамой, учился и добывал хлеб насущный, то белый, то черный, иногда с паюсной икрой, а чаще с крупной солью. Попутно суетился, как все суетятся. Были, конечно, разные жизненные события, приятные и неприятные, но в меру: иностранцу хватило бы на десять жизней, а русскому как раз на одну. И, как коренной русский человек, гражданин и властитель шестой части земного шара, я жил больше по чужим странам, так как дома было тесновато и неудобно. На здоровье не жалуюсь — здоров. Вот пописываю, — но чтобы писать, как пишут другие, что с детских лет ощущал трагизм бытия и веянье смерти, целый роман на такую тему, — этого я, по совести, не могу, хотя знаю, что многим читателям это нравится. Не могу потому, что в детстве я был ребенком, в юности юношей, а в данное время соответствую собственным годам.
Итак, министром я не бывал, а гимназистом действительно, был, и хотя достаточно давно, в прошедшем веке, а рассказать что-нибудь из тех лет могу.
Бог его знает, было это время счастливое или несчастливое. Обычно детство называют незабвенным и золотым, но мне кое-какие из взрослых годов нравятся гораздо больше. Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Спасибо, что хоть научили читать, писать и считать. Вместо истории нам преподавали хронологию рождений и смертей бесчисленных Карлов, Александров, Максимилианов и Елизавет, и чужих, и наших, и еще мы изучали, кто с кем когда воевал. Вместо географии, зубрили названия озер и полуостровов. Физику учили без опытов, геометрию без смысла, а естествознание в программу не входило, и никто нам не сказал, что кроме гимназистов, учителей, попечителя округа и таинственных меровингов и габсбургов, есть еще и другие животные, есть огромный и великий мир живых существ, жизнь которых полнее, сложнее и разумнее нашей. И еще нам преподавали закон Божий, то есть очаровательные сказки, но только в самом глупом и безнравственном их толковании. Если бы не здоровая и естественная ненависть к учителям и всей преподносимой ими чепухе, и если бы мы не толковали для себя многого наоборот, — мы все выросли бы идиотами или большими негодяями.
Истории нас обучал сам директор гимназии, очень невежественный, но не злой господин, имевший романы со всеми соседними кухарками. Явившись на урок, он засовывал глубоко в нос большой палец, колупал и, помогая пальцем средним, вынимал шарики, которые сыпал вокруг себя. Что мы отвечали — он никогда не слушал, думая о кухарках. Нужно было только отвечать ровно и без перерыва. Когда нам надоедало читать заданный урок прямо по книжке, — мы вставляли в рассказ о войне алой и белой розы — басню Крылова «Стрекоза и Муравей». На пятом шарике он останавливал отвечавшего и ставил отметку, оценивая не знание урока, а качество последней своей кухарки, — всегда снисходительно.
Законоучителей у нас было двое: один старый, верующий, малограмотный, с огромным сизым носом, а между тем — единственный не пьющий в учительской среде. Другой был молодой, академик, атеист, красивый и чистоплотный — горчайший пьяница. Но оба они говорили одно и то же, как полагалось по программе. Первый, впрочем, позволял себе отвлекаться от основного предмета и даже однажды познакомил нас с теорией социализма:
— Социалисты говорят: все твое — мое, а что мое — так это еще посмотрим.
Социалистом он считал Вольтера, но иногда по ошибке называл его Вальтер-Скотом. Сам он искренно верил в рай, в ад, в кита, проглотившего иону, в Ноев ковчег, ангелов, демонов и прочее, что полагается. Но верил как-то боязливо, никого своей верой не заражая. Он нюхал табак с малинкой, громко чихал и вытирал бороду и усы бурым клетчатым платком.
Второй, академик, избегал посторонних тем, и мы его побаивались, пока однажды, на лесной прогулке, не увидали, как он, в пьяной компании других учителей, пляшет на полянке трепака, подобрав рясу и обнаружив белые кальсоны в синюю полоску. Нам это понравилось.
Были среди наших учителей и хорошие люди, но их губила глухая провинция и водка, — все пили дико и свирепо, и забывали подтяжки в публичных домах. Самым лучшим и самым умным, был наш инспектор, по прозванию Савоська, человек благородный, строгий, справедливый, образованный, огромного роста и большой физической силы. Компаний он не любил, а пил один дома протяжно, мрачно, а напившись, — разносил вдребезги свою казенную квартиру и обстановку нашей «актовой залы». Запой тянулся у него неделями.
Меньше всех пили француз и немец, оба — подлинные иностранцы. У француза была крашеная борода и поэтому вечно-зеленый крахмальный воротничок. Он нас не учил, а рассказывал нам на ломаном русском языке о революции сорок восьмого года, которой будто бы был участником, хотя по возрасту это никак не получалось. Невозможно было понять, с чьей стороны он бился на баррикадах, тем более, что эта страница истории в наших программах не значилась; но слушать было забавно, и при том можно было не учить урока. А немец наш был молод, голубоглаз, сентиментален и влюблен в классную даму женской гимназии, которую мы прозвали «Ирония Судеб». Он хотел даже застрелиться от любви, — но она так быстро и охотно согласилась выйти за него замуж, что стреляться не пришлось. После она его ужасно сильно била по голове «Разбойниками» Шиллера в златообрезном переплете, и он за один год полысел.
Действительно — это была какая-то коллекция уродов и несчастных людей! Я думаю, что наша гимназия была местом ссылки педагогов, тем более, что и город наш был раньше городом ссылки, как тогда говорилось, — «не столь отдаленной». Но ведь это — как понимать! Наша губерния сама по себе была размерами больше Италии, а когда я, став студентом, ездил из Москвы на родину, то для этого пересекал в поезде одиннадцать губерний, — пять суток езды. Это только французы думают, что от Парижа до Марселя — путешествие; у нас масштабы иные.
Говоря об учителях я не упомянул совсем о латинисте и греке, о самых — по тем временам — главных. Это потому, что о личных врагах вспоминать очень неприятно. Виргилия и Гомера я научился понимать и ценить много позже, уже взрослым человеком, самостоятельно подучившись; а раньше ненавидел их всем пламенем молодого сердца.
Но, кроме гимназии, была у нас широкая и многоводная река и почти девственный лес под самым городом, — открытая книга природы, всякому доступная, чьи глаза хотят видеть, уши слышать, а душа радоваться. Все, что нам не договаривали и не умели объяснить, — мы читали на страницах этой книги.
В ней мы находили настоящий «Закон Божий», она подготовляла нас к восприятию подлинной истории, она очищала наши детские головы от мусора, которым их засаривала гимназия.
И на ее пышных и роскошных зелено-голубых страницах мы учились постигать и любить огромный мир своих собратьев по бытию — зверей, птиц, рыб, гадов, насекомых, — от золотистого жучка и вертлявой уклейки — до сестры-моей-змеи и брата-моего-волка, которых не мало водилось на лугах и в лесной чаще того берега матери-моей-Камы.
Год в наших краях состоял не из двух, как здесь (осень и лето), а из четырех времен: из очень длительной весны, коротких лета и осени и опять долгой зимы.
У меня был закадычный приятель Вася. Зимой, отбыв положенное в классах, остальное время мы катались на коньках или сидели за книжками, но не за учебниками, а за страшными, запрещенными и развратными: читали вслух Достоевского, Толстого, Шекспира, Байрона, Белинского, Писарева, Аполлона Григорьева, Шелгунова и Бокля. А кроме того, писали свои собственные произведения: он — критико-философские, а я по части беллетристической. Написал я роман, с очень сложной интригой. Он любил ее, а его отец как бабахнет ее отца по черепу пресс-папье, так тот и умер! И счастье разумеется, расстроилось при помощи двух самоубийств молодых людей, а отец его сошел с ума. Васе понравился роман, только он говорил, что я слегка сгустил краски. Думается — влияние Достоевского.
А поздней весной и летом мы мало читали книги печатные, а больше увлекались книгой природы. У меня была лодочка на два места, совсем маленькая, плоскодонка. На ней мы уезжали либо на тот берег реки, либо на остров невдалеке от города. На острове раздевались, лежали на песке и разговаривали обо всем на свете, начиная с тайн мироздания и кончая Марусей Коровиной, в которую я был влюблен, а он будто бы нет, хотя это невозможно. Больше, однако, о тайнах мироздания и о возможности объяснить их при помощи науки, только не гимназической. Говорили о борьбе в мире добра со злом; по его выходило, что победит добро, а по моему все шансы были на стороне зла. Потом высказывали пожелание изучить язык зверей и наладить некоторую с ними жизнь. Также о государственном устройстве, а именно о низвержении гимназического начальства и завоевании права свободно пользоваться книгами городской библиотеки. Еще о том, что в будущем люди станут питаться пилюлями универсального содержания, которые, можно будет носить в кармане. Мечтой нашей было иметь большой атлас звездного неба и телескоп. Вполне допускали мысль поселиться на необитаемом острове, но здесь я не знал, как быть с Марусей Коровиной. Когда мы стали постарше, то предметом обычного разговора сделалось наше будущее. Я определил для себя писательство, он избрал дорогу инженера; нужно сказать, что к этому времени мы поменялись некоторыми взглядами: он стал верить в победу зла, я — в конечную победу добра, он возложил надежды на рост цивилизации, я — на усовершенствование человека. Так оно и случилось: он стал впоследствии инженером, а я вот — пишу.
Но больше всего мы пили солнечный свет и дышали смолистым воздухом. Когда плыли на моей лодочке, смотрели в глубину реки, которая у нас хоть и темна, а не мутна, как на Волге. И там, в глубине, было множество скрытых тайн, жизнь совсем особенная. А над нами было небо, тоже — перевернутая бездна, тоже полная жутких тайн; в ангелов мы не верили, а в людях на разных планетах не сомневались. Но и помимо этого, уж одни звезды — ведь это чудо из чудес! По берегам же цвела липа, сладкий запах которой кружил голову. И впереди была вся жизнь — тоже голова кружилась. В Марусе Коровиной я к тому времени разочаровался, чего нельзя было сказать о Жене Тихоновой, не обращавшей на меня никакого внимания.
В воскресный день Вася зашел ко мне утром; мы условились пойти в лес. По лицу его я видел, что нечто произошло, — весь он был на цыпочках, таинственный и важный. Мы были мужчинами, и обнаруживать любопытство не полагалось. Я стал равнодушно готовить сумку для бутербродов и коробочки для трав и насекомых; мы тогда самостоятельно занимались естественными науками — по случайной книжке.
Перед тем, как выйти, Вася не вытерпел и, покраснев от скрытого возбуждения, сказал:
— Хочешь знать, о чем я думал? И даже решил.
— Ну, говори.
Он стал ко мне в пол оборота и произнес:
— Знаешь ли ты, в чем цель жизни?
— Не знаю. Ну?
— В самой жизни.
— Как же это?
— А так, в ней самой! Особой цели нет, а вся цель в том, чтобы жить. И отсюда выводы.
Он это не вычитал, а открыл. Он, Вася, был замечательный! И я, подумавши, понял, что открытие это — великое. Если, например, он это напишет и напечатает — может прославиться. Он мне и еще растолковал:
— Это значит, что снаружи цели не ищи, она внутри. Формула такая: «Цель жизни — самый процесс жизни».
— А как же смерть?
— Смерть — не жизнь. Я говорю про жизнь. А смерть просто в конце, ею цель пресекается. Умер и конец цели.
Однако, и я поднял важный вопрос — Вася это почувствовал. Мы пошли в лес, но ни гербария, ни насекомых не собирали, а говорили и говорили. По моему выходило, что если цель пресекается смертью, — то что же это за цель, какой же это идеал? Горе наше было в том, что нам не хватало слов для выражения мыслей. И мы, продираясь сквозь кустарник или сидя на лужайке, открывали истины и путались в них больше, чем в лесной чаще. Но как было хорошо! Все было придумано и сто раз сказано другими раньше нас, — но ведь не с их голоса, а сами мы нащупывали какую-то правду, изумительную и странную. То ли правду, то ли детскую чепуху. Но если чепуху, — то свойственную всем философам мира, таким же ребятам и таким же восторженным путанникам.
Когда я студентом стал изучать философию — я со смущением вспоминал о наших великих открытиях. А когда стал совсем взрослым, — я понял, что на путях познания задач человеческого бытия — малым, а то и ничем не отличается «великий философ» от желторотого провинциального гимназиста. Только говорит складнее, а барахтается в той же самой неразберихе. И так же ничего никогда не решит — слава тебе, Господи, иначе высохли бы реки, повял бы лес и стало бы жить совсем скучно. Потому что, если трижды пять — пятнадцать, и это уже верно и окончательно, — то лучше всего повеситься или жениться на продавщице из табачной лавочки. Невыносимо это для живого человека, заглянувшего вглубь реки и в звездную пучину: душа делается квадратной и противно чешется мозжечок!
Если вы представите себе девушку пятнадцати лет с глазами в страусово яйцо и со слегка блестящим маленьким носом, пальчики которой запачканы чернилами, то это и есть Женя Тихонова. Относительно ее невнимания ко мне вышла ошибка, — она просто притворялась равнодушной. Все это выяснилось в один из тех дней, которые в жизни редко повторяются.
Нас объединила литература; она писала лучшие сочинения в женской, я — в мужской гимназии. Мы гуляли по отдаленной улице, где под вечер было трудно кого-нибудь встретить, и говорили о Неточке Незвановой, Соне Мармеладовой и об Алеше из «Братьев Карамазовых». В одном месте немощеной улицы приходилось каждый раз обходить большую лужу; в этот момент разговор прерывался, и я мучительно думал о том, как я люблю Женю и как безнадежно высказать это ей среди умного разговора. И еще в одном месте был забор, из-за которого свешивалась старая липа, так что задевала прохожих по лицу. Я чувствовал, что именно в этом месте и произойдет признание и готовился к нему неделями, хотя гуляли мы почти каждый день.
И вот однажды, как раз под самой липой, я, внезапно оборвав беседу о значении романа «Обломов» в русской литературе и о влиянии его на развитие общественной жизни, вполне корявым языком и запинаясь, сказал Жене, что и моя жизнь разбита, так как я полюбил женщину, которой я недостоин и которая никогда не может полюбить меня. Теперь-то у меня это выходит ясно, а тогда получилось очень сложно и туманно. Женя, на ходу, спросила, не ошибаюсь ли я, считая себя совсем погибшим. К этому времени мы дошли до лужи. Сделав легкий скачок, при котором я набрал воды в калошу, я осмелел и сказал, что об этом может знать только она. Тогда Женя, мотнув толстой косой и не оборачиваясь, подала мне руку и пробормотала:
— Она ответит вам, что тоже… но оставьте меня, я дойду одна.
При этом в моей руке оказалась записка, которую я крепко зажал. Такая же записка уже две недели лежала в моем кармане, и было очень обидно, да и неудобно, что я не успел ее передать Жене.
В ее записке было сказано все, что могло сделать меня счастливым и в доказательство приводились цитаты из Тургенева. Хорошо, что я не передал Жене своей, так как моя была написана гораздо хуже, не так литературно. Дома, ошалелый от счастья, я написал новую, огромную, где был такой оборот:
— Помнишь ли ты, как Вронский, за час перед скачками…
Мы перешли на «ты» сразу, но только в письмах. Встретившись на другой день, мы опять бродили по тихой улице, перескакивали через лужу, замирали под липой, но говорили на «вы» и исключительно, о народных былинах, как источнике русской словесности. И только прощаясь — быстро обменялись записками, в которых было высказано все, чего мы не решались произнести. Оказалась, что она любит меня с Пасхи прошлого года, когда я пел на клиросе в гимназической церкви и, во время «Херувимской», пристально посмотрел на нее. Я же написал ей, что образ неясный, образ еще туманный, только после ставший реальным, носился предо мной с юных лет, особенно во время моих одиноких прогулок в лесу, где сердце замирало от красоты природы, а грудь вздымалась от ласки весеннего воздуха. Сейчас я не вспомню, так ли было, но возможно, что все это было истинной правдой. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы было так.
Теперь жизнь моя была переполнена чувством к Жене. Целые часы уходили на писанье ей писем, в которых, на ряду с самыми цветистыми выражениями моей любви, нужно было показать и глубокое знание литературы, главным образом тех авторов, которых мы в гимназии не изучали. А так как Женя тоже много читала, то превзойти ее я мог только скептической философией, и я, действительно, писал ей:
— Да не есть ли самая наша жизнь лишь миг между вечностями?
Так мы переписывались до летних каникул, все-таки ни разу не сказав друг другу словами то, что облекали в письмах в красивейшую и страстную форму. К лету лужа подсохла, липа распустилась и расцвела и я почувствовал (скверный и безнравственный мужчина!), что я хочу Женю поцеловать. Помогла опять липа, но когда я, пустив в ход всю решимость мужчины, неуклюже обнял Женю за плечи, а она с полным доверием и без особого смущения протянула губы, — из-за угла показался какой-то человек, и мы, лишь слегка столкнувшись носами, должны были скорее зашагать дальше.
Хотя поцелуя между нами так и не случилось, но в ближайшем письме Жени я прочел фразу:
— То, что произошло вчера, заставило меня горько задуматься над «дружбой» и «страстью». Мой милый, мы не должны больше встречаться! Сердце мое холодеет и грусть немолчным потоком заливает душу…
Это было как раз накануне моего экзамена по латинскому языку, на котором я блестяще провалился, почему и остался на второй год. Женя тоже держала последний экзамен, и удачно, а затем должна была уехать в деревню с матерью. Вообще женщинам это дается как-то легче, мы же обыкновенно страдаем.
Мы, впрочем, переписывались, но должен сказать, что мои письма стали такими мрачными, что слово «любовь» в них появлялось только в кавычках. Я остался шестиклассником, а она перешла в седьмой. Вам понятно, что это значит для мужского самолюбия! Одновременно я терял и Васю, от которого отстал на год. Мне ничего не оставалось, как стать мизантропом, а мрачные люди девушкам не нравятся.
Есть такое имя — Овидий Назон. Если хотите, можете им восторгаться, а мне он не нравится. И, по-моему, нивесть какая заслуга — написать «метаморфозы». Впрочем, с годами я с ним примирился.
Вот я и говорю: будущее наше темно и непонятно, настоящее никому не любопытно, а в прошедшем горести смягчены, и вспоминать его всегда приятно. Может быть, столкнувшись носом с Женей, я такое пережил, что лучше и сильнее никогда не переживал. И я, пожалуй, рад, что в наш роман вмешался Овидий Назон, — нам было слишком рано узнать, как кончаются романы при их «нормальном» развитии, то есть когда никто не выходит из-за угла, не сталкиваются носы и не появляется на сцене злодей в плаще римского поэта.
Сердце, вот то самое, которое и сейчас еще отбивает счет слева под ребрами, только не с прежней отчетливостью, — это сердце любило тогда не курносенькую Женю с глазами в яйцо страуса, а так таки целиком весь мир, который оно тогда свободно вмещало, — с лесами, реками, горами, цветами, слонами, человеками и букашками. Теперь ему не столько дороги ландыши, сколько ландышевые капли. Не то, чтобы я собирался жаловаться и скулить, это ни к чему, да и не в моем характере, — а только говорю откровенно, что в прошлом даже и чепуху вспомнить приятно, а мечтаньям о будущем всегда мешает какой-то сидящий в нас червячок. Впрочем, такое мнение ни для кого не обязательно.
РЫБОЛОВ
На реках всероссийских — там мы сидели и удили… как это было чудесно!
Человек, который обдуманной до тонкости хитростью и обманом привлекает к себе изящное, тонкое, полное жизни существо, суля ему всякие блага, притворяясь благодетелем, — и вдруг, обманув доверие, всаживает ему в горло острый клинок с зазубриной, холодно смотрит на льющуюся кровь, спокойно и равнодушно выдирает из страшной раны свое оружие и швыряет бьющееся в предсмертных судорогах тело на доски, — может ли такой человек быть хорошим?
А между тем я не встречал среди страстных рыболовов дурных людей, разве что в себе самом проглядел печальное исключение.
Рыболовом я называю, разумеется, любителя ловли рыбы на удочку и на дорожку. Все остальные способы (жерлица, перемет, верша, острога, не говоря уже о сети), — не рыболовство, а рыбачество, профессия, и к искусству, к страсти рыболовной никакого отношения иметь не могут. А главное — не родят в душе важнейшего и прекраснейшего: созерцания и мечты.
На реках всероссийских — о, вспомним, как там мы сидели и удили!..
Неширокая речка с быстринками, заводями, с камышами и зарослями водяной лилии, с наклоненными над водой деревьями. И рассвет — первый рассвет, когда на поверхности реки курится туман. Лодка бортами раздвинула камыш. Лениво уходящая ночь. Молчанье, или — то, что называют молчаньем, но что для нас, рыболовов, звучит тихой прелюдией просыпающейся жизни. Розовеющий восток — и первый всплеск на реке.
Река никогда не спит — только замирает, только притворяется спящей. Струйка бежит неустанно и морщится, задев за поплавок. Синяя стрекоза — та действительно спит, намокнув от росы; можно взять ее за крылышки — она не пошевелится. К жизни ее возвращает только солнце; где оно пригрело, — там обсыхают и просыпаются синие стрекозы, цветочками торчащие на прибрежной травке. И сразу — стрелкой в воздух: и замрет на месте, ни вверх, ни вниз, ни в сторону; не чета неуклюжему самолету.
Река же не спит. Ночью, задолго до рассвета, вкусно причмокивая, целуют воду лещ и подлещик. «Нем, как рыба» — ничего не означает. Кто это сравнение придумал, тот не слыхал рыбьего голоса. Не слыхал, как чмокает лещ, как стонет окунь, как пикает плотичка. Рыба не нема, хоть и не болтлива. Была бы нема, — зачем бы ей такой прекрасный слух? Иных крупных рыб приманивают хлопушкой по воде; а стукни по днищу лодки — мелюзга стрелками разбежится на обоих берегах.
Я думаю, что можно бы приманивать рыбу хорошей музыкой; конечно, не скрипкой, этим отвратительным инструментом для грубых и тугих ушей, а, например, дудочкой, сделанной из камыша.
Часу в четвертом, прогнав сон и одевшись быстро, чтобы не пропустить рассвета, сунув в карман ломоть черного хлеба с крупной солью (и в том же кармане коробочка с полудохлыми мухами), захватив готовые, с вечера осмотренные, хорошо замотанные (чтобы не задевать леской за кустарник) удочки, — по росе мокрыми до колена ногами беги на речку. На бегу шепчи губами бессвязное, тревожное и страстное, вроде заклинания:
— Солнышко, обожди, не выходи! — Должен быть нынче клев. — Экая роса выпала! — Не забыл ли положить в коробку запасное скользящее грузило?? — Ну, держись, щука!
Рыболовы всегда сами с собой разговаривают, бессвязно, чудно, но интересно и значительно.
В лодку садись тихо, веслами не стучи, воды зря не болтай. Живцов лучше наловить тут же, у мостков, — если с вечера не наловлены.
Муха на крючок, легкий взмах особой, легчайшей удочки, — и сейчас же потянуло перышко под воду: первый живчик, испуганная серебристая уклейка. И второй, и третий; и малая плотичка, красноглазая, вкусная, тут же под навесом ветвей попалась на свое горе и на рыбацкую удачу. Довольно, не к чему зря мучить мелюзгу!
Замок снят, цепочка брошена в лодку, — отъезд.
Куда ни глянешь — всякое место кажется чудесным и добычливым на рассвете. Но нужно выдержать характер и доехать до намеченнаго вчера, — при входе в заводь, в заросли камышей, где на закате так плескалась.
Разогнав лодку и весла сложив раньше — с легким шуршаньем въезжай в камыши, чтобы только корма осталась на вольном течении.
И тут — разматывай не спеша, пока вода успокоится; курить подожди, успеется.
— Тебе, малая плотичка, придется выступить первой. Это больно, очень больно, когда крючок входит в спинку, под плавник! Но разве эта боль и даже предстоящая тебе смерть не искупаются сознанием исключительности твоей судьбы? Твоих сестренок щука или окунь сожрут просто, походя, не поперхнувшись, безнаказанно; а когда тебя схватит зубастый хищник, — тут ему и погибель, не вырвется. Все-таки… приятное сознание жертвы не напрасной, а для блага плотичьего и уклейного народа.
Живчик тихо опущен в воду. Поплавок скользит по крепкому плетеному шнуру и останавливается, где ему полагается. Водой относит и его и живчика. Удилище на борту лодки, тонкий кончик лежит на камышах.
— Гуляй, плотичка. Гуляй веселей, не все ли равно!
И вот — первые минуты созерцания.
Алеет восток; дымка бежит по воде; воздух чист и чуток: ждет жужжанья первой мухи.
Вода еще стальная, гладкая, без ряби. А под гладью уже началась жизнь дневная, — не даром и живчик загулял бойко: тянется к камышам, ведет за собой поплавок. Тянется, — значит завидел вдали врага. И правда — всплеск под тем берегом, гвоздиками разбежалась, морща воду, стайка рыбешек, круги пошли: это вышел на утреннюю охоту хищник; то ли схватил, то ли мимо ударил. Что бы ему подойти сюда поближе!
И мечтает рыболов:
— Вот идет под водой огромная щука, старая, с обомшалой спиной, острозубая. Ищет легкой поживы, смотрит снизу вверх, сама под листами прячется. Она еще далеко — а уклейки уже разбежались, попрятались. И видит щука: жирная плотичка запуталась, либо заигралась, болтается на месте, не уходит. И точит щука зубы, целится. Сейчас даст хвостом толчок, откроет пасть и — цап!..
Поплавка нет; вынырнул на минуту, попрыгал, как живой, — и опять ушел под воду. А как будто все спокойно… Вот где нужна выдержка! Дерни раньше времени — и ушла щука. Нужно знать ее повадки, не мешать ей насладиться, — пока не натянет сама крепкой лесы.
Она схватила плотичку поперек тела, вонзила острые зубы, держит, мнет, пробует, тихо повертывает головой себе в пасть. Тут бы и глотать — да накололась щука, проткнула губу двойным острым якорьком. Боль не велика — щуки не чувствительны, — но обман поняла: неужели попалась? И вот тут — резкий бросок к камышам, так что леска загудела струной.
Теперь, рыболов, не зевай! Удочку вверх, чтобы тонкий конец снасти гнулся колесом. К себе не рви, от себя не пускай, держи от камыша подальше, выводи на вольную воду, когда нужно — подматывай, когда нужно — ослабляй, не спеши, не волнуйся, пружинь: побьется щука, устанет, ляжет брюхом вверх отдохнуть, — тогда подводи ее осторожно к лодке, готовь сачок. И вот тут то не дай ей сорваться сухим и резким ударом, иначе махнет хвостом — и прощай до будущей встречи.
Идут минуты трудной борьбы. Бросается щука то в камыши, то к середине реки, то вглубь, то на поверхность. Вся рыбешка кругом разбежалась и попряталась. Вон она какая страшная и сильная, щука зубастая, — над такой пробьешься с четверть часа, а то и дольше. А если слишком могуч старый хищник и удастся ему вытянуть всю лесу, — лучше бросай скорее в воду удилище. Далеко не утянет, все равно выплывет снасть на поверхность: плыви за ней в лодке и поджидай. Крепко зацепила крючок щука, назад не выбросит. Только придется долго выпутывать лесу из речной травы.
И лезет из воды в лодку узкая зубастая щучья голова, белыми глазами с ненавистью смотрит; обессилела щука, и хвост ее запутался в петлях подсачка.
Победа!
Тем временем поднялось солнце и ожил мир. Золотая муха ткнулась лбом прямо о борт лодки, упала в воду, бьется лапками напрасно. Плыла недолго: цапнула ее рыбешка, вспух на воде пузырек и расплылся кружочком. Окончилась мушья жизнь.
Воздух холоден, солнце горячо. И нежны дали за отлогим берегом. Много видал я рассветов во многих странах. Смотреть на иные из них приезжают туристы нарочно; ложась спать, велят, чтобы их непременно разбудили, когда солнцу полагается вставать по приказанию путеводителя. Ничего себе, рассветы, как рассветы. Но нет рассвета лучше, чем на неширокой и рыбной русской реке!
У рыболова несколько пар глаз: только одной он смотрит за поплавком, другими — с нежной любовью глядит на просыпающийся мир. Ради него он здесь — не ради поживы: от жилья подальше, в тесном слияньи с ласковой живой природой. Не смейтесь над страстным рыболовом, он — служитель прекрасного культа. Никто не видит столько рассветов, как рыболов-любитель. А кто видит много рассветов, у того душа беззлобней, тот дольше молод.
Щуки наелись — и солнце поднялось. Либо домой, хвастаться успехом, либо, оставив лодку, ловить на быстринке, где речка делает поворот, где дно чистое, песчаное, — пестрых темных пескариков, можно сразу на два крючка на одной леске: дело верное, простое, занятное. Иной раз схватит и карапуз-окунишка, любитель червячка.
Программа дня будет такая. Сейчас — досыпать, чаю напившись, недоспанное за ночь. Перед закатом можно с крутого берега попытать на червячка, — там, где недавно брошена зашитая в худую марлю приманка из крупы, гороха, хлеба; уходя наловить бойких живцов для утренней охоты. Если будет ночь хороша — на лещей, рыбу трудную, осторожную, требующую от рыболова выдержки, терпенья и большого искусства. А уж под утро — непременно попытаться поймать хитрого и алчного шереспера, — на длинную леску, пущенную по течению на маленьких поплавках, чтобы не провисала и рыбы не пугала. Шереспер бьет рыбешку хвостом, прежде чем схватить и заглотать; поймать его на удочку — исключительная удача; можно спиннингом, с берега, но как то не по сердцу русскому рыболову английские выдумки; и реки наши, с травкой на берегу, с плывущими ветками, с поросшим дном — не подходящи для такой ловли. Мы — попросту.
Стоят палочками рыболовы-любители по берегам Сены, удят подержанную кильку. Смешной народ, — а все таки, проходя по берегу, нельзя не остановиться и не посмотреть на унылую эту ловлю. Подымет такой рыболов голову, посмотрит рассеянным взором — и во взоре его мелькнет знакомое и важное: созерцание и мечта. Видно и в ванне можно ловить рыбу, если уже страстно хочется. А кто не понимает этого, тому никак не объяснишь, потому что люди бывают разные, страсти их — тоже. За то — «рыбак рыбака видит издалека». И увидав — подойдет и непременно расскажет, как, однажды, попала ему такая рыбина, что знаете, ну прямо… одним словом, смучился. И с каждым разом, с каждым рассказом растет эта рыба в собственных его глазах; особенно, если она сорвалась: огромных размеров достигает, фунтов этак на…. Была ли она таковой, не была ли — не все ли, в сущности, равно? Не была в натуре — в мечтах была. Потому что рыболов всегда — великий мечтатель.
Солнышко заходит, река темнеет, синие стрекозы устроились на стеблях травы и уже намокли от росы. И струйки воды будто бы заснули, — но это только кажется: река никогда не спит!
БАБУШКА И ВНУЧЕК
Два образа, дорогой земляк, закинули вы мне в душу, и никак не могу от них отделиться, — все они стоят передо мною. Теперь вам придется прочитать напечатанным кое-что из нашего вечернего разговора, главное — из ваших рассказов про бабушку, которая все в жизни выполнила, и про мальчика, который шел вдоль ручейка.
Про бабушку, собственно, не много. Была такая старушка-бабушка, в мирном городе Чистополе, в хлебной житнице прошедших времен, на высоком камском берегу. И была та бабушка так хороша и чиста душой, что лучше и представить невозможно. Она была из староверов; становясь на молитву, надевала черный сарафан, голову повязывала белым платком, в руках держала лестовку, крестилась двуперстно, старыми губами уставно подпевала.
Для внука — бабушка всегда была такой: старенькой, морщинистой, беззубой, — хотя и не сгорбленной годами, а прямой в стане. В поклонах поясных и земных на общей молитве бабушка от мира не отставала и на поясницу, как другие, не жаловалась. Со сторонними бабушка была строга и справедлива, только внучку потворщица и баловщица. Надо, однако, полагать, что была и у бабушки своя молодая жизнь, только очень давно, и никак вообразить этого невозможно. Если была в ее молодости какая шалость или непокорность — все искуплено послушанием и подвигом зрелой жизни, и на весах страшного суда скинется с чаши малым золотником, а то и вовсе забудется. А за доброту ее и святость старой ее жизни даже и большой грех пошел бы с позднейшим подвижничеством так-на-так.
Одним словом, сказал про нее внучек, когда уже стал большой и сам свершил половину трудного житейского пути, — так сказал:
«Если есть на свете ад и рай, и если случится, что приведут меня по смерти ко вратам райским, — то прежде всего я спрошу:
— А бабушка моя тут-ли?
И если окажется, что бабушки там нет, — я им прямо скажу:
— Тогда я вас и знать не хочу!
Потому что, если моя бабушка не в раю, тогда это не рай, а одно безобразие. Такой несправедливости нельзя вытерпеть. Она была по-настоящему святой женщиной и выполнила в жизни все, что положено человеку выполнить для спасения».
Вот пока и все про бабушку, а читающий да разумеет, чем образ ее мил, чем дорог и почему вспомнился.
А теперь про мальчика, который шел по ручейку.
И в этом, и в любом месте, и хоть сто раз можно повторить и нужно повторять, что наша весна, русская и северная, совсем особенная, и что здешние люди настоящей весны не знают. Здесь после зимней мокрети проглянет солнце, расцветут цветы, — а на завтра жара и трава желтеет. А у нас первый весенний день нужно уметь угадать, выглядеть его под снежной скатертью, унюхать в воздухе, услышать в воробьином веселом разговоре. Начавшись — долго тянется она, наша северная весна, с проталинками, с ледоходом и многоверстым половодьем, с вербой, подснежником, с грозами и радужным цветеньем, — пока не распустится она в душистое смоляное лето, а в какой день — так и не узнал. Описать это — все равно не опишешь; многие пробовали, — да приставал к перу волосок и зря мазал по бумаге.
Для мальчика, внука святой бабушки, весна приходит в тот день, когда талый снег побежит ручейками.
Мальчик, о котором мы с земляком говорили, подобрал на дворе палку и вышел за ворота. От протали, под стеклянной корочкой льда, бежал по скату улицы ручеек, извиваясь по прихоти, потому что улицы там были не мощеными. И мальчик, прочищая путь воде, разбивая палкой корочку, отгребая в заторах мокрый снег и весеннюю грязь, пошел по течению ручейка.
Руки работают, а голова думает: куда приведет ручей? Из улицы за город, из канавы в речушку, из нее в речку, из речки в реку, из той в другую, а там в море, а может и на край света — и оттуда водопадом уже совсем неизвестно куда.
Пустил мальчик на воду щепку и смотрит, как она крутится, да как она торопится, как бьется о берег, гвоздем окунается в стремнину — и опять выплыла. В ином месте щепка пропала под мостом — и теперь беги, ищи, где ее вынесет на вольный свет. Намокли у мальчика валенки и пальцы на руках померзли, — а никак нельзя бросить занятие и не хочется вертаться домой, пока солнце не потухнет. Бабушка ждет, беспокоится, старыми пальцами перебирает кожаные барочки лестовки, старыми губами шепчет, что помнит, из уставной молитвы.
Дома, намаявшись за день похода, мальчик спит и видит во сне все то же теченье ручья, блестки водяных морщинок, талый снег и весеннюю муть. Во сне растет, и на утро встанет на день старше и умнее, на сутки ближе к мудрости, что узнать полностью нам ничего не дано, что все, как весна, повторяется, и нового под солнцем нет и не будет. Для того и кругла земля, чтобы не было ей ни конца, ни начала и чтобы всякий путь возвращался на свои круги.
Потом мой земляк рассказывал, как однажды ушел он по теченью ручейка, да так и не вернулся домой.
Бабушка причитала: «Ты уйдешь, — а как я одна останусь?» — Солнце топило снега, время было замечательное, кругом гомон и говор, кто не любит обещаться впустую — должен действовать.
Как тупорылый щенок, какой хочешь породы, едва промывши светлым воздухом молочные свои глаза, тыкается теплой мордашкой куда попало, потому что мир нов и нужно в нем участвовать, — так вот и мы, дорогой земляк, ищем, хорохоримся, предполагаем, жертвуем, а в общем — идем по бегу весеннего ручейка, до ужаса любопытствуя, куда он нас приведет и чем все это кончится.
Исстари повелось, что были на Руси страствователи, искатели правды. Их рисуют бородатыми, с посохом в руке и с котомкой за плечами. Этих любителей путничать называли своевольными и божевольными шатунами, незнамыми, странними, захожими людьми, а в песнях пели милосердными богатырями. Иные кончали свое странствие таежными скитами, а другие до конца жизни пребывали неустанными землепроходами, и путь их ищущий был на Киев, на туретчину, на чужие страны. Полагается думать, что вела их смиренная вера, — а вправду их вело страстное любопытство, сомненье в том, что земля кругла, что все люди одноглазы и что три кита живут только в сказке. А это уж не смирение, а бунтарство. Говорили, что «одним избяным теплом не проживешь», — надобно потрепать много лаптей. И уходили гуськом, один за другим, по теченью ручьев, палочкой пробивая ледяную корку.
Эти люди не перевелись и не у всех их длинные бороды и посох, — много среди них молодых и бывалых смолоду. Случалось — уходили и большими толпами.
Так однажды ушел и наш мальчик.
Уж и бабушки не видно, и родной дом приземился и стал совсем маленьким. Не заметил мальчик, как просохли в Закамье заливные луга, как соловьи повили гнезда и перестали петь, как налился колос, а потом поля оголились и покрылись золотой щетиной, потом приспело дождливое время и снова запахло снегом, а там стукнул мороз.
Давно уже нет ручейка, а вместо него бежит ручей жизни, тоже вьется прихотливо, тоже ведет неизвестно куда, из канавы в рытвину, из реки в море — все ближе к краю света.
И сам мальчик уже не мальчик, а один из тех, кому было суждено пройти крестный путь русских надежд и страданий, — полностью и по совести.
Может быть, он и не совсем такой, как все, как тысячи, — но путь проделал честно и точно тот самый, как тысячи, как все без отличья: с севера на юг, из Крыма к туркам, от славян на парижский завод точить и прилаживать заднюю ось. И вот мы сидим, смущенные воспоминаниями о наших родных камских берегах, о том, как шумит у нас бор и свистят пароходы, как в ледоход громоздятся на завороте реки льдина на льдину — и как разом рушатся, да скольких сортов и цветов бывают сыроежки, да как по осени желтеют и золотеют опушки, — сидим в Париже, оба здесь старожилы и оба нездешние, а тамошние, одним словом, — северные, прикамские, и здесь мы совсем напрасно, зря завел нас сюда мутный весенний ручей. Я — постарше, попривычнее, а он, молодой и поживший, говорит, потирая лоб там, где будут морщины:
— Не понимаю, куда ушли пятнадцать лет? Не заметил, как они прошли.
Человек, которого не умудрилась удержать дома даже добрая бабушка, катится по свету, как на салазках с ледяной горы — удержаться никак невозможно, только направляй путь железной сваечкой, да и то больше для собственного утешения, а несет и швыряет сила не своя, чужая, ничья. И, как во сне, побежали и пробежали года, страны, путаные думы и те маленькие огрызки счастья и недоли, из которых складывается человеческая жизнь, у одних с выгодным, у других с плохим перевесом. Даже некогда оглянуться, сложить ладонь зонтиком и посмотреть, все ли еще стоит на крыльце бабушка — или она уже на сладком отдыхе, а в ее сундуке больше нет белого савана.
Если теперь начать вертеть колесо в обратную сторону, то получится большая неразбериха.
Идти по теченью, от первой проталины — к океану, очень просто, и сбиться с пути не на чем. Идти обратно, — свои следы утеряны, а новых чужих следов нет числа: что ни шаг — то поворот и развилка, что ни взгляд вперед — то новое устье. Из тысячи ручьев, впадающих в одну большую речку, нужно догадаться выбрать свой, который поведет домой, к своим лесам, в родной бабушкин город Чистополь. Это, земляк, очень трудно, да и возможно ли.
И даже самый город переменился — не сразу узнаешь. Помните, как там длинной вереницей стояли хлебные амбары, которым не часто приходилось пустовать, сколько было одних торговых пристаней, какая цветная толпа встречала первый пароход с Нижнего? И нет той улицы, и нет знакомого крыльца, и кости бабушки давно истлели в земле, так надолго покинутой внуком. Встретят чужие лица, при встрече не улыбнутся, не ответят на робкое приветствие, повернутся спиной к пришлому неведомо откуда человеку. Неведомо откуда — и неведомо зачем.
Вот когда поймется, что крестный путь не был последним испытанием и не был труднейшим. Ручеек бежал вниз да вниз, — а обратно подыматься нужно в гору.
Скажем даже: нашел дорогу и вернулся внучек. Вернулся помятый жизнью, без красных щек, без теплых варежек и молодого любопытного глаза. Думал, возвращаясь, что чужой язык остался за горами, морями и границами, а на проверку — чужой язык здесь, дома. Либо по-русски не понимают — либо изменился сам русский язык. Слова как бы те же — понятия иные. Стало лучше или стало похуже — разобрать нельзя; верно одно, что никто не помнит про старую бабушку, нет тропы к ее могиле, и самой могилы нет. Точно прошли не годы, а века, точно засыпана прежняя земля толстым слоем новой, — и это не снег, по весне не растает.
Если внук вернулся умен — тогда и в грусти поймет, что только для него мир перелицован, а для всех других сегодня и есть сегодня, как вчера было вчера. Стареют новые бабушки, родятся новые внуки; и с первыми весенними ручьями по всей непомерно большой нашей стране пойдут мальчики с палками дробить ледяную корочку и смотреть, куда бежит вода и где конец ее бегу. На ходу мельком оглянутся на пришлого человека: где ему понять их великое любопытство. А у него и впрямь совсем другое теперь на уме: разыскать старый бабушкин сундук или хоть ее ременные плетеные четки с треугольной висюлькой: не для веры, а хоть для памяти.
Осень весны не понимает, дорогой земляк, хотя у каждой поры года своя прелесть и своя красота, и делить им, казалось бы, нечего, можно бы и договориться. Но каждая пора знает свой черед и уступает другой время и место без задержки в час, однажды указанный. Всякий год прилетают и улетают ласточки — и те же и не те.
Мы еще о многом говорили с земляком, и о приятном, и о нужном.
Приятное — эти разные воспоминания; тут мы друг друга перебивали, стараясь вперед другого сказать, как хороши на большой реке пловучие беляны и как в наше время строили на них кружевной деревянный домик; и еще — как на самом носу длинного плота горит костер, чтобы часом не наскочил сонный пароход снизу. Но за один вечер всего в памяти не переберешь.
А нужное — это взаимный уговор и ласковое утешенье. Главное — чтобы без злобы, никого не осуждая и ни в чем не каясь. Нездешние по рожденью и привязанностям — в здешних мы никогда не обратимся, да и охоты к тому нет. С людьми мириться трудно, с судьбой можно, а будущего не угадаешь.
А всего любопытнее, что наша судьба не исключительна, как не очень уж приметливо в истории и наше время: бывало такое раньше, будет и впредь. Утешенье маленькое и слабое — а все же: начав с маленького, можно додуматься и до большого, а то оно и само придет, даже и не прошеным, и не сегодня — так на днях, годом раньше — годом позже, и придет оно для всех одинаково.
Так мы и решили. Но пока вспоминали и решали, мы, говоря обо всем, много раз возвращались к образам, очень уж прочно запавшим в душу и с нею сжившимся навсегда: к бабушке, которая все выполнила для святости, и к мальчику-внуку, который шел, да так и ушел по теченью раннего, холодного, мутного, но живого и забавного весеннего ручейка.
ЧУДО НА ОЗЕРЕ
Проф. В. М. Ц-ву
Опять и опять, со странной непоследовательностью, в неурочный час и без всякой связи с обстановкой (за окном скука, в комнате полутемно, в руках прочитанная газета) — встает предо мной высочайшая отвесная скала над спокойным озером.
Закрываю глаза — и слышу четкий, но очень далекий звон колокола. Он доносится сверху, оттуда, где у самого края тонкой палочкой белеет колокольня игрушечной церковки. Сам же я на другом берегу, отлогом, у воды, которая едва плещется.
Видеть все это мысленно с такой ясностью, когда прошло уже почти двадцать лет, как не бывал я на озере Гарда, красивейшем из итальянских озер! Срок не малый, профессор, как вы думаете? Годом больше, годом меньше — не в том дело; все равно — какой цифрой изобразишь вечность?
Да, мой дорогой профессор и старый друг, прошла вечность. Прочтя эти строки, вы будете удивлены, почему так неожиданно я вспомнил сегодня наши дни на озере Гарда. Приблизьте ухо — я вам шепну:
— Потому что этих дней я никогда и не забывал.
Если вы наклонитесь поближе, я добавлю (только не смущайтесь):
— И вы, профессор, тоже никогда их не забывали.
Вы видите — я владею вашим секретом. Но не будем оглядываться на нас теперешних; мы, кстати, давно и не видались. Да и нужно ли видеться? Встречаясь после долгой разлуки, люди смущенно улыбаются, мнутся и ловят выражение глаз друг друга: «Каким он меня нашел? А сам он, бедняга, да… немножко изменился…» И каждый думает про себя: «Кажется, я все же постарел меньше».
Почему вспоминаю именно сегодня? Потому что сегодня, как вчера, как завтра, — под каблуками французский паркетный пол, на стене календарь и сонная осенняя муха. С малого разбега я бросаюсь на эту стену, наваливаюсь, обрушиваю ее, пробиваюсь наружу, весь обсыпанный камушками и пылью штукатурки, с плечом, разбитым осколком упавшего карниза, — и вот мы на свободе, профессор, мы скинули с плеч по двадцать лет, мы на берегу озера Гарда, в местечке Мальчезине, ничем не замечательном, даже, по совести говоря, плохоньком, но для нашей памяти — священном. Не молчите же (какой вы медлительный!), отвечайте:
— Что вы дали бы за возможность еще раз пережить то, что было пережито, и быть таким же, каким были тогда?
Ну что? Весь мир? Всем то миром мы не владеем, профессор, не стоит и обещать. Давайте — обещаем за это маленький остаток нашей жизни, эту никому не нужную мелочишку, зачем то залежавшуюся в кармане. Ох, как мы бедны, профессор, и как богаты были мы когда-то!
Один раз в жизни мне довелось изображать важную особу.
Я тогда ведал в Италии экскурсиями русских народных учителей и студенческой молодежи. Объезжая города, где были у нас группы экскурсантов, заехал и в местечко отдыха — на озеро Гарда. Тут жило человек пятьдесят, во главе с руководителем, московским профессором — геологом, человеком превосходным и оригинальным. Чтобы не смущать — не назову его: в соседней стране он делит с нами удел зарубежного бытия.
Для маленького итальянского местечка такой наплыв иностранцев, хоть и не богатых, — большое событие и источник благосостояния. Понятно, поэтому, что приезд туда «начальника русских караванов» не мог пройти незамеченным, и мне приготовлена была торжественная встреча.
От Дезендзано до Мальчезине — большой путь по озеру на пароходике, который, под скалами, кажется водяным паучком. В узкой части озера есть одно селеньице, забравшееся к самому небу. Почему поселились там люди — совсем непонятно; впрочем, вообще трудно понять, почему и как попадают люди на вершины гор, на острова, в непролазные дебри. Подняться в селенье было можно только пешком, для чего проникали в дырочку внизу отвесной скалы и дальше ползли червячком, по неведомо кем прорытому пути — вверх, винтом, как на высокую башню. Всякие товары, тяжелые вещи, продукты питания поднимались прямо с берега на стальных канатах на такую высь, что много ниже вили гнезда соколики с пискливым криком, а в туманное утро, случалось, и облако застревало посредине скалы, отрезав от земли жителей чудесного селенья.
Ехал я мимо этих чудес, мимо берегов, золотевших от ковра зрелых лимонов; Гарда — лимонное царство, с виноградом тут хуже. К концу пути солнце уже было низко, и скалы бросали тень на спокойную воду. Вот, казалось, спокойное озеро — чистая благодать; и не верилось, что славится оно внезапными бурями. В вечерней прохладе дышать было легко, и красота была несказанна. Ко всему в довершенье предстояла встреча с приезжими русскими и с милым профессором, с которым мы год назад подружились в Риме и с тех пор не видались.
Подъезжая, я всматривался в берег, где на площади, у самой пристани, стояла толпа. А сойдя с парохода, попал прямо в объятия почтенного геолога, — и вот тогда внезапно грянул оркестр.
Оркестр догадался грянуть… «Боже, царя храни», — и ко мне подошел синдак коммуны, высокий старик, с приветствием от лица сограждан.
Только милым провинциальным итальянцам могла придти в голову такая блестящая идея: встретить русского политического эмигранта царским гимном. Поразило меня это так, как если бы сейчас кто-нибудь догадался исполнить в мою честь «интернационал». Но как старательно разучили музыканты этот гимн и как чудесно сыграли! Не рубленым темпом, как играли его в России, а с какими-то тонкими оттенками, с замедленным ритмом во вступлении и ускоренным в фортиссимо. Совсем по-своему — и очень любовно.
Не один я был смущен этим сюрпризом, — смутились и экскурсанты, вышедшие меня встретить. Я скоро спохватился и, как умел, сделал им знак, чтобы не вздумали выражать протест, на который молодежь так падка. Не объяснять же итальянцам маленького местечка, что этот гимн не совсем наш, что в нас он чувств приятных не будит! Не в нем дело — дело в трогательной предупредительности представителей городка, в их славной внимательности. Зачем их разочаровывать и обижать.
Еще раз пожав руку синдаку, я попросил оркестр сыграть гимн Гарибальди; не королевский, не очень популярный, а гарибальдийский, всеми любимый и приемлемый:
Вскрываются могилы — подымаются мертвые. И вот восстали все наши мученики: Увенчаны лаврами, с мечами в руке, С пламенем и именем Италии в сердце.Вышло удачно, потому что местечко оказалось республиканским.
Теперь мы уже облобызались с синдаком, и всей толпой отправились в наш отель. Вдогонку нам оркестр играл веселую песенку. Старого синдака усадили за стол, окружили бойкими нашими барышнями и хорошо напоили шипучим Асти. И он нам понравился, и мы ему полюбились, и стал он с того дня нашим ежедневным гостем.
И вот тут то, профессор, и начинается.
Сначала на озере, прямо против садика нашего отеля, большие рыбацкие барки, украшенные фонариками; а садик от воды отделен только легкой решеткой. Потом, когда лодки уходят на покой, выплывает луна, большущая, ясная. Вся наша молодежь разбрелась, мы же, на сегодня, за другими не следуем, а делимся своими думами и чувствами друг с другом.
Я знаю, профессор (мне насплетничали), что у вас каждое утро появляются на столе свежие полевые цветы, целый букет, и что приносит и ставит их существо кротчайшее и милое, и что вы в этом неповинны, и относитесь к ней, как к дочери, потому что волосы ваши уже седы, и их мало — хоть и не стары года. Но, профессор, кто, живя на озере Гарда, не влюблен, — того вы же первый назовете сухарем и нестоющим человеком.
В боковом кармане у вас тетрадочка, а в тетрадочке стихи. И сколько вы ни скрываетесь передо всеми — от меня вам не укрыться, потому что мы, ведь, одной породы и почти одного поколения. Над нами часто смеются, но нам всегда завидуют.
Мы поклонники молодости и соблазнители; робким мы потихоньку советуем: «Не смущайтесь и не бойтесь быть смешными; луна прекрасна, вечер тепл, дорожки над озером уютны и безопасны; гуляйте по ним вдвоем, говорите о прекрасных пустяках и учитесь целоваться».
Сами же мы, как старшие, сегодня вечером говорим о загадочности мироздания, о вечности, о звездных далях, о сладости музыки и поэзии, об уходящих годах. Но кончается все таки тем, что вы, вглядываясь в мелкий бисер своей записной книжки, читаете стихи, посвященные не ей, а вообще — молодости и тому смешному и странному чувству, от которого никуда не убежишь и вне которого жизнь так безвкусна. Нужды нет, что вы — геолог, а я недавний адвокат.
А когда голос ваш начинает уж очень сильно дрожать, тогда вы ведете меня в комнаты, в освещенный луною зал, к роялю, чтобы досказать музыкой то, чего словами не выскажешь; там те же стихи вы объясняете мне внезапной импровизацией, — вы изумительный музыкант, профессор геологии!
Вы играете, а зал наполняется тенями: из лунного сада в лунную комнату входят люди парочками, садятся поодаль, теснятся в затененных простенках, — в полном и благоговейном молчании. И тогда я шепчу вам: «Сыграйте им что-нибудь, что бы захватило их и унесло!» Вы говорите шепотом:
— Но я могу сейчас сыграть только свое, только то, что сейчас чувствую, чего еще и сам не знаю.
— Это и нужно, профессор.
И вы играете. Не знаю, как назвать вашу музыку; может быть, она была больной, может быть гениальной. Что-то необыкновенное вы сделали тогда со всеми нами. Я увел вас потом в вашу комнату, боясь за ваше сердце; вы были бледны и зачем то все извинялись. Я ушел обратно в сад и в ту ночь не спал. Я вам сознаюсь, профессор, — я не один гулял, пока луна стала бледнеть и с озера потянуло сыростью. Я выполнял наши советы и наши уроки — и чувствовал себя счастливым юношей и не слишком робким. Виноваты в этом были вы.
Таких ночей было несколько — я засиделся в озерцом местечке и на время забыл свои ревизии. И не каюсь.
По обязанности руководителя разумного отдыха, профессор устраивал с экскурсантами прогулки в горы и вел с ними геологические беседы. Домой возвращались усталыми, голодными, опаленными солнцем и насквозь проветренными горной свежестью. И все-таки хватало сил после ужина снова бродить по берегу озера, прятаться в темной зелени, пеньем нарушать покой мирных мальчезинских жителей. Дверной ключ в отеле всегда торчал снаружи, и дверь хлопала до самого утра. Вставали поздно и до купанья сердито щурились. Писали и посылали в Россию кучи открыток с видом скалы, над которой белым гвоздиком торчала маленькая колокольня.
Однажды профессор повез молодежь на остров, на хороших лодках, с запасом провизии, с удочками, ради прогулки и, конечно, «научных занятий». Отплыли при легком ветре, на склоне дня, чтобы там закусить, погулять и вернуться при луне. Гребцов не взяли — сами гребцы не плохие.
Были уже далеко и от местечка и от берегов. Ближе к острову озеро было широким и открытым, как маленькое море. Ехали с песнями и шалостями, — профессорская лодка впереди.
Но озеро Гарда капризно. Из-за высокой скалы незаметно подкралась тучка, вода потемнела, подул порывистый ветер, потом налетел настоящий шквал, волны забурлили, и озеро разыгралась, как заправское море. Вместо пенья — крики ужаса, а остров еще далеко, к берегу еще дальше.
На передней лодке профессор, бледный и дрожащий, но командир, ответственный за жизнь молодежи, зовет глазами берег острова, считает взмахи весел, молится про себя всеми молитвами, которые знает и которые спасали его в других жизненных бурях.
Так шли минуты, и так шли часы, пока лодки относило ветром и крутило среди волн. Было темно, когда из последних сил добрались до острова и ткнулись носами лодок в песчаный берег. Все были целы — десятки молодых жизней. Усталые, промокшие, молчаливо выходили из лодок и скорее отбегали от страшной воды. В этот момент взошла луна.
И вот перед толпой испуганной и присмиревшей молодежи встал профессор, обнажил голову, осветив луной огромный свой лоб, и сказал строго и убедительно:
— Все на колени!
Опустился первым впереди — и за ним опустились все. И он стал за всех громко молиться.
Молился словами благодарности за спасенье, — Богу ли, року ли, словами своими, такой же музыкальной импровизацией слов, какая лилась из-под пальцев его у рояля. Молился долго, поднимая руки к небу и к взошедшей луне, улетев мыслью в звездные миры, с глазами полными счастливых слез и с сердцем, полным детской веры. А за ним — все эти молодые скептики, студенты, шаловливые девушки. Были минуты странного экстаза, сознания совершившегося чуда, которое вымолил у неба и озерных чудовищ вот этот странный человек, профессор геологии, для них уже старик, но влюбленный в жизнь и знающий что то такое, чего они еще не знали, но силу чего чувствовали на себе.
Потом они окружили его молчаливой толпой и смотрели на него, как на святого, проведшего их по волнам невредимыми, сохранившими такое дорогое сокровище, как жизнь, еще почти не начатая.
Так же молча расселись на берегу и стали смотреть на озеро. Волн уже не было, вода покрывалась рябью, от луны шла дорога света. Еще полчаса — и озеро стало совсем спокойным — как это бывает только меж высоких, обманчивых и коварных берегов Гарда, лучшего из итальянских озер.
На утро уже спокойно вспоминали они свое приключение, но многие остались задумчивыми. Профессор был нездоров и к обеду не вышел. Сегодня, сверх обычного утреннего букета, он получил еще много цветов, собранных любящими руками, может быть не только женскими.
Я взволновал вас этим рассказом, дорогой профессор? Мой рассказ может быть не точным, — я пишу его с чужих слов, так как меня тогда уже не было с вами. Те, кто мне рассказали, не улыбались, вспоминая о вас и об общей молитве. Они говорили, что пережили близость чуда, что спастись было нельзя, значит это было делом вашей святости или вашего колдовства. Одни, верующие, приписали свое спасенье вашей молитве, другие, скептики, отказались искать объясненья, чтобы не изменить себе, но и не нарушить силы воспоминанья.
Я же, веселый безбожник, тщусь понять все без помощи неведомых мне сил. Я знаю, что такое любовь к жизни и жажда жизни. В любви этой вложена сила, которой не нужно иных объяснений. Я слышал ее в вашей музыке, и не о ней ли говорили мы с вами, профессор, в наши лунные встречи на озере Гарда? Этой силы, нас тогда окрылявшей, было довольно на всех. Как могли — мы учили любить и не бояться, потому что минуты жизни кратки и священны, и все они на счету, и нельзя пропускать их с небрежной медлительностью чувств. Учили музыкой, словами, личным примером. Вам на долю выпало доказать, что жажда жизни усмиряет волны, а с любовью в сердце можно в утлой лодке переплыть океан. Или скажут, что все это лишь вздор и красивые слова? Пусть думают так — мы верили иначе. И с этой верой жили и дожили до тех лет, когда менять веру уже поздно.
Профессор, этими строками, писанными для вас, позвольте перекинуть мост старой нашей дружбы через головы всех скептиков, людей прозы, не верящих в дружбу и не жаждущих чуда. Молча, про себя, мы знаем, где голая истина и где ее прекрасные одежды. Нам не приходится бояться ошибки.
Прошли годы, и прожито так много. На жизненных полках томы и страшных и ласковых воспоминаний. Среди них сегодня я открыл страницу нашей встречи, которой ни я, ни вы забыть не можем. Яркими и четкими буквами написано в ее заголовке:
«Чудо на озере Гарда».
ИГРОК
Когда крупье забрал и передвинул своим изумительным деревянным мечом кучу разноцветных костяшек, — на плечо мое легла рука, и слегка насмешливый, очень знакомый голос сказал:
— Такого случая, седьмой карты, я жду три года. Но вы, конечно, правы, дав и восьмую.
Я поднял голову и увидал старого московского приятеля, которого давно потерял из виду.
Собрав печальные остатки костяшек, я встал — к удовольствию ожидавших свободного места за столом.
Поздоровавшись, он продолжал:
— Дать восьмую карту, это, конечно, жест красивый. Французы этого не умеют. Чувствуется московское воспитание.
— Плохое утешенье, — кисло улыбнулся я. — Было бы гораздо лучше остановиться даже на пятой.
— Однако, прошла и шестая и седьмая. Могла пройти и восьмая. Получался хороший куш.
— По моим достаткам — почти богатство. Я совершенно не понимаю, почему я дал восьмую…
— О, это понятно, понятно. Очень, очень понятно.
Мы решили поболтать не в буфете клуба, а где-нибудь в кафэ. На минуту задержались у большого стола баккара, где по зеленому сукну быстро передвигались кучки красных, голубых и перламутровых дощечек; игра шла миллионная. То, что отняла у меня восьмая карта, здесь выражалось одной красивой голубой дощечкой, и, в общем счете, роли не играло. Голубая дощечка равна была только годовому заработку среднего чиновника.
В кафэ было пусто; мы заняли угловой столик и, в ожидании двух кружек, рассматривали друг друга.
— Вы часто играете? — спросил он.
— Только случайно. А вы — клубный житель?
— Да, как всегда. Но играю сейчас мало.
— Неудачи?
— Д-да, мертвая полоса. Бывает.
С его лица не сходила усталая полуулыбка человека, видавшего виды. Я вспомнил, что улыбка эта была мне знакома еще по Москве, где мы также не раз встречались за круглым столом.
— Неисправимы? — засмеялся я.
— Да зачем же исправляться? В сущности в этом вся жизнь. Во всяком случае лучшее в жизни.
— В азарте?
— Да. Именно в азарте. Азарт — святое дело. Высокое дело. Выше азарта ничего нет. Побить восьмую карту ничем не хуже прекрасной поэмы или главы романа. Но нужно это уметь делать.
— Послушали бы вас моралисты — получили бы вы от них хорошую отповедь. Карты — гиблое дело. Душу вытравляют.
— Ах нет, это уж нет! Что угодно, а это не так. Азарт вообще возвышает, а не унижает душу. Я это говорю не как игрок, а совершенно беспристрастно. Я об этом много думал, да и наблюдал на своем веку достаточно.
Мы попробовали говорить о другом. Наскоро обменялись деталями биографий последних лет. Вспомнили о старых встречах и об ушедших людях. И скоро разговор вернулся к прежней теме.
Он отпивал пиво маленькими глотками, не глядя на кружку. Впрочем, глаза его всегда смотрели мимо предметов — куда-то. А пальцы руки, нерабочей, бледноватой и слегка дрожащей, ни на минуту не оставались спокойными. С этой сдерживаемой природной нервностью не согласовался спокойный, слегка насмешливый голос, которым он произносил слова странные и глубоко убежденные.
— Азарт… и все в негодовании. Говорят: больная страсть, снижение достоинства человека. Ну, конечно! Горящие глаза, забвение человеческого, близость к зверю… Вздор это! Азарт человека возносит к небу, близит с богами. Плоской жизни, расчету каждого шага и каждой копейки он противополагает вдохновение, блеск, гигантский взлет надежд, гибельную пропасть падения, великое, именуемое «случайностью». Он маленькому чертику рассудка вырывает клок серенькой шерсти, и чертик гибнет со свистом. И тогда встает, вырастает огромный и великий бог, или дьявол, — где разница? — сжимает человеку сердце и горло сладкой цепью мечты, страха и дерзанья, швыряет в прах семью, труд, все проклятые добродетели человека, связавшие его по рукам и ногам и сделавшие жизнь вечным проклятьем, и манит, обманывает, дарит минутой счастья, бьет и губит внезапным ударом смешной и нелепой судьбы, ласкает тихой и ровной радостью. Да! Есть и простая сельская радость во всецветном азарте.
— Но слушайте, — вы настоящий поэт! А скажите, у вас здесь есть семья? Дети?
— Что? Да, да, конечно. И дети. У меня двое. Но это не важно.
И, отпив глоток, продолжал:
— Вы вот заметьте, что среди азартных, то-есть настоящих, а не трусов и не ловкачей, нет злодеев и очень много (если не все) людей безбрежной щедрости и минутной (всегда минутной) высочайшей душевной красоты. Эти люди умеют и смеют дарить широким жестом, счастливить, любить всем сердцем. И вдруг — страшная низость, полное падение, боязнь потерять полугрошик, последнюю свою соломинку спасения. И вот он за минуту — богач, расточитель, благодетель, красивое сердце, — отказывает тонущему не только в помощи, а в простом сочувствии. И глубоко страдает за его гибель и за свою мерзость. Извивается, изощряется, подставляет ногу, выкарабкивается по чужим трупам. А через минуту — снова бог, снова щедрый, великодушный, снова выше всех мелких сегодняшних политиков, тружеников в поте лица, благотворителей, отдающих процент, — а он игрок с жизнью, отдает все зря, по воле своей и кусочка бристольского картона, не думая, не считая, ради красоты жеста… Потому что — хочу и могу. И не дорожу ничем, только бы заглянуть в бездну, только бы поиграть с нею, равный, а не как ее раб.
— И, в заключение, всегда проиграть?
— Что? Но ведь это не важно: проиграть, выиграть. То-есть это тоже важно, но только на момент, до следующей карты. Пока есть что ставить. А затем — возврат к обычной жизни, к быту, к жене, к детям, к улице, газетам, вообще к тому, что называется действительностью. Из садов райских — в болото.
— Неужели же по вашему в этой действительной жизни….
— Подождите, — перебил он. — вот что я вам хочу сказать, вы играли когда-нибудь один, сами с собой?
— Как?
— Ну, ночью, или когда нет денег на игру. Тот не игрок, то-есть ничего в игре не понимает, кто не играл сам с собой. Я играл ночами, до света. Метал на две руки, делал ставки, выигрывал и проигрывал колоссальные суммы, миллионы, без всякого удержа и с реальнейшим переживанием счастья и неудач. Говорил вслух, небрежничал, иронизировал, колебался. И очень волновался, особенно при крупных проигрышах. Когда не было дома карт, играл по телефонной книге.
— Как это по телефонной книге?
— А просто, открывал наудачу и слагал цифры парами. Но, конечно, это суррогат азарта, а не настоящий. Но все же жизнь особая, более высокая, лучше сна и лучше ненужного бодрствования. И знаете, однажды я побил двадцать три карты подряд. Вы понимаете — двадцать три подряд! Это было изумительное переживание. Если бы я играл не сам против себя, я бы выиграл миллиард, был бы богачом. Я даже не мог бы уже проиграть этого, мне не достало бы противников. Двадцать три карты! Я не мог заснуть до утра, но дальше было уже не то, игра мелкая, с переменным счастьем.
— Ну, это, знаете, уже…
— Ненормальность? Нет, я человек психически здоровый. Но я не знаю ничего выше игры случая. Подумайте — какое превосходное ниспровержение законов логики, расчетов статистики… почему седьмая карта прошла, а восьмая бита? Маленькая, необъяснимая случайность — и вы бы были сегодня богаты.
— Если бы снова не проиграл всего.
— Это уж другое. Важна минута, а не конечный результат. А впрочем…
Он добродушно рассмеялся:
— Конечно, и поэзии есть пределы. У меня — я уже говорил вам — сейчас какая-то гиблая полоса. Дальше второй карты не бывает. Даже воображение не работает. И нет никакой веры. Вот это странно — почему иногда исчезает вера? Даешь карту и наверное знаешь, что проиграешь. Пока не подходит момент, когда уже нет для ставки и когда наверное, ну вот непременно был бы успех. Встаешь из-за стола и видишь, как твоими картами кто-нибудь бьет, и бьет, и бьет, — твоим счастьем. Не хватало только одной последней ставки. Это изумительно. И это тянется иногда месяцами. Так вот и сейчас со мной.
Когда нам принесли по новой кружке, он продолжал:
— Вот я вам расскажу два случая из моей жизни. Однажды мне очень хотелось помочь больной женщине, моей знакомой, вдове умершего моего приятеля. А помочь было нечем. Человек она была молодой, вся жизнь была впереди, а от брака своего, такого неудачного, имела на руках сынишку. От всякого горя и печали случилось что-то с легкими, и нужно было отправить ее на юг поправляться. Очень мне было жалко на нее смотреть, а помочь — чем я могу помочь? Только одно средство — выиграть.
— Средство сомнительное.
— Да, уж это — как повезет. Ну, пришел я однажды к ней и говорю: «Дайте мне на счастье руку». — «Нате, говорит, а зачем?» — «Пойду играть на ваше счастье. И хочу много выиграть. Если выиграю — возьмете у меня?» — «Возьму». — «А сколько вам нужно, чтобы прожить полгода на юге? Тысячи рублей хватит?» — «О, с избытком», — «Завтра утром ждите». Она посмеялась, а я ушел.
Дело было к ночи, по ночам и играли. Ну, коротко говоря, случилась полоса изумительная. В кармане у меня пустяки, и я в первый же банк заложил половину всего, что имел. Провел карт пять, продал банк, повернул, взял. Следующий мой банк — уже крупнее. Везло мне, как никогда, и игроки были денежные. Тысячу рублей я сделал за первые полчаса, а дальше и считать перестал. Играл, как бы шутя, а на душе такая высокая радость, что и не расскажешь. Ведь человека спасу, прекрасную молодую женщину и ее ребенка. И уж не о поездке ее шла теперь речь, не о полугоде отдыха. Даже если останется у меня к утру половина того, что я выиграл, — я обеспечу ей жизнь и ее ребенку воспитание.
Давал карту, бил, забирал деньги, давал дальше и шептал про себя: «А это Васютке на костюмчик, а на это ему ослика купим, а на это лодку с парусом». И если лодку с парусом били — начинал снова, отыгрывал лодку и наигрывал еще на велосипед. Пусть хоть дом покупают — мне то что за дело: деньги их!
Стал играть дальше сдержанно: не скупо, а благоразумно. И все смотрел на часы: скоро ли утро. Проигрывал, выигрывал, но все же лежала передо мной кучка денег раз в двадцать больше, чем та презренная тысяча, о которой мы говорили. Так дотянул до утра, и даже часам к восьми еще наиграл.
— И не проиграли? Унесли?
— А вот слушайте. Собрал я деньги, положил в бумажник, встал. Ну, конечно, недовольные лица, — уходит человек с деньгами. Подождите, говорят, до завтрака, а там все разойдемся. Говорю: не могу, должен идти; если хотите — вернусь через час. «Не вернетесь!» — Даю слово!
Вышел и прямо к ней. По дороге отсчитал двадцать тысяч, завернул особо в бумажку. И мне осталось на игру. Не на жизнь, об этом я никогда не думаю.
Жила она совсем рядом. И вот неудача: не застал. Вышла рано по каким то делам, а вернется — сказала — не раньше обеда. Было обидно! А я уже и фразу приготовил: «Вот выигрыш. Согласны взять, что в этой бумажке, — и чтобы разговору об этом больше не было?» — «Согласна», — «Получайте, и больше ни единого слова!» — Эффектно! Эх, как на душе у меня хорошо было!
— Неужели вернулись и все проиграли?
— Да, вернулся и все проиграл, все до копейки. Вы думаете — по слабости? Нет, сознательно. Когда шел, ясно отдавал себе отчет в том, что могу загубить хорошее дело. И как подумал — решил непременно идти играть. Даже дрожал от удовольствия: вот это — настоящая ставка! Ведь и деньги уж, собственно, не мои были, значит — почти преступление. И стал играть сразу крупно, не считая. Представьте — опять повезло. Через час удвоил сумму. Еще через час — заложил в банк последнюю сторублевку и знал, что ее возьмут. Первую карту побили.
Он замолчал, смотря перед собой блестящими, ушедшими вдаль глазами.
— Да… Ну, а второй случай?
— Что? Ах, второй… Ну, это не так интересно.
Как-то я проигрался совершенно, вернулся ночью домой и лег спать. И вдруг вспомнил, что накануне дал жене немного денег на какие-то необходимые покупки. В то время жилось нам очень плохо. Вспомнил — и не могу заснуть. И вот встал, тихонько пробрался в комнату, где спала жена, долго шарил, боясь зажечь спичку, нащупал ее сумку, унес, вынул деньги, сумку отнес обратно. И чувствовал себя настоящим вором, настоящим. Интересное ощущение. Ушел из дому опять играть. И представьте — начал с пустяками, а к концу выиграл довольно много. И даже удержался — вернулся с выигрышем. Дома застал жену в горе: деньги пропали, последние деньги. Ну, встал перед ней на колени, отдал ей весь выигрыш.
— Это ты взял? Ты взял на игру? Последнее? У меня из сумки!
— Да, говорю, — я. Я украл их у тебя, потихоньку, ночью.
Вышло хуже, чем если бы пропали. А я ей много денег принес. Но ведь женщины не понимают. Ужас воровства понимают, а вот красоту победы — нет. Долго плакала. Кажется, я тоже рвал на себе волосы. Рву волосы, — а в душе поет радостно: все-таки, победил я. Не решись я на воровство — голодать бы нам ту неделю.
Рассказ мне не понравился:
— Знаете, тут уж черт знает что такое. Какая же тут красота?
— Вы тоже не понимаете. Значит вы не игрок, не настоящий, хотя закваска у вас хорошая, московская.
Расплатились и вышли.
— Куда вы?
— Не знаю.
— Вернетесь в клуб?
— Да, вероятно. Хотя я сегодня очень плохо вооружен. И в то же время — хотите так смейтесь — чувствую, что сегодня мог бы взять. Нет, я предрассудкам не подвержен. Я просто — чувствую. Иногда и ошибаюсь, конечно. А иной раз угадываю.
Я пожелал ему удачи.
ТЕРРОРИСТ
История, которую я сейчас расскажу, очень кошмарная: преследование, предумышленное убийство, пожирание трупа, зловещие сны. Но герой истории и виновник этих деяний был милым и мягким по характеру человеком, а совсем не злодеем. Его звали Павлом Тихоновичем, сокращенно — Пашей или Павликом; волосы его были шелковы и белокуры, хотя и с коком, а голубые глаза слегка на выкате. Злодеев обыкновенно зовут Леонидами, Юриями, в последнее время Игорями; у них гладкие черные волосы с пробором, матовое лицо, дерзкий нос и страстные скептические губы; когда они бросают взгляд на женщину — от женщины остается пепел, порывшись в котором можно найти четыре металлические пряжки, круглое стеклышко, оболочку губного карандаша и несколько штук «пресьон».
Павел Тихонович был студентом и исповедывал эсеровские убеждения. Это значило, что земля, по мнению крестьян, Божья, ничья, что община может развиваться по Качоровскому, личность играет немалую роль в истории, а благо трудящихся (крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции) требует применения террора. Что касается Маркса, то он в третьем томе «Капитала» сам себя опровергает и сверх того признал себя не марксистом.
Как человек искренний и смелый, Павел Тихонович решил стать террористом и отдать себя в жертву за благо народа. Никаких моральных препятствий к этому не было, так как руководило Павлом Тихоновичем не соображение целесообразности, а святая ненависть, а за свои действия он решил отвечать сам и даже готовил исподволь будущую речь на суде, с кратким изложением эсеровской программы и заключительным возгласом: «Долой самодержавие и да здравствует демократическая республика всех трудящихся».
Быть террористом не так просто, как некоторые думают. Кроме мужества и соблюдения конспирации, нужна еще техника. Павел Тихонович, помимо излишней мягкости характера, не обладал достаточной твердостью руки и вздрагивал от выстрелов. Он был человеком болезненным, страдал головными болями и слабостью легких. Террорист же должен обладать стальным взором, железной рукой, равнодушно взирать на потоки крови и криво улыбаться на мольбы о пощаде. Павел Тихонович сознавал свои недостатки и делал все, чтобы от них избавиться. Он завел револьвер, правда, — не браунинг, а бульдожку, пуля которого пробивает рубашку, но отскакивает от пиджака; зато, научившись попадать в цель из бульдожки (что почти невозможно), — будешь из браунинга попадать во что угодно на любом расстоянии.
Учиться стрелять было очень удобно, так как этим летом Павел Тихонович жил у нас в деревне. Он привез с собой целую коробку пуль, густо облитых салом, и носил ее обычно в кармане, вместе с бульдожкой, — так, на всякий случай. Он уходил стрелять в лес, где на поляне выбрал своей жертвой молодую березку. И это было сделано с расчетом: весной пораненная березка плачет, из пробитого отверстия обильно течет слеза, и березке действительно грозит смерть. Павел Тихонович это знал и приучал себя к жестокости и выдержке; к концу лета он рассчитывал стать совершенно невозмутимым и безжалостным, как и подобает террористу.
Кроме него жил у нас в доме старый, уже потерявший способность нравиться, петух. Из за этого петуха все и вышло.
Мы жили маленькой семьей, в том числе двое мужчин, я и Павел Тихонович, который был старше меня двумя курсами. Женщины вели хозяйство, мы носили воду, кололи дрова, запрягали лошадь и обсуждали аграрный вопрос по Чернову. Когда возник вопрос о том, кто из нас заколет петуха, — Павел Тихонович предложил выполнить эту миссию, и мы все очень обрадовались, потому что постороннему человеку сделать это легче, чем нам, знавшим петуха еще цыпленком и считавшим его как бы членом семьи. А заколоть петуха было необходимо; того требовало наше рациональное хозяйство, не допускавшее дармоедства со стороны домашних животных. Мы старались жить, как живут крестьяне, безо всяких интеллигентских нежностей, попросту и деловито. Петух стар — значит нужно его заколоть и сесть.
И вот Павел Тихонович взял топор и пошел закалять в себе решимость, безжалостность и волю к действию. В этот день он был бледен, и глаза его горели лихорадочным огнем; думаю, что последнюю ночь он плохо спал от понятного волненья; но слово было дано и предстояло его исполнить.
Чтобы не смущать Павла Тихоновича, я не пошел с ним во двор, а наблюдал за его действиями из за деревьев сада. Павел Тихонович не счел возможным прибегнуть к хитрости и предательству и не приманивал петуха зернами и хлебом. Он двинулся на него, как на социального врага, и, держа топор в руке, долго бегал за петухом по двору, стараясь загнать его в такое место, где его удобнее схватить. Тянулось это очень долго, так как петух, очевидно, ощутил смертельную опасность и очень искусно уклонялся. Наконец, Павел Тихонович, измучившись и обливаясь потом, очень удачно споткнулся и упал прямо на петуха. Раздался крик палача и жертвы, палач загреб жертву в объятья и отправился за ригу, где должна была произойти экзекуция. Разумеется, и я последовал за ними, стараясь оставаться под прикрытием.
Должен сказать, что это было очень страшно. Всего страшнее было лицо Павла Тихоновича, словно это он был обречен на смерть. Петуха он нес подмышкой, другой рукой придерживая за горло, но не крепко, чтобы не причинить ему боли. За ригой он долго укладывал петуха на землю, а шею его на полено. Надо было держать за ноги, но Павел Тихонович этого не знал, держал в обнимку, и петух все время выскальзывал у него из рук. Наконец, кое как его примостив, почти лежа на нем, Павел Тихонович нащупал топор, поднял его в уровень со своим подбородком и, не имея возможности размахнуться, — неуклюже, как-то бочком, почти нежно, полоснул петуха по плечу, пониже шеи. Петух неистово закричал, рванулся, выскользнул из рук и понесся в ближний лесок. Павел Тихонович сначала упал на землю, потом поднялся встрепанный и с ужасом на лице и погнался за петухом. Я видел, как на бегу он бросил топор, выхватил из кармана револьвер и — скрылся за деревьями.
Затем я слышал выстрел — один, другой, третий. Идти в лесок, где стреляет Павел Тихонович, я не решился, не считая это безопасным.
Прошло около часу, и Павел Тихонович вернулся и заперся в своей комнате. Мы не беспокоили его расспросами, — ясно было, что человеку не по себе. Впрочем, скоро он опять вышел и направился к лесу, но выстрелов мы больше не слыхали. До самого вечера ни петух, ни Павел Тихонович домой не возвращались. Петух так и не явился, а Павел Тихонович в этот день не ужинал и лег спать рано.
Я думаю, однако, что он только лежал, а спать не мог. Лишь под утро меня разбудил его бред за тонкой стеной. Он и обычно по ночам разговаривал, Но на этот раз вскрикивал поистине мучительно; очевидно, сильно ему расстроила нервы история с петухом.
Рано утром он исчез, и скоро опять в лесу загремели выстрелы. Иногда они слышались быстро-быстро один за другим, как из пулемета, а иногда одиночками. Я рисовал себе картину, несомненно, верную, как Павел Тихонович охотится в лесу на старого петуха, как тот спасается от него за деревьями и как оба они, с застывшим в глазах ужасом, мечутся по лесу и ненавидят друг друга.
День прошел кошмарно. Павел Тихонович несколько раз возвращался домой, но с нами не разговаривал и не обедал, — проходил мимо с опущенными глазами и совершенно больным видом. Спросить его о чем-нибудь никто из нас не решался. Вечером, когда все легли, он поел на кухне и, придя в комнату, бросился на кровать и скоро захрапел. Не думаю, чтобы сны его были сладки. Петух и на эту ночь домой не явился.
На третий день этой кошмарной истории я встал рано, и, когда Павел Тихонович сделал попытку проскользнуть через двор и направиться в лесок, я его окликнул:
— Павлик, брось, не ходи.
Он остановился и мутно посмотрел на меня.
— Брось, говорю, петуха, пусть он живет.
Он мрачно ответил:
— Бросить его нельзя, он наполовину уже мертв.
— Как это — наполовину?
— Я всадил в него не меньше восьми пуль. То есть я попал восемь раз, но это не револьвер, а черт знает что. Пули отскакивают.
— Ну и оставь его. Ты совсем замучился и его замучил.
— Оставить нельзя. Во первых, он ранен топором и весь в крови. А во вторых, я не могу его оставить живым. Я решил убить и убью, будь что будет. Я ни перед чем не остановлюсь.
Он сказал это так решительно, что мне оставалось только преклониться перед его мужеством. Да, Павлик не такой человек, чтобы остановиться на полпути! Собственно я боялся единственно того, что он, сраженный своей неудачей, застрелится сам, как это иногда делают террористы.
Весь день мы были скверно настроены и все время прислушивались. Выстрелы время от времени раздавались, но Павел Тихонович не появлялся. Мы уже мечтали о том, что петух умрет в лесу от ужаса и голода. Наконец, перед закатом в лесу разрядилась целая обойма сразу. Я не выдержал и побежал к лесу узнать, чем все это кончилось. На самой опушке я встретил Павлика с искаженным лицом и с револьвером в руке. Увидав меня, он глухо сказал:
— Возьми его, я не могу. Я убил его.
— Где он?
— Там, на полянке, под деревом. Ты знаешь, я размозжил ему голову пулей — и он все таки был жив. Это такой ужас! Он лежит, но я не уверен, что он совсем мертвый.
— Ну, ступай, отдохни.
Он пошел, шатаясь, как пьяный, и продолжал сжимать в руке револьвер.
— Павлик, дай мне револьвер.
Я боялся, как бы Павлик, совсем потеряв голову, не начал стрелять во что попало. Но он на ходу крикнул:
— Бесполезно. У меня нет пуль. Я убил его последней.
Петуха я нашел без труда. Это было довольно противным зрелищем. Действительно, Павел Тихонович не раз попадал в него пулей, — о том свидетельствовали взбитые перья на припухшей коже. И вообще вид окровавленного петуха был ужасен не менее, чем вид его палача.
К своему удивлению, дома я застал Павла Тихоновича спокойно и даже как будто иронически разговаривавшим с нашими дамами. Они с должной осторожностью над ним подшучивали, он старался изобразить всю историю комически. И я видел, что женщины смотрят на него все же, как на героя. Мне это даже не понравилось, — но ведь женщины всегда таковы: когда человек добился своего и победил, они забывают о том, каков он был на пути достижения. А он был, откровенно говоря, все эти три дня очень несчастным и достаточно смешным.
Одним словом — петуха зажарили, — как того и требует рациональное хозяйство. А зажаривши — подали на стол.
Мне было очень любопытно: как станет держать себя Павел Тихонович? Не легко убить, но еще труднее есть убитого. Правда, в жаренном виде петух уже не был страшен, но все же…
Сейчас таких людей, как прежде были, уже нет. Нынешний человек либо от природы жесток и нечувствителен, и тогда он будет есть родного брата, либо же даже не придет посмотреть на свою жертву, чтобы не трепать себе нервы. Павел же Тихонович упрямо работал над собой, закаляя в себе черты, необходимые для террориста. Он не только явился к ужину, отлично зная, что подадут петуха, но и равнодушно протянул свою тарелку:
— А мне дайте крылышко.
Когда ему положили крылышко, вернее сказать — отвратительно-жесткое крыло престарелой птицы, — мы все с живейшим интересом и с нескрываемым уважением вонзились глазами в Павла Тихоновича: как он будет есть? Мы видели, что на лбу этого мужественного человека холодный пот и что он вновь больно переживает события трех последних дней. Видели мы, что руки его, разрезая кусок, немного дрожат, и что напрасно силится он скрыть свое великое волненье под презрительной улыбкой. Кое как он все же отковырял ножом солидный кусок крылышка и направил в рот. Но едва он сжал его зубами, как вскрикнул, выплюнул, — и на тарелку звонко шлепнула пуля. Павел Тихонович схватился за голову, опрокинул стул и убежал в свою комнату.
Так отомстил ему старый петух.
Побежали за валерьяновыми каплями и мокрым полотенцем. Нужно сознаться, что на этот раз Павел Тихонович не выдержал: у него был настоящий нервный припадок, он катался по кровати и вел себя постыдно, как баба, а совсем не как террорист. Может быть, в другое время он сдержался бы, но сейчас он был, действительно, измучен своей трехдневной пыткой, да и спал ночами плохо. Если бы петуха подали днем позже, дав Павлу Тихоновичу отдохнуть, все бы могло произойти иначе, без такой неприятности и без урона для мужского достоинства террориста.
Но вот, что я заметил. За минуту перед этим он был в глазах женщин как бы героем. Теперь же, когда он так ясно сдал и оскандалился, — вы думаете они над ним смеялись, или он что нибудь утратил в их глазах? Нисколько! Он теперь стал страдальцем за идею, мучеником, а это еще интереснее. Припадок давно уже прошел, — но они все сидели над ним, клали мокрое полотенце, разговаривали шепотом и смотрели с нежностью и участием, как на раненого. А он — я так думаю — лежал с полузакрытыми глазами и соображал как ему быть, чем себя оправдать, чтобы не быть слишком смешным. Биться в истерике из за того, что попала на зуб пуля, — не очень это красиво! Только поэтому он и продолжал лежать, хотя все давно прошло, и ему, вероятно, хотелось есть (только не петуха).
Женщины ему в этом помогли: одна сбила ему гоголь-моголь, другая напоила чаем, да так весь вечер около него и просидели. Конечно, о петухе — ни слова. Говорили о поэзии и о Леониде Андрееве, и Павел Тихонович настолько расхрабрился, что даже напал на Андреева за его истеричность.
Кстати петуха унесли в кладовку, что бы он не попался опять на глаза Павлу Тихоновичу, и дамы наши есть его отказались. Я от этого ничего не потерял, хотя петух, как уже сказано, был так стар и такой жесткий, что можно было об него и без пули обломать зубы.
Я все таки думаю, что Павел Тихонович в террористы не годился и что по темпераменту своему он был скорее всего меньшевиком. Обидно, что по окончании университета я как то потерял его из виду и не знаю, кем он стал и даже жив ли еще. После истории с петухом мое преклонение перед ним пропало, — хотя возможно, что в данном случае., сыграла роль и некоторая ревность. Очень уж обидела меня эта женская манера увлекаться героями и мучениками. Сам я человек простой, в герои не лезу, но и истерик не закатываю. Правда, нет у меня ни голубых глаз, ни белокурых шелковых кудрей.
Пожалуй, в них то, а не в петухе, и было все дело.
КЛИЕНТ
В то время я был молоденьким адвокатом. В виду отсутствия практики, я предложил услуги бесплатного юрисконсульта большому и богатому обществу купеческих приказчиков. У общества числились и другие юрисконсульты, повиднее и поопытнее меня, но они принимали клиентов у себя на дому и вряд ли охотно, — я же принимал в помещении общества, где мне отвели совсем не плохой кабинет, служивший в другие дни приемной для врача.
Сначала было страшновато, после привык. Дела у приказчиков однообразные, за советом обращались больше по делишкам мелким, при более же сложных можно было ответ отложить: «Зайдите ко мне в следующий раз, мы обсудим все подробнее; сейчас люди ждут!» А тем временем и к ответу приготовишься.
Но ни одно дело не озадачило и не смутило меня так, как дело старого приказчика Павла Ивановича (как его на самом деле звали, не все ли равно; я и сам забыл).
Походкой солидной, с достоинством и уважительностью, вошел в кабинет лысый седоусый человек в длинном сюртуке, низенький, прочный, основательный, лет за пятьдесят. Представился Павлом Ивановичем, плотно сел в кресло, а на стол положил большой пакет, завернутый в газетную бумагу.
— К вам по делу важному. Сам разобраться не могу, и уж как скажете, так и поступлю.
— Слушаю, Павел Иванович. Расскажите свое дело.
— Желал бы узнать совет ваш, выдавать ли мне замуж дочь мою Анну Павловну, девицу двадцати трех лет? Супруги не имею, схоронил, и дочь единственная. Так что судьба ее меня весьма занимает и, скажу откровенно, беспокоит. Как вот посоветуете, — выдавать ли?
— Павел Иванович, я дочери вашей не знаю, и вас вижу впервые. Сам я — человек молодой, едва старше вашей дочери. Могу ли я давать вам, почтенному человеку, совет в таком семейном деле.
Павел Иванович надел очки, посмотрел поверх стекол и серьезно заявил:
— Возраст ваш значения не имеет, а очень важно образование. Сам я учился на медные деньги, во многом не разберусь, особенно в литературе. Вы же изволите состоять при судебной палате московского округа, а также нашим общественным юрисконсультом. При том прошли ряд разных высших наук, и вам знать лучше. Как скажете, так и поступлю; либо выдам ее, либо пускай еще посидит в девушках, хотя замуж ей пора, так как девица вполне зрелая и способная к брачной жизни. Я же вам, господин юрисконсульт, представлю все необходимые документы.
При этих словах, Павел Иванович встал и — к большому моему смущению — низко, почти в пояс, мне поклонился.
— Покорнейше и убедительнейше прошу в авторитетном вашем указании не отказать.
Я уже хотел было согласиться (хорошо, мол, пусть выходит!), когда Павел Иванович, развернув газету и взяв из большой пачки писем верхнее, начал медленно и с выражением читать:
«Дражайшая Анна Павловна, в прошедший понедельник изволили вы разрешить мне письменно вам о себе напомнить. И действительно, данный день является незабвенным в моей памяти, после чего цельную неделю обдумывал о предстоящей встрече, каковая состояться не могла…»
— Простите, Павел Иванович, что вы это читаете?
— Письмо от жениха к дочери моей Анне Павловне. Самое первое, при начале ихнего знакомства в позапрошлом году, от 7-го сентября.
— А… какое это имеет значение, письмо его?
Павел Иванович снял очки, протер очень чистым платком, опять надел и сказал:
— Значение чрезвычайно важное, как бы документ. Познакомились они тому назад два года и три месяца, и сразу произвели впечатление. И тогда же вскоре, с отцовского моего разрешения, начал он писать ей письма. Дочь моя живет при мне и из дому выходит редко, занимаясь хозяйством. Письма же его я все сохраняю, по прочтении их мне дочерью вслух. Я своей дочери не стесняю, но всякая переписка идет через меня. Ответных копий, действительно, я не сохранял, его же письма имею под номерами. Не хочу затруднять вас рассказом, письма же все прочту вам в полном порядке постепенности, чтобы составили заключение прямо по личным документам о возможности брака.
— Их много, писем?
— Сто четыре номера, включая полученное в минувшее воскресенье, на которое ответ еще не послан.
— А вы, Павел Иванович, своими словами не расскажете? Покороче…
— Зачем же рассказывать, зря вас беспокоить, когда все письма налицо в подлинном оригинале. Ни единой строчки от вас не скрою, как в чисто семейном деле.
— Да что же в письмах этих? Какие-нибудь обещания с его стороны? Или история какая нибудь сложная?
— Обещаний никаких, и истории тоже нет никакой. Письма не то, чтобы любовные, а обыкновенно — как пишет заинтересованный человек к молодой девушке. Иные и со стихами, но не личной выделки, а известных поэтов, Некрасова, Апухтина, Надсонова и других с указанием фамилии. Обещаний же никаких быть не могло, так как дело не решенное. Именно поэтому я и обращаюсь к вам, как человеку ученому, вроде как для экспертизы. Позвольте первое дочитать, а за сим приступим ко второму: «каковая состояться не могла, однако, успокаиваю себя надеждой, что батюшка ваш Павел Иванович разрешат вам побывать у Олимпиады Симеоновны в предстоящий вторник, где и надеюсь видеть вас лично…»
— Кто это — Олимпиада Симеоновна?
— Олимпиада Симеоновна это, точно говоря, дочери моей по покойной ее матери двоюродная тетка; Муж ее торгует в рядах бакалеей.
— Ага! Ну что же, Павел Иванович, все это люди солидные, положиться можно. Я бы вам посоветовал…
— Бесспорно, люди солидные. И как из следующего письма сами изволите усмотреть, в доме своем принимают только людей рекомендованных по строгой проверке, в том числе и господина Герасимова.
— А это кто?
— А это и есть жених. Если, конечно, в случае благоприятного совета вашего, я дам благословение на брак.
— Я, Павел Иванович, ничего против не имею… По моему…
— Покорнейше благодарю за доверие, но уж позвольте вам все письма зачитать. Истории в них никакой, однако, важно знать в рассуждении искренности. Если человек искренний и откровенный — я дочь готов отдать, и даже сопровождаю небольшим, по мере сил моих приданным. В противном же случае подожду. Одним словом — как скажете.
«… надеюсь видеть вас лично. По этому поводу предуготовил для вас нравящееся стихотворение…»
— Он не конторщик, жених ваш?
Павел Иванович снял очки, и вдруг солидное лицо его приятно улыбнулось:
— Именно — конторщик при торговом предприятии вдовы Потапова и сыновья. Вот я и говорю: что значит высшее образование!
— А он с высшим образованием?
— Что вы, помилуйте, он с обыкновенным, трехклассное училище. А это я про вас, — что сразу, не зная человека, по первому письму изволили указать точно должность. Вот оттого я и решил зачитать вам все письма для полного определения Человека. И именно пишет он дальше следующее…
Дальше было очень тягостно. Павел Иванович, более не отвлекаясь, читал медленно, с выражением, письмо за письмом. Следить я не мог, потому что очень боялся заснуть. Иногда тараща глаза и стараясь не прикасаться спиной к спинке кресла, я видел сквозь туман, что пачка писем прочитанных растет, пачка не прочитанных не уменьшается. Наконец, взглянув на часы, увидал, что приемное мое время окончилось как раз на строках стихотворения:
Я умираю с каждым днем, Хоть не виню тебя ни в чем, Пусть смерти предо мной эмблемы…На слове «эмблемы» Павел Иванович запнулся, а я быстро сказал:
— Как мне ни грустно, Павел Иванович, прерывать вас, но мое приемное время окончилось, а я боюсь, что кто-нибудь меня еще ждет для совета…
Павел Иванович спокойно сложил письма в общую пачку и сказал:
— Понимаю, затруднять не хочу. Я и не рассчитывал за один раз кончить. Прочитал я вам четырнадцать писем, остальные можно отложить до будущих разов. Дело мое не спешное, ждала девушка два года, подождет и лишний месяц. Так вам даже удобнее будет на досуге обдумать прочитанное. Покорнейше вас благодарю, и уж разрешите зайти в следующий раз, когда объявлен прием.
Тут меня осенила мысль:
— Вот что, Павел Иванович. Дело это сложное, и будет лучше, если ознакомлюсь с документами вашими дома, внимательно, аккуратненько. Надеюсь, что вы мне их доверите.
Павел Иванович подумал и, на радость мою, согласился, предупредив, что почерк у жениха не очень разборчивый.
Когда я провожал его и выглянул в дверь приемной, я увидел, что там ждут двое, женщина и мужчина. Но, к удивлению моему, оба они поднялись и ушли вслед за Павлом Ивановичем.
Пришел он ко мне через три дня, снова солидно и прочно уселся в кресло и вынул из кармана письмо в конверте. Со своей стороны я извлек из портфеля его «документы», которых, грешным делом, прочесть не смог, — однако, перелистал. Все письма были похожи одно на другое, одинаково начинались, одинаково кончались и редкий раз не содержали переписанный стишок. Говорилось в них о чувствах, но в выражениях не страстных, а самых деликатных. Выражалась и надежда на соединение брачными узами, буде на то согласится родитель.
Свое заключение я начал издалека:
— Павел Иванович, хотите ли вы счастья дочери?
— Об ином и не думаю. Не хотел бы — и затруднять бы вас не стал.
— Павел Иванович, любит ли ваша дочь господина Герасимова?
— Любить ей его рано, и о любви разговору не было. Однако, явно интересуется, и за два года переписки нашей к нему привыкла. И стихотворения ей очень нравятся. А уж по настоящему полюбит, когда выйдет замуж; раньше же это ни к чему.
Тогда я встал и сказал торжественно:
— Павел Иванович, позвольте вам заявить следующее. По тщательном рассмотрении представленных вами документов, могу удостоверить, что господин Герасимов представляется человеком искренним и самых серьезных намерений. Полагаю также, что два года испытания достаточны, чтобы вы могли позволить молодым людям не только переписываться, но и встречаться.
Павел Иванович прервал мою речь:
— Как же, как же, помилуйте. Они давно уже встречаются, и сам он, господин Герасимов, допущен бывать у меня на дому лично. Уже больше году ходит каждое воскресенье.
— Тогда зачем же он письма пишет?
— Он человек молчаливый, а в письмах выражает лучше. Так уж у них завелось, так и идет. Иные письма его мы и вслух при нем читаем, особенно, если в них стихотворения.
— Тогда, Павел Иванович, сомненья больше нет: выдавайте дочь замуж, да поскорее!
Павел Иванович просиял, однако, заметил:
— Покорнейше вас благодарю, однако, должен сказать, что имею еще одно письмо, полученное позавчера по почте, которое и попрошу вас либо заслушать, либо уж сами прочтите, чтобы никаких сомнений не было.
— А что в нем?
— Все по прежнему, и о чувстве своем и прибавлен красивый стишок. Письмо за номером сто пятым от ноября 20-го дня.
Письмо мы прочитали вместе. Никаких сомнений в искренности господина Герасимова оно не возбуждало.
— Это все письма, Павел Иванович? Других не имеете?
— Так точно, все до настоящего дня и с первого дня знакомства.
— Тогда, Павел Иванович, позвольте поздравить вас: дело ваше благополучно кончено, можете играть свадьбу.
Павел Иванович был по настоящему признателен мне за выполненный труд и за совет. Как и в тот раз, он встал и низко поклонился. Боясь новых документов, я взял его руку и, пожимая, настоятельно вел его к двери.
Но едва я его выпроводил, как дверь снова отворилась, и Павел Иванович вошел, ведя за собою дородную девицу и гладко причесанного средних лет гражданина.
— Вот, Аннушка, и вы, господин Герасимов, поблагодарите господина юрисконсульта за решение. Они потрудились, рассмотрели документы и все признали правильным. Можно будет теперича и к венцу. Я от слова своего не отступлюсь.
Как сами понимаете, было это очень трогательно, особенно же интересна была моя роль творца счастья будущей четы Герасимовых. Невеста была мне почти ровесница, жених лет на десять старше, отец — лет на тридцать. Но за то я был с высшим образованием и состоял при московской судебной палате, — это не шутка!
Был я и на свадьбе, конечно — почетным гостем. Рассказывать о свадьбе не берусь, так как поили меня там «медведем» (десять рюмок подряд с разным содержимым), медведь же, при частом повторении, очень плохо действует на память.
И кажется мне почему то, что вел я себя на свадьбе не как юрисконсульт, а как обыкновенный человек, и даже без высшего образования. Но это к делу не относится.
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
Отзывчивый читатель — а на иного я и не рассчитываю — легко войдет в мое положение, — положение человека, напрасно обиженного.
Вот уже более месяца я обиваю пороги дружественных мне редакций с просьбой отметить, что на днях исполнился (или скоро исполняется, я точно не помню) двадцатипятилетний юбилей моей адвокатской деятельности. С этой же просьбой я обращался в парижское объединение русских-адвокатов, членом которого состою и от которого получаю повестки, с надписью на конверте: «Метру такому-то». Я обращался к нему, конечно, не прямо, не в правление, так как это было бы неудобно, а намекал, очень ясно, влиятельным коллегам по профессии.
Я встречаю улыбки, легкое недоумение и вежливый отказ. Газеты гарантируют мне подобающее чествование юбилея литературного — но не хотят считаться со столь, казалось бы, естественным самолюбием и некоторым честолюбием адвоката — профессионала. Зачем мне, спрашивается, юбилей литературный? Чтобы стать маститым и удалиться на покой? Что бы какая-нибудь французская газета, где пишет мой приятель, переврала мою фамилию и по ошибке поместила, вместо моего, портрет сломавшего голову авиатора? Чтобы один из тех, кого я похвалил в печати, похвалил в свою очередь меня? Нет, на эту удочку меня не поймать! И, наконец, многолетнее писательство я считаю чистой случайностью, тогда как адвокатская карьера моя явилась результатом призвания. Если же, по независящим от меня обстоятельствам, мне за последние двадцать три года не пришлось заниматься практикой, то, во-первых, я в этом не виноват, во вторых, я продолжаю с честью носить звание помощника присяжного поверенного округа московской судебной палаты, присяжного стряпчего при коммерческом суде и опекуна при суде сиротском, хотя нет давно ни палаты, ни этих судов. В третьих, наконец, двухгодичная моя действительная практика была хоть и бездоходной, но яркой и блестящей. Достаточно сказать, что у одного моего лысого подзащитного, дело которого я выиграл, начали расти волосы; я бы хотел знать, многим ли русским прославленным адвокатам удалось достигнуть подобного юридического результата?
Прошу прощения за это предисловие. Но когда человеку отказывают в публичном признании его заслуг, — ему ничего не остается, как самому себя чествовать. Именно эту цель и имеют нижеследующие воспоминания.
Моя первая политическая защита
Окончив университет и записавшись в сословие, я сшил себе в кредит фрак и купил портфель, в который положил, для веса и важности, десятый том Устава уголовного судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Таким образом, рано пришлось мне узнать, что адвокатский портфель — не легкая штука.
Как всякого начинающего адвоката, гражданские дела меня интересовали мало. Судьба улыбнулась мне и послала для первого выступления дело чуть-чуть не политическое.
Студент Иван Лиханошин, медик и большой пьяница, был моим близким товарищем и земляком. В малом хмелю он был оживлен и интересен, в большом мрачен и буен. В среднем же хмелю он был предприимчив и любил разговаривать с городовыми. Однажды, когда постовой городовой оказался неразговорчивым, он снял с него фуражку и вытер ему этой фуражкой нос. Для суждения о подобных деяниях существует статья, номера которой сейчас не упомню, карающая штрафом и тюремным заключением.
К участковому мировому судье я явился во фраке; хотя это и не полагалось, но так легче иметь вид крупного адвоката, лишь случайно забежавшего к мировому судье, тогда как большинство дел у него сегодня в окружном. Не скрою, что я сильно волновался: первая защита, да еще приятеля.
Мировой судья явно не оценил важности дела и, выслушав показания городового и мои робкие объяснения (клиент на суд не явился), приговорил приятеля моего к недельному аресту.
Право, это не так уж было плохо. Но клиент мой заявил мне, что он сидеть не желает и не будет, что лучше он наложит на себя руки или убьет городового, а в заключение напился и стянул у меня за обедом со стола скатерть со всей посудой. Удалось его угомонить, дело же я обжаловал в Съезд мировых судей.
Тут уж фрак понадобился по полному праву. Предстояла мне первая защита, при которой нужно произносить речь. И я произнес.
Да, я произнес ее, мою первую судебную речь! Зачем вам знать, хорошо ли я спал в ночь, предшествовавшую процессу, и сколько раз вскакивал с постели, чтобы записать пришедшую в голову блестящую фразу, долженствовавшую убедить судей в правоте моего подзащитного? Всей предстоящей речи я не записал, так как знал, что ни Демосфен, ни Кони этого не делали, что нужно лишь досконально изучить дело, а красноречие придет само.
Председательствовавший назвал мое дело. Я и городовой поднялись со своих мест. Судьи, услыхав номер статьи, достаточно им надоевшей, зевнули и принялись чертить на бумаге профили с кудрявой шевелюрой. Фрак сидел на мне отлично.
Дело казалось простым и приговор ясным; для всех — но не для меня! И вот я начал свою речь.
Я начал ее с простого признания факта. Да, студент Лихоношин сделал то, что он сделал. Но виноват ли он?
Я приготовил начало речи, но забыл заготовить эффектный конец. Если вам приходилось скатываться на коньках с ледяной горы, то вы поймете, что со мной случилось. Я говорил, я чувствовал, что говорю беспросветный вздор, — но остановиться я не мог. Я чувствовал, что судьи проснулись и слушают меня с напряженным вниманием. Я видел их изумленные лица и слышал за спиной шушуканье публики. Я говорил о скудости в России народного просвещения, о высокой миссии студенчества, о тяжелом материальном его положении, вынуждающем его на крайние поступки, о горящем в душе молодежи протесте, о демонстрациях, о манеже, о высылках в Сибирь и еще Бог знает о чем, — говорил, потому что я не мог, не знал, как остановиться и чем мне речь мою закончить. Я погибал — и старался не смотреть на судей. Я давно уже не понимал самого себя и не узнавал своего голоса. И я никогда бы не кончил речи, если бы председатель не остановил меня ласковым, но твердым голосом:
— Господин защитник, о чем вы говорите? Высылки студентов совершенно к делу не относятся. Что вы можете сказать по существу дела?
По существу дела… по существу… По существу я мог только прибавить, что считаю своего подзащитного не только не виновным в оскорблении городового при исполнении служебных обязанностей, но и благороднейшим человеком, заслуживающим общего уважения и благодарного признания современников.
Взглянув искоса на судей, я увидал, что председатель съезда надрывается от смеха. Чувствовалось веселье и в публике.
И когда суд удалился для совещания, я вылетел из залы в коридор и решил, что я — самый несчастный молодой человек, карьера моя загублена, а бедный Лихоношин через меня погиб окончательно.
Когда суд вернулся, я прошел на свое место, не глядя по сторонам и полный решимости встретить любой приговор. Теперь уже все равно.
Почесав нос и передернув плечами, председатель прочел приговор. Постановление мирового судьи отменялось, и мой клиент приговаривался к одному рублю штрафа. Иначе говоря — оправдание. Следующее дело Петровой о нанесении побоев Евдокимовой. Меня это дело ни в какой мере не касалось. И все таки я продолжал стоять пораженный и растроганный.
Когда Петрова и Евдокимова вышли вперед, я Медленно повернулся и направился к выходу. Я был, конечно, героем. Но я уже успел понять, по лицам судей, что Лихоношин оправдан исключительно из сострадания ко мне. В глазах старых судей я прочел выражение ласкового великодушия и легкой насмешки. Может быть, они вспомнили свою молодость, может быть и они в свое время утирали фуражкой нос городовым при исполнении обязанностей. Но, главное, им было жаль молодого защитника, произнесшего свою первую речь.
Мой клиент ждал меня дома. Услыхав о приговоре, он мрачно заявил:
— И рубля платить не желаю. Пускай убираются к черту!
Ну, тут уж у нас с ним произошел разговор особый, читателям не интересный. Он был шире меня в плечах, но мускулами слабее, так как я ежедневно занимался шведской гимнастикой.
Начало славы: дело с пением
Она была хористкой оперы Зимина; как все хористы, имела рабочую книжку и была связана неустойкой в сто рублей. Когда появился в Москве, другой частный оперный театр, плативший хористам больше и обращавшийся с ними лучше, она перешла туда, а за нею и еще несколько хористов. В результате иск театра Зимина о ста рублях неустойки.
Когда она рассказала мне о своей беде (сто рублей для хористки — целое состояние), я сначала посоветовал ей смириться и заплатить, чтобы избежать судебных издержек. Но она плакала, и мне было очень ее жаль. Плача, она рассказала мне, что у нее сопрано, а ее заставляют петь медзо-сопрано (кстати, нельзя говорить «меццо-сопрано», как нельзя произносить «пиччикато», вместо пиццикато, как нельзя в слове «гондола» ставить ударения на втором слоге, что простительно только поэтам).
— А вы можете это доказать?
— Конечно, могу; все знают. Я сколько жаловалась.
Я был молод и неопытен, но не настолько, чтобы не понять, что не только блеснул луч надежды в деле, но и само оно обещает стать интересным и необычайным.
В назначенный для слушания день дело было, по моей просьбе, отложено для вызова эксперта. Судья тоже был молод и тоже понял, что обычная скука рядовых дел будет рассеяна музыкой в камере. При том судья оказался сам певцом и иногда выступал в Москве на любительских концертах.
Певцом был судья, певцами свидетели, музыкантом поверенный оперы Зимина. Экспертом же был вызван артист императорского Большого театра Барцал. В газетной хронике появилась заметочка о предстоящем «деле с пением». Публика состояла, разумеется, из хористов оперы и любителей пения.
Я же, создатель процесса, хоть и не был певцом, зато чувствовал себя героем: начало славы!
Жаль, что не было в камере рояля. Но и без инструмента концерт состоялся. Судья откинулся в кресле и слушал.
Барцал заставил мою клиентку пропеть партию медзо-сопрано; может быть она немножко схитрила, но слышно было, что низкие ноты ей не по голосу. Когда же он дал ей партию высокую, то она разлилась таким соловьем, что судья с удовольствием разгладил усы, публика за окнами камеры (дело было летом) зааплодировала, мой противник нахмурился, а адвокатское мое сердце подпрыгнуло выше самой высокой ноты.
Когда она окончила, Барцал отмахнулся от вопроса судьи, бросился к моей клиентке, обнял ее с нежностью старого актера и быстро заговорил:
— Голубушка вы моя, да ведь у вас чудесный голос! Диапазонище какой! Да, какого же черта вы болтаетесь в частной опере, почему не идете к нам, в императорскую? Да я вас немедленно устрою, плюньте вы на неустойки!
— Позвольте, господин эксперт, будьте добры сказать ваше заключение о голосе ответчицы.
— Какое же тут заключение может быть? Чудеснейшее сопрано, сами слышите. Нужно с ума сойти, чтобы портить такой голос, заставлять ее петь низкие партии. Это безобразие, за это под суд нужно! А вы, голубушка, плюньте вы на их неустойки, мало ли чего ни выдумают…
Смеялась публика, смеялся судья, даже поверенный противной стороны вежливо и иронически улыбался. Не смеялся только я. Я был небрежен, важен, приветлив с простыми смертными и полон сознания своего величия. Вернувшись домой на извозчике (хотя жил я рядом), я бросил портфель на стол и сказал:
— Конечно, выиграл! Но утомляют эти маленькие и хлопотливые дела…
Апогей славы: выше Плеваки!
Я жил на Сухаревской Садовой в доме Щекина. Во дворе у нас над пристройкой работала артель каменьщиков. На улице у палисадника была прибита моя дощечка: «Помощник Присяжного Поверенного».
Я очень аккуратно платил хозяину дома за квартиру. Хозяин дома не очень аккуратно платил подрядчику, делавшему пристройку. Подрядчик совсем не заплатил рабочим в первый же срок. Рабочие, увидав мою дощечку, пришли ко мне жаловаться на подрядчика.
Взыскать по расчетным рабочим книжкам и получить исполнительные листы — дело простое. Но у каждого хорошего подрядчика имущество переведено на имя жены — и описывать нечего. Пришлось объяснить бедным каменьщикам, что если суд присудит — это еще не означает, что деньги в кармане.
На совещании нашем, староста артели покачал головой:
— Может и заплатит он нам, да когда? — а есть нужно. Хоть бы часть пока дал. Сто бы рублей на всех дал, — мы пока пробьемся.
Я вспомнил, что на другой день должен платить за квартиру хозяину, рублей семьдесят пять. И вот я догадался позвать к себе хозяина дома, хитрого мужичка, а также подрядчика артели. Заранее же заготовил расписку в получении хозяином денег с меня за два месяца вперед, целых 150 рублей, другую — в получении подрядчиком от домовладельца таких же 150 рублей и третью — в получении рабочими той же суммы от подрядчика.
Хозяин поломался, но согласился; подрядчик почесал затылок — и тоже подписал расписку. Рабочим же я вручил наличными деньгами сто пятьдесят рублей, обещав и в будущем месяце, если не заплатит подрядчик, дать еще немножко.
Рабочие, Владимирские мужички, очень меня поблагодарили, а я сам с собой размышлял на тему о том, что в России, в противоположность гнилому Западу, адвокатура есть общественное служение. И вообще был горд.
Месяца два спустя является ко мне затрапезный мужичек с котомкой за плечами, рассказывает свое нехитрое дело и просит быть его поверенным.
— Приехал я, барин, к вам из города Володи-мира.
— Что-ж, разве у вас там своих адвокатов мало?
— Что же наши, батюшка, супротив вас могут! А я намучился, решил разом с делом покончить. Хотел сначала к Плеваке идти, слыхал про него. Да встретились мне наши володимерские мужички, каменьщики, и отсоветовали. Говорят: «Уж если хочешь к настоящему аблакату, так поезжай в Москву в дом Щекина, на Садовой улице. Этот тебе, брат, будет почище всякого Плеваки, всякое дело сразу решит — и деньги на стол выложит. Этот уж не выдаст! Сами знаем, судились у него — потому и говорим».
«Почище всякого Плеваки»! Слышите, Федор Никифорович?
Это был — апогей моей славы.
Как у лысого выросли волосы
После таких, сравнительно, нормальных адвокатских достижений, мне оставалось лишь стать чудотворцем, что я и выполнил.
Маленький человек, с лысым, как колено балерины, черепом, понуро сидел в кресле в моем кабинете.
Прочитав текст повестки, вызывавшей его в мировой суд, я спросил:
— Дело о растрате? Что же и как вы растратили?
— Ничего я не растратил. Был описан за долг, имущество мое описали; мне же сдали на хранение. После расплатился с кредитором в чистую, а лист исполнительный у него остался, забыли мы про него. Потом он умер, а наследники с меня взыскивают по листу. Пришел пристав, спросил, где имущество, описанное за долг. А у меня давно никакого имущества нет. Значит, говорит, растрата вверенного имущества, уголовное дело.
— Так. Дело ваше плохое.
— Знаю сам, что плохое. Я, батюшка мой, за этот месяц так надергался, что все волосы потерял. Вот извольте посмотреть — голая голова. Не очень было много и раньше, а теперь ничего не осталось.
— А когда все это произошло? Когда у вас пристав был?
— Два года назад, а то и больше.
— Как два года? И вас только сейчас потянули в суд?
Каждый юрист поймет, почему с таким независимым и веселым видом я входил в камеру мирового судьи. Мой унылый клиент ждал меня там с видом уже приговоренного. И, правда, грозил ему год и четыре месяца тюрьмы. Но радовать его преждевременно я не рисковал.
Судья нас вызвал. Прежде, чем он задал вопрос, я заявил голосом изысканно — вежливым и смиренным:
— Господин судья, дело это должно быть прекращено по вашей инициативе.
— То есть, как это? Почему?
Тогда, уже более язвительно, я сказал:
— Потому что истекла процессуальная давность: больше двух лет, точнее — два года и четырнадцать дней со дня предполагаемой растраты. Оно, собственно, не могло быть возбуждено.
Судья густо покраснел, сказал «ваше заявление будет рассмотрено», пошел совещаться с самим собой и, наконец, вышел и объявил:
— По указу и пр. дело считать прекращенным.
Месяцем позже зашел ко мне мой клиент веселым и помолодевшим.
— Не тюрьмы было страшно, знаете ли, а волос было жалко. И вот, представьте себе, а лучше всего — извольте сами взглянуть: пушок-с…
— Где пушок? Какой пушок?
— На голове пушок. Волосы начали расти. Доктор говорит: прошло нервное потрясение — вот и волосы появились. И, по совести скажу, — вы мне волосы вырастили, вам обязан по гроб!
Маклаков, Тесленко, Переверзев, Грузенберг, Слиозберг, — было ли в вашей практике что-нибудь подобное?
Резюме апелляционной жалобы
Я мог бы рассказать еще о нескольких блестящих достижениях в моей адвокатской практике, например, о том, как я искренне защищал человека, обвинявшегося в воровстве пальто, убежденный в его невинности, и как он, после оправдания, поднес мне в виде гонорара две серебряные ложки с клеймом отеля; как я старался горячим призывом к человеколюбию убить формализм судей суда коммерческого (при чем блестяще провалился), как, в качестве опекуна, мирил семью старообрядцев — наследников, поделивших шесть домов, но не смогших поделить свиньи и кучи старого железа, как справкой из кассационных решений сразил ходатая от Иверской. Но что толку все это рассказывать, когда парижские представители адвокатуры и редакторы газет упорно отказывают мне в юбилейном чествовании!
Последнее дело, провести которое мне уже не удалось, было мне поручено московским сиротским судом. В это время я сидел в тюрьме по собственному делу, грозившему мне смертной казнью (1905 год). Неожиданно, в камеру мне прислали из конторы тюрьмы бумагу, гласившую:
«По указу его императорского величества назначаетесь вы опекуном над малолетними такими то, имущество которых имеете принять» и пр.
Его величество не мог знать, что мне крайне хлопотно заниматься опекой над малолетними в таком неудобном помещении, бумага же дошла до меня по инерции. Я с особым удовольствием написал на ней, что, будучи очень занят личными делами, от опеки вынужден отказаться, в чем прошу его величество меня извинить.
Думаю, что перечисленных дел моих, проведенных, правда, не в Палате и Сенате, а лишь в милых бывших наших (очаровательных, изумительно, действительно прекрасных!) мировых судах, достаточно, чтобы признать мои адвокатские заслуги и, хотя бы, задним числом, произвести меня из помощников в присяжные поверенные… Я уж в таком возрасте, что как то неудобно числиться помощником. Что касается двадцатипятилетнего моего юбилея, то мне остается только настоящей моей жалобой аппелировать к общественному мнению, в которое я еще не утратил веры.
ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА ПУШКИНА
Если живали в Москве, то может быть встречали на Тверском бульваре фигуру в черном плаще, высоком и широком воротнике, пышном галстуке, а шляпа почти всегда в руках. Смуглое лицо, бакены, кудрявая голова, задумчивость, — такое сходство с Пушкиным, вернее — со статуей на памятнике Пушкина, что даже как то неловко. Появлялся со стороны Никитских ворот, держа в одной руке шляпу и книгу, а в другой толстую палку, медленно проходил весь бульвар и садился против памятника.
Этого человека звали Александром, но не Сергеевичем, а Терентьевичем, а фамилия его была Телятин. Служил по акцизному ведомству маленьким чиновником. Жил в Мерзляковском переулке, в двухэтажном доме, в собственной квартире. Был женат и бездетен.
Утром он вставал, пил с женой чай и шел на службу. Служба была в том, что целый день он заполнял пустые места на цветных бланках. У него был преотличный почерк, а машинка в те времена была еще не в большом ходу, так что почерк ценился. Бланки он заполнял без ропота и без гримас, даже отчасти любуясь на свою отчетливую работу; но если кто-нибудь к нему обращался, особенно из захожих по делам посетителей, то он медленно поднимал от бумаги черно-карие глаза, смотрел устало и отвечал снисходительно. Сослуживцы звали его, конечно, Пушкиным или просто поэтом; но в общем любили, не смеялись над ним, так как он был хороший человек.
В четыре часа возвращался домой; тогда перерывов на обед не было, да и вообще всюду обедали в пятом часу; нынче, говорят, пошли заграничные привычки. Жена встречала его супом. Она была добрейшей женщиной, только толста, непомерно толста, ума же среднего. Александра Терентьевича она очень любила, и вышла за него именно потому, что он похож на Пушкина, а Пушкина она все-таки читала, особенно стихи.
Вышла-то за Пушкина как будто легкомысленно, а получила в мужья очень сносного человека, хотя и с небольшим жалованьем. Возвратившись домой, он надевал старый пиджак и садился за стол. И всегда, даже за вторым блюдом, сидел молчаливо и задумчиво. Необходимое говорил, и не дулся или гримасничал, а таким был по своему характеру. После же обеда переодевался в знаменитый свой костюм — воротник, галстук, широкие штаны без заглажки, — надевал плащ, брал широкополую шляпу и книжку — и уходил. А жена провожала его любящим взглядом, более или менее коровьим.
Она знала, куда он идет. Никогда идти с ним не напрашивалась, и это оттого, что она понимала, как ему важно быть одному. Не задумываясь, а просто по хорошему женскому чувству считала, что таково его призвание, как бы указание судьбы, — быть похожим на Пушкина и сидеть на Тверском бульваре против памятника. Для чего — неизвестно, но уж значит — так сложилась его жизнь. Любящее сердце не позволяет себе критиковать поступки любимого, а жизнь наша вообще — загадка, и должно в ней быть что-нибудь особенное. Когда он уходил, жена думала: «вот он сидит там и все на него смотрят». И на сердце ее становилось легко и приятно.
А он нисколько не рисовался. Он тоже чувствовал, что в его судьбе есть странность, и что иначе поступать нельзя, как, например, нехорошо зарывать свой талант или уклоняться от исполнения общественного долга. Иногда и погода была плоха, и не совсем здоровилось, — а он все таки шел на бульвар отбыть положенное время, полчаса или весь час. Был и тут добросовестен и аккуратен, как на службе в акцизном ведомстве. Сначала его смущало внимание прохожих, особенно у самого памятника, где легче проверить сходство. Затем он привык. Обычно сидел, слегка склонив голову, и ловил доносившийся шепот: «посмотрите, вот удивительное сходство!» Людей он разделял на две категории: на замечавших и ничего не замечавших. Первые были образованными и порядочными людьми, а вторые — бессмысленная, чернь, чуждая поэзии. Но никогда он не старался сам каким-нибудь жестом привлечь на себя внимание. Посидев — шел домой в прежней задумчивости. Придя — переодевался, пил чай с баранками, а вечером заполнял взятые со службы бланки, а жена рядом что-нибудь вязала или вышивала. Хотя она была немногим его моложе, но он часто почти по-отечески гладил ее по голове и говорил что-нибудь ласковое, и она была очень этим счастлива. По воскресеньям, по ее просьбе, он читал ей стихи Пушкина, и тогда обоим казалось, что вот он читает ей свое, посвященное ей. Так что, когда он ей читал, например:
Там, где море вечно плещет На пустынные скалы…— то ей думалось, что вот тут, во второй строчке, ударение пожалуй и не правильно, — но сказать, конечно, не решалась, чтобы не обидеть автора.
Таков был Александр Терентьевич Телятин. Не фигляр, не актер, не заносчивый человек, а как бы человек, отмеченный перстом судьбы, и несший свою участь безропотно, достойно и вполне скромно.
Мы же были студентами, я и Петька Шулепов, тоже юрист, но большой озорник. Я убеждал его, что не стоит, выйдет какая-нибудь неприятность, но он настоял на своем, а мне, в общем, было тоже любопытно.
Петька подошел первым, снял шляпу, низко поклонился и сказал:
— Александр Сергеевич, от имени русской молодежи, воспитанной на ваших великих произведениях, и от имени всей России, — позвольте выразить вам глубочайшую нашу радость, что видим вас опять живым и здоровым!
Сказав, отступил на шаг. Я думал: вот сейчас начнется скандал. Петька, правда, здоровяк и будет биться до последней капли крови, но у Пушкина толстая палка.
И вдруг человек, похожий на Пушкина, поднял голову, посмотрел грустными глазами и ответил:
— Пожалуйста, благодарю вас.
Ко всему мы были готовы, а такого простого ответа как-то не предвидели. Даже Петя Шулепов смутился и забормотал:
— Мы ведь это только так… Вот позвольте предоставить вам моего товарища, он тоже стихи пишет.
Хотя я стихов не писал, но пришлось раскланяться, а Пушкин протянул мне руку и сказал:
— Очень приятно… если у кого талант.
Тут я потянул Петьку за тужурку и говорю вполголоса: «идем что ли, будет» — но он шепчет в ответ: «как то теперь неудобно уйти» — и опять к Пушкину:
— А что, Александр Сергеевич, может сделали бы нам честь, зашли бы с нами выпить пивца? О литературе там поговорим и о прочем.
— Покорно благодарю, с удовольствием.
Так и пошли. Мы по бокам, с почтительным смущением, а он по середине, в широкой крылатке, волосы в кудрях, голова немножко книзу, — совершенный Пушкин. Публика смотрит с изумлением.
В дверях пивной, пропустив его вперед, немножко задержался, и я спрашиваю Петьку Шулепова:
— На какой черт ты его позвал, он, кажется, сумасшедший?
— Вот вздор, здоровый человек; а может быть он и впрям Пушкин!
— Ну, тогда, значит, ты сам рехнулся.
— Да будет тебе! Зайдем выпьем, а там посмотрим.
Нам подали калинкинского; пиво плохое, но свирепое. А к нему этакие маленькие бараночки, вроде обручального кольца, но с солью. Особо заказали раков.
Человек — как человек, не смущается, помалкивает, только грустный. Сначала у нас разговор не выходил, но скоро пиво помогло. Через полчаса, за которой-то бутылкой, Петька уже кричал на всю пивную:
— Вы, Александр Сергеич, поймите, каково это нам читать на вашем памятнике неправильные строчки! Что это за «прелестью стихов я был полезен» — какая польза от прелести? А у вас как написано: «Что в мой жестокий век восславил я свободу!» Вот за это, Александр Сергеевич, мы вас и любим, мы, русское студенчество. Только вы плохо пиво пьете, а раки нынче очень хороши.
Еще через пол часа Петька неистовствовал:
— Вот что, Пушкин, ты слушай! Хочешь — сейчас пойдем к твоему памятнику — и всю надпись к черту! Ты мне верь, Саша, я зря не говорю! Ты меня поцелуй, Саша, вытри бакены и поцелуй, а то как ты сосал рачью клешню, так у тебя и застряла корочка.
Человек похожий на Пушкина, пил пиво большими глотками, ласково кивал, иногда отвечал односложно, целовал Петю толстыми пушкинскими губами и был, по-видимому, доволен. Только к концу дюжины пива, я заметил, что если пьян Петя Шулепов, если и мое сознанье не очень ясно, то наш гость совсем плох. То ли он не привык пить, то ли мы оглушили его беспардонной болтовней. Голова его склонилась, волосы спутались, галстук сбился на бок, — и совсем он не был теперь похож на собственный памятник. Особенно пострадала крылатка, нехорошо им запачканная, когда мы подымали его из-за столика. Одним словом кончилось это не так приятно, как началось.
Адрес он все-таки нам сказал. Усевшись в пролетку, подъехали к дому в Мерзляковском переулке. С извозчика драгоценный груз нам пришлось тащить обоим, а на неистовый Петькин звонок отперла дверь толстая женщина, ахнувшая при виде мужа.
Я еще довольно сносно владел языком и пытался ей объяснить, что вот какая произошла случайность, но что это ничего, даже очень хорошо. Но Петька перебил меня восклицанием:
— Па-л-учите! И вот, Нат-т-талья Гон… Гончарова, к чему п-приводит легко… легкомысленное п-поведе-ние. Мы, На-талья Г-гончаровна, мы его привезли п-пря-мо с дуэли, а вот это (показал на меня) это — сам Дантес, и я ему р-разобью…
— Перестань, Петька, нехорошо!
— Знаю, что нех-хорошо, знаю! И все-же не п-поз-волю обижать великого п-поэта!
На завтра мы, посовещавшись, чинно и благородно явились на квартиру нового знакомого извиняться. Его дома не было, а жена встретила нас сначала не очень дружелюбно. Но мы были молоды, а Петька хоть и буян, — умел быть галантным и милым человеком. Главное, — мы искренно раскаивались. Посидевши минут десять и объяснив, что во всем виноваты были мы и что силой затащили «Александра Сергеевича» в пивную, мы смирненько удалились. И, мне кажется, что была, в общем, довольна жена человека, похожего на Пушкина. Ведь все это происшествие было как бы доказательством того, что он — человек особой судьбы, как бы отмеченный роком. А Петька еще догадался ввернуть несколько слов о ничтожных детях мира, о святой лире и о божественном глаголе. Удивительно, как у этого болтуна все приходилось к месту!
Очень много — лет пятнадцать — спустя, после всяких житейских скитаний и мытарств, в дни революции, разрухи и московского голода, я вез однажды на детских санках полтора пуда мерзлой картошки. На улице были сугробы снега, а на Тверском бульваре дорожка более или менее протоптана и для санок удобна. И только повернул на бульвар со Страстной площади, как почти столкнулся с человеком странного вида, толстогубым, с полуседыми редкими кудрявыми баками, в легкой, вызеленевшей крылатке — это по зимнему-то морозу! Я был в валенках, а он в каких-то необычных глубоких калошах с меховой оторочкой многолетней давности. Сам — сгорбленный под кулем какого-то зерна, надо полагать — овса или проса.
В другом месте я бы не вспомнил, а тут, у памятника Пушкина, сразу узнал человека. Теперь о сходстве, конечно, смешно было говорить — а все-таки что то осталось, вероятно, в глазах или в странности одежды.
Подумал сначала — не заговорить ли? Напомнил бы ему, как подшутили мы над ним в студенческие годы, — ведь быть того не может, чтобы он поминал нас злом. А время сейчас такое, что приятно отвлечь мысли от житейских забот. Но, посмотрев на свои саночки, решил, что накинуть на них еще его мешок — будет слишком тяжело, видеть же, как он надрывается под непосильной ношей и забавлять его приятными воспоминаниями — как то нелепо. Так я и не остановил человека, некогда похожего на Пушкина.
Но вот что, помню, пришло мне тогда в голову. Пушкина мы все знаем по его молодым портретам, и умер он молодым. Мне же — и тут смеяться нечему! — удалось видеть его старым и несчастным. Потому что ведь сходство то, столь разительное, сохранилось бы и в старости!
И еще я подумал: а что этот человек, пушкинский двойник, испытывал, когда изменили надпись на памятнике Тверского бульвара? Вероятно, это было для него некоторым праздником. Может быть, жена — если еще жива — его поздравляла, а вечером они, после чаю, читали вслух:
И долго буду тем любезен я народу…Конечно — мысли праздные. Но не всегда же думать о серьезных делах.
МАРИНАД
— Я извиняюсь, гражданин…
Мне стало сразу грустно. Три красноармейца, человек в черной коже и гудок автомобиля у подъезда. Ясно. Все же я попробовал сделать шаг вперед.
— Гражданин, я фактически прошу вас остановиться.
Пришлось фактически остановиться. Менее чем в четверть секунды припомнил, что у меня в карманах, чье письмо осталось на столе… Не забыть взять с собой подушку и сунуть в башмак огрызок карандаша… Известить Союз Писателей… Помнить, что все это делается для счастья потомства, в интересах социальной справедливости и гражданской свободы… Перед увозом закусить, так как до завтра бурды не дадут…
— Пожалуйте с нами в эту квартиру.
— Я живу выше.
— Не имеет значения, гражданин. Ваше присутствие необходимо при вскрытии.
Волосы зашевелились. Дело выходит хуже обычного. Еще четверть секунды на воспоминания о том, кого я мог убить и чей труп будут вскрывать. Но все же уголовное дело лучше политического.
— Вы, гражданин, не преддомком?
— Нет, я просто жилец.
— Не имеет значения. Можно и так. Потрудитесь удостовериться, что печати целы.
На двери квартиры, этажом ниже моей, уже с месяц висят печати. Жил здесь врач, но куда то исчез; говорят — убежал, опасаясь ареста. Квартиру его опечатали, позабыв потушить электричество. Домовой Комитет ходатайствовал о временном снятии печатей на предмет поворота выключателя, но совдеп не разрешил. Так и светились окна всю ночь.
Отлегло от души: вскрывают не труп, а квартиру. А я не преступник, а свидетель. Приободрился, повеселел, осмотрел печати:
— Да, все в порядке.
— Фактически удостоверились, гражданин? Во избежание в будущем нареканий на власть.
— Фактически.
— А-атлично. Петь, ломай печати к чертовой матери!
Петь, красноармеец, сломал печати. Ключа не было, но шоффер дал ломик, вроде фомки, и показал, как делается.
— Дверь, гражданин, заперта, по какой причине отворяем при помощи орудий производства.
— Можно бы ключ в Домкоме попросить.
— Времени, гражданин мало, не до ключа.
— Вы там электричество потушить хотите?
— Об электричестве ордера нет, хотя, конечно, потушим, если что горит. Мы же на предмет реквизиции.
Петь, очень добродушный красноармеец, пояснил:
— У нас насчет небели мандат, для домашнего театра. Цельный список имеем. Вот товарищ комиссар нам выдаст. А вы, значит, за понятого.
Вошли в квартиру. Обстановка очень хорошая. Столовая карельской березы, гостиная со всякими пуфами и интимными уголками. Кабинет серьезный, деловой. Шкап с медицинскими книгами, другой с инструментами, третий заперт на ключ. На стенах недурные картины, оригиналы скромных художников.
— Ну, Петь, забирай, что надо. Где список ваш? Вы, гражданин, извольте удостовериться, что все по списку. Номер первый: четыре картины. Забирай, Петь, и выносите, времени у нас мало.
— А какие брать то? Вон их сколько.
Красноармеец постарше предложил:
— Бери, которые побольше и повиднее.
Но Петь колебался.
— Вы, гражданин, не посоветуете нам, которые брать?
— А вам для чего картины?
— Все для театра. Только я вот не помню, на какой нам лях картины.
Мы обошли комнаты. В спальне и в прихожей висели нелепые полотна в золоченых рамах. Я посоветовал остановиться на них: и ярко, и здорово.
Отобрали три, а четвертую Петь облюбовал в кабинете. Сняли со стены.
— Ну, теперь тащи их на машину. Следующий номер: стол столовый один.
— Нам бы взять тот, писчебумажный, из кабинета.
— Сказано — столовый, значит, этот и бери. Тот для учреждения потребуется.
— Этот то жалко брать, он от цельной обстановки; что ж ее разрушать.
— Есть что жалеть, буржуазную мебель. Бери, что по списку указано. Того стола я фактически не могу позволить. Вот, пускай, гражданин, сам убедится.
— А нам первое дело занавески нужны.
— Занавески? Тут занавески не показаны в списке.
— Как же не показаны. Вот, пусть гражданин-понятой проверит.
Я взял список, читаю:
«Четыре гардины, стол для столовой один»…
Объясняю:
— Вы, гражданин комиссар, ошиблись. Сказано «четыре гардины», а не картины. Гардины, это и есть занавески.
Петь обрадовался:
— Вот я тоже и говорю! Нам главное дело в занавесках.
— Ага. Так, значит, гардины. Это и есть… Эй, товарищ шоффер, назад картины. Не нужно. Сымай, Петь, тряпки с окон. Напишут тоже, черти, и не разберешь.
Еще отобрали зеркало, ломберных столиков два, кресел кожаных два, ковер и умывальник.
— Зачем вам умывальник для театра?
— Ну это уже так, для удобства. Что бы умываться. Для полной обстановки.
Список кончен. Петь умаялся. Его товарищи расселись на диване и тушат папиросы об исподнюю часть стола, а не то, что бы обо что попало. Один вышел плюнуть в переднюю.
— А славно буржуи живут. Я бы так пожил.
Комиссар заметил:
— Несообразно рабоче-крестьянским интересам; хотя безусловно удобно. Кабинет, например, отличный для серьезных занятий.
В кабинете порылись по ящикам; любопытного было мало. При помощи того же фомки вскрыли шкап — и ахнули.
— Вот это запасы! — сказал Петь.
— Что же тут у него припрятано? — заинтересовался и комиссар. — Вот, гражданин, потрудитесь взглянуть. Банки стоят, а что в банках…
Петь вскрыл банку и понюхал.
— Ребята, да это спирт!
Оживились все. Перенюхали банку за банкой. Даже комиссар не скрыл удовольствия:
— Спирт безусловный. И не воняет ничем особым. Однако, что в нем плавает? Вот, гражданин, не потрудитесь ли удостоверить находку. А главное не вредно-ли. Отравы нет-ли?
Я прочел латинскую надпись на банке и охотно удостоверил:
— Нет, это вредным не должно быть.
— Маринад какой?
— Вроде маринада.
— А если попробовать?
— Не знаю. Как вам понравится. Вреда, конечно, не будет.
Комиссар подумал и сказал решительно:
— Придется законфисковать и реквизировать. А ты, Петь, попробуй на язык.
— Кабы чего не вышло.
— Вон гражданин говорит, что вреда не будет.
Соблазн был силен; Петь сначала лизнул языком краешек банки, затем пригубил, наконец отпил глоток, крякнул и вытер рукавом губы.
— Спирт как есть, настоящий. А на чем настоен — не разберешь. Плавает что то.
Попробовал и комиссар.
— Натуральный спирт. А что же тут написано? Вы, гражданин, по иностранному знаете?
— Знаю.
— Окажите помощь власти, гражданин. Объясните нам, а мы в протокол запротоколим.
Из простого понятого я был повышен в эксперты.
— Вот тут, товарищи, написано «солитер».
— Это что же?
— Это вроде глиста, только не круглый, а ленточкой.
— Тьфу, — сказал Петь. — Это который мы пили?
— Нет, другой.
— Ну, слава тебе, а я испугался. А на нашем что?
— На вашем… как бы вам объяснить… Вроде маленького человека; по четвертому месяцу выкидыш.
Шоффер, что стоял в дверях, так и лопнул от хохота, вроде резиновой шины. Петь остолбенел, а комиссар пришел в негодование.
— Я извиняюсь, гражданин, но вы за это ответите. Я вас фактически спрашивал…
— Вы спрашивали, не повредит ли. Я вам ответил, что ничего вредного тут нет.
— Этакую мерзость давать людям пить.
— Кто же вас заставляет. Я тут не при чем.
Петь пришел в себя, долго вытирал губы, сплевывал на ковер и пугливо косился на шкап с банками.
— А ничего от этого внутре не станет?
Шоффер оскалил зубы:
— Смотри, не забеременей.
Подошел к шкапу, похлопал дверцу, и жалостливо прибавил:
— Эх, добра то сколько загублено. И на что! На паршивых, на глистов, да на бабье непотребство. Уж действительно!
Из соседней комнаты нас позвал комиссар:
— Вот, гражданин, соблаговолите расписать фамилию под списком, что все из квартиры забрано согласно мандата.
Я подписался.
Мы вышли. Дверь снова опечатали. Поднявшись в свой этаж, я услыхал гудок отъезжавшего грузовика.
А вечером, выйдя подышать воздухом, увидал освещенные окна квартиры беглого врача. Электричество так и забыли погасить.
ПУСТОЙ, НО ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
Молодой человек в совершенно новом пальто и желтых перчатках сидел в вагоне метро. Он недавно приехал из России и скоро возвращался. Пальто купил в Бэль Жардиньер, перчатки на Капуцинском Бульваре. Быть в Европе очень приятно, особенно в Париже, хотя жизнь настоящая не здесь, а дома, в России. Мудреная жизнь, но своя. Приятно будет и вспомнить, как жил в Европе; может быть, еще как ни-будь удастся побывать. И любопытно, как невольно поддаешься культуре, приучаешься держаться и вести себя по европейски! В числе прочего, молодой человек знал, что европейцы носят перчатки на обеих руках и уступают место дамам.
Вообще знал, но частности иногда ускальзывали. Что значит, например, дамам? А девушка-подросток, например, тоже — дама, уступать ей? Нужно, чтобы не вышло смешным — европеец не должен быть смешным. Так как другие (настоящие европейцы, французы) девочкам места не уступали, то не уступал и молодой человек, фамилия которого была Коняев, Григорий Васильевич. Пожилым же дамам непременно уступал, даме с ребенком — обязательно, быстрее обычного вскакивая и касаясь шляпы. И еще уступал тем дамам, которым как то невольно уступишь: заметным дамам, интересным, и тем, которые смотрят вопросительно. Но все таки твердых правил на этот счет нет; и сами французы как то не отчетливо поступают.
Рядом с молодым человеком сидел плотный и почтенный француз с красной розеткой: орден почетного легиона. Коняев, косясь на красную пуговку, думал:
— Как странно, что красная. У нас было бы понятно, даже как то обязательно. Но вот и у них тоже красная.
Коняев не был коммунистом. Просто был способным молодым человеком, спецом по технической части. Приехал по командировке — для изучения чего то, вроде электрофикации, и для закупки книг по специальности.
И вот вошла в вагон старуха, но не дама, а вроде консьержки, без шляпы, с прической, на которой может держаться и бельевая корзина. Одетая чисто, но все таки не дама. И очень пожилая. И молодой человек, который за собой очень следил, смутился.
Потому что неизвестно — как быть? С одной стороны, дама или простая женщина — какая же разница, а уж тем более с нашей точки зрения, для гражданина страны, где, принципиально рассуждая, барство отменено. Что другое у нас плохо, а это, во всяком случае, хорошо. Эта демократичность у нас, действительно, чувствуется, вошла в жизнь. Значит… да… но и с другой стороны, здесь свои обычаи… как бы не вышло демонстрации. И вообще — уступают ли французы в метро место консьержкам? Приходится применяться к чужим обычаям, и европеец не должен быть смешным.
Решить нужно было быстро, а решить трудно. И раз не встал сразу — как то уж и странно вставать, точно думал — и наконец надумал.
И молодой человек спасовал: опустил голову, как будто не видит, что перед ним стоит старая женщина.
Тогда случилось следующее: кавалер ордена почетного легиона встал, приподнял котелок и сказал обычное в таких случаях:
— Вуле ву, мадам…
И так решительно сделал это, что старушка забормотала «мерси, мосье, мерси» и села рядом с приезжим из России спецом Коняевым, Григорием Васильевичем, молодым человеком в желтых перчатках.
И хлынуло в душу молодого человека ощущение провала, гибели. Сначала смущенье, острый стыд, а потом сейчас же ненависть родилась в душе его.
Стыд родился потому, что именно он, русский, из страны, где плохого много, но, действительно, этих дурных сторон, этого барства нет, потому что жизнь как то всех сравняла, перестали обращать внимание на одежду, — и вот именно он и унизил себя, мужества не хватило, не уступил места старой простой женщине, испугался, что сделает смешное с их европейской точки зрения. Стыдно это! Ненависть же родилась потому, что стыд был непереносен. Иначе, как ненавистью, его не зальешь.
И прежде всего ненависть к проклятому господину с орденской ленточкой. Потом сейчас же и ко всей Европе. Сразу радость померкла и захотелось домой, в Москву. Чужая страна, и люди кругом сидят чужие, и смотрят на него без улыбки, упорно, — что вот он, молодой человек, не встал, а пожилой и почтенный, кавалер ордена, тот встал, уступил. И сидят кругом, действительно, женщины, а мужчины стоят.
Ужасно на душе стало гадко.
Все в ней, в Европе, ложь и условность. Подчеркивают свою воспитанность. И наверное этот господин все равно, на первой станции выходит. И гадость эту сделал по дешевому тарифу.
Но господин не вышел, а прислонился к двери и продолжал читать газету. И еще холоднее стало на сердце у Коняева, Григория Васильевича, приезжего из России спеца по электрофикации. Под желтыми перчатками стало потно, и царапало шею новое пальто от Бэль Жардиньер. Вообще все стало противным.
И так захотелось: вот бы подрались французы в вагоне, или кто-нибудь наплевал на пол!
Черт же на ухо шептал:
— Эх ты, хам невоспитанный, азиат. Для старушки себя пожалел. А француз, буржуй, и уже пожилой, да еще с красной розеткой, — просто встал и уступил. Теперь стоит и на тебя смотрит. И все на тебя смотрят, думают: вероятно из России приехал такой, невежа, невоспитанный, не европеец. Все, что угодно — а не европеец.
Очень, очень скверно было на душе Коняева, Григория Васильевича, спеца.
Из за такого, в сущности, пустяка, а так скверно, что невыносимо! Встал и на первой станции вышел. Станция была Энвалид, а ему нужно, собственно, ехать до Опера. Но не мог — так мерзко было на душе!
В России он был простым гражданином, не коммунистом, и к Европе он хорошо относился, мечтал о ней, — вот и приехал. И чувствовал себя приятно здесь — до этого случая. А вот теперь шел по улице и всех ненавидел:
— Черт бы вас всех… Сплошное лицемерие… Все на показ…
Если бы пол Парижа провалилось, или бы революция случилась, — обрадовался бы сейчас этому Коняев, Григорий Васильевич, из Москвы.
Черт же продолжал ему шептать:
— Оттого и злишься, что хам невоспитанный. Надел желтые перчатки и думаешь — европеец. Этого мало, перчатки, да что на пол не плюешь. Вот и злишься. Оскандалился и злишься!
Очень гадко было на душе Коняева. Зашел в бар, выпил бок пива, — пиво дрянь, и все смотрят. Черт бы их всех…
Когда вернулся он в отель, приличный и скромный, то снял пальто, швырнул на пол желтые печатки, сел в кресло, — ну просто захотелось ему плакать или застрелиться, — а ведь, в сущности, из за такой ерунды! И был испорчен весь день. А день был солнечный, и уже мало дней оставалось на Париж.
Вечером писал письмо в Россию, жене. Вот из письма отрывок:
«Знаешь, я что то очень заскучал по России, даже раздумал хлопотать о продлении визы. И удобно тут, и покойно, и интересно, а не могу, не лежит душа. Чувствуется ложь какая то, показная добродетель, внешнее все. Давит меня это. Пусть тут все тонко и вылощено, — но чуждо нам, Манечка, душа тоскует по родной грубости и грязи. Нет, право. Холодно тут и как то одиноко что ли»…
Был Григорий Васильевич Коняев человек в общем прямодушный и честный. И потому дальше написал:
«А впрочем, сам не знаю точно, что со мной. Просто — соскучился и на душе дрянно. Чужая хорошая жизнь раздражает. Злюсь на всех и на все. Нет, мы не европейцы — может быть это и хорошо; а может быть и скверно. Вообще чувствую, что не засижусь. Ну, ее Европу, — дома лучше».
Потом лег спать под чистую, холодную простыню, свет погасил. А не спится. Начнет дремать — и опять мысль на то же возвращается, на эту чепуху, что вышла в вагоне. Сам себя видит, что вот — привстал, снял перед старушкой шляпу, уступил место… И так было бы на душе хорошо. Если бы тот господин, с красной розеткой, не встал раньше, может быть все-таки… И болезненно морщился Коняев, спец, натягивая простыню до самого носа. Не спится…
Пробовал думать о равноправии женщин, т. е. о том, что в России женщину уважают, как всякого другого, и дело не в расшаркиваньи. Пробовал говорить себе: «да ну, стоит из за такой дребедени…» А дребедень все не выходит из головы. И это очень мучительно. И опять злость подступила: вот бы этому французу с розеткой в морду бы… кто нибудь заехал. И стало бы ему, Коняеву, Григорию Васильевичу, сразу легче. Ужасно гадкое состояние.
Потом все же заснул. На утро полегчало; вспомнил, но без прежней остроты.
Больше в вагонах метро не садился, а на ногах ездил, даже если далеко. Как бы из гордости.
А когда уехал в Россию, — увез с собой осадок обиды какой то.
Кажется — пустяк, вздор, а вот как мучался человек из за этого.
ПЕНСНЭ
Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, — но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце, и особенно в серьгах, — и к ним с заметным презрением относятся вещи — труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка.
Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, — живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной.
Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей — не всех, а некоторых. Это — страсть к путешествиям. Таковы — коробка спичек, карандаш, мундштук, гребенка, шейная запонка, еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, что эти вещи время от времени уходят гулять — на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические (семи-свечник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия и пр.), но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел; на примере мелких вещиц легче установить полнейшую самостоятельность поступков.
Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и, не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и «неодушевленности», — я бы и по сейчас думал так элементарно.
Все читающие в постели, знают, с какой настойчивостью «теряется» в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту — карандаша нет. Вы шарите, ищете, злитесь — нет и нет. Откидываете простыни, смотрите под подушкой, на коврике, на столике, — нет нигде. Ворча встаете, лезете ногами в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо — но карандаша нет. Ежась от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш (обычно, он оказывается неочиненным), чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы, наконец, берете книжку, отложенную потому, что не чем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку — карандаш в ней.
Ясно, что сам попасть он в нее не мог, — но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить.
Обычно, мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно! Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали.
Я помню поразительный случай с моим пенснэ, — простое пенснэ, без оправы: два стекла и легкая дужка.
Сидя в кресле у стены, я читал; на новой главе хотел протереть стекла, вынул платок, и вдруг — пенена исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки, — все решительно. Пенена не было нигде; не быть и раньше не могло, так как я очень дальнозорок и мелкой печати без стекол не разбираю.
Не подумайте, что пенена мое оказалось на носу; в таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу; на ней были две свежие ямки — и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нем все кисточки и пуговки, о которых Кузьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком, — и все бесплодно.
Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной, — все было напрасно.
Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенснэ; я еще порадовался, что — судя по звуку — оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами — чтобы хоть раздавить его, проклятое, и наконец успокаиваюсь. Ни-ка-ких!
Так и исчезло — как провалилось. Но в паркете не было ни единой щелочки.
Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл, и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела все пылинки и даже вымыла черную лестницу (до следующего этажа). Вся квартира обновилась, посвежела — но пенснэ не было.
Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенснэ, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, — и целый день мыслил, пользуясь главным образом, методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы.
И вот сидел я однажды в том же кресле у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенснэ, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг — раз! — и падает карандаш. Перепуганный (не шутя! тут любопытнейшее психическое переживание!) я бросаюсь вдогонку. Мне почему то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и… рядом с ним, смирненько, плотно прижавшись стоймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой.
Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп (это неправда! я дальнозорок, но вижу отлично), что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьезный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на все готовый ответ. Но нужно было видеть физиономию моего пенснэ, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это — не случай и не недоглядка.
Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно — наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.
Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?
На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенснэ мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, — в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.
Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов, показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услыхал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно «странно упало». Действительно странно! Почему то с людьми этого никогда не случается!
Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка: он искал пенснэ, как предмет плоский (?!), лишь в двух измерениях, между тем, как оказалось оно именно в третьем. По моему это — чепуха.
Между прочим, кончило это пенснэ трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенснэ упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки.
Пусть это будет случайностью — мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот «случай» самоубийством. И что могло побудить эту, в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек?
Мне жаль бедняжку! Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.

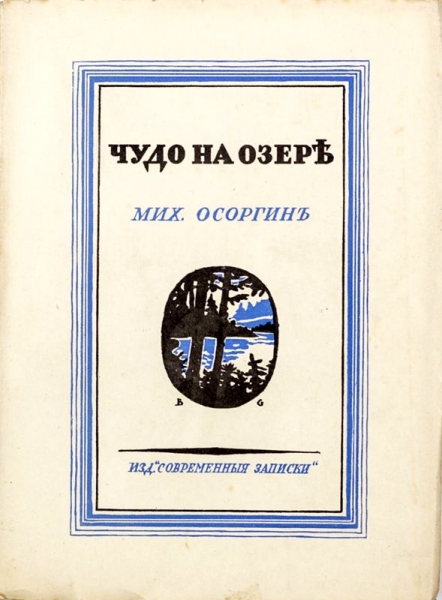

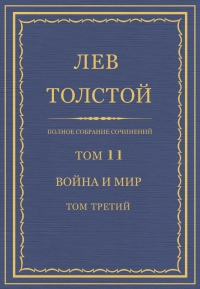

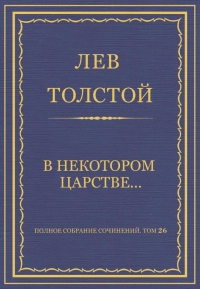
Комментарии к книге «Чудо на озере», Михаил Андреевич Осоргин
Всего 0 комментариев