Л.Н.Толстой
ВОСПОМИНАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.
Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.
В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:
ВОСПОМИНАНИЕ
Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю.
Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:
"6 янв. 1903 г.
Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, - сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие - уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное".
Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, - таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была 1000 бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, - похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.
И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.
Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.
Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, в, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.
Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его "Sentimental journey") и Topfer'a ("Bibliotheque de mon oncle") [Стерна ("Сентиментальное путешествие") и Тёпфера ("Библиотека моего дяди") (англ. и франц.)].
В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть в неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, - мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное - полезнее другим людям.
I
Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матера своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю - не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.
Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица - от отца до кучеров - представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало 1000 мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, - которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, - четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, - и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. "Вся покраснеет, даже заплачет, - рассказывала мне ее горничная, - но никогда не скажет грубого слова". Она и не знала их.
У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата - равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.
В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, - я хорошо знал это.
Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.
Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.
Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, - это то, что они никогда, именно никогда никого, - это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, - никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.
В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, - это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: "Он никогда не осудил никого".
Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.
Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. - были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.
Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: "Ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'etre aupres de toi..." [Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастии быть около тебя (франц.)] и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: "mon bon ami" [мой добрый друг (франц.)], и в одном из писем прямо говорит: "Le temps me parait long sans toi, quoiqu'a dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta societe quand tu es ici" [Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь 1000 (франц.)], и всегда подписывается одинаково: "ta devouee Marie" [преданная тебе Мария (франц.)].
Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.
II
Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-алшефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: "С чего он взял, чтобы я женился на его б....".
За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.
Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.
Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности в заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.
Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.
Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князья разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной - кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: mon petit Benjamin [мой маленький Вениамин (франц.)].
Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, ч 1000 то мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой m-elle Henissienne, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. M-elle Henissienne эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой m-elle Henissienne. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: "Je m'arrange tres bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folatre avec l'une et je parle sentiment, ou je medis du monde frivole avec l'autre, je suis aimee a la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillees, car il n'y eut jamais d'amitie plus querelleuse et plus drole a voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des reconciliations, des injures, et puis des transports d'amitie exaltee et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitie qui a anime et trouble ma vie pendant quelques annees. Je les regarde avec un sentiment indefinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide et reel de l'age mur vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, ou tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage" [Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурю с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчливой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым, чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству (франц.)].
Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, - это то, что он "задумывается" и вместо bonsoir [добрый вечер (франц.)] или bonjour [здравствуйте (франц.)] говорит бабушке: "Je vous remercie" [Благодарю вас (франц.)].
Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.
Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.
Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.
Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы 1000 Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в "Детстве".
Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я - меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, - кажется, не больше 9 лет, - была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещая Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как "Эмиль" Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепияно, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.
III
Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.
Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.
Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илинька был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13-14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родитетелями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.
После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе - это видно по письмам, - вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.
Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.
Жизнь его пр 1000 оходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слыхал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: "Как же вы не остановили его?" Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.
Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты - и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков - пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественноисторических сочинениях - Бюфон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти Histoires des croisades et des papes [Истории крестовых походов и пап (франц.)], которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованья людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: "Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер". Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.
Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожа 1000 ный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: "К морю": "Прощай, свободная стихия..." и "Наполеон"; "Чудесный жребий совершился: угас великий человек..." и т. д.... Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошев видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в Графе Нулине. Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то - мы не видели - борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструненного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: "Пущай". Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец, что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.
Самые же приятные мои воспоминания о нем - это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стукает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта - торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.
Мы все смотрим туда же.
Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет и нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру.
Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает - радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую жилистую руку.
Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.
Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.
IV
Б 1000 абушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная - она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная - сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном - женщина. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное - доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах, - не Ясной Поляне, но Полянах, - шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, - кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньвсдо дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.
Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: "вы, моя милая" и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.
Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое - это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, - вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, - чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание - это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, 1000 и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце - соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.
Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание - это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.
Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.
Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: "Продолжать прикажете?" - "Да, продолжайте". - "Любезная сестрица, сказала она, заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, - расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать". - "Охотно, - отвечала Шехерезада, - рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие". Получив согласие султана, Шехерезада начала так: "У одного владетельного царя был единственный сын..."
И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слущал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампады.
Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице - жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.
V
Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.
Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзей 1000 ское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезвь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.
Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.
С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка - Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.
Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуншей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.
Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постояно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в т 1000 ульском женском монастыре, частью у нас в доме.
Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.
Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.
Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.
Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служению богу, как она понимала это служение.
VI
Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая - бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Ови детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. "Я сделаю", сказала она. "Не сделаешь", - сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. "Вот приложи это к руке", - сказал он. Она вытянула белую руку, тогда девочки ходили всегда декольте, - и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмури 1000 лась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.
Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: "Toinette, oh, elle etait charmante" [Туанетта, о, она была очаровательна (франц.)]. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.
Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:
"16 Aout 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une etrange proposition celle de l'epouser, de servir de mere a ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refuse la premiere proposition, j'ai promis de remplir l'autre tant que je vivrai" [16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение - выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (франц.)].
Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.
Она была воспитана барышней богатого дома - говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрогивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные - крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе - любовь к одному человеку - к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем, более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко 1000 не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывая ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.
Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: "Вот что, mes chers amis [мои дорогие друзья (франц.)], комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, - сказала она дрожащим голосом, - вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь". Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.
Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.
Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом - кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем; посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.
Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.
Тогда можно было сказать: "Wer darauf sitzt, der ist glucklich, und der gluckliche bin ich" [Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот - я (нем.)]. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я - ее милую, энергическую, она - мою грязную, порочную руку, поздороваешься тоже по старой привычке по-французски, пошутишь с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сижу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, подни 1000 мает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворне, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Maшеньки, которую она любит если не больше, то так же как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы - всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала: "Что-то наш Сергеиус? Только вместо Сережи - Сергеиус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела - и не дела - дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.
Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства - любовность и неторопливость - незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат - вечных мучений: "Dieu qui est la bonte meme ne peut pas vouloir nos souffrances" [Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (франц.)]. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.
"Заходи, заходи, - скажет она, бывало. - А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам". Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. "Садись, садись, пасьянс сделаем", - говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памятны. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.
Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.
Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. "Добрая была барыня, никому зла не сделала", - говорили все. И ее любили и сильно любили за это. 1000 Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.
Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.
И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать, от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait [Если бы юность знала, если бы старость могла (франц.)] не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.
VII
Немца нашего учителя Фед. Ив. Рёсселя я описал, как умел подробно, в "Детстве" под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты - все это действительно так было. Про братьев и сестру расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.
Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.
Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, - это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.
Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темешовым. Сделка эта была вот какая.
Темешов был очень богат, законных 1000 детей у него не было. А было только две дочери: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницами Темешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, он желал передать отцу с тем, чтобы ценность имения, 300 тысяч (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше), отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темешов делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300 тысяч, отец же давал векселя трем посторонним лицам Исленьеву, Языкову и Глебову по сто тысяч каждый. В случае смерти Темешова отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч, которые должны были идти двум девочкам.
Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что именье Пирогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленьева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам. Языков же присвоил себе эти не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после.
Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что, когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом не глядя на нас, сказал: что съел - это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть.
Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, а Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.
Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений.
VIII
Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц: остановиться там, где кончается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам, а лица эти интересны, продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства, будет неясно для читателя, потеряна связь рассказа.
Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь, даже наверно не успею, и потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь, и для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании.
Итак, продолжаю, как хотел: описывая сначала тех ближайших людей прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потом сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и несвязно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге: 1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч [?], 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11 1000 ) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон.
Прасковью Исаевну я довольно верно описал в "Детстве". Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено - дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа - экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. "Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?" - кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.
- Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был, - ответит она и, открывая шкап, достает смолку, которую она называла очаковским куреньем. По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.
Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в "Детстве", она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна с своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и из блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидев меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.
Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением.
Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.
Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик, как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.
Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын и Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.
Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.
Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. 1000 Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу, назад.
Да, но прежде скажу хоть несколько слов о камердинерах и Тихоне.
В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только векселя и другие - были подкинуты в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей. Большое уважение к ним вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашеные куколки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней.
Тихон-официант, тот, который таскал табак и которого мы очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежутком между носом и твердо сложенным ртом и подвижным лбом и бровями над веселыми, серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом. Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять что попало и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в похождении на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с венчиком из прудового тростника убирал комнаты, днем сидел в передней и вязал чулки.
(Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в 12 томе 10-го изд., стр. 447.)
Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная - диван, большой, круглый, красного дерева стол, под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балко[нная] дверь и в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с


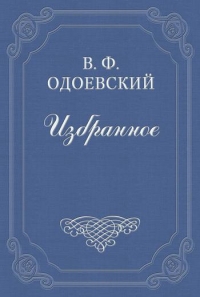
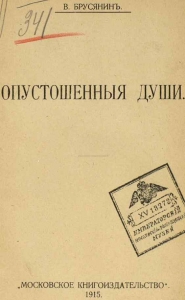
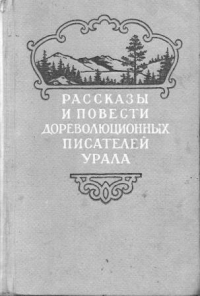
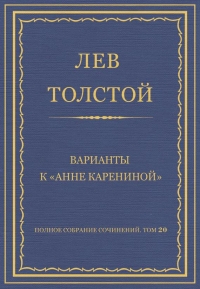
Комментарии к книге «Воспоминания», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев