Николай Гейнце ПОД ГНЕТОМ СТРАСТИ
ВМЕСТО ПРОЛОГА
В теплый июньский день 1895 года я сидел на террасе красивого двухэтажного дома, в одной из пригородных дачных местностей Петербурга и с нетерпением смотрел на дверь, ведущую в комнаты.
Вдруг у самой террасы в саду послышался звонкий детский голос, и через минуту на террасу вбежала девочка с каштановыми локонами и огромными карими глазами. Ее правильное, точно отлитое из мрамора личико навеяло на меня целый рой воспоминаний. Я болезненно вскрикнул и протянул обе руки к ребенку.
Девочка на секунду остановилась, но затем доверчиво подошла ко мне. Я притянул ее к себе и, посадив на колени, начал жадно всматриваться в ее черты.
— Она, совсем она! — невольно прошептал я и, спустив девочку с колен, задумался.
На ступенях лестницы, ведущей на террасу, показалась няня.
— Юля, Юленька, — позвала она девочку, — мама идет, беги к ней навстречу.
Затем, обратившись ко мне, она сказала:
— Барыня сейчас будет здесь.
Взяв ребенка за руку, она ушла.
Я вскочил… Сердце мое сильно билось. Я хотел спуститься с террасы, но на нее уже входила стройная молодая женщина с такими же, как у ребенка, тонкими чертами лица и большими глазами. На ней было надето белое вышитое платье, ее изящная головка скрывалась под легкой итальянской широкополой шляпой.
— Сколько лет, сколько зим! Боже мой, как я рада вас видеть!
Она крепко, по-мужски, пожала мою руку.
— Вы давно здесь, я, кажется, заставила себя ждать… Садитесь, пожалуйста…
Я сел.
— Ну, как вы поживаете… Что делали?.. Рассказывайте.
Я смотрел на ее дышащее здоровьем и счастьем лицо, на ее стройную фигуру и не находил слов для ответа.
— Как здоровье вашего мужа? — наконец спросил я.
— Он здоров и весел… Все хорошо! А сколько пережито? Не правда ли?
Ее лицо покрылось дымкой грусти.
— Да.
Вскоре явился и муж, довольный, счастливый…
Я пробыл у них почти целый день.
Он показался мне мигом в этом счастливом уголке.
«Вот где царит истинная, чистая супружеская любовь… — думал я. — Здесь нет страсти, под гнетом которой погибло столько людей, бессознательно созидавших этот храм чистой любви».
Уже смеркалось, когда я уезжал от них. Отъехав от дома, Я оглянулся. На террасе, освещенной лампой под пунцовым абажуром, стояли он и она. Он держал ее за талию, а ее голова лежала на его плече. Красноватый отблеск лампы падал на них.
«Кровь, кровь!», — мелькнуло в моем уме.
Их счастье действительно было обрызгано кровью, но они в ней не были повинны… История их любви стоит быть рассказанной. Я расскажу ее…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МЕЧТЫ И ГРЕЗЫ
I В «АКВАРИУМЕ»
Был чудный майский вечер 189* года. Огромный театр «Аквариум», один из излюбленных летних петербургских уголков, был переполнен.
Партер почти сплошь был занят постоянными посетителями, представителями столичной золотой молодежи, до безразличия похожими друг на друга: костюмами, прической, модной, коротко подстриженной бородкой a la Boulanger и даже ничего не выражающими шаблонными физиономиями; юными старцами с лоснящимися, как слоновая кость, затылками; редакторами ежедневных газет и рецензентами.
В ложах роскошной гирляндой развертывалась целая плеяда представительниц женской половины веселого Петербурга — «этих дам», которые встречаются везде, где только можно показать себя и посмотреть людей.
На сцене шла новая оперетка, и кроме того приманкой служила «парижская дива», начавшая, как утверждали злые языки, свою карьеру в полпивных Латинского квартала, перешедшая оттуда в заурядный парижский кафе-шантан, с подмостков которого прямо и попала на сцену «Аквариума» в качестве «парижской знаменитости», имя которой крупными буквами было напечатано на афишах.
Одна из лож была занята исключительно мужчинами; их было пятеро, и их веселость и развязность красноречиво говорили, что они залили свой холостой обед, быть может и фальсифицированными, но, наверное, крепкими винами.
Первый акт уже подходил к концу, но почти все сидевшие в ложе не обращали на сцену никакого внимания, видимо, приехав не для пьесы, а для того, чтобы как-нибудь и где-нибудь убить время.
Только двое из этой компании резко отличались от своих сотоварищей — истинных типов юных кутящих петербургских пижонов.
Первый был человек, которому на вид казалось лет за сорок, с серьезным выражением умного лица, проницательным взглядом серых глаз, смотревших сквозь золотые очки в толстой оправе, с гладко выбритым подбородком и небольшими, но густыми усами и баками. Он был светлый шатен, и легкая, чуть заметная седина пробивалась на висках его гладко зачесанных назад без пробора волос.
Это был доктор Петр Николаевич Звездич, известный среди петербургской золотой молодежи, в кругу которой постоянно вращался, под именем «нашего доктора».
Его обширная практика, доставившая ему обеспеченное состояние, состояла преимущественно из пациенток: дам и девиц высшего петербургского света и полусвета. Взимая очень дорогую плату с первых, он не отказывал порой в даровой помощи и безвозмездных советах «начинающим» из вторых, если предвидел, что им предстоит блестящая будущность.
Он знал в подробности все светские интриги и историю почти каждой из звездочек полусвета, и о нем говорили шутя, что если бы он захотел, то мог бы написать такую скандальную хронику, от которой бы содрогнулось даже петербургское общество. Но доктор Звездич умел молчать или, вернее, говорить кстати. Он не мог быть назван скрытным, но и никогда не говорил того, что могло бы скомпрометировать тех, кто не должен был быть скомпрометированным, и таким образом не вызывал вражды к себе людей, жизнью которых он жил.
В общем, это был «славный малый» и, кроме того, под маской бесшабашного вивера скрывал много научных сведений, большой практический ум, замечательный такт и даже доброе сердце.
Второй, сидевший рядом с ним и также отличавшийся от остальных, был молодой человек лет двадцати шести, с красивым и в высшей степени интеллигентным лицом.
С первого взгляда можно было заметить, что он далеко не «завсегдатай» этой компании кутил, занимающихся лишь глупым прожиганием жизни и безумными тратами средств, доставшихся им благодаря трудам или талантам их отцов. Виктор Аркадьевич Бобров — так звали его — приходился племянником доктору Звездичу и, несмотря на то, что не прошло и четырех лет, как он кончил курс в Технологическом институте, занимал уже хорошее место на одном из казенных заводов Петербурга.
Намереваясь покинуть столицу на несколько недель, он приехал проститься с доктором Звездичем, а тот повез его обедать к Кюба, а оттуда в «Аквариум», где молодому человеку пришлось невольно услыхать малопонятный для него разговор между остальными тремя совершенно случайными его знакомыми, с которыми доктор за несколько часов перед тем встретился в ресторане и которым представил его.
— Посмотрите, — сказал один из них, рассматривая, прищурившись, единственную пустую ложу, находившуюся напротив, — Анжель еще не приехала.
— Но ведь только кончается первый акт, — ответил другой, — она никогда не приезжает ранее половины второго, именно в тот момент, когда это производит всего больше эффекта.
— Кстати, кто теперь ее повелитель или, лучше сказать, раб? Кажется, этот несчастный Гордеев, разоренный вконец, уезжает в Ташкент.
— Совершенно верно.
— Не долго же он продержался!
— Что поделаешь? Эта наша общая участь! — заметил фатовато самый юный из собеседников.
— О, только не вам предстоит эта участь! — перебил доктор. — Анжель любит, чтобы игра стоила свеч, любит заставлять о себе говорить…
— Однако, если бы я предложил свои услуги! — надменным тоном возразил юноша.
— Она бы вам ответила, как одному из моих приятелей: «Приходите тогда, мой милый, когда у вас умрет дядюшка!»
Не дожидаясь ответа, Звездич обратился к Виктору Аркадьевичу:
— Ты уезжаешь завтра?
— Да, у меня месячный отпуск.
— Куда же ты едешь?
— По обыкновению, в Москву, а оттуда в подмосковное имение князя Сергея Сергеевича Облонского. Там я должен встретиться с графом Львом Ратицыным, который уехал вчера вечером.
— К Облонскому? — вмешался в разговор один из трех франтов.
— Да! Вы его знаете?
— Кто же его не знает! — вставил снова самый юный из франтов.
— Облонского знает весь Петербург, авторитетно подтвердил первый, спросивший о князе. — Но скажите, пожалуйста, что он поделывает, этот молодящийся старец? Вот уж года два, как его положительно нигде не видно.
— Он, вероятно, остепенился, — заметил другой пшют. — Когда нет более зубов, то поневоле перестанешь щелкать орехи.
— Если нет своих зубов, то есть вставные, — отвечал доктор, смеясь, — прекрасное средство! Впрочем, вы не шутите насчет князя Облонского, вам никогда не удастся быть таким молодым, как он, несмотря на то что ему пятьдесят лет. Верьте мне как доктору, что старость зависит не от количества лет, и не жалуйтесь на отсутствие князя. Когда ему придет в голову снова явиться между вами, он сумеет всех женщин привлечь к себе, и вы увидите, попомните мое слово, что в один прекрасный день он явится с какой-нибудь молоденькой и хорошенькой девушкой и даст ей ход, как и многим другим.
— В качестве покровителя?
— Нет, в качестве счастливого любовника!
— Пусть! В конце концов это будет на руку нам, молодым.
— Если вы только все не умрете раньше его! — серьезным тоном заметил Звездич.
В это время в театре раздался шепот и все взоры устремились на ложу, остававшуюся до сих пор пустой.
В ней появилась дама.
Остановясь на минуту и окинув равнодушным взглядом весь театр, она небрежно опустилась на передний стул и, опершись локтем на борт ложи, принялась лорнировать публику, видимо, нисколько не интересуясь пьесой, второй акт которой только что начался.
— Вот и Анжель! — шепнули друг другу молодые люди.
— Она сегодня раньше обыкновенного! — заметил Петр Николаевич. При этих словах Виктор Аркадьевич повернул голову по направлению к ложе, где сидела та, о которой шла речь, и был поражен оригинальной красотой прибывшей.
Большие черные миндалевидные бархатные глаза, тонкие темные ресницы резко выделялись на матовой белизне лица с правильными красивыми чертами. Несколько выпуклый лоб, окаймленный густыми красновато-золотистыми волосами, оригинальность прически которых увеличивалась небрежно вколотой в них с правой стороны звездой из крупных бриллиантов чистейшей воды.
Она была без шляпки и вошла в ложу в широком плаще с капюшоном, который и был накинут на голову.
Войдя, она небрежно откинула его.
Изящный туалет на ее высокой гибкой и грациозной фигуре носил отпечаток какой-то изящной, но вместе с тем и вызывающей небрежности.
Выражение ее красивого лица было спокойно до величественности.
Она была, по обыкновению, вся в черном.
На ее высокой груди горела другая бриллиантовая звезда, немного более той, которая украшала ее волосы, и две миниатюрные звездочки блестели в ее розовых ушках.
Бобров смотрел на эту «рыжую красавицу» с нескрываемым восторгом.
— Что? Хороша? — спросил доктор, наклонясь к его уху.
— Кто эта женщина? — прошептал тот.
— Да ведь это Анжель! — просто отвечал Звездич.
— Анжель! — с недоумением повторил громко Виктор Аркадьевич.
Это имя ничего не говорило и ничего не объясняло серьезному деловому человеку.
Три их компаньона, заметив его недоумение, громко расхохотались, не заботясь о том, что мешают ходу пьесы и не обращая ни малейшего внимания на энергичное шиканье по их адресу со стороны публики.
Их смех как бы говорил: откуда взялся он, если не знает Анжель?
Бобров покраснел до корней волос.
II АНЖЕЛЬ
— Пусть их смеются, — шепнул на ухо молодому человеку Петр Николаевич, — а ты благодари Бога, что не знаешь ее!
— Объясни мне…
— После, а теперь послушаем пьесу, она глупа до смешного.
Водворилось молчание, и через полчаса опустился занавес — второй акт окончился.
Во время восторженных вызовов «парижской дивы» наши три франта вышли из ложи и оставили Звездича с Бобровым вдвоем.
Анжель, между тем, кланялась направо и налево с движением руки или улыбкой; ложа же ее стала наполняться теми постоянными посетителями первых рядов, как милости, с глупой улыбкой на устах искавшими благосклонного взгляда ее темных глаз.
Она казалась королевой среди своих придворных.
Виктор Аркадьевич, не перестававший на нее смотреть, обратился к доктору:
— Скажи же мне, кто эта женщина?
— Разве ты этого не видишь?
— Догадываюсь…
— Знаешь, сколько ей лет? — спросил Звездич.
— Это вполне расцветшая женщина, ей на вид лет двадцать пять.
— Да, действительно, хотя по метрическому свиде тельству ей уже около сорока, но и это неправда — ей четыре тысячи лет.
— Четыре тысячи! — засмеялся Бобров.
— Ни более, ни менее, мой друг! Она носила массу названий, массу костюмов, говорила на всех языках Вавилонского столпотворения, но это все та же женщина: гетера, куртизанка, лоретка, содержанка, кокотка горизонталка; Фрина, Аспазия, Империя, Армида, Цирцея, Ригольбош или Анжель. Это кровопийца, женщина веселья, опустошающая карманы и притупляющая умственные способности — ее сила в животной стороне человека.
— Есть исключения! — пробормотал Виктор Аркадьевич.
— Черт возьми! Я это знаю — одно есть в сто лет. Они на счету, эти исключения. Истинная любовь — это высокое, прекрасное, благородное чувство, удел людей с возвышенным сердцем и умом — так редка, что в продолжение целых веков сохраняются и записываются в народной памяти и истории человечества наряду с величайшими гениями имена избранников судьбы, умевших любить всем сердцем, всей душой, умевших жить своею любовью и умереть за нее.
— Однако, — перебил его Бобров, — какая поэзия, я не предполагал в тебе столько сентиментальности.
Петр Николаевич пропустил мимо ушей это замечание и продолжал:
— Любовь же к этой женщине — яд, и яд самый смертельный. Любить эту женщину и быть ею любимым — это отрава, принимаемая в малой дозе. В этом случае можно отделаться легким одурением, несколькими непродолжительными припадками сумасшествия, но зато сколько разочарования в себе и в других! Любить же ее без взаимности — это разорение, позор и… смерть!
— Однако у нее не такой свирепый вид, напротив, она кажется чрезвычайно милой, добродушной… — заметил Виктор Аркадьевич.
— Наружность обманчива вообще, наружность же красивой женщины по преимуществу. Вот уже десять лет, как я знаю ее — я ее доктор. У нее было десять любовников. Последний из них, как тебе только что говорили, уезжает в Ташкент; этот еще кончил лучше других. У нее большое состояние, но все знают, ценою скольких человеческих жизней оно обошлось…
— И с такой славой она еще находит жертвы, поклонников…
— Сколько угодно! — с насмешливой улыбкой сказал доктор.
— По твоему описанию, это просто какое-то чудовище.
— Не совсем… может быть, у нее оскорбленное сердце, которое мстит и платит злом за зло!
— Это еще, пожалуй, лучше! — тихо сказал Виктор Аркадьевич. — Конечно, это ее извинить не может, но, по крайней мере, многое объясняет…
— Я старался добиться ее тайны, — продолжал Петр Николаевич, — но она скрытна и молчалива, как могила.
— Была ли у нее по крайней мере истинная страсть в жизни?
— Насколько мне известно — никогда! Так, какой-нибудь каприз на время — это самое большое, да и то…
— Она замечательно хороша! — как бы про себя произнес Бобров, не спуская глаз с Анжель.
— Не смотри на нее слишком долго, ты можешь попасться…
— Я?.. Полно! — с уверенной улыбкой отвечал молодой человек. — Я застрахован, я уже люблю!
— Гм! — промычал Звездич, не совсем этим успокоенный.
— К тому же, — продолжал Бобров, — у меня всегда было какое-то омерзение к подобному извращению любви — к женщинам, которые составляют достояние всех.
— В тебе много чувства и страсти! — сказал его собеседник, окидывая его докторским взглядом.
— Вот именно, это меня и спасает. Мне необходимо верить в ту, кого я люблю… а этим существам разве можно верить? Признаюсь только, мне очень интересно с чисто философской точки зрения знать, о чем может думать эта женщина?
— Кто может когда узнать, о чем думает женщина? Приход их компаньонов по ложе прекратил эту беседу.
Оркестр заиграл перед третьим актом.
— Ужинать где будем? — спросил один из вошедших, обращаясь к доктору и Боброву.
— Я никак не могу, — отвечал последний. — Я завтра уезжаю, и мне нужно рано вставать. Я думаю даже поехать сейчас домой, не дождавшись окончания пьесы…
— В таком случае и я поеду с тобой, — сказал Петр Николаевич.
Он встал и, простившись с молодыми людьми, вышел в сопровождении Виктора Аркадьевича.
Выйдя через коридор в буфетный зал, он остановился. Мимо него шла к выходу Анжель. Она заметила доктора и сделала ему знак рукой. Он тотчас же подошел к ней и поклонился с таким почтением, с каким вообще благовоспитанный человек считает долгом кланяться женщине, кто бы она ни была.
Бобров остался дожидаться в некотором расстоянии от них.
— Вы уже уезжаете? — спросила она.
— Да и вы, кажется, собираетесь сделать то же самое, если я не ошибаюсь.
— Я устала и еду домой! А вы куда-нибудь ужинать?
— К себе.
— Значит, продолжаете быть благоразумным?
— Это необходимо, чтобы лечить неблагоразумных.
— Лечить — не значит вылечивать! — сказала она смеясь.
— Уж не подозреваете ли вы, что я их убиваю? — тем же тоном ответил доктор. — Впрочем, в некоторых случаях это было бы милостью.
— Пожалуй, да! — сказала она беззаботно. — Кто этот молодой человек, который вас ожидает и которые был с вами в ложе? Я его не знаю!
— И надеюсь, никогда его не узнаете!
— Тем лучше для него! — засмеялась она. — До скорого свидания, доктор, впрочем, на этих днях я уезжаю…
Она поклонилась ему фамильярным движением головы и направилась через зимний сад к выходу.
Там ждал ее лакей в богатой ливрее. Он усадил ее в поданную шикарную коляску, запряженную парой кровных лошадей.
— На Морскую! — сказала она, грациозно откинувшись на подушке экипажа.
III ОДИН ИЗ МНОГИХ
Несмотря на то что Анжель, эта, как уже, без сомнения, догадался читатель, первоклассная звезда петербургского полусвета, недели с две, как переехала на свою прелестную дачу на Каменном острове, буквально утопавшую в зелени, окруженную обширными цветниками, с фонтаном посередине, с мраморными статуями в многочисленных и изящных клумбах, с громадной террасой, уставленной тропическими растениями, с убранными внутри с чисто царскою роскошью, начиная с приемной и кончая спальней, комнатами — она приказала кучеру, как мы уже знаем, ехать на свою городскую квартиру.
Последняя, остававшаяся круглый год во всей своей неприкосновенности, с особым штатом прислуги, находилась в бельэтаже одного из домов Большой Морской улицы и состояла из девяти комнат, убранных так, как только может придумать причудливая фантазия женщины, обладающей независимым состоянием, тонким вкусом и при этом не знающей цены деньгам; словом, этот храм Афродиты, как называли квартиру Анжель петербургские виверы, напоминал уголок дворца Алладина из «Тысячи и одной ночи».
— Это очень понятно, — замечали остряки по поводу последнего сравнения, — вся обстановка квартиры и приобретена ценою никак не меньше тысячи и одной ночи.
Приехав домой, Анжель с помощью горничной переменила платье и накинула на себя капот из легкой китайской белой фанзы, сплошь обшитый кружевными воланами.
— Завтра с курьерским я уезжаю в Москву, приготовьте мой дорожный костюм и все необходимое. Я пробуду там несколько дней, — сказала она камеристке. — Ни сегодня, ни завтра не принимать никого!
— Слушаю-с! — отвечала та.
Анжель прошла в кабинет, отперла изящное бюро, вынула из него массивный портфель и села к письменному столу.
Раскрыв портфель и достав из него какие-то бумаги, она стала их просматривать. В передней раздался звонок. Анжель вздрогнула.
«Кто бы это мог быть в такой час?» — пронеслось в ее уме.
— Владимир Геннадьевич Перелешин, — вошла горничная передать доклад лакея, — он непременно просит его принять.
Анжель слегка нахмурила брови и, казалось, с минуту колебалась.
— Хорошо, просите! — сказала она отрывисто.
Когда горничная удалилась, она вернулась в спальню, достала из маленькой дорогой и элегантной, но прочной шифоньерки за полчаса положенный туда небольшой бумажник черной кожи с золотой монограммой и опустила его в карман.
Сделав все это, она с тем же угрюмым и несколько суровым выражением лица, не покидавшим ее с самого приезда, прошла в маленькую гостиную, где ожидал ее поздний гость.
Владимир Геннадьевич Перелешин был мужчина лет тридцати или тридцати пяти, худощавый, с истомленным неправильною жизнью лицом.
Чувственный рот с приподнятыми углами губ придавал этому лицу неприятное выражение, хотя Перелешин далеко не был уродом и даже мог считаться недурным собою.
Форма его лба доказывала ум, длинный тонкий, но с подвижными ноздрями обличал хитрость и чувственность.
Одет он был безукоризненно.
Увидав входившую Анжель, он пошел к ней навстречу с любезною, хотя и фамильярной улыбкой частого гостя.
— Я вас побеспокоил, моя дорогая? — спросил он ее.
— Да, я занята!.. — резко отвечала она, не поклонившись и не подав ему руки.
— О, я вас долго не задержу. Я пришел…
— За деньгами?.. — перебила она презрительным тоном.
Перелешин улыбнулся.
— Какая вы угадчица!
Анжель пожала плечами.
— Сколько вам? — спросила она.
— Мне очень нужны деньги… Дайте мне тысячу рублей.
— Сегодня уже тысячу!
— В счет будущего.
— Какого будущего? — отрывисто спросила она.
— Господи! С моим именем, в мои лета, с представительной наружностью, развитым умом и отсутствием способности чувствовать угрызения совести всегда можно рассчитывать на будущее, — отвечал он.
— Вы ошибаетесь, если предполагаете, что мне это наконец, не надоест, — заметила Анжель.
— Какие-нибудь несчастные десять радужных вас не разорят! Притом вам известна моя преданность. Ведь я далеко не неблагодарный. Я, который служу вам верой и правдой. Я могу вам оказать много услуг, я уж вам это доказал…
Он окинул ее испытующим взглядом. Она молчала.
— Я проигрался, — продолжал он.
— Вы?.. Это меня удивляет.
— Мне не везло…
— Верно, за вами очень внимательно наблюдали?
— К чему эти шпильки? Если я не заплачу в назначенный срок… то я пропаду, потеряю всякий кредит…
— Да, — медленно заговорила она, — нужно уметь прятать концы в воду! Но вы отлично устроились и, не имея ни гроша за душой, живете так, как будто получаете, по крайней мере, тысяч двенадцать ежегодного дохода. Без вас не обходится ни одно удовольствие, ни один ужин, ни один пикник. Вы бываете в клубах, играете по большой и вообще… выигрываете. В трудные же минуты вы не забываете меня… Все это дает вам возможность бывать в свете, и не все из порядочных людей решаются не подать вам руки.
— Так что я могу быть иногда полезным другим… — с ударением отвечал Владимир Геннадьевич, — хотя бы в качестве охотничьей собаки, выслеживающей дичь… или верного друга…
Он посмотрел на нее в упор вызывающим взглядом…
— Хорошо сказано! — промолвила она, не обратив внимания на этот взгляд. — Вы не лишены остроумия, мой друг, а я всегда имела слабость к умным людям — они приятное явление между болванами.
Она вынула из кармана бумажник, отсчитала из него десять радужных и передала Перелешину.
Он спокойно взял их и приблизил руку Анжель к губам изящным движением светского человека.
— Не будет ли каких приказаний? — спросил он.
— В настоящую минуту никаких.
— Прощайте.
Он поклонился и вышел.
Анжель возвратилась снова в кабинет к своим прерванным занятиям.
На другой день, к восьми часам вечера, она была уже одета в дорогое, но совершенно простое платье, скромную черную шляпку с густой вуалью, и в этом костюме никто бы не узнал вчерашней Анжель. На медных дощечках, прикрепленных к крышкам изящных дорожных сундука и чемодана, вынесенных в коляску, дожидавшуюся ее у подъезда, были вырезаны имя, отчество и фамилия их владелицы: Анжелика Сигизмундовна Вацлавская.
IV В ПАНСИОНЕ
За несколько дней до описанных нами в трех предыдущих главах событий в большой приемной аристократического пансиона в Москве сидели и разговаривали две молодые девушки.
Была вторая половина мая, одного из самых лучших месяцев нашего северного климата.
Солнце мягко, но ясно светило, воздух был чист и свеж, шелест деревьев, нарядно одетых свежею листвой, веселое щебетание птичек сливались в одну гармоническую песнь наступившей весне.
Пансион, находившийся почти на окраине города, был окружен обширным садом.
Окна приемной были открыты.
Одна из этих молодых девушек была блондинка с большими голубыми глазами, овальным личиком и хорошеньким ротиком; на тонких чертах ее нежного лица лежал отпечаток какой-то меланхолии, даже грусти.
Ее уже почти совершенно сформировавшаяся фигура принадлежала к тем, которые способны придавать особое изящество даже самому простому костюму, так что скромная пансионская одежда — коричневое платье и черный фартук — казалась на ней почти нарядной.
Ей было лет семнадцать, звали ее Ирена Вацлавская.
Ее подруга, княжна Юлия Облонская, была смуглая брюнетка, с ясной улыбкой и ослепительно белыми зубами. Она была почти одного возраста с «Реной», как звала она свою приятельницу. С недавних пор между ними завязалась тесная дружба — одно из тех живых чувств, которые часто пробуждаются в сердцах расцветающих девушек. Они точно переполнены в этот период избытком нежности, стремящейся вырваться наружу и выражающейся в дружбе, за неимением лучшего.
Уже несколько дней, как начались каникулы, а молодые девушки еще оставались в пансионе, откуда, впрочем, сегодня же утром их должны были взять, но далеко не при одинаковых условиях.
Княжна Юлия накануне получила письмо от своего отца, князя Облонского, уже из подмосковного имения, где князь, постоянно живший в Петербурге или за границей, проводил это лето. Он уведомлял дочь, что на следующий день заедет за ней.
Ирена же ждала в этот день свою старую няню, которая также должна была увезти ее на ферму, отстоящую верстах в двенадцати от Москвы и в полуверсте от одной из ближайших к первопрестольной столице станций Нижегородской железной дороги.
Чемоданы и сундуки были готовы, молодые девушки считали минуты, оставшиеся до момента отъезда и разлуки.
В то время, когда глазки Юлии горели радостью в надежде на скорую свободу и на губах ее блуждала счастливая улыбка, Ирена была грустна и задумчива.
— Что это значит? — допытывалась у нее Облонская. — Вместо того чтобы радоваться предстоящей нам свободе, ты почти печальна.
— Чему же мне радоваться? — отвечала Вацлавская.
— Что же может быть лучше свободы? Мне можно будет сколько угодно гулять по парку, примерять массу новых нарядов и даже амазонку, о которой мне писала сестра, хотя это сюрприз со стороны папа: устраивать кавалькады и скакать по полям и лугам. Катание верхом — моя страсть. Увидеться с моей сестрой и ее мужем. Они исполняют все мои желания. Это праздник, истинный праздник. К несчастью, он недолго продолжится, и не оглянешься, как наступит август, возвращение в пансион. Mesdemoiselles, tenez vous droit[1] и опять эти противные уроки…
— Да, ты возвращаешься к своим, тебе хорошо! — прошептала Ирена, подавляя вздох.
— А ты разве едешь не к своим?
— Ты знаешь, что нет… Я еду на ферму, в совершенную деревню, к моей старой няне. Вместо парка у меня будет большая проезжая дорога и окрестные уединенные леса; вместо общества — работники и работницы фермы да деревенские парни и девушки ближайшего села; вместо развлечения — право ничего не делать и мечтать, глядя на лучи восходящего и заходящего солнца, при печальном безмолвии пустынных далеких полей, сливающихся с горизонтом.
— А твоя мать?
— Она в Петербурге.
— Ты и в этом году к ней не поедешь?
— Ни в этом, ни в будущем.
— Отчего же?
— Она много путешествует… Ей нужно, как она мне говорила, привести в порядок запутанные дела по наследству, а так как ей со времени смерти моего отца, которого я не знала, приходится одной ими заниматься, то она и не может меня взять к себе… Я стесню ее…
— Бедная моя! — воскликнула Юлия и в порыве нежности поцеловала ее в лоб.
— Ты никогда не была в Петербурге?
— Никогда. Там хорошо, не правда ли?
— О, прекрасно! Я обыкновенно, провожу там Рождество и святки у своей сестры Нади. Меня бы отдали там и в пансион, если бы не желание моей покойной матери, у которой, когда она была девочка, начальница нашего пансиона была гувернанткой. О, для меня это время беспрерывных удовольствий: балов, концертов, вечеров, приемов, прогулок по Невскому проспекту, широкой красивой улице, сплошь занятой роскошными магазинами.
— И все это в продолжение двух недель! — возразила Ирена.
— Это еще не все. Я не считаю посещений этих магазинов, откуда выходишь точно опьяненная от всех чудес из шелка, бархата и кружев. Видишь ли, ma chère, в Петербурге живут вдвое, втрое скорее, чем в провинции и даже в Москве, там каждая минута так наполнена, что кажется часом, час днем, а дни неделями.
— Ах, какая ты счастливая! — еще раз вздохнув, сказала Ирена, заразившаяся восторженностью своей подруги и, конечно, не имея возможности разобраться во всем том, что воображение молодой девушки, а также желание блеснуть перед собеседницей, прибавляло к действительности.
— Но если твоя мать приезжает тебя навещать, то почему же ты не можешь попросить ее свезти тебя в Петербург хотя на несколько дней?
— Я уже об этом просила, но она отказала… У нее еле хватает времени уделить для меня несколько часов — иногда, впрочем, один, два дня…
— И это все? — с удивлением спросила Юлия.
— Все!
Водворилось минутное молчание.
— Однако, — начала Облонская, — это не может так вечно продолжаться. Ты уже взрослая, как и я, еще год — и придется нас взять из пансиона.
— Да, я надеюсь… А пока мне приходится довольствоваться прелестями деревенской жизни и уединением Покровского, — с горечью сказала Ирена.
— Мне знакомо название этого села, оно недалеко от нашего имения Облонского.
— Всего в пяти верстах, я знаю дорогу… Я по ней не раз ходила с моей няней! Мы проходили через весь Облонский лес.
— Ну вот! В нем-то мы и устраиваем пикники. Едем целой кавалькадой, я обыкновенно верхом с мужем моей сестры. Иногда нас сопровождает Виктор Аркадьевич.
— Кто этот Виктор Аркадьевич? Первый раз я слышу от тебя это имя.
— Это некто Бобров, очень хороший молодой человек, — сказала Юлия, слегка краснея, — он технолог. Два года тому назад он спас жизнь моему зятю, графу Льву Ратицыну, когда он чуть было не утонул. Понятно, что с этого дня Лева стал с ним очень дружен, так же как моя сестра Надя… и я… Ты понимаешь… чувство благодарности… Он живет и служит в Петербурге… но летом берет отпуск и приезжает недели на две в Облонское… Папа также его очень любит, хотя он и не дворянин… Мой отец обращает очень большое внимание на происхождение человека и тех, кто не принадлежит к дворянству, не ставит ни во что… Мы всегда с ним ссоримся по этому вопросу, и он меня даже прозвал революционеркой и демократкой. О, если бы ты могла участвовать с нами в наших прогулках… Это бы еще более увеличило мое удовольствие!
Все это было сказано с такой поспешностью и таким тоном, которые придают болтовне молодой девушки сходство с щебетанием птички.
— А меня, — заметила Ирена, становясь все грустнее и грустнее, — вместо роскошного дома с мраморными лестницами, прекрасных садов с чудными цветниками, обширного тенистого парка ожидает большая ферма с крышей, покрытой простыми черепицами, загроможденная дворами, где кричат утки, огород, где нет других цветов, кроме бобов, да и то не турецких! Там я буду одна, считая часы, сожалея о наших шумных рекреациях, не имея ни малейшей возможности изменить это однообразие, осветить эту тьму, кроме короткого свидания с моей дорогой матерью.
Крупные слезы блеснули на длинных ресницах молодой девушки.
— Полно, не плачь! — вскричала Юлия. — Я по глупости тебе все это наговорила! Если бы я могла тебя взять с собою… Но как это сделать? Мой отец не знает твоей матери… А то я была бы так рада… потому что я очень люблю тебя…
Подруги крепко поцеловались.
В эту минуту дверь в приемную отворилась и одна из классных дам показалась на пороге.
— Mesdemoiselles, за вами приехали, — сказала она им.
— Папа? — спросила Юлия.
— Нет, прислан экипаж, и лакей передал мне, что князь сам приехать не мог, его задержал в именье приезд графа и графини Ратицыных.
— А, моя сестра, тем лучше!
— А за мной приехала мама? — в свою очередь спросила Ирена.
— Нет, ваша няня!
Лицо молодой девушки омрачилось, несмотря на то, что она и не ожидала иного ответа и спросила совершенно машинально.
Обе подруги тотчас же отправились к начальнице, с которой и простились до нового учебного года, между тем как на дворе укладывали их сундуки и чемоданы.
За княжной Облонской прислали великолепную коляску, запряженную парой кровных лошадей. Няня же Вацлавской приехала в скромном крытом тарантасике.
На дворе молодые девушки снова принялись обниматься.
Обе плакали.
Юлия, действительно любившая Ирену, забыла ожидавшие ее удовольствия и вся отдалась горести разлуки.
На нервные натуры отъезд всегда производит тяжелое впечатление. Не является ли он отчасти прообразом смерти? Уехать — не есть ли это умереть для всего и всех, что и кого оставляешь? Кто знает, при разлуке даже на самый короткий срок, придется ли увидеться снова и будет ли свидание столь же радостно.
Княжна первая уселась в экипаж, который быстро умчали кровные кони.
На повороте со двора она послала последний воздушный поцелуй Ирене, которая стояла рядом со своей няней и махала платком.
V НА ФЕРМЕ
— Что это ты невесела, Рена? — сказала приехавшая за Вацлавской ее няня.
— Почему это тебе кажется?
— Да ты еле со мной поздоровалась.
Говорившая была высокого роста полная женщина на вид далеко не старая, несмотря на то, что такой эпитет давала ей ее юная воспитанница. Одета она была небогато, но очень чисто — вся в черном, в черной же старушечьей шляпе на голове, с гладко причесанными густыми темно-каштановыми с проседью волосами. По типу лица и акценту она казалась нерусской.
Она действительно была по происхождению полькой, но совершенно обрусевшей. Звали ее Ядвигой Залесской. Несмотря на чрезвычайно бодрый, молодцеватый вид, ей было уже за шестьдесят.
Вынянчив мать Ирены, Анжелику Вацлавскую, исколесив с ее матерью, которая была артисткой, почти всю Европу, она и после смерти последней не теряла из виду Анжелику, которая воспитывалась в Варшаве. Когда же у Вацлавской родилась дочь, то Ядвига снова появилась около Анжелики Сигизмундовны в качестве няни этого ребенка, а когда ему минул год, она прибыла с ними в Москву, где Анжелика Вацлавская купила на имя Залесской ферму близ села Покровского и, поселив в ней свою бывшую няню, поручила ей охранение маленькой Рены, изредка и на короткое время приезжая навещать свою дочь и осыпая щедрыми благодеяниями старуху, не чаявшую души в обеих своих воспитанницах.
Ферма в руках опытной хозяйки вскоре стала приносить хороший доход; ее продукция находила выгодный сбыт в Москве, и Залесская год от году расширяла дело.
Сама же Анжелика Сигизмундовна Вацлавская прямо проехала в Петербург, где и осталась на постоянное жительство.
Когда Ирене минуло восемь лет, к ней была приглашена гувернантка, тринадцати же лет она была помещена в пансион г-жи Дюгамель в Москве, в приемной которой мы и застали ее в предыдущей главе нашего рассказа.
Соблазненная чуть ли не тройной против назначенной за пансионерку платой, чопорная начальница этого аристократического московского пансиона склонилась на просьбы г-жи Вацлавской и согласилась принять в число своих воспитанниц ее незаконную дочь, в метрическом свидетельстве которой, к довершению ужаса г-жи Дюгамель, было сказано, что девочка крещена в церкви Рязанского острога.
— Прости меня, няня, — отвечала Ирена, бросаясь на шею Ядвиге Залесской, — я так расстроилась разлукой с подругой.
— Кто она, эта чернобровая?
— Дочь князя Облонского.
— Чье именье с нами по соседству?
— Да.
— Нечего сказать, красавица княжна!
— Она едет к родителям, в свою семью, а я, Бог знает, еще увижу ли свою маму… — сквозь слезы проговорила молодая девушка.
— Ты ее увидишь! Я получила от нее письмо. Она приедет завтра или послезавтра, — успокоила ее Залесская.
— Ах! — воскликнула Ирена, и глаза ее заблестели радостью.
Она бросилась обнимать свою няню.
— Однако надо ехать! Что же мы стоим среди двора? — сказала Ядвига и, приподняв Ирену, как перышко, усадила ее в тарантас и села сама.
Работник фермы, неуклюже одетый в кучерское платье, стегнул лошадей, и тарантас тронулся от подъезда.
Ирена всю дорогу была оживленна, рассказывала без умолку своей няне о пансионской жизни, о своей новой подруге Юлии Облонской, расспрашивала о жизни на ферме, о каждом работнике и работнице в отдельности.
— Отчего мы не ездим по железной дороге? — спросила она, окончив рассказы и расспросы.
— Такова воля твоей мамаши, — отвечала Ядвига, — она строго запретила ездить с тобой на машине[2].
— Почему?
— Вероятно, боится какого-нибудь несчастья, которые теперь так часто случаются на этих костоломках, и, вообще, надо думать, имеет на это свои основания.
Молодая девушка замолчала.
Сильные деревенские лошади бежали крупной рысью и вскоре остановились у двухэтажного деревянного здания с большим двором, застроенным разного рода постройками: конюшней, коровниками, погребами, с примыкающим к нему обширным фруктовым садом и огородом.
Все эти здания были обнесены высокою деревянною решеткою.
Местность, где находилась ферма, вопреки мрачным краскам, на которые не поскупилась в описании Ирена в разговоре со своей подругой, была очень живописна. Справа был густой лес, почти примыкающий к саду, слева открывалось необозримое пространство полей и лугов; сзади фермы, на берегу протекающей извилинами реки, раскинулось большое село, с красиво разбросанными в большинстве новыми избами и каменной церковью изящной архитектуры. Перед фермой вилась и уходила вдаль большая дорога.
Комнатка Ирены была в верхнем этаже. С безукоризненно чистой кроваткой, голубыми обоями и жардиньерками, полными цветов, она имела вид уютного гнездышка.
В комнатке стояло пианино.
Из двух ее окон открывался вид на лес и вьющуюся по его опушке дорогу.
На другой день после приезда Ирена встала очень рано и чувствовала себя как в лихорадке, так как провела почти всю ночь без сна.
Через несколько часов должна была приехать ее мать, и она с няней пойдет встречать ее на станцию. Молодая девушка считала минуты, ходила взад и вперед, не будучи в состоянии усидеть на месте. Ядвига в столовой с ореховой мебелью оканчивала накрывать на три прибора стол, блестевший белоснежной скатертью.
— Не пора ли идти? — воскликнула Ирена, посмотрев на стенные часы, показывавшие час.
— Терпенье, дитя мое! — ответила няня. — Поезд из Москвы выходит в три часа, мы еще успеем.
Молодой девушке нечего было возразить на это.
К тому же она знала по опыту, что Ядвига не изменит своего решения, и если бы даже она стала торопить ее, то этим не достигла бы желанной цели.
Время, однако, шло. На станцию уже отправился один из рабочих с ручной тележкой для багажа, и наконец Ядвига с Иреной вышли из дому. Бесконечная радость оживляла нежное и свежее личико молодой девушки. Она улыбалась, глаза блестели, яркий румянец играл на щеках, губы горели. Она увидит свою мать… ту, которая так редко и так кратковременно дарила ее своими ласками, ту, которая для нее служила олицетворением неведомого ей движения жизни и которая, казалось ей, в складках своей одежды принесет сюда последние отзвуки шумного оживления блестящего Петербурга, так недавно красноречиво описанного Юлией Облонской.
На станции мать и дочь бросились друг другу в объятия.
— Наконец-то я вижу тебя, дорогая моя Рена! — воскликнула Анжелика Сигизмундовна, покрывая поцелуями лицо дочери.
— Мама, милая мама, если бы ты знала, с каким нетерпением я ждала тебя!
— Бедная моя, поверь, что мое нетерпение было не меньше. Здравствуй, Ядвига! Не находишь ли ты, что Рена выросла? Право, она еще похорошела.
Старуха молчаливо, с радостной улыбкой на губах, созерцала картину этого свидания.
— Поцелуй и ты меня, Ядвига! — сказала Анжелика Сигизмундовна.
Та дала себя поцеловать с самодовольным видом, красноречиво говорившим, насколько она польщена.
Мать снова обратилась к своей дочери, любуясь ею, пожирая ее восторженным взглядом.
— Ты надолго приехала, мама? — спросила Ирена.
— Дорогая моя, — отвечала та со вздохом, — сегодня и завтра… только два дня я могу посвятить тебе.
Глазки Ирены подернулись дымкой грусти.
— Верь мне, что мне также очень больно покинуть тебя так скоро, но я к этому принуждена обстоятельствами… Имей терпение… и не будем примешивать к радости встречи горькую перспективу скорой разлуки.
Работник, между тем, получив багаж, сложил его на тележку и отправился на ферму.
Они втроем последовали за ним.
Через полчаса они уже сидели за столом, уставленным всевозможными деревенскими яствами.
— Здесь чудесно! — сказала Анжелика Сигизмундовна, окидывая взглядом окружающую ее скромную обстановку и полной грудью вдыхая свежее благоухание лесов и полей, врывавшееся в открытые окна.
Все она находила отличным, вкусным, хотя почти ничего не ела, беспрестанно обращаясь к Ирене, сидевшей с ней рядом.
— О, как было бы приятно жить здесь, около тебя, постоянно! — говорила она ей.
— Конечно, мама, — ответила дочь, — но еще лучше было бы жить вместе в Петербурге… Я также была бы там около тебя.
— В Петербурге! — повторила Анжелика Сигизмундовна, на минуту становясь петербургской Анжель. — Дай мне забыть его хоть на несколько часов! Скоро мне придется снова туда вернуться! — прошептала она, склоняя голову, как бы чувствуя тяжесть предстоящей ноши.
VI МАТЬ И ДОЧЬ
Перемена в настроении духа Анжелики Сигизмундовны не ускользнула от внимания Ядвиги, и она поспешила переменить разговор, однако, несмотря на все свои старания, так и не смогла возвратить своей старшей воспитаннице радостное настроение первых мгновений.
После обеда Ирена и Ядвига проводили г-жу Вацлавскую в отведенную ей на ферме комнату.
Анжелика Сигизмундовна с помощью своей дочери отперла сундук и чемоданы и переменила свой дорожный костюм на более легкое платье. Ирена особенно весело помогала ей разбираться в сундуке, так как знала, что в нем всегда находилось по сюрпризу для нее и Ядвиги.
Она не ошиблась и на этот раз.
Мать, казалось, была совершенно очарована детской радостью дочери.
«Какая наивная, веселая, совсем ребенок… — думала она, глядя на Ирену. — Такая же и я была когда-то! Как это было давно! Но по крайней мере ты, мое дорогое дитя, ты останешься навсегда веселой, счастливой…».
Первый день свидания промелькнул быстро. Гуляли по саду, в лесу, посетили скотный двор и во время этих прогулок Анжелика Сигизмундовна расспрашивала дочь о ее занятиях, успехах в пансионе.
Ирена отвечала матери как-то принужденно. На ее губах вертелся вопрос, который она не смела задать в присутствии Ядвиги, сопровождавшей их повсюду:
«Когда я выйду из пансиона, возьмешь ты меня к себе в Петербург?»
Няня строго запретила ей задавать матери вопросы о будущем.
— Говоря ей об этом, показывая твою скуку, ты ее только постоянно огорчаешь и раздражаешь, — говорила ей Ядвига. — Уважай ее желания, дитя мое, и верь мне, что если она чего-нибудь не делает, то, значит, она не может этого сделать.
«Завтра, — думала про себя Ирена, — мы отправимся гулять вдвоем и я с ней поговорю. Что дурного в том, что я хочу жить с ней вместе, и как может огорчить ее это доказательство моей привязанности?»
Вечером Анжелика Сигизмундовна сама уложила в постель дочь и на прощание долго целовала ее.
Затем она прошла в свою комнату.
Там она застала Залесскую.
С далеко не свойственной ей в ее обыденной жизни горячностью она крепко обняла и поцеловала свою бывшую няньку.
— Наступили, наконец, и для меня счастливые часы, которые стоят целых годов: я видела, я целовала мою Рену, я слышала ее невинное щебетанье… Как все это хорошо. О, если бы это могло так продолжаться всегда, всегда… Как я горячо люблю ее!
— Ее стоит любить, она славная девочка и тоже очень вас любит, — отвечала Ядвига.
Она, несмотря на просьбы г-жи Вацлавской, настойчиво отказывалась говорить «ты» своей бывшей воспитаннице.
— Она только о вас и думает, — продолжала няня, — только о вас и говорит… Нет вас — ждет не дождется, уехали — тоскует, горюет. Она только и живет, когда вы здесь… Теперь она просто неузнаваема.
— Как жаль, что я не могу остаться. Я боюсь, что если мое отсутствие продолжится долго, узнают, куда я езжу, откроют это убежище, где скрывается моя дочь… А я не хочу, чтобы те, которые меня знают там, даже подозревали о ее существовании! Нет, этого никогда не будет! — прибавила тихо Анжелика Сигизмундовна, и взгляд ее сделался почти суровым.
— Конечно, но бедная девочка не на шутку мучается этим кажущимся пренебрежением с вашей стороны, которое она не может себе объяснить, — заметила няня.
— Она тебе об этом говорила? Она жаловалась?
— Нет, не жаловалась… этого сказать нельзя… Но видите ли, на нее нападает какая-то грусть; она все мечтает о Петербурге и вообще об иной жизни, нежели та, которую она ведет здесь и в пансионе, — с расстановкой заметила Ядвига.
— Я понимаю это… она становится женщиной… сердце у нее любящее… — задумчиво, как бы про себя, сказала Вацлавская и вдруг злобно расхохоталась.
— Любящее сердце, — повторила она, — и у меня тоже было любящее сердце… и оно разбито…
Она грустно поникла головой.
— Ее сердце не будет разбито! Я буду при ней, — почти вскрикнула Анжелика Сигизмундовна, высоко подняв голову.
— Она большая мечтательница! — заметила Ядвига.
— Это опасно! Но через шесть месяцев я ее увезу, а до тех пор нечего бояться…
— Через шесть месяцев? Куда же вы ее увезете?
— За границу! Вон из России! Подальше от Варшавы, Рязани и Петербурга.
Ядвига глубоко вздохнула.
— Ты поедешь с нами, — успокоила ее Анжелика Сигизмундовна, поняв этот вздох.
— А как же ферма?
— Ты продашь ее. Ведь ты же не откажешься ехать с нами?
— Отказаться! — воскликнула старуха. — Мне кажется, что за Реной и за вами я бы пошла куда угодно.
— Люби Рену! Она-то этого стоит!
— Я ее люблю так, как едва ли могла бы любить свою собственную дочь.
Анжелика Сигизмундовна снова обняла и поцеловала ее.
— Итак, вы хотите покинуть Россию навсегда? — задала вопрос Ядвига.
— Это необходимо!
— И вам не жалко будет расстаться с вашей родиной?
— О, что дала мне эта родина? Все в ней наводит на меня слишком печальные воспоминания, которые бы я хотела забыть в присутствии дочери…
Бледная и расстроенная, Анжелика Сигизмундовна несколько раз прошлась по комнате.
— Когда Рена приезжала сюда, — спросила она упавшим голосом, — не замечала ли ты, чтобы какой-нибудь мужчина здесь увивался около нее?
— Не посоветовала бы я кому-нибудь здесь тереться, — отвечала старая няня, и в голосе ее послышались грозные ноты. — Я все насквозь вижу и в обиду не дам!
— Хорошо! Хорошо! — прошептала Анжелика Сигизмундовна, довольная этим порывом Ядвиги. — Рена ведь хороша, как ангел, и мне кажется, что ни один мужчина не может не влюбиться в нее, если увидит.
— Полноте! Это бы ее только испугало, ведь она у нас умница, скромная, наивная.
— Да, да… Но ведь этого-то я и боюсь… Через полгода я приеду и уже для того, чтобы с ней не расставаться! Однако теперь поздно, ты привыкла рано ложиться… спокойной ночи, до завтра!
Ядвига вышла.
Оставшись одна, Анжелика Сигизмундовна разделась и легла спать.
Несмотря, однако, на утомление после дороги и продолжительной прогулки, некоторого как бы опьянения, производимого обыкновенно свежим деревенским воздухом на непривычных городских жителей, она долго не могла заснуть.
То, что сказала ей Ядвига о ее дочери, то, что заметила она сама, заставило ее призадуматься. Она также в возрасте Ирены была мечтательницей, как выражалась нянька, и ей также были знакомы эта грусть, тоска, неопределенные желания, жажда перемены жизни.
— Все это доказывает, что в молодой девушке пробуждается женщина, — говорила она себе. — Это самый опасный момент. Сердце просится наружу… Оно легко поддается… Первый, кто встретится в такую минуту, решает нашу участь, навсегда разбивает нашу жизнь!
Охваченная материнской заботливостью, она начала мысленно переживать свою собственную жизнь, которая также в свое время была чиста и прозрачна, как студеный ключ, а потом, превратностью судьбы, превратилась в мутный, грязный ручей, в котором прохожие обмывают свои ноги.
И она прошла тот период душевной спячки, от которой пробуждаются к жизни.
Для нее это пробуждение оказалось катастрофой. С ее дочерью не должно случиться ничего подобного.
— Теперь пора, — решила она, — мне самой наблюдать за моей девочкой. Раз я при ней, мне нечего бояться опасностей.
Она была глубоко уверена в своем знании жизни и людей, чтобы хоть на минуту усомниться в своем умении отвлечь от своего собственного ребенка всякую возможность не только падения, но даже неправильного жизненного шага.
Она не спала всю ночь и встала очень рано.
Она хотела застать Ирену еще спящей и разбудить ее первым утренним поцелуем.
Тихонько, на цыпочках пробралась она в комнату дочери и приблизилась к кровати.
Ирена действительно еще спала крепким сном ранней молодости, разметавшись во сне и откинувши одеяло. Ее розовато-нежные ручки, шея и грудь были полны чарующей прелести.
Мать остановилась перед своею дочерью, любуясь ею с каким-то религиозным благоговением, как бы пораженная мыслью, что она могла произвести на свет такое чистое, нежное существо.
Она наклонилась поцеловать ее и инстинктивно, сама того не замечая, боялась прикоснуться к этим чистым, девственным, полуоткрытым губам своими губами, еще не остывшими после бесчисленных иных поцелуев.
Анжелика Сигизмундовна как бы застыла в замешательстве, склоненная над изголовьем молодой девушки.
Вдруг крупная слеза упала из ее глаз на щеку Ирены, которая проснулась и обвила шею матери своими белоснежными руками.
— Мама, — прошептала она, — я видела тебя во сне.
VII СОН
— Ты видела меня во сне, моя голубка! — повторила Анжелика Сигизмундовна, пряча свое лицо в распустившихся волосах дочери, чтобы скрыть следы слез. — Что же тебе снилось?
— Мне снилось, что будто бы мы с тобой в Петербурге, в большой-большой ярко освещенной зале, наполненной мужчинами и дамами в бальных костюмах. Ты была хозяйкой и представляла меня гостям. Среди общего шума я расслышала следующие слова: «Это ее дочь… дочь»… Называли какую-то фамилию, но я не разобрала.
Анжелика Сигизмундовна выпрямилась, побледнела и смотрела на Ирену с очевидным беспокойством.
— А потом что? — спросила она машинально.
— Потом, о, потом… — продолжала молодая девушка, краснея, — я видела себя… Это так странно, мама, не правда ли? Во сне иногда видишь себя, как будто помимо нас самих существует второе «я», которое смотрит на то, что мы делаем, слышит то, что мы слушаем, и говорит: Я видела себя… Я шла по зале, одетая в белое, с венком померанцевых цветов на голове и таким же букетом на груди, покрытая фатой…
— Да ведь это венчальный наряд! — прервала ее мать, слегка вздрогнув.
— Именно, мама! — воскликнула нервно Ирена. — Ты сделала вечер по случаю моей свадьбы… К тому же я вокруг себя слышала шепот: «Вот жених… князь»… Я выходила замуж за князя… Только я не разобрала его фамилии… В толпе говорили: «Как жаль, что он умер!».
Она умолкла на мгновение, но потом тотчас же продолжала:
— Кто умер? Я бы это, может быть, узнала… Я видела также моего будущего мужа. Мне кажется, что я теперь узнаю его между тысячами!.. Но вдруг я проснулась… не правда ли, мама, это очень странный сон?
— Да, действительно, странный! — пробормотала бледная и взволнованная Анжелика Сигизмундовна.
Как все женщины, особенно ее круга, она была очень суеверна и знала значение снов.
«Свадьба означает смерть», — думала она. Она вся похолодела, сердце ее остановилось.
— Что с тобой, мама? — спросила Ирена. — Ты стала вдруг такой скучной.
— Ничего, — быстро ответила мать с деланной улыбкой, на губах. — В твои годы много снится снов, и они ничего не означают. Вставай, я помогу тебе одеться.
Все утро Анжелика Сигизмундовна озабоченно наблюдала за своею дочерью, прислушивалась к ее говору, следила за малейшим ее жестом. После обеда она сказала ей:
— Надень шляпу, мы пойдем с тобой гулять в лес.
Ирена с детскою радостью приняла это предложение.
В одну секунду она очутилась в своей комнате, надела только что привезенную ей матерью из Петербурга шляпу с широкими полями, бесподобно шедшую к ее миловидному личику.
Они миновали фруктовый сад, достигли калитки, всходившей в лес, и пошли по первой попавшейся им тропинке.
Ирена уже давно мечтала об этом tête-à-tête со своею матерью, сгорая желанием открыть ей свое сердце, сказать, что она чувствует, объяснить причины своей грусти, выразить желания своей детской души. Сколько раз она твердила сама себе все то, что она должна сказать матери, а теперь, около нее, когда оставалось только открыть рот, чтобы заговорить, ей вдруг стало казаться, что ей нечего сказать.
Она была именно в таком возрасте, когда молодые девушки чувствуют необъяснимые тревогу и застенчивость, которые не могут анализировать, не будучи в состоянии отдать себе отчет.
Обе женщины шли некоторое время молча, и Ирена, вышедшая из дому с улыбкой на устах и блестевшими глазами, становилась все угрюмее, раздражалась против самой себя, не понимая тому причины.
Анжелика Сигизмундовна пристально посмотрела на нее.
Она, видимо, догадалась, что происходило в душе ее дочери, так как первая прервала томительное для них обеих молчание.
— Дорогое дитя мое, — нежно начала она, — ты уже взрослая девушка и начинаешь, как я заметила, мучиться бездействием и однообразием твоей настоящей жизни.
Слезы внезапно полились из глаз Ирены.
— Я мучаюсь только тем, что живу вдали от тебя и не могу чаще тебя видеть, чаще чувствовать на себе взгляд твоих чудных, ласкающих, нежных глаз.
— Я также, дорогая моя, страдаю от этой разлуки, но она необходима для твоего же счастия. Потом я расскажу тебе причины, принудившие меня к ней, передать же их тебе в несколько часов нет возможности.
Анжелика Сигизмундовна уже давно сочинила целый роман, который и намеревалась рассказать в надлежащее время своей дочери, лишь бы скрыть от нее жестокую истину ее позорного существования.
— Если мы и жили до сих пор в разлуке, — продолжала она, — то не обвиняй в этом мое сердце, мою любовь к тебе, готовую на всякие жертвы…
Она чуть-чуть не сказала «на всякие преступления», но вовремя остановилась.
— О, я никогда и не думала иначе! — воскликнула Ирена, бросаясь к ней на шею. — Если я немного грущу и скучаю, стала даже капризной с некоторых пор, то все-таки я не неблагодарная… Я знаю, как ты меня любишь!
— Да, я люблю тебя, я люблю тебя больше, чем ты можешь предполагать.
Она порывисто прижала дочь к груди.
— Не в том, впрочем, дело. Напротив, я хотела бы тебя успокоить. Я отлично понимаю, что ты чувствуешь… это так естественно в твоем возрасте. Все мы прошли это. Ты становишься женщиной, вот в чем весь секрет, а женщине нужна другая жизнь, нежели девочке!
Ирена с вопросительным недоумением глядела на нее.
— Я одна могу тебе в этом помочь, могу изменить твою жизнь, и я на это решилась…
— А! — могла только воскликнуть взволнованная молодая девушка.
— Я теперь тебя покину в последний раз. Через четыре, много пять месяцев я возвращусь, и тогда уже мы не расстанемся…
— Мы будем жить здесь?
— Нет, я увезу тебя.
— В Петербург?
Анжелика Сигизмундовна заметно вздрогнула.
— Нет, не сразу в Петербург.
— Отчего?
— Петербург… ты это узнаешь после… возбуждает во мне тяжелые воспоминания… Я ненавижу этот город.
Ирена взглянула на нее с удивлением.
— Особенно потому, — поспешно прибавила мать, — что этот проклятый Петербург до сих пор разлучал нас с тобою.
— Ты там страдала, бедная мама, ты там была несчастна?
Анжелика Сигизмундовна засмеялась, но таким смехом, который тотчас же постаралась заглушить, настолько он был, по ее мнению, неуместным в присутствии ее дочери.
— Да, да, именно! — быстро сказала она. — И уж, конечно, не я повезу тебя в Петербург. Это, быть может, сделает твой муж!
— Мой муж! — повторила Ирена, вздрогнув.
— Да, моя дорогая, потому что ведь нужно тебе выйти замуж, и как можно скорее. Это самое лучшее.
Она остановилась, но через минуту начала снова уже другим тоном:
— Ты молода, хороша, ты сделаешь блестящую партию… О, я буду требовательна, разборчива… Никто не будет достаточно хорош, добр, знатен для дочери… для тебя, моя Рена.
— Значит, ты собираешься меня выдать замуж? — повторила задумчиво молодая девушка.
— Конечно, я только об этом и думаю; но, само собою разумеется, нужно, чтобы он тебе нравился, чтобы ты его полюбила.
Ирена слушала молча. Сердце ее усиленно билось.
— Так что будь терпелива, — продолжала Анжелика Сигизмундовна, — в скором времени твоя жизнь переменится. Мы будем неразлучны до того дня, пока мне не удастся упрочить твое счастие.
Разговор в том же духе, или, вернее, монолог матери, высказывавшей вслух свои заветные мысли и надежды, продолжался довольно долго; дочь же в это время предавалась своим мечтам.
Было уже поздно, когда обе женщины вернулись на ферму.
Анжелика Сигизмундовна еле успела уложить свои вещи.
Она торопилась.
Ирена храбрилась, она казалась спокойнее, чем в предыдущие годы. Однако в ту минуту, когда мать садилась в вагон, она разрыдалась.
— Помни, что я тебе сказала, — заметила ей Анжелика Сигизмундовна, — я уезжаю только для того, чтобы вернуться через несколько месяцев за тобой.
Она послала ей рукою поцелуй и отвернулась, чтобы скрыть слезы.
Поезд тронулся.
«Я ей дала предварительное лекарство, — думала мать, сидя в купе первого класса. — Она будет занята мыслью о своем замужестве. Это займет ее до моего возвращения, а это все-таки лучше, чем ее настоящее, неопределенное состояние духа».
Вечером Ирена, в свою очередь, ложась спать, говорила себе:
«Мой сон, значит, был предчувствием! Сны не обманывают. Моя мать, верно, кого-нибудь уж знает, на кого она рассчитывает для меня. Странно будет, если это тот самый, кого я нынче ночью видела во сне… Князь…»
Засыпая, она все еще припоминала нерасслышанную фамилию князя, образ которого носился перед ней.
VIII НАЯВУ
На следующее утро Ирена проснулась рано, и, странное дело, первая ее мысль была не о матери, с которой она рассталась накануне вечером и, быть может, не увидится в продолжение полугода. Правда, по истечении этого срока ее жизнь совершенно изменится, и над этим стоило призадуматься.
Вследствие исключительного свойства нервных и впечатлительных натур молодая девушка проснулась далеко не с чувством готовности терпеливо ожидать исполнения неясных обещаний матери, а, напротив, с потребностью их немедленного осуществления.
Сердце ее усиленно билось, точно перед наступлением какого-нибудь рокового события, и в ее уме слагалось несомненное убеждение, что она встретит олицетворение призрака, явившегося в ее сновидении, и что он будет играть роль в ее жизни.
Она стала думать о своем замужестве не как о гадательном плане ее матери, а как о чем-то уже решенном и определенном. Ее суженый должен существовать. Ее мать его знает, она сама избрала его для нее. Какое-то необъяснимое предчувствие, пробуждавшее в ней целый рой неведомых доселе ощущений, подсказывало ей, что он недалеко, что она его увидит, и увидит скоро.
Ирена встала, оделась, причесалась тщательнее обыкновенного и пошла прямо в лес по той тропинке, где накануне беседовала со своею матерью, и не подозревавшей, какое значение придаст ее словам дочь и какой они произведут переворот в этом молодом, только что расправляющем крылышки существе.
Если бы кто-нибудь спросил Ирену, зачем она пошла в лес именно на то место, где была вчера с Анжеликой Сигизмундовной, вопрос этот очень бы смутил ее и она не знала бы, что на него ответить. Она шла искать того, что ищет всякий, молодой и старый, во все времена года, на всем пространстве земного шара: она шла искать счастья.
Было майское теплое утро. Лес только что пробудился и стоял весь залитый солнечными лучами, полный благоухания.
Птицы наперерыв пели свои утренние песни.
Капли росы блестели на зеленеющих ветвях.
Небо было ясно; солнце сквозь частую листву светлыми, причудливой формы пятнышками играло на дорожках.
Ирена шла бодрым, легким шагом, вдыхая ароматный воздух, чувствуя себя счастливой, находя что-то общее между весной своей жизни и природой, которая, казалось ей, в это утро как-то особенно приветливо улыбалась.
Вдруг на повороте тропинки она остановилась как вкопанная. Навстречу ей шел прогулочным шагом неизвестный господин.
Он был в нескольких шагах от нее.
Ей показалось, что ее вчерашний сон повторяется наяву: безотчетный испуг и необъяснимая сильная радость одновременно сжали ее сердце, биение его остановилось, в глазах потемнело, и молодая девушка без чувств упала почти к ногам приблизившегося незнакомца.
Он остановился, также пораженный, но это было, как и падение Ирены, делом одного мгновения.
Он бережно взял ее на руки, отнес на прилегающую к тропинке лужайку и уложил на траву.
Незнакомец, напугавший Ирену до обморока, был мужчина высокого роста, несколько сухощавый, статный и безукоризненно одетый в светло-серую летнюю пару, видимо, сшитую лучшим столичным портным.
Вся его фигура дышала тем аристократическим благородством, которое приобретается не только воспитанием и светскою жизнью, но главным образом рождением, породой.
Пропорционально сложенная фигура, гибкий стан с первого взгляда обличали в нем необычайную мускулистую силу, впечатление которой ослаблялось врожденной грацией.
Он далеко не был молодым человеком: на вид ему было лет около сорока, метрическое же свидетельство говорило, что ему пятьдесят.
Взгляд его был полон огня, жизни и молодости, той особенной молодости, которая, хотя и редко, но встречается у мужчин, успевших много пожить, но сумевших сохранить опыт без утомления.
Небольшой, тонкий, насмешливый и несколько надменный рот оттенялся выхоленными шелковистыми, изящно подстриженными густыми усами; коротко остриженные, тонкие волосы, уже слегка поредевшие на лбу и в особенности на затылке, еще вполне сохраняли, как и усы, свой прекрасный каштановый цвет.
Большие голубые глаза с сероватым оттенком были красиво очерчены, а легкая тень под ними придавала некоторую усталость взгляду. Нос был длинный, прямой, с подвижными ноздрями; резко очерченный подбородок указывал на сильную волю; лоб был невысок, с немного выдающейся надбровною костью.
Все манеры незнакомца обличали безупречного аристократа, который скорее убьет, нежели скажет неприличное слово и сделает резкое движение.
Словом, это был один из тех мужчин, которых женщины обожают и от любви к которым умирают.
Убедившись, что молодая девушка только в обмороке, он, казалось, не допытывался умом его причины и спокойно стал рассматривать лежащую.
«Прехорошенькая!» — вывел он результат своего осмотра.
Оправив ей платье, обнаружившее тонкие, стройные ножки, исполнив этот долг приличия, он встал перед ней на одно колено, положил свою левую руку под ее затылок, чтобы приподнять голову, вынул правою рукой из кармана флакончик с солями, которые и дал понюхать еще не приходившей в себя Ирене.
Стараясь привести ее в чувство, он не забывал делать свои наблюдения:
«Восемнадцать лет… не более… Это не крестьянка… это скорее отпущенная на каникулы пансионерка!»
Он внимательно посмотрел на ее руки.
«Маленькие, прехорошенькие ручки… хотя и не особенной породы! Прелестная шейка… Да эта девочка просто лакомый кусочек! Откуда она и кто она такая?»
Ирена пошевельнулась.
«Вот она приходит в себя. Посмотрю, какие у нее глаза, зубы, послушаю ее голос!»
Он выше приподнял ей голову, чтобы облегчить дыхание.
«Она, верно, живет здесь в окрестности! Это доказывает ее костюм… И одна в лесу… Может быть, какое-нибудь свидание, назначенное избраннику сердца или… любовнику».
Недоверчивая, равнодушная улыбка скользнула по его губам, в глазах блеснул огонек.
Молодая девушка, между тем, снова пошевельнулась, вздохнула, легкий румянец появился на ее щеках; она открыла глаза и увидела над собой склоненную голову того, кто за несколько минут так сильно поразил ее своим внезапным появлением. Их глаза встретились.
«Самые хорошенькие глазки в мире! — подумал он. — Прелестный ротик, чудные зубки! Да этот ребенок просто клад!»
Он улыбнулся ей той светской, свойственной ему улыбкой, которая доставляла ему столько побед.
— Mademoiselle, это ничего, не бойтесь, сильный испуг, я на повороте дорожки вырос перед вами, как из-под земли, вы испугались, хотя я не понимаю причины.
— Ах, я видела вчера сон!.. — вся зардевшись, сконфуженно пробормотала Рена.
— Сон? — удивился незнакомец.
Молодая девушка смешалась еще более и сильно рассердилась на себя за свою болтливость…
— Да… нет… — прошептала она едва слышно. Он не стал расспрашивать.
— К счастью, — переменил он разговор, — вы упали не на корень дерева, я перенес вас сюда и мне удалось привести вас в чувство.
Ирена, приподнявшись на локтях, не сводила с него глаз.
— Теперь вы совсем пришли в себя, — продолжал он, — как вы себя чувствуете? Не ушиблись ли вы?
Она сделала над собой неимоверное усилие, снова побледнела, потом покраснела. Сердце ее сильно билось.
— Нет, теперь мне совсем хорошо! — наконец пробормотала она. — Благодарю вас.
Движением она выразила желание встать. Он сейчас же помог, и она, опершись на его руку, встала, но ноги у нее все еще подкашивались.
— Вы очень слабы, — сказал он ей, — не могу ли я пойти предупредить ваших родителей? Вы, вероятно, живете здесь поблизости, за вами могли бы приехать.
— Нет, нет! — поспешно отвечала она. — Я живу около Покровского… через четверть часа я буду дома.
— Около Покровского? Действительно, это очень близко. Вы мне позвольте проводить вас, так как одна вы идти не можете.
Ирена смотрела на него в замешательстве. Он любовался ее смущением.
— Благодарю вас! — тихо произнесла она.
— Достаточно ли вы сильны, чтобы идти?
— Да!
Она сделала несколько шагов, сначала несмело, потом более уверенно, опираясь все еще слегка дрожавшей рукой на его руку.
«Она очаровательна! — говорил он сам себе. — Кто она такая? Ни малейшего знания светского обращения!.. Очень застенчива. Несозревший плод… но зато какой плод!»
Он вел ее с удивительною ловкостью и поддерживал с нежным, почти женским, вниманием.
Вдруг Ирена подняла на него свои большие взволнованные глаза. В них отразилась какая-то тайная, неуловимая мысль, придававшая столько прелести ее взгляду, сообщив ему глубину, мало подходившую к ее возрасту.
— Кого я должна благодарить? — спросила она его.
— Князя Облонского.
— Князя… — повторила она громко, потом чуть слышно прибавила:
— Так оно и есть!
Она пошатнулась и остановилась.
— Что с вами?
— Ничего… А я… меня зовут Ирена Вацлавская.
— Вацлавская? — повторил в свою очередь удивленно князь.
Он бросил на нее пытливый взгляд. «Гм! — сказал он сам себе. — Неужели?.. Это было бы очень странно».
IX «ОН»
Князь Облонский и Ирена вдруг разом остановились и взглянули друг на друга: она — как бы ожидая от него чего-то, ей уже ранее известного, он — с дерзкой полуулыбкой, значения которой, если бы даже она ее заметила, то не поняла бы…
— M-lle Вацлавская? — медленно повторил он. Он смолк на минуту, как бы в раздумье.
— Ваши родные живут здесь?
— Нет!
— То-то я здесь не знаю никого, кто бы носил такую фамилию.
— Моя мать живет постоянно в Петербурге.
Он пристально посмотрел на нее, так пристально, что она опустила глаза, веки которых были опушены длинными темными ресницами.
— Вы дочь Анжелики Сигизмундовны Вацлавской?.
— Да! Разве вы ее знаете? — спросила она дрожащим голосом.
— Я знаю одну прелестную женщину, которая носит такое имя и которая живет в Петербурге, на Большой Морской.
— Это она! — вскрикнула Ирена, вся просиявшая, окинув его взглядом, выражавшим полное доверие.
Князь принял к сведению эту радость и уловил появившееся в ее взгляде доверие.
Он улыбнулся и стал подробно описывать наружность Анжелики Сигизмундовны.
— Как вы ее хорошо знаете! — снова радостно воскликнула молодая девушка.
— Да, — отвечал Облонский, — я очень хорошо ее знаю… Я бывал у нее, но вас я никогда не видал и даже не знал, что у г-жи Вацлавской есть дочь.
— Это потому, что я никогда не была в Петербурге.
Они продолжали идти очень тихо, оба до крайности заинтересованные разговором.
— Тогда я больше не удивляюсь тому, что вижу вас в первый раз. Значит, вы не часто видитесь с вашей матерью? — пытливо начал князь.
— Очень редко, она приезжает в Покровское два или три раза в год — не более, и то всего на несколько часов, иногда, впрочем, дня на два. Вы знакомы с моею матерью, вам должно быть известно, что ее задерживают в Петербурге серьезные дела…
— Да, — отвечал он с едва заметной улыбкой, — г-жа Вацлавская действительно занята в Петербурге серьезными делами…
— Она вдова, — продолжала вопросительным тоном Ирена, — потому одна должна хлопотать по делу громадного наследства…
Облонский не заметил или не хотел заметить этого тона и отвечал вопросом:
— Вы знаете вашего отца?
— Нет! Я была еще совсем ребенком, когда он умер.
— И это здесь, в Покровском, вы получили воспитание?
— Да, я жила и живу у няни Ядвиги, еще у меня была гувернантка…
Оба замолчали.
Он первый возобновил разговор.
— Но если вы жили в этой деревне до сих пор, — сказал он, — то невозможно, чтобы вы в ней остались навсегда… Вы больше не ребенок… вы прелестная молодая девушка… Рано или поздно ваша мать, вероятно, рассчитывает взять вас к себе…
— О, да, — отвечала Ирена, — она мне обещала это вчера…
— Вчера?
— Она приезжала ко мне и два дня провела со мною… Сегодня, прогуливаясь одна по тем местам, где мы ходили с нею, я встретила вас…
— И я имел несчастие испугать вас и счастье с вами познакомиться.
Он слегка улыбнулся и прибавил:
— И вы скоро к ней поедете?
— Через пять или шесть месяцев она за мной приедет, и мы больше не будем расставаться.
— Конечно! Вы уже в таком возрасте, когда пора вас вывозить в свет, и вместе с тем настолько хороши, что не можете остаться незамеченной.
Он посмотрел на нее нежным взглядом, проникавшим в сердце молодой девушки, которое усиленно билось.
Ее неопытность, ее неумение скрывать свои чувства давали ему возможность ясно видеть, какое впечатление произвел он на нее.
— Это будет, — продолжал он, — большой и благоприятной переменой в вашей жизни, потому что вы, несомненно, должны очень скучать в этой глуши.
— Ужасно! — с искренним порывом отвечала она.
— Я это понимаю! Жестоко держать так долго вдали от общества вас, больше всех способную привести это общество в восторг.
— Это также и большое лишение для моей матери, которая меня обожает настолько же, насколько я люблю ее. Мы обе страдаем от необходимости этой разлуки, к счастью, приходящей к концу.
— Сообщала вам Анжелика Сигизмундовна свои планы на ваш счет в той новой жизни, которую она вам готовит?
— Я знаю только, — отвечала Ирена дрожащим голосом, поднимая на него застенчивый взгляд, — что она заботится о моем счастии.
— Счастлив тот, кому она его поручит! — сказал он, смотря на нее взглядом, приводившим ее в смущение.
Она опустила глаза, между тем как он прибавил тихим, проникающим в душу голосом:
— А для девушки вашего возраста счастьем называется…
Он на секунду приостановился:
— Замужество!
— Ах, вы знаете! — пробормотала она, вздрогнув.
— Нет… я угадываю. Это весьма естественная забота всех матерей, и подобная мысль вам, кажется, приходится по вкусу, что также очень естественно.
Ирена сильно покраснела. Она не отвечала, но ее молчание было знаком согласия.
Князь Облонский, вероятно, узнал все то, что ему хотелось, так как переменил разговор.
— Мне показалось, что, когда я вам назвал мою фамилию, вы сделали вид, что она вам уже знакома. Я не ошибся?
— Действительно, я ее знала, — просто ответила она.
— И это ваша мать произносила ее при вас? — с необычайною живостью спросил он.
— Моя мать?.. Нет! Но я знаю Юлию…
— Мою дочь? — вскричал он с удивлением.
— Да, мы в одном с ней пансионе.
Он вдруг остановился.
— Вы в одном с ней пансионе?
Взглянув на нее, он переменил тон.
— Вас зовут Ирена?
Ее имя, произносимое им, раздалось в ее ушах точно песнь любви и показалось ей таким нежным, будто она слышала его в первый раз.
Да и какая женщина может сказать, что знает свое имя, пока оно не произнесено устами любимого человека.
Князь повторил еще раз.
— Ирена! Вы должны именно так называться — это имя изящно и нежно. Действительно, моя дочь мне не раз говорила об одной из своих пансионских подруг… Это и есть вы!.. Мы непременно должны были встретиться в один прекрасный день. Между нами как будто уже существует что-то общее. Я знаком с вашей матерью, моя дочь знает вас.
— Я люблю ее от всего сердца! — горячо сказала Ирена.
Они достигли опушки леса. Уже сквозь редеющую листву деревьев видна была дорога, ведущая на ферму Залесской, видна была даже сама ферма.
— Вот мы и пришли! — сказала Ирена. В голосе ее послышались ноты сожаления.
Князь остановился.
— Вы здесь живете?
— Да.
— И тут проводите все время ваших каникул?
— Да.
Она как будто колебалась.
— Зайдите, князь, я вас представлю моей няне, чтобы она могла поблагодарить вас.
— Право, не за что, mademoiselle… За мою маленькую услугу я получил лучшую награду, так как имел случай с вами познакомиться и удовольствие проводить зас.
— Прошу вас, — прибавил он вкрадчивым голосом, взяв ее за руку, — не рассказывайте о вашем приключении… Это может возбудить страх в вашей няне… и из желания вам добра, она может помешать вашим прогулкам… Я имею привычку каждое утро гулять в этой стороне леса. Странно, что я до сих пор не имел удовольствия вас, здесь встретить.
Ирена слушала его, опустив глаза.
— Когда вы будете писать вашей матери, также не упоминайте, ей обо мне. Это сюрприз, который я хочу ей сделать при приезде в Петербург. Видите, взамен моей маленькой услуги я прошу у вас оказать мне целых две… Я еще остаюсь вашим должником.
Он пожал ей руку и, не дожидаясь ответа, удалился.
Ирена несколько времени не двигалась с места, поняв, что с этой минуты между ними есть тайна, что он указал ей способ и возможность свидания. Она не обратила внимания на то, что он не пригласил ее посетить ее подругу — свою дочь; зато она была уверена, что ее сон осуществляется, так как князь Облонский был, казалось ей, именно тот, кого она видела в том сне и кого ее мать, по всей вероятности, назначила ей в супруги, не желая ей его назвать. Что касается князя, то он, удаляясь, говорил:
— Дочь Анжель… Да это просто мщение? Однако надо признаться — она очаровательная девочка! Я сегодня прогулялся не даром.
X В ОБЛОНСКОМ
В то время, когда князь Сергей Сергеевич Облонский беседовал с Иреной, в обширной столовой княжеского деревенского дома был уже накрыт завтрак на пять персон, так как мы знаем, что в это лето у князя гостила его старшая дочь Надежда Сергеевна со своим мужем, графом Львом Николаевичем Ратицыным, и Виктор Аркадьевич Бобров, которого мы видели в театре «Аквариум» вместе с доктором Звездичем.
Дома, впрочем, была только одна Надежда Сергеевна, которая и поджидала остальных, сидя с французской книжкой в руках, в покойном chaise longue, на громадной террасе дома, выходящей в роскошный цветник и утопающей в зелени тропических деревьев.
Сам князь ушел делать свою обычную прогулку пешком, а ее муж и сестра Юлия с Виктором Аркадьевичем уехали кататься верхом.
Надежда Сергеевна Ратицына, как и ее младшая сестра, была брюнеткой, со смуглым цветом лица, но несколько резкими чертами.
Услыхав топот лошади в прилегающем к цветнику парке, она оставила книгу и сидела в выжидательной позе.
Вскоре на террасу вошел ее муж. Граф Лев Ратицын происходил из старинной русской фамилии, и имена его предков были не раз занесены на скрижали истории. Эта оговорка о знатности его происхождения была необходима, так как иначе он мог быть вовсе незаметен.
Довольно большого роста, худощавый, с желтовато-бесцветным лицом, с ухватками семинариста, он нельзя, впрочем, сказать, чтобы был некрасив. Его даже можно было назвать недурным собою, если бы прямые, довольно правильные черты его лица не были лишены выражения и жизни. Не носи он громкого титула и не принадлежи к знаменитому историческому роду, он бы навеки остался незаметной личностью, о которой ничего не говорят и ничего не думают.
— Мой зять не совсем ловок! — говорил про него сам князь Сергей Сергеевич с иронической улыбкой.
Действительно, несмотря на то что он безукоризненно одевался по последней моде у лучшего портного, в его манерах, движениях было что-то резкое, угловатое.
— Наконец, хоть ты! — сказала Надежда Сергеевна, идя навстречу своему мужу. — Я всегда боюсь, когда ты ездишь верхом… А где сестра и Виктор Аркадьевич?
— Не знаю! Я от них отстал, сам черт их не догонит. Они не скакали, а летели.
— Юлия немного неосторожна! — сказала она.
В эту минуту на террасу вбежали молодые люди.
— Ты, кажется, здесь стала первой наездницей! — сказала Надежда Сергеевна, подойдя к раскрасневшейся от быстрой езды сестре.
— Мне показалось, — заметила та, не отвечая на вопрос, — что Аврора, — так звали ее лошадь английской и частью арабской породы, — немного ушиблась…
— И ты не испугалась?
— Нет!.. К тому же я была не одна. Виктор Аркадьевич ехал рядом со мной…
— Это тебя успокоило?
— Юлия Сергеевна, — перебил Бобров, слегка смущенный, — слишком хорошо ездит, чтобы чего-нибудь бояться.
— Что это папа нынче так запоздал? — проговорила Надежда Сергеевна.
Все уселись на террасе в ожидании князя, удивляясь такой несвойственной ему неаккуратности. Через несколько времени появился и он.
— Ах, папа, — вскричала Юлия, — мы заждались тебя и уже терялись в догадках, что могло случиться.
— Ничего особенного, я просто зашел слишком далеко.
Он любезно предложил руку своей старшей дочери и повел ее в столовую.
Виктор Аркадьевич, сидевший около Юлии, предложил ей свою.
Граф один пошел за ними.
После завтрака, выпив свой кофе, Надежда Сергеевна с Юлией вышли снова на террасу, оставив за столом одних мужчин.
— Мне нужно с тобой переговорить! — сказала Ратицына своей сестре.
Как только дочери его удалились, Сергей Сергеевич сделал знак человеку с суровым, торжественным и необычайно серьезным видом, в ливрейном фраке и белом галстуке, стоявшему за стулом князя.
Это был камердинер, наперсник и поверенный тайн его сиятельства.
— Степан!
Лакей почтительно наклонился к князю.
— Ты придешь ко мне в кабинет сегодня, тотчас же после обеда. Мне нужно отдать тебе некоторые приказания, — почти шепотом произнес Облонский.
— Особые? — так же тихо спросил камердинер.
— Да, особые!
На гладко выбритом, бесстрастном лице Степана мелькнула чуть заметная самодовольная улыбка.
— Слушаю-с! — отвечал он с поклоном и снова принял величественную позу.
Все трое мужчин закурили сигары и принялись за кофе и ликеры.
Спустившись с террасы, обе сестры отправились по цветнику по направлению к одной из аллей парка.
Солнце, достигнув своего зенита, делало тенистые места не только приятными, но прямо необходимыми, так что аллея, густо усаженная серебристыми тополями, куда Надежда Сергеевна повела Юлию, была прелестным местом для прогулки в этот жаркий летний день.
Графиня Ратицына и ее сестра шли сначала молча, погруженные каждая в свои думы.
Первая была серьезна, вторая счастлива.
Однако молчаливая прогулка наскучила ранее Юлии, и она сказала, останавливаясь у одной из поставленных в аллее чугунных скамеек:
— Сейчас видно, что ты не проскакала сегодня верхом часа два.
— Отчего это?
— Потому что ты, кажется, собираешься совершить длинную прогулку, тогда как мне страшно хочется сесть!
— Сядем, если хочешь, к тому же так нам будет удобнее говорить.
— Ах, правда! — бросила Юлия на сестру беспокойный взгляд. — Тебе нужно со мной говорить?
Сестры уселись.
— Да, и очень серьезно! — заметила графиня.
— Ты меня пугаешь! — засмеялась молодая девушка.
— Тем хуже, так как мне нужно твое доверие.
— Мое доверие?
— Да, и совершенная откровенность, — прибавила Надежда Сергеевна, нежно пожимая ей руки.
— В таком случае, спрашивай меня.
Графиня на минуту задумалась.
— Ты знаешь нашего отца, — начала она. — Он прекрасный человек, очень умный, любит нас всем сердцем, но вместе с тем, он человек светский, еще очень молодой душой, относящийся с большим доверием, что, впрочем, вполне основательно, к правилам чести и гордости, традиционным в нашей семье, и также к строгому воспитанию, полученному нами при нашей доброй матери… — При последних словах голос Надежды Сергеевны дрогнул. — Он занимается нами не более, как с его характером может заниматься светский человек молодыми девушками, такими, как ты, и какой я была два года тому назад.
— Конечно, — перебила Юлия, немного удивленная этим предисловием. — Папа всегда так хорошо относится к нам, что я считаю для себя праздниками быть с ним.
— Я это понимаю, и он этого вполне заслуживает. Только видишь ли, когда наша мать три года тому назад умирала, то, несмотря на мою молодость, знаешь, что она мне сказала? Знаешь ли, какие были ее последние слова? «Наблюдай за своей сестрой; меня не будет, а мужчине трудно знать и предвидеть многое, я знаю, что ты благоразумна не по летам, Надя. Я отдаю счастье Юлии в твои руки».
— Значит, — вскричала Юлия, бросаясь на шею своей сестре, — ты должна быть довольна, потому что я счастлива!
XI ДВЕ СЕСТРЫ
Надежда Сергеевна в свою очередь поцеловала сестру и продолжала:
— Таким образом, моя дорогая, для твоего же добра я должна обратить твое внимание на одну черту в характере нашего отца, а то ты можешь попасть впросак… Если ты будешь предупреждена, то тебе легче будет избежать столкновения с этой чертою…
— Ты говоришь сегодня загадками. Говори яснее, если хочешь, чтобы я тебя понимала.
— Я буду ясна. Наш отец гордится своим именем; в обыденной жизни он не высказывает этой гордости, но она руководила, руководит и будет руководить им во всех важных случаях его жизни.
На минуту водворилось молчание.
Юлия стала взглядывать на сестру с видимым беспокойством.
— Зачем ты мне это говоришь? — спросила она.
— Потому что, живя вдали от отца, ты можешь не знать или. не придавать этому должного значения. Ты немного легкомысленна… Это свойственно твоему возрасту… Я тебя в этом не упрекаю… Видя, например, с какой приветливостью и утонченной любезностью наш отец принимает г-на Боброва, сына сельского дьячка, достигшего хорошего положения своим трудом и личными достоинствами, ты можешь подумать, что в глазах князя Облонского не существует никакой разницы между Виктором Аркадьевичем и другими знакомыми — из аристократического круга Москвы и Петербурга, которых он принимает в своем доме.
— Действительно, — с нескрываемой иронией отвечала Юлия, покраснев до ушей. — Было бы несправедливым не установить какую-нибудь разницу между ним и ими. Виктор Аркадьевич рисковал своей жизнью, спасая жизнь моему шурину, а твоему мужу. Мы все ему обязаны, и мы были бы неблагодарными, особенно ты, милая Надя, если бы не относились к нему с исключительным расположением.
— Ты совершенно права, — возразила графиня, все тем же спокойным тоном. — Я лично отношусь к нему с признательностью, которую ничто не уменьшит… С того дня, когда он спас жизнь моему мужу, он сделался… как бы моим братом, и мое расположение не изменится к нему… что бы ни случилось.
— Вот видишь…
— Но наш отец…
Юлия быстро перебила ее:
— То отличие, с каким он принимает его, хотя он и не принадлежит к аристократической семье, служит очевидным доказательством, что он ему не менее благодарен, чем мы.
— Наш отец, — продолжала Надежда Сергеевна, — относится к нему с глубокой признательностью и исключительным уважением. Если бы пришлось рисковать жизнью, чтобы спасти его, он бы это сделал без малейшего колебания. Если бы нужно было помочь деньгами, влиянием, поверить ему самые важные тайны, оказать ему серьезную услугу, он также бы исполнил все это, не колеблясь. Но…
— Но?
— Он бы не отдал за него свою дочь!
Юлия быстрым, невольным движением отшатнулась от сестры.
— Я не знаю, к чему ты все это мне говоришь? — холодно сказала она.
Голос ее дрожал. Графиня Ратицына взяла ее за обе руки, притянула к себе и пристально посмотрела ей в глаза.
— Жюли, — медленно спросила она, — можешь ли ты мне поклясться, что действительно не знаешь?
— Уверяю тебя…
— Смотри! Я не замечала тебя до сих пор во лжи…
— Что же ты, наконец, думаешь? — тоном, в котором звучали досада и плохо скрытое смущение, вскричала Юлия.
— Я буду думать то, что ты мне скажешь.
— Ты просто невыносима!
— Нет, я только люблю тебя. Я поклялась наблюдать за тобою… на меня напал страх, и я имею подозрения, я тебя предупреждаю — вот и все. Я говорю тебе: не иди навстречу несчастью.
— Какому несчастью?
— Несчастье любить и быть любимой безнадежно.
— Прежде всего, если он меня любит, то это не моя вина! — воскликнула молодая девушка.
— Нет, немножко и твоя. Любят только тогда, когда есть поощрение…
— Значит, ты поощряла графа Льва?
— Это мой секрет, — отвечала Надежда Сергеевна, улыбаясь.
— А если я тебе отвечу так же.
— Это будет признанием.
— Понимай, как знаешь.
— Значит, он тебя любит?
— Что же тут удивительного?
— Конечно, ничего. А ты любишь его?
— Право, не знаю.
— Но ты не уверена, что не любишь его?
— Господи! Что же ты хочешь, чтобы я ответила тебе, что я его ненавижу?
— Нет, я хочу, чтобы ты ответила мне только правду.
— Хорошо!.. Ну, я не люблю его…
— Этого довольно… теперь я спокойна… Но так как я к нему очень расположена и не хочу, чтобы он из-за тебя страдал — я должна предупредить его.
— Предупредить, в чем?
— В том, что ты не любишь его… чтобы он оставил всякую надежду на взаимность и уехал бы отсюда… для своей же пользы.
Графиня поднялась с места.
— Не делай этого! — ухватила ее за руку Юлия. Она вдруг побледнела. Улыбка исчезла с ее лица.
Глаза наполнились слезами.
Надежда Сергеевна посмотрела на нее с нескрываемым беспокойством и снова села на скамейку, усадив и сестру.
Несколько секунд длилось молчание.
— Ах, — сказала она, — вот чего я боялась. Ты его любишь!
— Да, да… — сквозь слезы почти простонала молодая девушка.
— И ты ему это сказала?
— Нет!.. Но…
— Он это знает?
— Я так думаю.
— Бедная моя! Это большое несчастье.
— Разве он не стоит, чтобы его любили? Разве ты можешь сказать что-нибудь против него? Разве сама ты не расположена к нему?
— Совершенно верно… Но отец никогда не согласится…
— Уж и никогда!.. Если все хорошенько попросят… Ты, он тебя всегда слушает… Твой муж… Я, наконец…
Надежда Сергеевна задумалась.
— Я не хотела бы приводить тебя в отчаяние, но также не хочу поддерживать в тебе заблуждение, очнуться от которого было бы ужасно. Но я не думаю, чтобы что-нибудь могло заставить князя Облонского согласиться на то, что он называет «неравным браком» — une mésalliance.
В это время шум раздавшихся вблизи шагов прервал разговор двух сестер.
Это были мужчины, кончившие курить и вышедшие прогуляться.
XII НАПЕРСНИК
Старинный барский дом в Облонском был поистине великолепен. Это не только было прекрасное здание, могущее служить достоянием всякого богатого человека, — это был величественный, грандиозный памятник седой старины, красноречиво повествовавший всею внешностью о том, сколько жило в нем славных, доблестных русских вельмож…
Построенный на возвышенности, он господствовал над местностью, и из его окон открывался вид на долину, лес и реку.
Его архитектура, выдержанная в строго готическом стиле, была несколько однообразна и угрюма, но огромные асфальтовые террасы и резные балконы модного стиля, пристроенные уже впоследствии и украшенные цветами и редкими растениями, придавали ему оживление, не нанося, впрочем, ущерба его достоинствам как исторического памятника.
Весь наружный фасад был, кроме того, украшен статуями и барельефами, вышедшими из рук заезжих иностранных художников прошедших времен, забывших подписать свои имена на оставленных бессмертных произведениях.
Такие же статуи из мрамора были в цветнике, разбитом на отлогом спуске от дома к реке, и огромном парке с живописными тенистыми аллеями, зеленеющими лужайками, гротами и мостиками, перекинутыми через искусственные же пруды и каналы.
В старинной части дома сохранились нетронутыми комнаты с обстановкой, древность которой считалась веками, и обширная галерея, где по стенам были развешены портреты во весь рост разных поколений доблестных князей Облонских, ведших свой род от Рюрика. Все остальные княжеские апартаменты были меблированы с поразительной роскошью, могущей удовлетворить самый требовательный современный вкус.
Иностранцы, приезжающие в Москву, считают своей обязанностью посетить и осмотреть дом Облонских, как выдающийся памятник русской истории.
К вечеру дня нашего рассказа в Облонском ожидалось много гостей из Москвы, так как назначен был ежегодно даваемый князем летний бал.
Тотчас же после обеденной прогулки князь Сергей Сергеевич прошел в свой кабинет.
Эта большая и своеобразная комната помещалась в старинной части дома, имела круглую форму и освещалась тремя окнами, выходившими на восток, север и запад.
Три совершенно разные картины открывались перед взором из этих окон, прорезанных в толстых стенах и образующих как бы еще три маленьких комнатки, каждая глубиною в два аршина. С одной стороны темный лес тянулся, теряясь на краю горизонта, целое море зелени, колеблемое порывами ветра; с другой — поля, луга и длинная серебристая полоса реки; наконец, посредине, на довольно значительном расстоянии, мелькали церковь и избы села Покровского.
Стены этого обширного кабинета были заставлены частью книжными шкафами, а частью широкими турецкими диванами, утопавшими в мягких восточных коврах, покрывавших и паркет. Богатые красивые бархатные драпировки обрамляли окна и единственную дверь. У среднего окна, выходящего на север, стоял дорогой старинный письменный стол, заваленный журналами, газетами, визитными карточками и письмами. Все это лежало в изящном беспорядке.
В кабинете было, впрочем, несколько этажерок, уставленных всевозможными безделушками, objets d’arts[3], которые скорее можно встретить в будуаре хорошенькой женщины, чем в кабинете мужчины, особенно в возрасте князя Облонского.
Не успел князь войти в кабинет и небрежно опуститься в большое вольтеровское кресло, как в комнату неслышною походкою вошел его камердинер Степан.
Он имел тот же важный и серьезный вид, как и за обедом.
— Степан, — сказал ему князь, уже привыкший к подобной точности своего наперсника, — я сегодня утром гулял так долго недаром…
— Я понял это, ваше сиятельство. Что же, ваше сиятельство довольны встречей?
— Лакомый кусочек! Молодая девушка, почти ребенок… прелестная, очаровательная… волоса, как лен… чудные глаза.
Князь остановился.
— Ваше сиятельство изволили с ней говорить?
— Я провел с ней около часу.
— В таком случае, ваше сиятельство успели ей понравиться.
— Я так думаю.
— Когда же ваше сиятельство ее снова увидит?
— Если захочу, завтра утром.
— И вы пожелаете?
— Нет, не так скоро.
Степан, не изменив серьезного выражения своего лица, молча наклонил голову в знак одобрения.
— Не мешает заставить себя ждать, — продолжал князь.
Со стороны камердинера снова последовало молчаливое согласие.
— Заставить о себе думать… беспокоиться и потом показаться неожиданно. С женщинами только этим и возьмешь. Занимать их ум, возбуждать воображение — в этом все дело.
— Совершенно верно! — почтительно заметил Степан.
— Кроме того, у меня есть еще причина. Я хочу иметь более подробные сведения об этой молодой девушке, прежде чем что-либо предпринять. Я считаю ее вполне невинной, чрезвычайно целомудренной… но я могу ошибаться.
— Я весь к услугам вашего сиятельства. Вашему сиятельству стоит только сказать, о ком идет речь, чтобы я знал, как взяться за дело. Смею думать, что это не крестьянка?
Цивилизованный лакей произнес слово «крестьянка» тоном невыразимого презрения.
— Нет, ничуть не бывало! — отвечал князь со смехом. — Она дочь одной моей знакомой…
Степан весь проникся уважением.
— Знакомой! Но ты должен ее знать, Степан.
— По крайней мере, по фамилии я должен непременно ее знать, так как я не думаю, чтобы хоть одна фамилия знакомых вашего сиятельства не сохранилась навсегда в моей памяти.
— Эту ты ближе и лучше знаешь.
— Не благоугодно ли будет вашему сиятельству ее назвать?
— Это… Анжелы…
— Анжелика Сигизмундовна Вацлавская! — сказал Степан, выражая удивление настолько, насколько позволяла ему его обычная сдержанность.
— Она самая.
XIII ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ
На минуту водворилось молчание. Выражение удивления на невозмутимом лице Степана быстро исчезло и заменилось скромной полуулыбкой.
— Таким образом, ваше сиятельство встретили знакомых, — спокойно сказал он. — Так как ваше сиятельство, как всем известно, находитесь в наилучших отношениях с Анжеликой Сигизмундовной.
Легкая тень пробежала при этих словах по лицу князя, и его губы сложились в чуть заметную ироническую улыбку.
— Действительно, я хорошо знаю даму, о которой ты говоришь, — заметил он, усмехаясь, — но дело идет не о матери, а о дочери.
— Ввиду положения молодой особы, я, осмелюсь заметить, не понимаю затруднения вашего сиятельства, — отвечал Степан тоном, как будто говорившим: «Я не понимаю, какую услугу могу оказать я, когда стоит только нагнуться, чтобы взять».
Князь понял заднюю мысль своего слуги.
— Тут-то ты и ошибаешься! Вопрос вовсе не так прост, как ты думаешь, по многим причинам.
Он посмотрел очень пристально на своего камердинера.
— Знал ли ты, что у Анжель есть дочь? — прибавил он.
— Не имел об этом ни малейшего понятия, ваше сиятельство.
— И никто об этом не знает?
— О, за это я ручаюсь, — самодовольно произнес Степан, — иначе бы я знал это первый.
— Это доказывает, что у нее есть особые виды на эту девочку.
— Которые не трудно отгадать, ваше сиятельство! Для женщины в положении г-жи Вацлавской, так искусно сумевшей составить себе состояние, хорошенькая молодая дочь может принести большую пользу, удвоив и даже утроив ее капитал.
— Да, — продолжал князь, — чем менее она известна, чем лучше воспитана, тем более ее появление в полусвете произведет впечатление, — прибавил он с насмешливой улыбкой.
Степан позволил себе тоже слегка улыбнуться.
— Вот этой-то мыслью я прежде всего и задался, и по поводу этого-то вопроса мне и нужны твои услуги.
— Я вас слушаю, ваше сиятельство!
— Еще раз повторяю, эта молодая девушка показалась мне совсем невинной и не имеющей ни малейшего подозрения, кто ее мать. Она упоминала ее имя с обожанием и самым глубоким уважением. Я хотел бы знать, действительно ли она такова и правда ли, что она не знает, от кого происходит, и, следовательно, не подозревает, какая будущность ее ожидает.
— Вашему сиятельству будут доставлены необходимые сведения.
— Мне показалось, — продолжал князь, — что она более или менее меня знала и ожидала нашей встречи… Ее мать приезжала сюда всего на два дня и уехала вчера.
— А! — произнес Степан, насторожив уши.
— Может быть, Анжель, зная о моем здесь пребывании, хочет мне навязать роль, которую я, если и возьму на себя, то, во всяком случае, сыграю по-своему и при условиях, какие я найду для себя удобными.
— Ваше сиятельство — охотник, — заметил Степан, — и желаете охотиться за дичью, а не стрелять домашних птиц, расставленных на вашем пути.
— Именно, Степан! — улыбнулся князь. — Мне нужны самые подробные и самые верные сведения. В случае же, если она, действительно, то, чем мне она показалась… то есть… если она ангел во плоти, то интересно было бы знать, кто те люди, у которых она живет, и на что можно надеяться, и чего бояться со стороны ее няньки, имеющей ферму на опушке леса, близ Покровского.
— Я знаю эту ферму, я видел ее мимоходом, — отвечал камердинер.
— А ее обитателей?
— Мне о них не приходилось справляться.
— В какой срок ты можешь исполнить мое поручение?
— Я думаю, что в течение нескольких дней.
— Хорошо.
— Не будет ли от вашего сиятельства еще каких-либо приказаний?
— Нет. Впрочем, я должен тебя предупредить — действуй осторожно и умно. Чтобы мое имя не было упомянуто. Чтобы не могли догадаться, что ты действуешь по моему поручению.
— Ваше сиятельство может на меня положиться.
— Я особенно этого требую. Эта девочка воспитывается в одном пансионе с моей дочерью. Они знают друг друга. Не нужно, чтобы княжна Юлия что-нибудь узнала. Если Ирена вернется после каникул в пансион, я возьму оттуда мою дочь. Не следует ей иметь подобных подруг, и я удивляюсь, как этот пансион, пользующийся такой прекрасной репутацией, допускает, чтобы благородные девицы находились в таком смешанном обществе.
— О, нечего бояться ее возвращения в пансион после каникул, если вашему сиятельству благоугодно будет вмешаться в ее судьбу, — заметил Степан.
— Это еще неизвестно, — сказал князь, внутренне польщенный комплиментом, заключавшимся в этом ответе слуги. — Мне не двадцать лет, я уже немолодой человек! Эта молодая девушка очень мила и, вероятно, мечтает о каком-нибудь юном Адонисе, подходящем ей по возрасту.
— Я позволю себе заметить, что никому не известен возраст вашего сиятельства… и что женщины всегда предпочитали вашу блестящую, неотразимую, вполне созревшую красоту фатовству и неопытной смелости или же глупой застенчивости молодых людей, и в борьбе с ними ваше сиятельство всегда оставались победителем.
— Да, да, я еще не совсем состарился и, признаюсь охотно будущей зимой появлюсь снова в петербургском свете, где меня стали забывать за последние два-три года, — пробормотал князь.
Лицо Степана озарилось довольной улыбкой.
— Давно пора, ваше сиятельство! — почтительно про изнес он.
— Я немного устал, мне все надоело… Все одно и то же… Те же успехи, те же создания, которые знаешь наизусть прежде, нежели успеешь к ним присмотреться… Здесь же это что-то другое, что-то новое… если я не ошибаюсь, соединение невинности с необыкновенной красотой…
Князь встал с кресла. Глаза его блестели, лицо как будто помолодело. Он казался совершенным юношей.
— Действуй, Степан, действуй, и как можно скорее! — весело сказал он своему камердинеру.
Тот почтительно поклонился и вышел. Оставшись один, князь на минуту задумался.
— Черт возьми! Неужели я промахнусь?
Он раза два прошелся по своему обширному кабинету.
— Право, — продолжал он, — это было бы прелестно. Не только то, что Ирена очаровательна, но мне еще удалось бы воспрепятствовать планам ее матери, какие бы они ни были, и, кроме того, отомстить ей… Это должно быть так! Это так и будет.
XIV БАЛ В ОБЛОНСКОМ
Ввечеру в Облонском собралось множество гостей.
Дом достаточно обширен, чтобы оказать гостеприимство многочисленным московским друзьям князя Сергея Сергеевича.
Громкая фамилия Облонских, все еще громадное состояние, несмотря на то, что значительная часть его была истрачена на женщин, лошадей и карты, служили причиной того, что вся московская аристократия считала своим долгом и даже честью присутствовать на деревенских праздниках, в устройстве которых князь Облонский выказывал столько роскоши и вкуса.
Уже начиная с сумерек к подъезду дома стали вереницей подъезжать изящные экипажи, привозившие целые семьи — мужчин во фраках, дам и девиц в бальных нарядах.
Ровно в девять часов открылся бал в огромной зале, уставленной массой цветов и тропических растений.
Если бал имеет важное значение для всякой женщины, не отказавшейся еще от надежды нравиться, то он настоящее поле сражения для любимой и любящей женщины, для той, которая спрашивает себя в волнении перед зеркалом:
— Останусь ли я в его глазах самой красивой? Не заменит ли меня другая в его сердце, хотя бы на минуту?
Всякая молодая женщина, если только она откровенна и не захочет перед вами пококетничать, скажет, что бал играет важную роль в ее жизни.
Отсюда становится вполне понятным волнение княжны Юлии в ту минуту, когда она, стоя перед зеркалом, бросила на себя последний взгляд и обратилась к своей горничной с последним приказанием.
Мы обязаны добавить, что для нее это был первый большой бал — она должна была первый раз появиться в свете; в первый раз приходилось ей показывать свою обнаженные плечи, в первый раз надевать строго обдуманный наряд, в котором женщина должна быть уже совсем некрасивой, неуклюжей, чтобы показаться неинтересной.
Княжна Юлия была прелестна в своем белом платье, вышитом жемчугом и украшенном простой гирляндой живых роз, начинавшейся на левом плече, пересекавшей весь лиф и терявшейся в складках шелкового, затканного цветами шлейфа.
Несмотря на свои восемнадцать лет, она была уже вполне сформировавшейся женщиной: высокого роста, с изящным очертанием стана и грациозной шеей.
Ее хорошенькая головка, глубокий взгляд, несколько строгий профиль, немного смуглый цвет матовой кожи ручались за успех, о котором она мечтала и который заранее ее волновал, покрывал обыкновенно бледные щеки легким румянцем. Небольшая нитка жемчуга на шее, две большие жемчужины в маленьких ушках, золотой гладкий браслет на левой руке поверх длинной белой перчатки довершали ее наряд.
В ее черных волосах, высоко приподнятых на затылке и низко спускающихся на лоб, вместо всякого украшения была приколота живая роза.
— Вы прелестны, барышня, — заметила горничная, — и одержите сегодня вечером много побед!
Яркий огонек блеснул в темных глазах молодой девушки.
«Много побед» для нее означало: «Я понравлюсь Вите».
Если она вслух еще говорила «Виктор Аркадьевич Бобров», то про себя давно уже звала его полуименем.
— Как ты меня находишь? — быстро обернулась она к своей старшей сестре, вошедшей в эту минуту, чтобы сопровождать ее в бальную залу.
— Ты положительно очаровательна! — отвечала Надежда Сергеевна, целуя её. — Повернись, чтобы я могла осмотреть твой туалет.
Юлия медленно повернулась, не спуская глаз со своей сестры, стараясь прочесть на ее лице впечатление, производимое ее костюмом.
— Все отлично! — решила графиня. — Ты чудесно одета, платье так хорошо сидит на тебе.
— Ты меня успокоила! — воскликнула радостно молодая девушка. — А то, знаешь ли, мне было как-то неловко и ужасно страшно.
— Всегда бывает немножко страшно. Я знаю это по себе. К этому скоро привыкаешь.
— Без тебя я ни за что бы не решилась переступить порог залы, — заметила Юлия.
При этих словах она взглянула на свою сестру с внезапно охватившим ее инстинктивным беспокойством.
«А что, если Надя будет лучше меня?», — мелькнуло в ее голове.
Простота наряда графини Ратицыной ее успокоила.
Ее черное бархатное со вкусом сшитое платье красиво оттеняло белизну ее матовой кожи, но не бросалось в глаза, как и красота молодой женщины, к которой надо было присмотреться, чтобы оценить ее.
— Пойдем! — сказала графиня.
Через несколько минут они уже входили в огромный блестящий зал.
Нервная дрожь пробежала по телу молодой девушки.
Первый взгляд, который она почувствовала на себе и заставивший ее вздрогнуть, принадлежал Боброву, стоявшему у самой двери и с волнением ожидавшему выхода молодой девушки.
Их глаза встретились. Они поклонились друг другу издали. Он не подошел к ней тотчас же, ожидая минуты, когда она останется одна.
Это вскоре и случилось, так как графиня Ратицына исполняла обязанности хозяйки дома на балу у своего вдовствующего отца.
Не успела она отойти от сестры, как Виктор Аркадьевич был около последней.
Он наклонился к ней и прошептал:
— Вы обворожительно хороши!
Она бросила на него наивно-благодарный взгляд своих чудных глаз.
Эти слова настолько придали ей бодрости, что она сразу почувствовала себя царицей бала.
Она больше ничего не боялась.
Ее окружили, и она слышала вокруг себя восторженные восклицания.
При каждом новом комплименте, при каждом доказательстве ее торжества она обращала свои взоры в сторону молодого технолога, как бы молчаливо говоря ему: «Только тебе одному я хочу нравиться. Доволен ли ты мной?»
Он стоял в некотором отдалении и угрюмо, как всякий искренно любящий человек, слушал и досадовал, что другие, посторонние лица громко выражают то же чувство восторга, какое испытывает он сам.
Начались танцы.
Княжна Юлия открыла бал со своим шурином, графом Ратицыным.
Владимир, несмотря на свою обычную апатию, увидев в первый раз сестру своей жены в полном блеске ее юной красоты, не спускал с нее взгляда, смущавшего и заставлявшего краснеть молодую девушку.
Этот взгляд тем более удивлял Юлию, что придавал лицу мужа ее сестры совершенно новое, незнакомое ей выражение.
Его обыкновенно мутные, бесцветные глаза блестели темным огоньком, в них мелькнуло, может быть, совершенно помимо его воли, что-то вроде животной страсти. Это инстинктивно взволновало молодую девушку, и ей вдруг стало стыдно за свою полуобнаженность.
Бобров не танцевал. Прислонясь к косяку одной из дверей залы, он смотрел на танцующих, или, вернее, на Юлию.
Последняя заметила это и тотчас же забыла своего шурина, перестала чувствовать на себе его неприятный взгляд и стала танцевать только для Виктора, как она мысленно говорила себе.
Она не могла, впрочем, не обратить внимания на грустное, совершенно не гармонирующее с бальной обстановкой выражение мужественного, не совсем правильного, но чрезвычайно выразительного лица Виктора Аркадьевича.
Он, казалось, страдал. Она даже заметила, что в глазах его раз или два мелькнул злобный огонек.
«Уж не на меня ли он сердится?» — пронеслось в ее голове.
«Почему он кажется несчастным и раздраженным, когда она была так хороша… и когда он должен чувствовать себя любимым, следовательно, счастливым?» — продолжала думать она.
По окончании вальса Юлия в сильном беспокойстве села около своей сестры.
При первых звуках ритурнеля кадрили Бобров подошел к ней.
Первая кадриль была обещана ему.
Они отправились занять место.
Он не говорил ни слова.
Она начала первая.
— Вы грустны сегодня… Что с вами?
— Мне действительно тяжело! — тихо и взволнованно произнес он.
— Отчего?
— Оттого, что вы так хороши… а я принужден скоро с вами расстаться.
— Расстаться… скоро! — с расстановкой, вопросительным тоном сказала она.
— Завтра я уезжаю… я возвращаюсь в Петербург.
— Но вы должны были пробыть здесь целый месяц, а не прошло еще двух недель…
— Это необходимо!
— Почему?
— Потому что… потому что я люблю вас… — с усилием проговорил он.
— А, вот почему…
— Да… я дал слово… я должен!
— Вы дали слово? Вы должны? — подняла она на него вопросительно-недоумевающий взгляд.
Он был страшно бледен.
— То был прекрасный сон… — продолжал он. — Настало пробуждение. Сон был непродолжителен, но он наполнил всю мою жизнь…
— Я вас не понимаю! — прошептала она. — Кому вы дали слово? Почему вы должны?..
— Этого требует ваша честь и мое собственное достоинство.
— Но что же случилось?
— Я дал слово не говорить…
— Даже мне?
— Вам в особенности.
— Но если я вас буду просить, умолять…
Он, видимо, колебался, но взгляд молодой девушки выражал такую непритворную скорбь, что он не мог отказать ей.
— Графиня Надежда Сергеевна говорила со мной…
— А! И что же она вам сказала?
— Она дала мне понять, что вы дочь князя Облонского и что ваш батюшка никогда не одобрит… мои чувства к вам, как бы ни были честны мои намерения… — глухим голосом сказал он.
— По этой-то причине вы и уезжаете?
— Что бы вы сделали на моем месте?
— Я поступила бы точно так же, как вы! — отвечала она после минутного раздумья, с глазами, полными слез.
— Вот видите! — с необычайным волнением и дрожью в голосе продолжал он. — По окончании бала мы расстанемся. Завтра в это время я уже буду далеко и увезу с собой воспоминание, которое ничто не изгладит. Простите меня, если я позволил себе забыть перед вами свое ничтожество… и забудьте меня…
— А вы меня забудете?
— Никогда! Я вам уже это сказал.
— Зачем же вы хотите, чтобы я вас забыла?
— Потому, что все нас разделяет, а главное, потому, что я не хочу, чтобы вы страдали так же, как я…
Она молчала. Грудь ее высоко поднималась от прерывистого дыхания.
— Еще одна маленькая просьба! — сказал он ей.
— Какая?
— Не танцуйте больше сегодня вечером с графом Ратицыным.
Юлия посмотрела на него с удивлением.
— Почему?
— Он мне друг! — с тоской в голосе продолжал он. — По крайней мере насколько может быть им граф для такого ничтожного смертного, как я. Но… мне не нравился его взгляд, устремленный на вас… в характере вашего шурина есть черты, которые никто не знает…
— Я вас не понимаю! — пробормотала она, припомнив то чувство неловкости, которое испытала она, танцуя с графом, и выражение лица Боброва во время этого танца.
— Вы и не можете меня понять, — отвечал он, — один только горький жизненный опыт дает печальное пре имущество многое угадывать… Я бы хотел ошибаться… но едва ли…
— Мне не нужно понимать… — сказала она. — Вы желаете… и этого довольно…
— Благодарю вас, — прошептал он, пожимая ей руку и ощущая ответное пожатие.
Кадриль окончилась.
Он под руку отвел княжну Юлию на ее место.
XV ПИСЬМО
На другой день, в десять часов утра, когда в доме еще отдыхали после бала, окончившегося очень поздно Виктор Аркадьевич уехал из Облонского в Москву с утренним поездом.
Он оставил на имя князя Сергея Сергеевича письмо в котором извинялся за свой внезапный отъезд, происшедший вследствие полученной будто бы им телеграммы, призывавшей его немедленно в Петербург.
За четверть часа до его отъезда горничная княжны Юлии передала ему запечатанный конверт без адреса заключавший в себе следующее письмо:
«Вы уезжаете, Виктор Аркадьевич, и я вас понимаю. Во время бала, вследствие моего смущения, я ничем не сумела вам сказать, но я не хочу, чтобы вы уехали с мыслью, что я равнодушно отношусь к вашему отъезду.
Не думайте также, что вы один будете страдать и что я ранее забуду вас, нежели вы меня. Мое поведение относительно вас, это мое к вам письмо — все это сочтено было бы моими родными и светом, если бы они это узнали, за преступление, но я полагаюсь на вашу честь, и мне кажется, что я вас не любила бы и вы не любили бы меня, если бы я не могла верить вам, доверяться вам во всем и всегда.
Ваша вчерашняя бледность, ваши с трудом сдерживаемые слезы, дрожь в голосе при прощании со мной — все это меня невыносимо терзало.
Можно ли видеть страдания человека, которого любишь и которым любима, и еще думать об осторожности — у меня не такое сердце.
Если бы я была на вашем месте, я бы попросила слова утешения, доказательства любви, какого-нибудь обещания. Посылаю вам это слово, даю вам это доказательство и обещание, хотя вы их у меня и не просили.
Я не знаю, как мы победим разделяющие нас препятствия и во сколько времени, но я знаю только одно, что никогда ни за кого не выйду замуж, кроме вас. Если нужно ждать — я буду ждать.
Взгляды моего отца, может быть, когда-нибудь и изменятся.
Вы человек достойный и, без сомнения, скоро достигнете такого положения, которое заставит поколебаться гордость князя Облонского.
Я также принадлежу к этому роду, в моих жилах течет его гордая, благородная кровь, неспособная на какую-либо низость. В нашей семье никогда не изменяли своему слову — я же вам дала свое.
Не говорю прощайте, а говорю: верьте, надейтесь, как верит и надеется
Ваша навек
Юлия».Письмо это было, без сомнения, большой неосторожностью со стороны молодой девушки, если бы не было адресовано к Виктору Аркадьевичу Боброву.
К счастью писавшей его, адресат был его достоин.
Только тот, кто никогда не любил, не поймет радости молодого человека при чтении этого письма. Оно превышало все его надежды, печальный час разлуки с любимым существом вдруг стал для него радостным и счастливым.
С первой же встречи с княжной Юлией он полюбил ее, а его натуре дана была способность любить только один раз.
Это было три года тому назад, в то самое время, когда, рискуя своею жизнью, он спас чуть не утонувшего графа Ратицына, которого лошадь сбросила в реку. Погибавший увлек было его за собою в воду. Произошла страшная борьба, полная ужаса, при которой присутствовала княжна Юлия.
С той поры и она поняла, что любит этого человека, хотя увлечение им началось и ранее, но Юлия не отдавала себе настоящего отчета в своем чувстве. Момент, когда Бобров совершил на ее глазах геройский поступок, доказал все.
Вследствие этого эпизода положение Боброва, приглашенного в Облонское в качестве технолога, совершенно изменилось — он сделался другом дома. О нем иначе не говорили в этой семье, как с восторженной похвалой, а потому нет ничего удивительного, если в пылком сердце юной пансионерки выросла любовь, посеянная ранее.
Разлука и время не сокрушили их чувства. Несмотря на то, что они виделись лишь раз в год, оба они, не говоря еще об этом ни слова, уже понимали, что любят друг друга и будут любить вечно.
Это было для них обоих вполне ясно.
Графиня Надежда Сергеевна и не подозревала настоящих отношений молодых людей. При первых же ее словах Бобров сумел выказать столько самолюбия, что она почти успокоилась.
Он, действительно, был крайне самолюбив, самолюбив до щепетильности — общий недостаток людей, вышедших из народа и сознающих свои достоинства и способности. Кроме того, он слишком любил княжну Юлию, чтобы не отступить при мысли причинить ей страдание.
С той минуты, как брак с ней оказался невозможным, не обязан ли он был удалиться? Не должен ли он скорее умереть с горя, нежели поддерживать своим присутствием чувство, могущее сделать несчастной любимую девушку? О борьбе против предрассудков, воли родных, о возможности терпеливо ожидать лучших дней он и не думал.
Благодарные и радостные слезы оросили письмо княжны, и Виктор Аркадьевич с доверчивою улыбкой прошептал:
— Жюли, я твой, твой навсегда.
Станция железной дороги была всего в двух верстах от Облонского, лесом же еще ближе. Бобров избрал последнюю дорогу и пошел пешком, с одной дорожной сумкой через плечо. Его вещи должны были прибыть в Москву на следующий день.
На повороте дороги по аллее, ведущей к опушке леса, он столкнулся с молодой девушкой, которая при виде его испуганно бросилась в сторону и скрылась между деревьями.
Ее головка с выражением волнения и испуга на лице была слишком хороша, чтобы быть незамеченной мужчиной, но для Виктора Аркадьевича существовала в мире только одна женщина — княжна Юлия, а потому он и прошел мимо, не оборачиваясь и не стараясь разглядеть незнакомку.
Эта девушка была Ирена.
Она пришла на то место, где встретила князя Сергея Сергеевича, в надежде на свиданье, которое он ей, как, по крайней мере, ей показалось, назначил.
После долгого и напрасного ожидания сердце ее вдруг сильно забилось при звуке шагов, направлявшихся в ее сторону. Оно так больно сжалось, когда она увидала свою ошибку.
Воображение Ирены после виденного ею странного сна, разговора с матерью и встречи с князем Облонским построило целый роман. Постоянное одиночество, детство, прошедшее в деревенской глуши, замкнутая жизнь пансиона, отсутствие ласк матери, видевшейся с ней чрезвычайно редко, домашнего очага, у которого потребность нежности молодой души находит исход и обращается в обыкновенное явление, — все это развило в Ирене сильную способность любить, сделав ее мечтательной, до крайности впечатлительной и приучило жить воображением.
Роман, созданный молодой девушкой, был очень несложен и доказывал чистоту ее невинной души.
Сообразив все обстоятельства последних двух дней, она пришла к убеждению, что ее мать уже выбрала ей будущего мужа и что этот избранник ее матери — князь Облонский.
Все в ее глазах это доказывало.
«Разве князь не сказал ей, что хорошо знает ее мать? — рассуждала сама с собой молодая фантазерка. — Разве Жюли не рассказывала своему отцу о пансионской подруге? Из этого ясно, что князь говорил о ней с ее матерью.
Если же мать не указала прямо на князя, — продолжала соображать она, — то, вероятно, с целью убедиться, понравится ли она ему, а он ей.
Моя мать, — думала Ирена, — знала его обыкновение ежедневно прогуливаться в той части леса, куда и повела меня в день своего отъезда, чтобы ускорить свиданье.
Наконец, — приводила молодая девушка аргумент, казавшийся ей неотразимым, — во сне, в котором она видела себя в роли невесты, ее жениха называли князем, а сам жених как две капли воды походил на князя Облонского».
В этом поразительном сходстве, созданном ее воображением, она не сомневалась.
Она припоминала смущение матери, когда она рассказывала ей виденный сон.
Этого было совершенно достаточно, чтобы юная пансионерка окончательно убедилась, что князь Облонский ее суженый и к тому же избранник ее матери.
К этому убеждению присоединилось и серьезное увлечение князем со стороны Ирены.
Она полюбила его с первой встречи.
Такая быстрая победа над сердцем человека значительно старшего совсем не так неправдоподобна и не так редко случается, как можно было бы предполагать, особенно при внешних качествах победителя, какими всецело обладал Сергей Сергеевич. Когда Ирена рассталась с князем после первого разговора, она была на седьмом небе.
Она любила и считала себя любимой. Няне Ядвиге она не проронила ни слова о встрече в лесу, решившись не писать об этом и матери.
Он просил об этом — и этого было достаточно. Первое удовольствие любви — это хранить тайну до того дня, когда в порыве страсти явится потребность громко, при всех назвать имя любимого существа. Кроме того, Ирена заранее воображала радостное удивление своей матери, когда она скажет ей: «Я люблю того, кого ты мне выбрала в мужья, и он любит меня».
День после встречи с князем промелькнул для нее, как сон.
«Завтра я снова увижу его!» — думала она.
Анжелика Сигизмундовна, быть может, и обратила бы внимание на странный блеск глаз молодой девушки и ярко вспыхивающий румянец ее щек, но Ядвига заметила только, что Ирена не вспоминает мать и, кажется, не скучает, и была очень довольна.
Всю ночь Ирена не сомкнула глаз, мечтая и строя планы, один другого заманчивее.
Задремала она только под утро, на каких-нибудь полчаса, и тотчас же проснулась при мысли, что князь ее ждет, что ей пора идти на свиданье.
Она быстро оделась и пошла в лес той же, теперь ставшей милой ее сердцу, тропинкой.
Было еще очень рано.
Дойдя до лужайки, на которой она очнулась от обморока и увидала над собой коленопреклоненного Облонского, она стала ждать.
Часы бежали. Косая тень от деревьев мало-помалу становилась перпендикулярнее, гармоническое щебетание птиц, приветствовавших новый теплый солнечный день, сменилось томительным безмолвием полудня.
Князь не пришел.
Никто, кроме прошедшего на станцию железной дороги Виктора Аркадьевича Боброва, не прошел мимо сгоравшей нетерпением ожидания молодой девушки.
Когда она вернулась, наконец, на ферму, то была так бледна, расстроена и утомлена, что Ядвига разбранила ее за продолжительную прогулку и уложила в постель.
Ирену трясло, как в лихорадке.
Расчет князя оказался верен. Почти целую неделю ежедневно приходила она на то же место в лесу и ждала, но ждала напрасно.
Он не приходил.
Когда же, наконец, она услыхала его всем ее существом угаданные шаги, то от волнения должна была прислониться к дереву, чтобы не упасть.
При виде же подошедшего к ней князя Облонского она едва не потеряла сознание и пошатнулась, но он вовремя поддержал ее.
XVI ДОЧЬ ТАЙНЫ
Не подозревая той опасности, которой подвергается ее дочь, Анжелика Сигизмундовна Вацлавская сидела в своем роскошном будуаре и переживала недавнее свидание с дочерью. Мысль, что ее дочь уже взрослая девушка, перенесла Анжель к воспоминаниям ее молодости, и по роковой игре судьбы одним из героев далекого прошлого Вацлавской был тот же князь Облонский, покоривший теперь сердце Ирены.
Картины минувшего неслись перед духовным взором Анжелики Сигизмундовны.
Неуклюжая, некрасивая девочка, с угловатыми манерами, всегда глядевшая исподлобья своими прекрасными, большими, черными, как смоль, глазами, — единственным украшением ее смугло-желтого, худенького личика, с неправильными чертами — такова была тринадцатилетняя Анжелика.
С первого взгляда можно было безошибочно определить, что ее родина — далекий юг, с палящими лучами его жгучего солнца.
Она и была итальянкой.
Ее появление в доме графа Николая Николаевича Ладомирского, известного варшавского богача и сановника, в конце шестидесятых годов, после последней его заграничной поездки, которые он до тех пор предпринимал ежегодно для поправления своего расстроенного служебными трудами здоровья, истолковывалось в обществе на разные лады.
Злые языки таинственно утверждали, что она была дочь самого графа и итальянской певицы, приводившей, лет пятнадцать тому назад, в продолжение двух сезонов в неописуемый восторг варшавских меломанов, блиставшей молодостью и красотой и не устоявшей будто бы против ухаживания графа, тогда еще сравнительно молодого, обаятельно-блестящего гвардейского генерала.
Граф и теперь еще был красивым стариком.
Эта великосветская сплетня находила себе некоторое подтверждение в совпадении времени отъезда певицы и начала ежегодных заграничных путешествий графа, а также появления маленькой итальянки в его доме с известием о смерти знаменитости, вскоре после варшавских гастролей удалившейся со сцены.
Другие варьировали то же самое тем, что сообщали, что этот ребенок был только ловко приписан графу, и даже указывали на одного бывшего представителя золотой варшавской молодежи как на настоящего отца девочки.
Домашние графа — его жена графиня Мария Осиповна, далеко еще не старая женщина, с величественной походкой и с надменно-суровым выражением правильного и до сих пор красивого лица, дочь-невеста Элеонора, или, как ее звали в семье уменьшительно, Лора, красивая, стройная девушка двадцати одного года, светлая шатенка, с холодным, подчас даже злобным взглядом зеленоватых глаз, с надменным, унаследованным от матери выражением правильного, как бы выточенного лица, и сын, молодой гвардеец, только что произведенный в офицеры, темный шатен, с умным, выразительным, дышащим свежестью молодости лицом, с выхоленными небольшими, мягкими, как пух, усиками, — знали о появлении в их семье маленькой иностранки лишь то немногое, что заблагорассудил сказать им глава семейства, всегда державший последнее в достодолжном страхе, а с летами ставший еще деспотичнее.
Он счел за нужное сообщить им, что привезенная девочка — сирота, дочь друга его юности и знаменитой итальянской певицы, потерявшая в один месяц отца и мать, по последней воле которых он и принял над ней опекунство, и что она имеет независимое состояние. Зовут ее Анжеликой Сигизмундовной.
— Я прошу обращаться с ней, как с членом нашей семьи! — заключил граф это свое короткое объяснение.
Просьбы графа были для всех, как он сам любил выражаться, деликатными приказаниями.
Нет сомнения, что и на этот раз его просьба была исполнена, но чисто с формальной стороны. Туманное облако, густо заволакивавшее прошлое появившейся в доме девочки и далеко не рассеянное шаблонным объяснением графа, образовало неизбежную натянутость между таинственной пришелицей и приютившей ее семьей.
Лучше всего это выразилось в отношениях самой Анжелики к членам графского семейства по истечении года жизни в их доме.
Лору она ненавидела, к графине относилась презрительно, к графу равнодушно. Молодая графиня также питала к ней антипатию, может быть, она замечала злобные взгляды маленькой итальянки, когда Лора, не стесняясь ее присутствием, называла ее матери «чернушкой».
Покровительственно-ласковое отношение к ней Марьи Осиповны было ей невыносимо. Она стискивала зубы, когда графиня при муже гладила ее по голове и уговаривала перестать быть такой дикой. Граф не обращал на нее внимания, и она была ему за это благодарна.
С Владимиром она вела себя странно. Он дружелюбно говорил с ней, без покровительственного вида, который ее так раздражал, большею же частью он, как и отец его, не обращал на нее внимания, иногда только, от нечего делать, дразнил и мучил, как маленького зверька. За несколько ласковых слов Владимира Анжелика готова была сделать для него все, что бы он ни пожелал. Он не знал, чья рука приготовляла ему газету, когда он приходил откуда-нибудь домой, и ставила на место ящик с сигарами, сунутый им куда-нибудь в угол; не знал, что пара черных глаз следила за каждым его движением, чтобы подать ему желаемое. Он не обращал внимания на множество мелких услуг, оказываемых ему Анжеликой, а между тем эта девочка привязалась к нему, как собака, и по одному его знаку готова была броситься в огонь и воду.
Он безжалостно дразнил ее иногда, и в эти минуты она забывала свою преданность ему.
Ее маленькие ручки сжимались, глаза сыпали искры, и она, казалось, готова была броситься и растерзать его.
Был еще человек, к которому она относилась хорошо, — это Александр Михайлович Ртищев, товарищ Владимира по полку.
Напрасно дразнил его последний, говоря, что он неравнодушен к интересной дикарке. Ничего подобного не было. Анжелика заинтересовала его как исключительная, оригинальная натура. Он решился узнать ее ближе и добился того, что она довольно охотно говорила с ним. Он открыл в ней недюжинный ум и прекрасные стороны характера, которых никто в ней не видел, так как она, кроме угрюмости, скрытности и даже злобы, ничего не выказывала.
Анжелика стеснялась говорить с графом Владимиром, но с Александром Михайловичем она свободно высказывала свои мысли.
К интересу Ртищева примешалась жалость к бедной девочке, у которой не было ни одного человека, который бы любил ее, но последнего чувства он никогда не выказывал ей; она была слишком горда, чтобы переносить сожаление других. Нередко она, доведенная до страшного раздражения выходками Лоры, не выходила ни к завтраку, ни к обеду. Она сидела в своей комнате с сухими, пылающими глазами, со сжатыми руками, олицетворяя злобу всем своим существом. Между тем, характер у нее был не злой; все эти вспышки гнева происходили от того, что у дочери итальянской певицы было не меньше самолюбия и гордости, чем у графини Ладомирской.
Несмотря на свою молчаливость, она редко оставляла без ответа какую-нибудь колкость Лоры, и поэтому немудрено, что молодая графиня так желала удаления ее из дома.
Странно, что, несмотря ни на какие оскорбления и горести, Анжелика никогда не проронила ни одной слезинки. Ее великолепные глаза могли сверкать гневом и ненавистью, но не могли проливать слез гнева и обиды.
Уже год с лишком прожила Анжелика в доме графа.
В квартире Ладомирских царила какая-то невозмутимая тишина.
Анжелика мимоходом остановилась на пороге гостиной и, увидев Ртищева, сидевшего в кресле, а графа Владимира спящего в другом, на цыпочках подошла к Александру Михайловичу и поздоровалась с ним.
— Где все? Уехали? — отрывистым шепотом спросила она.
— Графиня Лора с Дмитрием в голубой гостиной, — также тихо ответил он ей.
Дмитрий, или Дмитрий Петрович Раковицкий, был товарищ по полку Ртищева и Владимира.
Она задумчиво постояла несколько минут, подняла упавшую газету Владимира и села на стуле у окна.
— Что с вами сегодня опять, Анжелика Сигизмундовна? Вы нездоровы? — спросил Александр Михайлович, всматриваясь в унылое личико девочки.
Ее тонкие брови сдвинулись, губы дрогнули, и она отрицательно покачала головой.
— Так, значит, с той стороны? — кивнул он по направлению к голубой гостиной.
— Да, — гневно прошептала девочка, — она опять мучила меня все утро. О, когда-нибудь я отомщу ей за все! — добавила она с жестом, не предвещавшим ничего хорошего.
В ту минуту Владимир проснулся и, с удивлением взглянув на нахмуренное лицо Анжелики, зевая, сказал:
— Однако я, кажется, крепко заснул! А вы что тут делаете? Анжелика смотрит так, как будто собирается меня проглотить, — пошутил он и, снова зевнув, встал с кресла.
— Который час?
Прежде чем Ртищев успел вынуть свои часы и от ветить ему, Анжелика была уже в столовой и сказала оттуда:
— Три часа!
— Как поздно. Мне пора домой. Дмитрий! — крикнул Александр Михайлович. — Не пора ли ехать?
— К твоим? — отвечал Раковицкий.
Услышав шаги Дмитрия Петровича и Лоры, Анжелика быстро выскользнула из комнаты. Владимир и Александр засмеялись.
— Ну, Лора, — обратился первый к входившей сестре, — доняла, видно, ты Анжелику. Бедняжка не может выносить твоего присутствия. Она только что была здесь и, услыхав, что ты идешь, убежала.
Лора презрительно передернула плечами и, ничего не ответив, грациозным наклонением головы простилась с молодыми людьми.
По уходе их Владимир походил по комнате, посвистал и снова сел в кресло.
— Такая скука эти воскресенья! Куда ты едешь, Лора? — спросил он, услыхав отданное ею приказание подать шляпку.
— Покататься. Не хочешь ли ты со мной?
— Нет.
Графиня вышла. Владимиру стало скучно. Мертвая тишина царствовала в квартире. Тиканье часов в столовой ясно долетало до него.
— Анжелика! — крикнул он. — Где вы? Идите, ради Бога, сюда, — прибавил он входившей девочке, — тут такая тишина, что мне кажется, будто я в могиле.
Она послушно села против него.
Несколько минут они молчали.
Он пристально смотрел на нее.
— У вас прекрасные глаза, Анжелика, — сказал он вдруг.
Легкая краска выступила на лице смуглянки.
Владимиру понравилось ее смущение, его забавляло действие, производимое на нее его комплиментами, и он продолжал:
— Ей-Богу, вы будете недурны собой. Таких рук и ног я ни у кого не видел.
Молния гнева блеснула в черных глазах Анжелики. «Он насмехается надо мной!» — подумала она. Он безжалостно улыбался.
— Мне кажется, что Александр Михайлович неравнодушен к вам. Как вы думаете, Анжелика?
Девочка вскочила.
— Не смейте смеяться надо мной! — крикнула она. — Я урод, ваша сестра еще сегодня сказала мне это.
Владимиру стало жаль бедное существо, которое целый день всячески травили.
— Вы знаете, что вы скоро поступите в пансион, Анжелика? — переменил он разговор. — Рады вы этому?
Это было решение старого графа, принятое им по настоянию жены и дочери, утверждавших, что только в пансионе Анжелика может приобрести более или менее порядочные манеры и что они от влияния на нее в этом смысле отказываются.
Гнев исчез с лица Анжелики от его ласкового тона.
— Мне все равно где быть, — тихо сказала она и вышла из комнаты.
«Странная девочка», — подумал Владимир и, поднявшись, пошел навстречу приехавшей матери.
Анжелика больше не вышла в этот день из своей комнаты, сославшись, по обыкновению, на головную боль.
На другой день был понедельник — jour fixe у Ладомирских.
Рано утром старый граф призвал Анжелику к себе и объявил ей, что ровно через неделю она отправится в пансион.
Девочка вышла от него довольная.
Только вечер субботы и воскресенье будет проводить она у Ладомирских, значит, почти всю неделю она не будет видеть ненавистную Лору.
Она сидела в своей комнате и думала, что сегодня будет последний раз присутствовать на jour fixe Ладомирских.
Этого дня она ждала всегда с нетерпением.
Происходило это не от того, что она любила общество, напротив, она скорее пряталась от людей, но в эти вечера занимались музыкой и пением, а этого было достаточно, чтобы Анжелика забыла все и всех, упиваясь звуками, которые заставляли вспомнить ее милую мать. Она сама прекрасно играла на рояле, но игры ее в доме графа еще никто не слыхал, так как со смерти матери она не дотронулась ни разу до клавишей.
В восемь часов вечера, еще до приезда гостей, Анжелика пробралась в залу и приблизилась к роялю.
Настроение ее сегодня было очень грустное: она всю ночь видела во сне свою мать и проснулась со страшно расшатанными нервами и тяжестью на сердце.
Ей страстно хотелось излить свою тоску в звуках музыки. Ей казалось, что ей будет легче, если она поиграет.
Она оглянулась. В зале никого не было.
«А если услышат и будут смеяться?» — мелькнуло у нее в голове, но искушение было слишком велико.
Она быстро придвинула табурет и начала фантазировать.
Едва первые звуки коснулись ее уха — она забыла всякую осторожность и играла, играла до тех пор, пока так долго сдерживаемые, крупные слезы не хлынули из ее глаз.
Игра оборвалась на полутоне, и, опустив свою маленькую головку, Анжелика простонала:
— Мама! Мама!..
В ту же минуту она быстро вскочила.
Рукоплескания раздались в зале, и она увидала человек десять гостей и всю семью Ладомирских, стоявших у дверей.
Прежде чем она успела опомниться, все очутились около нее.
— Браво, Анжелика, я не знала, что ты так играешь, — сказала Марья Осиповна, — у тебя, мой друг, талант.
— Отлично, отлично, Анжелика Сигизмундовна, вы прекрасно знаете музыку, — заметил Александр Михайлович.
Похвалы сыпались на нее со всех сторон, только Лора молчала и насмешливо улыбалась, смотря на растерявшуюся девочку.
Через минуту Анжелику забыли, и она скрылась из залы.
XVII СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Через неделю для Анжелики началась новая жизнь. Эта жизнь не доставляла ей никаких радостей, но она была, по крайней мере, спокойна, без всяких тревог и волнений.
Окружающая среда в пансионе казалась ей столь же чуждой, как и в доме Ладомирских, но это не было тяжело для нее.
Она привыкла к мысли всегда и везде быть чужой для всех.
Она училась хорошо, но не была прилежной — ей помогали ее замечательные способности.
Когда она по субботам возвращалась домой, то после первого же часа начинала с нетерпением ждать утра понедельника, чтобы снова на неделю покинуть эту семью, которая ничего не доставляла ей, кроме неприятностей.
Даже Владимир вовсе перестал говорить с ней, так как почти не бывал дома, сопровождая свою сестру то на бал, то в театр, а если и приходилось ему оставаться, то он сидел в своем кабинете и читал.
Раз, вернувшись в одну из суббот домой, она застала большое оживление во всем доме.
Ртищев, Раковицкий и приятельница Лоры, Мери Михайловская, сидели в уютной турецкой комнате и о чем-то весело болтали.
Владимир, по своему обыкновению, не принимал большого участия в разговоре и рассматривал полученные журналы. Лоры в комнате не было. Ее резкий, повелительный голос раздавался в зале, где она отдавала какие-то приказания суетившейся прислуге.
Сняв шубку и согрев озябшие руки перед камином, топившимся в столовой, Анжелика вошла в турецкую комнату.
Поздоровавшись со всеми, она села к столу, где лежал альбом, и стала его рассматривать.
Александр Михайлович подошел к ней.
— Вы знаете, Анжелика Сигизмундовна, мы сегодня едем кататься на тройках. Кажется, будет человек тридцать. Как жаль, что вы еще ребенок, а маленьких детей не берут, — шутил он, подсаживаясь к ней.
Она испуганно взглянула на него и отодвинулась.
— Что это вы? — удивился он.
— Я не хочу, чтобы вы сидели со мной, идите к ним, а не то я уйду.
Он с изумлением взглянул на нее.
— Отчего? Что это значит, что вы не желаете со мной говорить? — спросил он.
— Я не хочу, чтобы Владимир Николаевич опять смеялся надо мной и говорил, что…
Анжелика запнулась.
— Что… вы влюблены в меня… — тихо добавила она.
Ртищеву стало смешно и досадно, что этой наивной девочке говорят такие глупости.
— Полноте, Анжелика Сигизмундовна, — сказал он ласково, — можно ли обращать внимание на такие пустяки? Будемте по-старому друзьями, потому что, хотя я в вас и не влюблен, но люблю вас очень.
— Благодарю вас, — просто сказала она, протягивая ему руку.
Александр Михайлович взял ее и крепко пожал.
— Все готово, messieurs, — провозгласила Лора, входя в комнату, — две тройки приехали за нами, остальные у князя Вельского; у него соберутся все. Мери, пойдем одеваться.
Мери Михайловская, маленькая, миловидная шатенка, вскочила и вышла вместе с Лорой.
— По-моему, сегодня несколько холодно для катанья, — сказал Раковицкий, подходя к окну, — стекла совсем замерзли.
— Ничего, покатаемся с гор и согреемся, — возразил Владимир, большой любитель этих удовольствий.
Через минуту молодые люди вышли, и Анжелика осталась одна.
Она подождала, пока все уехали, побродила по комнатам и села к роялю.
Поиграв с полчаса, она ушла готовить уроки в свою комнату.
Это была прехорошенькая, уютная комнатка. Все ее убранство было целиком привезено из Италии.
Мать обожала Анжелику и тратила на нее большие деньги. Розовая шелковая мебель, изящный письменный стол, бархатный пунцовый ковер, покрывающий всю комнату, розовая спускающаяся с потолка лампа и масса мелких, но дорогих безделушек, делали комнату похожей ка игрушку.
Окончив уроки, Анжелика потушила свечку и улеглась спать.
В шесть часов утра она проснулась от беготни по всему дому.
Анжелика вскочила и прислушалась.
Она услыхала быстрые шаги и голос старого графа.
«Кто-то захворал», — подумала она и начала одеваться.
Вернувшись с поездки, Владимир почувствовал озноб, но, не сказав об этом ни слова, лег спать.
Ночью у него сделался сильный жар. Он начал метаться и бредить и разбудил оставшегося у него ночевать Ртищева.
Увидав состояние своего товарища, Александр Михайлович испугался и пошел к Николаю Николаевичу.
Через минуту весь дом был на ногах.
До крайности мнительный и, несмотря на свой эгоизм, горячо любивший сына, старый граф страшно испугался.
Немедленно послали за доктором.
Приехавший врач осмотрел больного и заявил, что у него начинается тиф.
— Будьте спокойны, граф, — утешал он старика, который был в отчаянии. — Опасности большой нет. Тут главное дело — уход, и если у вас нет никого, кто может принять на себя обязанность сиделки, то я пришлю вам очень хорошую.
— У нас никого нет, — с унынием сказала графиня, — ни я, ни дочь моя не привыкли к этому, но, доктор… доверить своего сына совершенно чужой женщине я, право, не знаю, возможно ли это? — докончила она со вздохом.
— Однако не может же ваш сын остаться без сиделки, графиня. За мою я ручаюсь и…
— Марья Осиповна! — послышался робкий детский голос. — Позвольте мне ухаживать за графом.
Доктор живо обернулся и увидал худенькую, с побледневшим личиком девочку, которая серьезно ждала ответа.
— Ты, Анжелика?! — воскликнула графиня. — Разве ты можешь!
— Могу. В продолжение целого года болезни моей матери у нее не было другой сиделки, кроме меня.
Граф и графиня недоверчиво взглянули на девочку.
— Ну что ж, — согласился доктор, — если маленькая барышня действительно знает уход за больными, то пусть и займется этим, а я посмотрю, справится ли она, — добавил он, смотря с сомнением на ее маленькую фигурку.
Яркий луч радости блеснул в глазах Анжелики, она умоляющим, невиданным в ней дотоле взором взглянула на графа и графиню.
После некоторого колебания они согласились.
Решено было оставить ее дома до тех пор, пока Владимир не поправится, и Анжелика приступила к исполнению своих новых обязанностей.
Скоро доктор и все домашние были изумлены ее уменьем и выносливостью. С пунктуальной точностью давала она больному лекарство и переменяла компрессы на его голове. Она ходила по комнате, поправляла его подушки, не причиняя ему ни малейшего беспокойства. Никто не мог уговорить ее отдохнуть: она целыми ночами просиживала у постели больного, так что холодные глаза Лоры выражали удивление при взгляде на нее.
Больной почти не приходил в себя. Страшный жар не покидал его. Он бредил с открытыми глазами, и только прикосновение крошечной ручки Анжелики к его горячему лбу успокаивало его.
Прошло две недели.
Владимир похудел и был страшно слаб. Анжелика выглядела не лучше своего пациента, так что когда Владимиру стало лучше и Александр Михайлович, придя навестить его, увидел Анжелику, то чуть не вскрикнул, — так поразила его происшедшая в ней перемена.
Казалось, все лицо ее состояло из одних глаз, так страшно осунулось и без того худенькое личико.
— Побойтесь Бога, Анжелика Сигизмундовна! — воскликнул он, когда она вышла к нему в гостиную. — Вы сами захвораете, ведь на вас лица нет!
— Ничего, Александр Михайлович, — тихо возразила она, — теперь Владимиру Николаевичу гораздо лучше, и я вхожу к нему в комнату только тогда, когда он спит.
— Почему только тогда, когда он спит? — удивился Ртищев.
— Графиня Лора говорит, что ему неприятно будет видеть меня у себя в комнате, — с горечью сказала она.
— Неприятно? Как ей не стыдно говорить это? — вспылил Александр Михайлович. — Кто, как не вы, спас его? Сам доктор сказал мне вчера об этом. Никогда, никогда я не поверю, чтобы Владимиру могло быть неприятно ваше присутствие.
— Не говорите этого, Александр Михайлович, это очень возможно, может быть, на этот раз графиня Лора права.
В комнату вошел доктор.
— Ну, что, моя маленькая чародейка, — весело сказал он, пожимая руку Анжелики, — теперь, я думаю, вас можно освободить и полечить немного? Ложитесь-ка отдохнуть, и если будете беречь себя, то через неделю опять будете молодцом.
Анжелика улыбнулась и сказала, что чувствует себя хорошо, но тем не менее послушалась и ушла к себе.
Через неделю она, действительно, поправилась настолько, что снова начала свои занятия. Владимира она не видала две недели и потому, вернувшись в субботу домой, с нетерпением ожидала увидеть его здоровым.
Пройдя в свою любимую голубую гостиную, она села у окна, прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь? Через минуту вошла Марья Осиповна и, поцеловав ее, сказала, что они сегодня едут на вечер, но что Владимир останется, так как еще очень слаб.
Анжелика осталась сидеть у окна.
Она слышала, как все уехали, и хотела уже идти в свою комнату, как услышала тихие, неровные шаги, и на пороге показался граф Владимир.
Он похудел и похорошел после болезни.
Увидев Анжелику, он подошел к ней.
— Здравствуйте, Анжелика, — сказал он, садясь против нее и беря ее руку. — Я, право, не знаю, как мне благодарить вас за все то, что вы для меня сделали. Я слышал, как вы были добры ко мне; поверьте, я никогда, никогда не забуду этого, — горячо добавил он, не выпуская ее руки.
— Что вы… Владимир Николаевич… — прошептала растерявшаяся девочка, — это совсем не стоит такой благодарности.
— Как не стоит? Вы спасли меня от смерти и говорите, что это ничего! Вот я, действительно, не стоил, чтобы вы заботились обо мне; я дразнил и мучил вас. Простите ли вы меня, Анжелика? — спросил он и, прежде чем она успела опомниться, прижал ее маленькую ручку к своим губам.
Эта неожиданная ласка чуть не свела ее с ума. Она вспыхнула, потом побледнела и, залившись горькими слезами, вскочила и выбежала из комнаты. Он пошел за ней и застал ее в турецкой комнате.
— Анжелика, что с вами? — испуганно спрашивал он, нагибаясь к лежавшей в кресле девочке. — Я испугал вас? Полноте, голубчик, успокойтесь.
Она встала, хотела выйти, но зашаталась и чуть не упала, если бы он не подхватил ее.
— Анжелика… — растерянно прошептал он, смотря на ее побледневшее, с закрытыми глазами лицо.
Она открыла глаза и взглянула на него.
— Что вы… — начал он и внезапно остановился, любуясь чудным блеском ее глаз и непонятным светом, озарившим ее лицо под влиянием зародившегося нового чувства.
XVIII НА СЦЕНУ
Прошло еще около года. Был холодный сентябрьский день. В доме Ладомирских был праздник — рождение их дочери, которой исполнилось 23 года.
С двух часов начали съезжаться поздравители. Лора, в зеленом шелковом платье, цвет которого очень шел к ее глазам и волосам, сидела в гостиной и принимала гостей.
Анжелика была в пансионе.
В числе поздравляющих был и Александр Ртищев. Он сидел у окна и вполголоса разговаривал с Владимиром.
К ним подошел Раковицкий.
— Послушай, Володя, неужели правда, что ты уезжаешь за границу? — спросил он.
— Да, уезжаю. Доктор уверил отца, что мне это после болезни необходимо. Кроме того, отец давно хотел, чтобы я поехал за границу и заехал в Париж, к моему двоюродному дяде, которого он любит как родного брата. Теперь случай представился, я выхожу в отставку и еду.
— Надолго?
— На два года.
— Как хороша твоя сестра, Володя, — продолжал Дмитрий Петрович. — Посмотри на князя Вельского, он совсем теряет голову.
Владимир с усмешкой посмотрел на сестру и на ее обожателя.
Около Лоры сидел высокий, стройный брюнет, с замечательно красивой, но несколько самоуверенной и дерзкой физиономией.
— Не нравится он мне что-то, — сказал Владимир, — кажется, порядочный фатишка.
— Как здоровье Анжелики Сигизмундовны? — спросил Ртищев.
— Ничего, кажется, здорова. Только не знаю, что с ней сделалось за последнее время.
— А что?
— Она положительно избегает меня. Странное создание, ее никто никогда не поймет, — пожал плечами Владимир.
— Напротив, я стал ее отлично понимать последнее время, — сказал Александр Михайлович, — только я теперь ее давно не видал, так что не мог заметить перемены. Что у нас сегодня? Пятница. Завтра я ее увижу и скажу тебе, что с ней.
— Ого, Саша, — засмеялся Раковицкий, — ты, кажется, хорошо изучил натуру маленькой смуглянки. Ты можешь теперь перевоспитать ее по-своему и приготовить себе сносную жену.
— Что за глупости, Дмитрий; я для нее буду всегда другом и ничем другим.
На другой день, после обеда, Ртищев зашел к Ладомирским и нашел Анжелику сидящей перед роялем. Она не играла, а сидела неподвижно, устремив глаза в одну точку.
Увидев Ртищева, она встала и пошла к нему навстречу.
— О чем вы так сосредоточенно думали? — шутливо спросил он.
— О чем? О своем голосе. Вы знаете, что наш учитель пения был у Николая Николаевича и уговорил его отдать меня в консерваторию. Вчера я была там, и профессор, слушавший меня, сказал, что у меня редкий голос, так что у меня есть надежда петь когда-нибудь, как моя мать…
Голос ее прервался, но через минуту она продолжала:
— Тогда я поступлю на сцену.
— На сцену, Анжелика! — воскликнула незаметно вошедшая в комнату Лора. — Кто же тебе это позволит? По крайней мере, до твоего совершеннолетия ты можешь быть уверена, что этого не будет.
— Нет, это будет! Никто не может запретить мне! — дерзко крикнула Анжелика.
— Ты желаешь, — ядовито засмеялась Лора, — чтобы тебя осыпали цветами и рукоплесканиями и прокричали бы о твоем имени в газетах. Эти дурные инстинкты ты наследовала от твоей матери, которая…
— Ни слова о моей матери! — еще сильнее крикнула Анжелика. — Или я…
Она остановилась.
Александр Михайлович с испугом глядел на нее. Лицо ее пылало, глаза метали молнии.
— Или ты съешь меня, Анжелика? — презрительно сказала Лора и вышла из комнаты.
— Я никогда не забуду ее слов о моей матери! — прошептала итальянка.
— Полноте, успокойтесь, — заметил Ртищев, — будем говорить о другом. Знаете вы новость? Владимир уезжает на два года за границу.
Смертельная бледность сменила яркий румянец гнева, пылавший на ее лице.
— Когда? — шепнула она, низко опустив голову на руки и сама опускаясь на стул.
— На будущей неделе. Но что это с вами опять? — тревожно спросил он.
— Ничего; я не совсем здорова, — с трудом выговорила она побелевшими губами. — Я пойду к себе.
Она шатаясь вышла из комнаты, оставив Александра Михайловича в большом недоумении.
Время быстро летело, наступил день отъезда графа Владимира. Хотя это было в четверг, Анжелика была дома, так как всю неделю ее била лихорадка и она чувствовала страшную ломоту во всем теле.
Старый граф один ехал провожать сына на вокзал, остальные прощались с ним дома.
Владимир был слегка взволнован.
Он крепко обнял мать и сестру и оглядел комнату, желая проститься с Анжеликой, но ее здесь не было.
— Где Анжелика? — спросил он.
— Вероятно, у себя, — сказала Марья Осиповна. — Оставь ее, ты опоздаешь.
Но Владимир сам побежал к ней. Постучавшись сперва, но не получив ответа, он вошел.
Анжелика лежала на кровати. Он подошел к ней.
— Вы нездоровы, Анжелика, не вставайте, — предупредил он, заметя ее движение, — я пришел только проститься с вами.
Он взял ее за руку и испугался, увидев безграничное отчаяние в ее выразительных глазах.
Она бессознательно подняла руки и обхватила его за шею.
Владимир быстро наклонился и поцеловал ее холодные бледные губы, весь вспыхнул, выпрямился и выбежал вон из комнаты.
Анжелика вскочила, хотела броситься за ним, но зашаталась и без чувств упала на ковер.
Ее подняла вошедшая прислуга и уложила в постель.
У ней открылась нервная горячка.
Два месяца провела она между жизнью и смертью, а потом, для поправления надломленного серьезной болезнью здоровья, уехала с семейством ее профессора пения в Италию.
Там пробыла она полгода, вернулась ненадолго в Варшаву и вместе с Ладомирскими отправилась в их имение около этого города.
Старый граф быстро дряхлел и, удалившись за год перед этим от дел, не покидал деревни.
Когда зимой графиня с дочерью уехали в Варшаву, граф с Анжеликой остался в имении.
После своей болезни она страшно выросла и хорошела, как говорится, не по дням, а по часам.
XIX КРАСАВИЦА
Прошло два года со дня отъезда графа Владимира. В знакомой нам голубой гостиной сидели Ртищев и Раковицкий.
Ладомирские вчера только вернулись из деревни, и молодые люди пришли повидаться с ними.
В ожидании появления хозяев они тихо разговаривали.
— Как мне хочется видеть Анжелику! — воскликнул Александр Михайлович. — Более двух лет прошло с тех пор, как я видел ее в последний раз.
— Да, она совсем покинула Варшаву и все время жила в деревне или в Риме, — сказал Дмитрий Петрович.
— Она, кажется, брала там уроки пения?
— Да!
В комнату вошла Марья Осиповна.
Молодые люди встали.
После обычных приветствий и вопросов она снова усадила их и между ними завязался оживленный разговор, как это всегда бывает между хорошими знакомыми после долгой разлуки.
Раковицкий осведомился о Лоре.
— Она сегодня у знакомых на обеде, — ответила графиня. — Лора очень веселится эту зиму — почти ни одного вечера не бывает дома.
— Анжелика Сигизмундовна, вероятно, тоже много выезжает?
— О нет. Она осталась такой же дикаркой. Ее не уговоришь выезжать. Она гуляет с моим мужем; читает ему, так что граф очень привязался к ней. Характер ее стал гораздо лучше, но странностей осталось еще много. Все свободное время она занимается музыкой и, несмотря на все наши просьбы, хочет поступить на сцену.
— Вероятно, она очень хорошо поет? — спросил Ртищев.
— Очень. Она наследовала талант и красоту своей матери. Вы недоверчиво смотрите на меня, Дмитрий Петрович, — засмеялась графиня, — но уверяю вас: Анжелика не только что красива, — она прекрасна, этого нельзя у нее отнять. Впрочем, вы сами увидите: она должна скоро вернуться с прогулки. Графиня взглянула на часы.
— A propos[4], — начала она снова, — не писал ли вам Владимир? Он, кажется, хочет явиться как снег на голову, а потому и не пишет ничего, когда думает приехать.
— Да и мы в положительном на этот счет неведении, — сказал Александр Михайлович. — Вероятно, он вернется не раньше как через две недели. Когда назначена его свадьба?
— На будущую осень. Траур по ее отцу раньше не кончится. Она приедет вместе с ним и будет жить у нас, так как осталась круглой сиротой.
— Вот и Анжелика, — добавила Марья Осиповна, — я слышу ее голос.
Молодые люди с нетерпением глядели на дверь.
Через минуту она отворилась и на пороге появилась стройная молодая девушка.
Неужели это Анжелика — эта маленькая, некрасивая девочка?
Ничто не напоминало прежней чернушки в этом грациозном, прелестном создании.
Среднего роста, с маленькой головкой, покрытой роскошными черными волосами, с классически правильными чертами лица, Анжелика производила чарующее впечатление. Все переменилось в ней: желтый цвет кожи исчез, хотя лицо было матовое, смуглое, с нежным, то вспыхивающим, то пропадающим румянцем; даже выражение чудных глаз стало другое: неуверенность и упрямство заменились твердым взглядом, в котором светились энергия и уверенность в себе.
Гранатовое кашемировое платье очень шло к ее, с южным оттенком, лицу.
Каждое ее движение было полно бессознательной грации и изящества. Она была неотразима, чудно хороша, и это сказали себе оба товарища, с немым восторгом смотря на нее.
Анжелика прочла в их глазах произведенное ею впечатление, и легкая улыбка скользнула по ее красным, полным губкам, открыв два ряда жемчужных зубов. Она подошла к ним и протянула свои маленькие, изящные руки.
— Как давно, давно мы не видались, — мягким грудным голосом сказала она, — мне кажется, что десять лет прошло с тех пор.
Один за другим пожимая ее руку и не спуская с нее глаз, Ртищев и Раковицкий засыпали ее вопросами о прошедших двух годах.
Марья Осиповна, извинившись, удалилась в свою комнату.
— Я не верю, чтобы вы жили в Риме, — говорил Дмитрий Петрович, — мне кажется, что вы были в какой-то волшебной стране, которая превратила вас в фею.
Анжелика снова улыбнулась.
— Не говорите мне комплиментов, — сказала она, — я не люблю их, да и не привыкла к ним, так как нигде не бываю.
— Это не комплимент, Анжелика Сигизмундовна, это сущая правда, вы…
— Оставим мою наружность, — уже серьезно сказала она, — будем говорить о другом. — Где вы были все время, Александр Михайлович? Я слышала, что вас не было в Варшаве.
— Я был… на Кавказе, иначе бы непременно побывал у вас в Риме. Скажите, как вы проводите время? Веселитесь?
— Веселюсь, но иначе, чем, может быть, вы думаете. Я не бываю ни на одном вечере, которые посещает Лора.
— Неужели вы до сих пор не любите общества?
— О нет, этого я не могу сказать. Меня просто не занимают танцы, хотя, по желанию Марьи Осиповны, я довольно долго брала уроки, чтобы научиться танцевать; но мне кажется, что труды моего учителя пропали даром, — с улыбкой добавила она.
Анжелика говорила просто и непринужденно — прежней застенчивости не осталось и следа.
— Но что же вы делаете все время? — спросил заинтересованный Раковицкий. — Не все же занимаетесь музыкой?
— Конечно, нет, хотя большую часть времени провожу за роялем. Я много читаю одна и с Николаем Николаевичем. Это чтение принесло мне более пользы, чем мои прежние занятия.
— Извините за нескромный вопрос: вы все в таких же отношениях с Элеонорой Николаевной, как и два года тому назад? — спросил Александр Михайлович.
Анжелика засмеялась.
— Нельзя сказать, чтобы мы были с ней дружны, — сказала она, — но по крайней мере не ссоримся. Лора и я одинаково избегаем этого. Предметом наших настоящих столкновений служит мое желание поступить на сцену.
— Ну, это едва ли будет! — воскликнул Дмитрий Петрович. — Прежде чем вы соберетесь, Анжелика Сигизмундовна, вы будете замужем.
Тень прошла по ее лицу.
— Я думаю, что мое замужество зависит только от меня, — несколько резко ответила она, — а у меня нет ни малейшей охоты выходить замуж.
— Полноте, Анжелика Сигизмундовна, я хотел только сказать, что… что если бы вы захотели, то это было бы так, — сконфуженно оправдывался Раковицкий.
Веселое выражение исчезло с лица Анжелики. Она больше не улыбалась и заговорила о варшавских знакомых.
Говорил с ней почти один Раковицкий.
Александр Михайлович больше молчал и наблюдал удивительную перемену, происшедшую в его бывшей приятельнице.
«Захочет ли она, чтобы все было по-прежнему? — мелькало у него в голове. — Конечно, нет, ей теперь не нужно ни утешений, ни советов. Она сама за себя постоит».
— Спойте что-нибудь, Анжелика Сигизмундовна, — вдруг сказал он.
— Сейчас не могу. Когда нет охоты, я пою нехорошо, «безжизненно», как говорит мой профессор.
— Барышня, их сиятельство просит вас на минуту, — проговорила горничная, появляясь на пороге.
— Извините, я сейчас вернусь, — и с этими словами Анжелика вышла.
Несколько минут молодые люди молчали. Первый отозвался Раковицкий.
— Видел ли ты что-нибудь подобное, Саша?
— Действительно, она бесподобна; я никогда не встречал такой девушки.
— А я никогда не думал, что из нее выйдет такая прелесть, — продолжал Дмитрий Петрович. — Помнишь, мы спорили и ты говорил, что она будет хорошенькая?
— Мы оба ошиблись, потому что она не хорошенькая, а красавица.
Он замолчал, потому что Анжелика вернулась. Они поболтали еще с полчаса и ушли, обещав прийти в воскресенье.
Проводив их, молодая девушка ушла к себе и села писать письмо к подруге. Вот что написала она:
«Дорогая моя Лиза!
Уже два дня, как я вернулась в Варшаву и с нетерпением жду свиданья с тобой. Я сама с удовольствием бы поехала к тебе, но ты знаешь, что графиня без меня не справится с прислугой, которая теперь занята уборкой комнат, да и граф чувствует себя нехорошо и беспрестанно требует меня к себе. А мне очень нужно видеть тебя, Лизочка. Ты одна не станешь спрашивать меня о причинах, а прямо исполнишь мою просьбу. Жду тебя завтра или послезавтра.
Искренно любящая тебя
Анжелика Вацлавская».Запечатав письмо и надписав адрес, Анжелика облокотилась на стол и глубоко задумалась.
Лиза Горлова, лучшая и единственная подруга Анжелики, познакомилась с ней и подружилась во время ее короткого пребывания в пансионе и по выходе часто виделась с ней в деревне, так как имения Горловых и Ладомирских находились рядом.
Тайн между подругами не было, но Анжелика посвящала Лизу в подробности своей жизни, без вопросов со стороны последней, исподволь.
Лиза изучила характер своего друга и была с ней сдержанна, что особенно в ней и ценила Анжелика, не терпевшая людей назойливых.
С достопамятного вечера отъезда Владимира во внутренней жизни Анжелики произошла большая перемена.
Она полюбила его, несмотря на свои пятнадцать лет, и, замкнувшись в себе, ушла от всего окружающего, живя ожиданием свидания с ним. Она с жадностью прислушивалась ко всему, что говорили о его жизни за границей по получаемым от него редким письмам.
Так продолжалось почти два года, когда вдруг пришло известие о помолвке его с троюродной сестрой.
Когда Анжелика оправилась от этого страшно поразившего ее бедное сердце удара, она решила забыть его и, сделавшись равнодушной ко всему, кроме пения и музыки, посвятила себя всецело искусству.
Встречая во всех сильное сопротивление, она медлила поступить на сцену, но когда графиня объявила ей, что не позже как через две недели Владимир будет в Варшаве, Анжелика, не колеблясь более, настояла на своем.
Позволение ей было дано.
Но дебют ее не мог быть ранее как через два месяца, а до тех пор ей придется увидеться с Владимиром.
Конечно, она, рано или поздно, не избегнет этого, но, сделавшись певицей, она как бы обрывала со всем прошлым и, занятая другими интересами, имела бы больше силы бороться с собой.
Поэтому Анжелика написала своей подруге, чтобы попросить позволения поехать вместе с ее матерью в имение, так как госпожа Горлова собиралась туда. Несмотря на свою дружбу с Лизой, Анжелика никогда до тех пор не говорила ей про свое чувство к графу Владимиру. Она и теперь хотела объяснить свою просьбу просто желанием уехать в деревню.
Сидя, окончив письмо, в своей комнате, молодая девушка с ужасом думала о свидании с любимым человеком.
Она поклялась себе, что никогда ни одним словом, ни взглядом не выдаст своей тайны.
В комнату вошла Лора.
Она почти не переменилась в эти два года, ее красивое лицо было так же холодно и спокойно, как и прежде. В сравнении с Анжеликой она была почти некрасива и в высшей степени бесцветна.
— Анжелика, — сказала она, — папа просит тебя поехать с ним кататься.
— У меня болит голова, и я с удовольствием осталась бы дома, — отвечала молодая девушка, сжимая обеими руками свой горячий лоб.
— Maman и я не можем ехать, — уже резко проговорила Лора, — а доктор велел папе быть на свежем воздухе как можно дольше.
— Почему вы не можете ехать? — спокойно спросила Анжелика.
— Потому что князь Облонский хотел быть сегодня, и я с maman должна быть дома, — надменно ответила Лора.
Ироническая улыбка показалась на губах Анжелики. Во-первых, не заговори Лора с ней таким тоном, она согласилась бы сопровождать графа, а во-вторых, она поняла намеренное желание Лоры удалить ее. Из разговоров графини с дочерью она узнала, что князь Облонский ухаживает за последней, и теперь Лора, видимо, боится ее соперничества.
— Я не поеду, — холодно сказала Анжелика, — мне это очень жаль, но, повторяю, я нездорова.
Лора гневно взглянула на нее, хотела что-то сказать, но удержалась и вышла, с сердцем хлопнув дверью.
Анжелика вскочила.
Ей захотелось позлить Лору, забыв свои невеселые думы, занявшись другим. Она взглянула на часы. Через два часа должен быть обед. Без сомнения, князь останется обедать. Анжелика подошла к шкафу и выбрала хорошенькое платье золотистого цвета, в котором она была неотразима.
Она проворно оделась, связала свои роскошные волосы в большой узел, проткнув его золотой стрелой. Надев бронзовые туфли на свои крошечные ножки в ажурных чулках и застегнув пуговки платья, она подошла к зеркалу и, взглянув на себя, улыбнулась.
Анжелика не тщеславилась своей красотой, но и не отрицала ее.
В ней было много бессознательного кокетства, которое привлекает даже самых ярых противников кокеток.
Окончив свой туалет, она спокойно подождала пяти часов и пошла в столовую, сияя красотой и нарядом.
Входя, она увидела очень красивого брюнета, который разговаривал с Лорой, стоя у аквариума.
Он обернулся и оборвал разговор на полуслове и с таким неподдельным восхищением смотрел на Анжелику, что Лора закусила губы и небрежно представила их друг другу.
Пока все садились за стол, она вполголоса шепнула итальянке:
— Как ты могла с головной болью так заниматься туалетом, и, наконец, зачем ты нарядилась?
— Голова моя прошла, и так как я слышала, что будут гости, то и переоделась в другое платье, — спокойно ответила ей Анжелика.
XX ЕГО НЕВЕСТА
Прошло два дня.
Получив коротенькую записку Лизы, что легкая простуда задержит ее дня два дома, что при первой возможности она приедет к ней, Анжелика как-то успокоилась и с довольным лицом вышла к приехавшим Ртищеву и Раковицкому.
После обеда все перешли в зал.
Мери Михайловская, приехавшая к обеду, села за рояль аккомпанировать Анжелике.
Ртищев стал против рояля.
Анжелика подошла к нему и просила не смотреть на нее.
Он поместился у окна.
Молодая девушка запела.
Ее чудный голос проникал в самое сердце Александра Михайловича. Он замер и, подавшись даже несколько вперед, впился глазами в очаровательное лицо артистки. Она пела с полуопущенными ресницами, как бы уйдя в себя и прислушиваясь к звукам, выходившим из ее груди.
Когда она кончила, то подошла к Ртищеву и спросила, улыбаясь:
— Хорошо?
Молодой человек поднял на нее глаза.
— Анжелика Сигизмундовна, что за вопрос! — с таким неподдельным восторгом прошептал он, что Анжелика засмеялась и отошла от него.
Рассеянно слушая похвалы Раковицкого, она думала, понравится ли ее пение Владимиру так же, как и Ртищеву?
Вся молодежь перешла в гостиную.
Анжелика и Александр Михайлович сели вместе и начали разговаривать вполголоса, вспоминая прошлое.
Лора взяла работу, а Мери нетерпеливо воскликнула:
— Когда это кончится противная осень и наступит зима!
Раковицкий засмеялся.
— Зачем вам зиму? — спросил он.
— Зачем? Вот мило! А балы, театры, тройки, катанье с гор, — пересчитывала Мери, — когда же это, как не зимой?
— Да, правда, что скучно, — равнодушно заметила Лора.
— Вот Владимир с невестой приедет, сейчас веселее станет. Хотя вид влюбленной парочки скоро надоест.
— Не правда ли, Анжелика Сигизмундовна? — смеясь, спросил Дмитрий Петрович.
— Не знаю. Не видела, — отрывисто отвечала молодая девушка, чувствуя, как больно сжимается ее сердце.
— Ну, так увидите. Мне это очень интересно, так как я никогда не видал Владимира влюбленным.
— Что за разговор, Дмитрий Петрович? — с недовольной гримасой заметила Лора. — У вас на уме, я вижу, одна любовь, вы только и твердите про то: кто в кого влюблен.
— Что же делать, графиня, — с комическим вздохом сказал молодой человек, — вы знаете, я сам влюблен, и знаете в…
— Перестаньте, — уже строго перебила Лора, — что за глупости, лучше почитайте папе.
Раковицкий повиновался и взял книгу.
— Вы стали загадкой, — говорил, между тем, Анжелике Ртищев, — прежде я понимал вас, а теперь отказываюсь. То вы улыбаетесь, то точно какое-то облако набежит на вас. Что с вами? Вы совершенно здоровы?
— Конечно, здорова, и ничего во мне нет особенного, — принужденно улыбаясь, ответила молодая девушка, — вам это только кажется.
— Вы влюблены, Анжелика Сигизмундовна? — шутя спросил он и удивился краске, покрывшей ее лицо, и резкому ответу.
— Нет, я не влюблена. Вы заразились темой разговора Дмитрия Петровича, — уже насмешливо добавила она.
Ртищев пристально смотрел на нее.
«Не может быть», — думал он.
Анжелика молчала, нервно перебирая кружева платья.
Она сердилась, что своим лицом чуть не выдала себя.
«Хороша у меня сила воли, — с горечью подумала она. — Нет, я должна уметь владеть собой, и я добьюсь этого».
Она подняла голову.
— Полноте, Александр Михайлович, так подозрительно смотреть на меня. Я слишком занята, чтобы иметь время увлекаться.
— Но не настолько, чтобы не увлекать других! — воскликнул Раковицкий, окончивший чтение, поймав ее последние слова. — Вчера я видел Облонского; бедняга совсем потерял голову; это, говорит, не девушка, а картинка!
— Вы смеетесь, Дмитрий Петрович, — сказала Анжелика, бросив моментальный взгляд на Лору. — Не думаю, чтобы князь был так щедр на комплименты. Он, кажется, очень серьезный человек.
— Что вовсе не мешает ему отдать дань вашей красоте, — продолжал молодой человек, — вы думаете, что…
— Я думаю, что вы сегодня несносны со своими комплиментами, — нетерпеливо перебила Лора.
— Не буду, не буду больше, графиня, я не виноват, что вы в дурном расположении духа и запрещаете любоваться вашей и… Ах, забыл, простите… — смеялся Раковицкий.
У Лоры выступили красные пятна на лице, а Анжелика улыбалась на гримасы, которые строил Дмитрий Петрович, чтобы казаться серьезным.
На другой день, около четырех часов дня, Анжелика, читавшая в гостиной, услыхала звонок в передней, затем громкое восклицание Марьи Осиповны, шаги Лоры и, наконец, милый, дорогой голос, целых два года не слышанный ею.
Молодая девушка вскочила и вся задрожала, кровь прилила к ее сердцу, и, смертельно побледнев, она прислонилась к стене и широко раскрытыми глазами смотрела на дверь.
Прошло пять минут.
Анжелика слышала голоса уже в столовой. Она хотела бежать, но не могла, ноги ее словно приросли к месту.
Но, чу! Его шаги послышались у самых дверей.
Сердце ее страшно застучало, и яркий румянец выступил на лице.
Она была прелестна, несмотря на то, что готова была лишиться чувств.
На пороге гостиной появился граф Владимир.
Увидев ее, он остановился.
Анжелика стояла неподвижно; она видела, что он не узнал ее.
Несколько секунд длилось молчание. Он всматривался в незнакомые ему прекрасные черты и как бы спрашивал себя: «Откуда попала сюда эта красавица?»
Наконец что-то знакомое мелькнуло в чудных глазах молодой девушки. Он сделал шаг вперед и нерешительно проговорил:
— Анжелика…
Она вздрогнула, но, мгновенно овладев собою, подошла к нему.
— Вы не узнали меня, Владимир Николаевич? — тихо сказала она, протягивая ему руку.
Он с трудом пришел в себя.
— Боже мой, как вы переменились, Анжелика Сигизмундовна, — добавил он, чувствуя, что не может называть ее просто по имени.
— Володя, где же ты? — послышался голос Марьи Осиповны, и она вошла в комнату в сопровождении дочери.
— Иди пить чай. Елен ждет тебя… Не правда ли, Анжелику трудно узнать? — продолжала она, заметив присутствие молодой девушки.
— Да. Пойдемте! — деланно равнодушным тоном ответил он и первый вышел из комнаты.
Совершенно оправившись от охватившего ее волнения, Анжелика, почти спокойная, твердой походкой последовала за ним в столовую вместе со старой графиней и Лорой. Там она увидала небольшого роста блондинку с пепельными волосами, капризно вздернутым носиком и большими светло-карими глазами.
В темно-синем платье, закутанная в синий синелевый шарф, она полулежала в кресле у стола, нетерпеливо постукивая каблучком об пол.
Увидав Анжелику, она широко открыла глаза и по-детски открыла рот от удивления.
Марья Осиповна представила их.
— Елена Александровна Подольская.
«Его невеста!» — мелькнуло в голове Анжелики, и, сев за стол, она незаметно стала следить за каждым ее движением и словом.
Елене Подольской было не больше семнадцати лет, так что она была почти ровесницей Анжелики.
— Вы мне позволите, chère maman, — обратилась она к Марье Осиповне, взяв из ее рук чашку чаю, — пойти после чаю отдохнуть? Этот несносный мальчик, — кивнула она в сторону молодого графа, — не хотел нигде останавливаться, и мы без отдыха ехали от самого Парижа.
— Конечно, конечно, это даже необходимо для тебя. Ты, кажется, не совсем здорова, Елен? — участливо спросила графиня, смотря на бледное лицо молодой девушки.
— Лена всегда бледна, — сказал Владимир, — а теперь тем более. Бессонные ночи в вагоне хоть кого утомят. Однако же я не вижу отца. Где он сегодня?
— Он у Вельских. К обеду, вероятно, вернется. Вот обрадуется, когда тебя увидит, — говорила Марья Осиповна.
— Володя, налей мне сливок! У, какой неловкий! — воскликнула Елен, когда Владимир, наливая, пролил сливки на блюдечко. — Знаете, maman, он чуть было не забыл в вагоне мой саквояж, я всю дорогу, до самого дома, бранила его.
— Ему, кажется, попадает от вас? — со своей холодной улыбкой сказала Лора.
— О, я скоро исправлю его, он непростительно рассеян.
Владимир рассмеялся.
— Ты страшно требовательна.
— Ах, ты, негодный, — полушутя, полусерьезно перебила его Елен, — как ты смеешь на меня жаловаться? Проси сейчас прощенья, поцелуй руку и проводи меня в мою комнату.
Владимир, продолжая смеяться, поцеловал руку невесты и спокойно сказал:
— Сейчас кончу чай и тогда провожу тебя.
Анжелика встала и, поблагодарив Марью Осиповну, вышла.
— Какая красавица! — услышала она за собой восклицание Елен.
Вбежав в свою комнату, молодая девушка с отчаянием схватилась за голову и прошептала:
— Не успела уехать, а теперь поздно, поздно.
Под впечатлением свиданья ей показалось, что расстаться она с ним не сможет. Немного успокоившись, она рассердилась на свое малодушие и, призвав на помощь всю свою гордость, решила твердо ждать два месяца до своего дебюта и переносить присутствие Владимира и его невесты.
Невесты! Как ужасно для нее звучало это слово! Но любит ли он ее? Анжелика жадно следила за каждым его словом и взглядом, обращенным к Елен, но узнать ничего не могла.
«Уехать или нет?» — задавала она себе вопрос и не решалась, — так было жаль снова расставаться после такой долгой разлуки.
«А разве не должна я расстаться с ним на всю жизнь, разве не пойдем мы разными дорогами?» — спрашивала она себя.
Наконец она решила подождать и испытать себя, и если она увидит, что оставаться ей долее невозможно то тотчас же уедет из Варшавы.
Вступив в такой компромисс сама с собой, она успокоилась.
XXI ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
На другой день, еще до завтрака, в комнату Анжелики вошла Лиза Горлова.
Это была высокая, полная брюнетка, с большими серыми глазами, некрасивая, но в высшей степени симпатичная.
Анжелика горячо обняла ее и, усадив рядом с собой воскликнула:
— Лизочка, дорогая моя, я страшно рада, что вижу тебя, и очень благодарна, что ты приехала по моему письму, но передать тебе мне нечего, я раздумала, и мне теперь не нужно беспокоить тебя.
— А что такое было?
— Ничего… пустяки, не стоит и говорить!
— А между тем какое таинственное письмо ты мне написала, — смеясь, сказала Лиза, — право, я думала что Бог знает что случилось.
— Оно и было так, но тогда я была слабая, а теперь я сильная, — улыбалась Анжелика, смотря на лицо подруги, выражавшее полное недоумение.
— Что такое? Тогда слабая, теперь сильная?.. — изумлялась Лиза. — Ничего не понимаю.
— Когда-нибудь поймешь, — задумчиво проговорила Анжелика и начала расспрашивать Горлову, как она проводила время.
Посидев с час, подруги распрощались.
Проводив Лизу, Анжелика вошла в гостиную и застала там Владимира, Лору и Елен.
Последняя сидела на диване и не переставала жаловаться на смертельную скуку.
— Ну, уж ваша хваленая Варшава, такая тоска! Балы ваши, как я слышала, начинаются не раньше ноября. Знакомых у вас тоже никого не бывает…
— Однако, Елен, — перебил ее Владимир, — ты только что вчера приехала, и если один день не было гостей, то это еще не значит, что их совсем не бывает.
— Да разве я говорю, что я видела? Мне Лора говорила, что у них очень редко кто бывает на неделе, — нетерпеливо сказала Елен и, обернувшись к Анжелике, небрежно спросила:
— Вы, вероятно, тоже скучаете?
Слабый румянец выступил на лице молодой девушки.
— Нет, я не скучаю, — ровным, спокойным голосом сказала она, — я почти всегда занята.
— Чем же вы заняты? — с любопытством спросила Елен. — Я бы последовала вашему примеру.
— К несчастью, вас, вероятно, это не займет, — с чуть заметной иронией отвечала молодая девушка, — я много занимаюсь музыкой и пением.
— Вы поете? — удивилась Елен. — Володя ничего про это не говорил.
Анжелика промолчала, и Лора насмешливо заметила:
— Как же, ведь она у нас в артистки готовится.
— Вот как! — протянула Елен. — Я сама немного играю, но ленюсь. Спойте после что-нибудь, — небрежно кивнула она.
Тон этих слов возмутил Анжелику, и она несколько резко ответила:
— Я днем почти никогда не пою для удовольствия, потому что не бывает охоты.
— Но сегодня вы, конечно, споете?
— Нет.
— О, да вы жеманитесь, как настоящая певица, — насмешливо проговорила Елен, — заставляете себя упрашивать.
Анжелика подняла на нее свои чудные, загоревшиеся гневом глаза.
— Во-первых, я не жеманюсь, а сказала вам причину, почему я не могу петь; во-вторых, я считаю себя в действительности настоящей певицей и никогда не заставляю себя просить, а… просто отказываю.
Елен окаменела от «такой дерзости» — как она мысленно назвала слова Анжелики.
Владимир с изумлением смотрел на молодую девушку.
Несколько минут царило молчание.
— Не очень ли вы много на себя берете? — выговорила наконец Елен. — Я знаю многих девушек, которые называют себя певицами, а между тем поют так, что хоть уши зажимай.
— Елен!.. — остановил ее Владимир.
— Я бы доказала вам мои слова, — сухо сказала Анжелика, — но многие не могут отличить пения от крика, а потому…
— Анжелика, ты с ума сошла! — вступилась Лора, возвысив голос. — Что ты говоришь, что за выражения, что?..
Яркий румянец и блеск глаз Анжелики заставили ее замолчать. Она знала, что такое выражение ее лица не предвещает ничего хорошего.
Анжелика встала.
— Вы забываете, графиня, что я не ваша горничная, на которую вы можете кричать, — глухим голосом сказала она, — ваши замечания меня не касаются.
Она была чудно прекрасна в своем гневе, и пораженный Владимир почти с испугом смотрел на ее сверкавшие глаза и вздрагивающие губы.
Елен и Лора сразу притихли.
Анжелика медленными шагами, с высоко поднятой головой удалилась из гостиной.
Вечером в тот же день зашел Раковицкий. Елен сейчас же принялась с ним болтать.
Анжелика стояла у аквариума и кормила белым хлебом золотых рыбок.
К ней подошел Владимир.
— Какая вы были злая сегодня, Анжелика Сигизмундовна, — шутливо заметил он, взяв у нее из рук кусочек хлеба и бросая его в воду.
Грустная улыбка пробежала по губам молодой девушки.
— Вы обвиняете меня, Владимир Николаевич, я тогда бы не…
— Нет, нет, — поспешно перебил он, — Елен виновата, она не должна была говорить таким тоном, но… зачем же было так сердиться?
— Я не выношу такого тона, каким говорила ваша невеста, — с ударением на последнем слове ответила она.
Он замолчал.
— Можно вас называть просто Анжеликой, по старой памяти? — через минуту спросил он.
Она колебалась. Эта маленькая фамильярность делала шаг к сближению. Желая сделать холоднее свое согласие, она сказала более сухим тоном, чем хотела:
— Как вам угодно.
Он с удивлением взглянул на нее и переменил разговор.
— Елен скучает, и я думаю ехать завтра в театр: в оперу или балет.
«Скучает… — с горечью думала она, — он ее любит, а она скучает».
— Не правда ли, вы не откажетесь ехать с нами? — продолжал он.
— Не думаю, чтобы мое присутствие было приятно Елене Александровне, — сказала Анжелика. — В балет я не хотела бы ехать, но в оперу я поеду с удовольствием, если, повторяю, это не будет неприятно вашей невесте.
— О, нет, я уверен в противном!
Она недоверчиво покачала головой и подошла к столу.
— Ma chère, — обратился к ней Николай Николаевич, — не прочтешь ли ты мне передовую статью сегодняшней газеты?
— С удовольствием, — ответила Анжелика, — газета, кажется, в гостиной, — и она вышла из комнаты.
— Однако, папа, может быть, Анжелика вовсе не расположена в эту минуту читать, — заметил Владимир, — и согласилась только из вежливости.
— Я думаю, она мне может доставить удовольствие?! — проворчал граф капризным тоном.
Владимир хотел что-то возразить, но в дверях показалась Анжелика с газетой с руках, и старик ушел с ней в кабинет.
XXII В ТЕАТРЕ
У Елен был чисто женский недостаток — чересчур долго заниматься своим туалетом.
Она за два часа до отъезда в театр начала одеваться и вышла в хорошеньком розовом платье и с двумя живыми розами в волосах.
Анжелика мало обращала внимания на свой туалет, но желание не показаться одетой хуже Елен заставило ее на этот раз позаботиться о нем.
Она надела палевую легкую шелковую юбку и рубинового цвета бархатный, с небольшим вырезом корсаж.
Граф выдавал ей из процентов ее капитала двести рублей в месяц, и она, по настоянию графини, большую часть их тратила на наряды, совершенно равнодушно смотря, на что бы ни выходили ее деньги.
В этом туалете Анжелика была обаятельно хороша. Елен слегка удивилась ее наряду, но не сказала ни слова. Лора, в темно-синем бархатном платье с открытой шеей и руками, при виде Анжелики пожала плечами и заметила:
— Elle est trop criante[5].
Ложа их была в бельэтаже, с правой стороны.
Анжелика в первый раз показалась в свете, и едва успела сесть, как все бинокли партера устремились на нее. Давали «Фауста». Проиграли увертюру. Занавес поднялся.
Анжелика вся превратилась в слух и зрение и не заметила, что сидевший в первом ряду кресел князь Облонский не спускал с нее глаз.
Владимир же, сидевший сзади Лоры, заметил его неотступные взгляды и недовольным таном спросил сестру: бывает ли у них князь Облонский.
— Да, а разве он здесь?
— Он в первом ряду и до неприличия пристально смотрит на нашу ложу.
Лора посмотрела по указанию брата и нахмурила брови. После первого акта, когда они собирались выйти в фойе, в ложу вошел Облонский и вместе с ними отправился в зал. При появлении в фойе Анжелика стала центром всех взглядов.
Облонский шел рядом с ней.
— Посмотрите, как все смотрят на вас; это не удивительно… я вполне понимаю их.
Она засмеялась.
— Полноте, князь, что за комплименты.
— Какие комплименты, это не одно мое совершенно справедливое мнение. Посмотрите: все любуются вами, — продолжал Облонский, пожирая ее глазами.
Облако грусти пробежало по ее лицу.
«Нет, не все, — подумала она, — один, внимание которого мне всего дороже, не глядит на меня».
Она ошиблась. Он глядел на нее, не будучи в состоянии оторвать глаз, — так поражала его ее красота. Он рассеянно слушал болтовню Елен, шедшей с ним под руку.
Он еще не любил, но чувствовал, что был на дороге к этому и силой воли заставлял себя, не всегда, впрочем, успешно, не смотреть на нее.
«Дальше, дальше, — шептал ему внутренний голос, — или ты погибнешь».
Лора была страшно раздражена.
Князь Облонский, начавший было усиленно ухаживать за ней, вдруг оставил ее для Анжелики.
Молодые люди вернулись в ложу.
Анжелика не выходила больше в фойе.
Во время сцены в саду Фауста с Маргаритой она побледнела и забыла всех окружающих, даже Владимира, и не отрывала глаз от сцены.
На возвратном пути из театра она сидела с закрытыми глазами и не слышала разговора Лоры и Елен.
Владимир тоже молчал, изредка взглядывая на ее застывшее в глубокой думе лицо.
Войдя как-то утром в библиотеку, чтобы взять книгу, Анжелика увидала Елен сидящей в кресле с таким злым выражением лица, что она испугалась.
У окна стоял Владимир, обернувшись к ней спиной, и барабанил пальцем по стеклу.
Входя, она услыхала капризный голос Елен:
— Я так хочу, и так будет, слышите ли, я хочу, хочу…
— А я не позволю, — с сердцем возразил Владимир, но, обернувшись и увидев входящую Анжелику, слегка покраснел и замолчал.
Елен не обратила на нее внимания и, вскочив, резко спросила его:
— Где Лора? Желала бы я знать, что она скажет?
И не дождавшись ответа, вышла из комнаты. Анжелика взглянула на Владимира и не узнала его.
Он был бледен от гнева. Она не вытерпела и спросила:
— Что случилось?
— Ничего! — коротко ответил он и отвернулся.
Она глубоко оскорбилась этим лаконическим ответом, сжала губы и мысленно решила никогда первой не заговаривать с ним.
Пока она искала книгу, он опомнился и сказал:
— Елен хочет ехать кататься на тройках по первой пороше. При ее здоровье я не могу этого позволить…
— Напрасно вы даете мне объяснения, — сухо перебила она его, — я совершенно удовлетворена вашим ответом: «ничего».
С этими словами она удалилась. «Гордая девушка», — подумал граф, смотря ей вслед. Он отправился к невесте, заговорил с ней, но она дулась и отворачивалась от него.
— Да вразумите ее хоть вы, maman, — обратился Владимир к сидевшей тут же Марье Осиповне, — ведь это верная смерть.
— Ну, до этого еще далеко, снег и не думает выпадать, — уклонилась графиня, не желая раздражать ни того, ни другую. — Как вам понравилась опера? A pro pos, Лора, когда выступит Анжелика в первый раз?
Владимир быстро обернулся к сестре.
— Как? Она… она будет петь на сцене?
— Да. А ты думал, что она на это не способна? — иронически заметила Лора.
— Но, maman, этого нельзя дозволить. Девушка из порядочного дома выступит на подмостках! — возмутился молодой граф.
— Да, вот поди, поговори с ней; никого не слушает, — покачала головой графиня, — была упрямицей и осталась.
— Я это сейчас и сделаю, — решительно произнес о и отправился разыскивать Анжелику.
Он нашел ее стоящей в зале у рояля и перебирающей ноты.
— Анжелика, неужели вы серьезно решили поступить на сцену?
«Что ему за дело? — подумала она. — Не все ли ему равно, где я буду?». — И холодно ответила:
— Да, серьезно!
— Зачем вам? Разве вы не можете давать концерты, петь в домашнем кругу? Разве этого мало?
Анжелика подняла голову и прямо посмотрела на него.
— Что вам-то за дело? — медленно, ледяным тоном произнесла она. — Мое будущее зависит от меня и… ни от кого больше. А зачем это мне? Отчета в моих действиях отдавать я никому не обязана.
— Как вам угодно, если вы не хотите слушать совета друзей, — сухо заметил он, уязвленный ее словами.
— Друзей?! — горько усмехнулась она. — Где они, эти мои друзья?
— Вы отрицаете, что я… — начал он.
Она резко рассмеялась.
— Оставим это. Я хочу петь.
Она села за рояль, начала нервно брать аккорды, взяла первую ноту, оборвалась и глухо, отчаянно зарыдала, прислонив голову к пюпитру.
Точно ножом резануло по сердцу Владимира.
— Анжелика… что с вами? — прошептал он, вспоминая такую же сцену в ее детстве.
Но на этот раз она не упала беспомощно на его руки, а сейчас же затихла и, подняв на него свои чудные, полные слез глаза, спокойно, с едва заметною дрожью в голосе сказала:
— Ничего, это нервное. Сейчас пройдет. Оставьте меня одну, пожалуйста.
Он ушел, и она с отчаяньем думала: «Господи, как я люблю его; даже сил не хватает притворяться спокойной! Глупая, думала, что все пройдет, а между тем, что приходится выносить теперь! Умереть — со смертью все кончится».
Она испугалась этой мысли, пошла в свою комнату, оделась и уехала к Горловой.
С этого дня Анжелика начала замечать, что Владимир стал избегать ее, говорил с ней таким холодным тоном, что Марья Осиповна заметила ему это. С Елен он обращался ласково и почти не отходил от нее.
Бедная Анжелика страшно страдала. Она ненавидела Елен всеми силами души. Не спала целые ночи, стонала, металась, доходила до бреда.
Это отозвалось на ее здоровье.
Она похудела, и выражение страдания не покидало ее лица. Улыбка и смех пропали. Нервы были в высшей степени напряжены. Анжелика презирала себя за эту слабость и боролась с ней, насколько могла.
Она страдала не одна.
Александр Михайлович Ртищев, бывая у них довольно часто, до безумия влюбился в свою бывшую приятельницу.
Она по-прежнему доверчиво относилась к нему и своим мягким обращением подавала ему надежды.
С односторонней проницательностью и слепотой влюбленных он видел, что она что-то имеет на душе, и надеялся, что это «что-то» было начало любви к нему.
Это казалось ему слишком большим счастьем, и он боялся поверить, мучился сомнениями и вместе с тем старался всеми силами скрыть от всех, и в особенности от нее, свое, день ото дня увеличивающееся чувство.
XXIII НА ГОРАХ
Наступила зима, со своими балами и другими удовольствиями.
После долгих капризов, просьб и истерик Елен добилась, наконец, согласия Владимира на катанье с гор.
Она была в восторге.
Когда же все общество, собравшееся у Ладомирских, высыпало на улицу и с шумом и смехом усаживалось в тройки, Анжелика стояла на лестнице и колебалась: не вернуться ли ей назад?
Вся душа ее была измучена. Последнюю неделю Елен почти все время висела на шее Владимира, будучи счастливой его позволением. Анжелика переносила все муки ревности, и радостное оживление молодежи страшным диссонансом отзывалось в ее душе.
«Но нет, надо ехать! Что скажут все, если она останется?» — и, запахнувшись в ротонду, она сошла вниз и села в тройку с Раковицким, Елен и Ртищевым.
Веселый Дмитрий Петрович чрезвычайно нравился Елен, и она без умолку болтала и хохотала с ним.
Какая-то странная апатия овладела Анжеликой.
— Что с вами, Анжелика Сигизмундовна? — спросил Александр Михайлович, пораженный ее безжизненным взглядом.
— Что со мной? Жизнь надоела! — отрывисто ответила она и отвернулась.
Ртищев вздрогнул и, видя, что Елен и Раковицкий, занятые болтовней, не обращают на них внимания, полушепотом сказал:
— Что вы, Анжелика Сигизмундовна, разве можно так говорить в ваши годы, с вашим талантом и красотой!
— Молодость, талант, красота — действительно много, — с иронией медленно произнесла она, — но не того мне нужно!
— Чего же нужно?
— Любви! — чуть слышно невольно шепнула она и сейчас же опомнилась, насильственно громко рассмеялась и добавила: — Я пошутила, мне ничего не надо!
Он, охваченный волнением, готов был сказать ей, что он ее любит, но в эту минуту Раковицкий обратился к нему с каким-то вопросом.
Разговор прервался.
Приехали в Лазенки, и сейчас же началось катанье с гор.
Анжелика отказалась и смотрела на катающихся.
Прокатив сестру и Мери Михайловскую, Владимир оглянулся, ища невесту, но Елен уже каталась с горы с Раковицким.
Тогда он сел один, и потому ли, что поторопился и сел неловко, или по другой какой причине, но санки в самом начале перевернулись, и он упал у края горы.
Падая, он услыхал, среди других восклицаний испуга, полный отчаяния крик Анжелики.
Через минуту он был на ногах и поднялся наверх.
Увидев, что он невредим, Анжелика быстро подавила свое волнение и спокойно стояла в стороне.
Он подошел к ней.
— Благодарю вас за участие; вы, кажется, очень испугались.
Он пристально посмотрел на нее.
— Не стоит благодарности, — сухо ответила она, — я очень нервная, и на меня всегда производит впечатление опасность, в которой находится человек.
Он закусил губы и отошел.
На возвратном пути Анжелике пришлось ехать с Ртищевым и графом Владимиром.
— Пикники приносят тебе несчастье, Володя, — говорил Александр Михайлович, — сегодня ты мог до смерти убиться, а два года тому назад, помнишь, как ты захворал? Как вы тогда, не жалея себя, ухаживали за ним, — обратился он к Анжелике.
Молодая девушка молчала. Ртищев продолжал:
— Как давно все это было! Я так живо помню, как я прощался с тобой, Володя, и вот ты опять с нами.
Граф Владимир и Анжелика взглянули друг на друга, и оба покраснели.
Сцена прощанья живо представилась им. Воспоминание об этом поцелуе до сих пор жгло ее губы. Она чуть не вскрикнула от горького сознания, что это никогда, никогда не повторится, что все его ласки и поцелуи отданы другой.
Александр Михайлович смотрел на нее, не отрывая глаз. Белый мех ротонды оттенял прелестное личико молодой девушки. О, как он любит ее, как страстно желал сказать ей это, видя ее страдающей, изнемогающей от какой-то внутренней борьбы.
— Как это случилось, что я до сих пор не слыхал вашего голоса? — после долгого молчания спросил ее Владимир.
— Я пою очень часто, только всегда приходится петь в то время, когда вы не бываете дома.
— Анжелика Сигизмундовна поет божественно! — воскликнул Ртищев. — Я слышал ее раз, но никогда не забуду ее голоса.
Восторженный отзыв молодого человека заставил ее с удивлением взглянуть на него.
В другое время она, наверное, угадала бы его любовь по выражению его глаз, но теперь она ничего не видела, ничего не понимала, кроме своих собственных мук.
XXIV НА БАЛУ
— Как я тебе нравлюсь, Володя? — говорила Елен, стоя перед ним в столовой в бальном шелковом голубом платье, убранном незабудками.
— Ты прехорошенькая! — рассеянно улыбнулся он. — Что это Лора так долго не выходит? Уже десять часов, скоро начнут съезжаться.
— Я пойду посмотрю, что она делает, — и с этими словами Елен убежала.
Владимир медленно пошел за ней.
Пройдя ряд освещенных для приема гостей комнат, они вошли в залу и встретили там старую графиню и Лору.
Марья Осиповна была в длинном бархатном платье стального цвета и вся горела бриллиантами.
Лора, в розовом шелковом с чайными розами платье и тоже в бриллиантах, была очень интересна.
Оглядев их и похвалив туалеты, Елен насмешливо сказала:
— Однако ж и кокетка ваша Анжелика, до сих пор не одета.
Графиня не обратила внимания на ее восклицание и начала с озабоченным видом осматривать и поправлять цветы на жардиньерках.
— Что это до сих пор люстры и канделябры не зажжены? — недовольно произнесла она. — Все самой надо сказать.
И шурша шлейфом, графиня пошла отдавать приказания.
Елен, как настоящий ребенок, вертелась по зале и, смотрясь в зеркало, простодушно спросила:
— Как ты думаешь, Лора, понравлюсь я в этом наряде Дмитрию Петровичу?
Лора взглянула на брата.
Он смеялся.
Елен заметила этот взгляд и расхохоталась:
— Он, он меня не ревнует!
— Что с тобой, Володя? — через минуту вдруг спросила она.
Он, видимо, не слыхал ее и стоял как вкопанный, устремив широко раскрытые глаза на двери.
В них входила Анжелика.
Казалось, сама Венера сошла со своего пьедестала — так чудно была хороша молодая девушка.
Легкое белое открытое платье позволяло видеть ее точно выточенные плечи и шею.
Черные, почти до полу волосы были распущены и скреплены гирляндой из бутонов пунцовых роз. Такие же бутоны были пришпилены у корсажа. Ни одного браслета, ни одного бриллианта не было на ней. Только гладкий золотой медальон на пунцовой бархатке висел на шее.
Ее маленькие ручки были обтянуты белыми лайковыми перчатками, а из-под короткого платья выглядывали крошечные ножки, обутые в белые туфельки. Взглянув на нее, Лора сжала губы, а Елен нахмурилась. Обе почувствовали, что они перед этой всепобеждающей красотой — ничто.
Через полчаса начали съезжаться гости.
В двенадцать часов бал открылся вальсом.
Анжелика не танцевала. Окруженная молодежью, провожаемая восторженными взглядами и словами, молодая девушка на мгновенье забыла горе и упивалась своим торжеством.
Князь Облонский не отходил от нее ни на шаг и умолял ее танцевать.
Она не соглашалась и, сев в одной из гостиных у дверей в залу, смотрела на танцующих.
Граф Николай Николаевич, идя с двумя генералами, мимоходом сказал ей:
— Анжелика, иди же танцевать, ты же танцуешь.
Слова эти были сказаны громко, и ее сейчас же обступила толпа молодежи. Пришлось согласиться, и Анжелика, положив руку на плечо Шадурского, унеслась с ним в вихре вальса.
— Настоящая Ange, — сказал один гвардейский офицер, товарищ Владимира, — имя как нельзя больше подходит к ней.
— Как она танцует! — воскликнул его собеседник, с восторгом смотря на мелькнувшие мимо него маленькие ножки.
Действительно, Анжелика говорила неправду, что не умеет танцевать. Она танцевала грациозно и легко. Молодые люди, увидев ее танцующей, наперерыв стали приглашать ее и не давали ей покоя до тех пор, пока она, вся запыхавшаяся, не упала в кресло и не заявила, что больше не может.
Танцы, всеобщий восторг совсем закружили ее, и она, стараясь хоть на один вечер забыть свою тоску, со страстью отдавалась охватившему ее опьянению.
Сыграли ритурнель кадрили.
Анжелика танцевала с Облонским. Сев на место, она увидела Владимира, стоявшего в дверях и смотревшего на нее.
Встретив ее взгляд, он отвернулся и, подойдя к Елен, повел ее танцевать.
Визави Анжелики были Ртищев и Лиза Горлова.
Всякий раз во время фигур Анжелика, встречаясь с Александром Михайловичем, дружески улыбалась ему и пожимала руку.
Голова молодого человека горела, он не спускал с нее своих отуманенных страстью глаз.
Облонский тоже терял голову.
Красавица бессознательно во время всей кадрили кокетничала с ними обоими.
Обмахиваясь веером, она пошла в гостиную. Облонский шел за ней.
Лора стояла у дверей с двумя молодыми людьми. Увидев князя, она вспыхнула, сдвинула брови и с ненавистью взглянула на Анжелику.
Сев в кресло у окна, Анжелика воскликнула, порывисто махая веером:
— Господи, какая жара! Не пойду танцевать ранее, нежели совсем не отдохну.
Она взяла винограда с подноса проходившего мимо лакея.
Они сидели в гостиной вдвоем с князем, весело смеясь и разговаривая.
Не видя Анжелики в зале, граф Владимир пошел ее искать.
Застав ее в гостиной вдвоем с Облонским, он круто повернулся и прошел в столовую.
Он был зол, сам не зная на что.
Бродя по комнатам, он злился все более и более и нетерпеливо спросил сестру, отчего так долго не начинают кадриль.
Кадриль началась. Владимир смотрел, с кем танцует Анжелика, но ее в зале не было.
Он пошел в гостиную и увидал ее на том же месте с князем.
— Что же вы не танцуете? — почти грубо спросил он.
— Не хочу, я уже отказала четверым, — сказала она, встала и, взяв под руку князя, пошла в зал.
Владимир отправился за ними и в дверях столкнулся с гвардейским офицером.
— Что с тобой? — удивился последний, взглянув на нахмуренное лицо товарища.
— Ничего, — угрюмо ответил молодой граф. — Почем я знаю.
— Если ты не знаешь, так я тебе скажу, — заметил гвардеец, пристально смотря на его глаза, злобно следившие за удаляющейся парой, — ты, дружище, без ума влюблен в красавицу смуглянку; я весь вечер следил за тобой. Губа-то у тебя не дура!
И засмеявшись, молодой человек пошел к буфету.
С минуту Владимир стоял как окаменелый.
Так вот что значит сегодняшний гнев на все и на всех, странное душевное состояние все последнее время! Товарищ открыл ему глаза. Да, он любит это чудное черноглазое созданье, любит всем своим существом, несмотря на ее очевидную холодность, сухое, резкое обращение.
Он встал за жардиньерку и оттуда смотрел на танцующих.
«Где же Анжелика? Облонский танцует с Лорой, и ее нет».
Он уже хотел идти, как она подошла и, не заметив его, облокотилась на ту же жардиньерку.
Он побледнел от волнения, чувствуя ее близость и созерцая дивную красоту молодой девушки.
Сейчас же после кадрили начался вальс.
Мимо Анжелики пронеслись Раковицкий с Елен. Она с удивлением посмотрела на них. Они почти не расставались весь вечер. Она решила в уме отыскать Ртищева и сказать ему, чтобы он заметил Раковицкому, что его ухаживанье может быть неприятно графу Владимиру, но ее пригласили и она среди танцев позабыла о своем намерении.
Когда, раскрасневшаяся, со сверкающими, как два черных бриллианта, глазами, она после вальса прошла отдохнуть в гостиную, Александр Михайлович, видимо, ее дожидавшийся, быстро пошел за ней.
— Не правда ли, весело? — спросила она, садясь на потонувший в цветах диванчик и давая ему место около себя.
— Анжелика Сигизмундовна, — начал он, не отвечая на ее вопрос, — мне нужно вас спросить… то есть сказать вам, что… что я…
Он запутался и запнулся.
— Что такое? — с удивлением посмотрела на него Анжелика.
— Я… я люблю вас, — прошептал он, со страстью и мольбою смотря на нее, — люблю больше всех на свете… Анжелика… скажите… вы не сердитесь, могу я надеяться? — с тревогой продолжал он, так как она молчала.
Жалость наполнила ее сердце.
Она ласково взяла его за руку.
— Друг мой, я всегда уважала и любила вас… как брата, — поспешно добавила она, — я знаю, чувствую, что вы искренно любите меня, но…
Она опустила глаза, и выражение страдания пробежало по ее лицу.
— Я люблю другого, — глухо закончила она.
— Кого? — спросил он, не замечая, в порыве отчаяния, как неделикатен его вопрос.
Она выпустила его руку.
— Это касается только меня одной, — холодно сказала она, но, увидав муку на его лице, уже мягким тоном добавила:
— Забудьте меня, Александр Михайлович; ни вы, ни я не виноваты в случившемся.
Он поклонился и поцеловал ее руку, с трудом сдерживая свое волнение.
Он понял теперь, почему она была так печальна последнее время. Она любит и не любима.
«Но как возможно не любить ее?»
Все оживление исчезло с ее лица. Признанье Ртищева напомнило ей действительность.
Услышав звуки музыки, она вскочила и, взяв его под руку, сказала:
— Мы, кажется, с вами танцуем котильон? Пойдемте, голубчик, наше визави нас, верно, уже ждет.
Он машинально, как автомат, последовал за ней.
Они почти не говорили. Ее беспрестанно выбирали, и он сидел как во сне, не понимая, где он находится.
Во второй фигуре котильона к Анжелике подлетела Елен, держа за руку Раковицкого, и, взяв ее, побежала с ними к Владимиру.
— Дьявол или ангел? — смеясь, спросила она его.
— Дьявол.
Она положила руку на плечо Дмитрия Петровича и умчалась с ним.
Владимир нерешительно обнял стан Анжелики.
Его глаза блеснули, он страстно прижал ее к себе.
Они сделали уже два тура, и, если бы музыка не остановилась на минуту, они бы, кажется, никогда не перестали.
С затуманенными глазами, почти без сознания упала Анжелика на стул.
Остальную часть котильона она протанцевала, не понимая, что делает.
За ужин она села с Облонским и с каким-то офицером.
Ртищев уехал сейчас же после котильона.
Молодая девушка рассеянно слушала комплименты своих соседей и несколько раз взглядывала на Владимира, сидевшего на другом конце стола, рядом с Елен.
Анжелика поистине была царицей бала. Общее внимание было приковано к ней. На других девушек и не глядели.
После ужина протанцевали вальс и начали разъезжаться.
Когда осталось двадцать человек, преимущественно одни мужчины, Анжелику окружили, прося ее спеть какой-нибудь романс.
Без всяких отговорок она встала и направилась к роялю, мимоходом обратившись к одному из молодых людей с просьбой аккомпанировать ей.
Анжелика выбрала ноты и, став лицом в ту сторону, где стоял Владимир, запела.
Никогда не пела она так хорошо, как в тот вечер. Ее бархатный голос звучал с такой силой, что все замерли и затаили дыхание.
Другой! Нет никому на свете Не отдала бы сердце я, То в вышнем суждено совете, То воля неба — я твоя.Она пропела замечательно выразительно и взглянула на Владимира.
Он стоял неподвижный, бледный, с опущенными глазами.
Когда она кончила, он поднял глаза и взгляды их встретились.
Вся сдержанность и холодность исчезли. Оба они не выдержали, и во взглядах обоих выразилось то, что они не смели сказать друг другу.
Они прочли в них взаимную, безумную, страстную любовь, с трудом сдерживаемую оковами приличия и долга.
Неприятное нервное состояние за последнее время, весь сегодняшний вечер и наконец беспредельная радость, охватившая ее при уверенности в любви Владимира, — сломили молодую девушку.
Среди грома рукоплесканий окружающих крик бесконечной любви и счастия вырвался из ее груди и она, как подкошенный цветок, упала на руки подскочивших кавалеров.
XXV ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Граф Владимир полюбил Анжелику, и чувство это увеличивалось с каждым днем.
Присутствие Елен было ему невыносимо. Он сам теперь не понимал, как он мог принять чувство привычки к Елен (он знал ее с раннего детства) за любовь?
Через неделю после бала приехал Облонский и сделал предложение Анжелике. Молодая девушка в коротких словах объявила ему, что не может быть его женой, но, когда князь начал умолять ее оставить ему какую-нибудь надежду, она, после некоторого колебания, сказала, что подумает и даст ответ через неделю.
После отъезда князя она тотчас стала упрекать себя за свои слова, но потом, решив, что ей теперь все равно, что ни будет, — успокоилась.
Войдя в свою комнату, она нашла там Лизу Горлову.
— Что это у тебя такое странное лицо? — целуя ее, спросила Лиза.
— Князь Облонский только что сделал мне предложение.
— Ах, какое счастье! Ты будешь княгиней! Как все удивятся! Как рассердится графиня Лора! Да что же ты не радуешься? — прерывая восторженные восклицания, спросила она.
— Я еще не дала ему решительного ответа, и я думаю, что…
— Да ты с ума сошла, Анжелика? Как? Ты еще можешь колебаться? Вот уж я этого не понимаю! Подумай, как ты будешь счастлива с ним — он так тебя любит…
— Счастлива?!
Анжелика закрыла лицо руками.
— Анжелика, дорогая, что ты? — тревожно спросила ее подруга, обвивая рукой ее талию. — Ты плачешь? Боже мой! Ты… ты любишь кого-нибудь?
Анжелика вскочила.
— Да, я люблю, люблю так, как никто никогда не любил! — страстно воскликнула она. — Ты понимаешь теперь, что я не могу быть счастлива, когда он должен принадлежать другой.
— Анжелика, неужели… это граф?
— Да, Владимир. Я люблю его, и главное то, что я теперь знаю, что и он любит меня…
— Что ты говоришь, Боже мой! — воскликнула пораженная Лиза. — Ты не смеешь… ты не должна его любить. Анжелика, слышишь, ты должна забыть его! Ни ты, ни он не имеете права…
— Ах, что тут за право, мы любим друг друга, и кто нам может запретить? — нетерпеливо воскликнула Анжелика.
Пылкая, страстная натура брала верх, — молодая девушка забыла свои недавние благоразумные доводы. Лиза испугалась.
— Друг мой, опомнись! Вспомни, что интерес твоей жизни заключается не в одной любви, вспомни свое призвание.
— Мой голос только и доставляет мне удовольствие, когда я могу петь для него, — пылко перебила ее Анжелика. — Я знаю, я чувствую, что жизнь без него невозможна, я скорее умру, Лиза, — с мрачным отчаянием повторила она.
Долго убеждала ее Горлова и ушла лишь тогда, когда Анжелика несколько успокоилась.
После страстного порыва любви для Анжелики наступила реакция действительности.
Все сказанные ее при Лизе слова казались теперь несбыточным, бессмысленным бредом.
Через неделю придется дать окончательный ответ князю. Согласиться — значит воздвигнуть вторую стену между ней и Владимиром.
Не согласиться, видеть, как любимый человек обвенчается с другой, продолжать видеться с ним — это пытка, при одной мысли о которой она вздрагивала всем телом, как от физической боли.
Около двух часов сидела она неподвижно, обдумывая свое положение, но ничего не придумала, встала и прошла в гостиную.
Там она застала одну Лору, лежащей на кушетке, и хотела уже уйти, когда та небрежно спросила:
— Князь Облонский был здесь?
— Да, был, а что?
— Так!
Лора повернулась на кушетке.
В передней послышался звонок.
Через минуту до слуха Анжелики донесся голос Ртищева, справлявшегося, дома ли граф Владимир Николаевич.
Получив утвердительный ответ, он прошел к нему в кабинет.
Владимир сидел перед письменным столом и так глубоко задумался, что заметил товарища только тогда, когда он дотронулся до его плеча.
— Как поживаешь, Саша? Садись, пожалуйста.
Он придвинул ему стул.
— Я пришел проститься с тобой; я уезжаю за границу, — проговорил Александр Михайлович, смотря в сторону.
Прежде чем удивленный этим неожиданным известием Владимир успел выговорить слово, из гостиной послышались громкие истерические рыдания графини Лоры.
Молодые люди вскочили.
— Что такое?
— Постой, я пойду узнаю, — и с этими словами Владимир вышел.
Войдя в гостиную, он увидел Лору, лежащую в истерике на кушетке, мать, хлопотавшую около нее, и Анжелику, помогавшую ей.
Увидя Владимира, последняя вышла из комнаты.
— Что случилось, maman? — спросил он. Графиня повернула к нему свое взволнованное, сердитое лицо.
— Бедняжка получила такой удар, поразивший ее в самое сердце! Немудрено, что она в таком отчаянии. Этот низкий, гадкий человек, эта дрянь…
Марья Осиповна задыхалась от злобы.
— Кто такой? — изумился сын.
— Князь, князь Облонский! — почти закричала графиня. — Представь себе, какой подлец! Так ухаживать и увлекать девушку, а потом делать предложение другой! — продолжала она, забывая, что последнее время Облонский не глядел на ее дочь.
— Кому он сделал предложение? — бледнея, спросил он.
— Кому же, как не нашей красавице! Только Анжелике и возможно отбивать женихов из-под носа! Совсем всех очаровала, даром, что дочь какой-то итальянки, — раздраженно, насмешливо говорила Марья Осиповна, примачивая голову дочери одеколоном.
У Владимира помутилось в глазах.
— Она согласилась? — чуть слышно спросил он, хватаясь за спинку стула.
— А Бог ее знает, — с сердцем ответила графиня. — Она всегда была какая-то особенная, но все-таки не думаю, чтобы отказалась от такой партии.
Владимир вернулся в кабинет, с трудом скрывая свое волнение.
— Что там такое? — спросил его Ртищев.
— Так… ничего, пустяки! О чем, бишь, мы говорили? Да, ты хочешь уехать. Это зачем? — переменил разговор граф.
Ртищев не сразу ответил ему.
— Володя, я бы не хотел никому говорить этого, только тебе… Видишь ли, я… сделал предложение Анжелике Сигизмундовне и… и она отказала мне, — тише добавил он.
— Ты, ты тоже любишь ее! Еще один лишний поклонник не мешает! — горько захохотал граф. — Знаешь ли ты, мой бедный друг, что князь Облонский просил сегодня ее руки и получил ее согласие.
— Она сказала мне, что любит другого! — глухо проговорил Александр Михайлович.
— Она это сказала? — воскликнул Владимир, но, сейчас же спохватившись, замолчал и подошел к окну.
Если бы Ртищев сказал ему это сегодня утром, он был бы убежден, что она любит именно его — Владимира. Он слишком хорошо помнит этот взгляд любви на их вечере. Но теперь, теперь он не мог этому верить: она, вероятно, любит Облонского, если выходит за него замуж.
— Прощай, Владимир, — проговорил Александр Михайлович, подходя к нему, — мне надо еще пойти… туда, проститься…
Обняв товарища, он было направился к двери, но вдруг упал в кресло с глухим стоном и прошептал:
— О, как я люблю ее, Володя, как тяжело!
Граф, бледный, молча смотрел на него.
Через мгновение Ртищев вскочил и быстрыми шагами вышел из комнаты.
Он хотел видеть графиню, но ему сказали, что она около больной дочери и не может принять.
Графа не было дома.
Проходя через гостиную, он столкнулся лицом к лицу с Анжеликой.
Она вспыхнула, он побледнел.
— Анжелика Сигизмундовна, я уезжаю на днях из Варшавы и, вероятно, надолго. Прощайте, желаю вам счастья и всего, всего лучшего…
Он взял ее руку и страстно прижал к губам. Она ласково взглянула на него.
— До свиданья, мой друг, благодарю вас за пожелание, только… едва ли оно исполнится, — грустно добавила она, — будьте здоровы и… забудьте меня.
— Никогда, никогда я не забуду вас! — горячо воскликнул молодой человек и, заметив задумчивое, печальное выражение ее лица, уже тревожно спросил:
— Вы несчастливы, Анжелика Сигизмундовна, но мне кажется… я слышал, что вы выходите за…
— Не спрашивайте меня, — быстро перебила она его, наскоро пожала ему руку и прошла мимо.
Он несколько секунд смотрел ей вслед. Две крупные слезы выступили на его глазах… Он махнул рукой и уехал. Елен, вернувшись с прогулки, застала всех в странном расположении духа: Владимир сидел запершись в кабинете, Анжелика с бледным, застывшим лицом была похожа на статую; Лора лежала в постели и не хотела ни с кем говорить, а графиня ходила по комнате скорыми шагами.
XXVI АМУР И ПСИХЕЯ
Когда через неделю явился Облонский, Анжелика как-то машинально и рассеянно проговорила слова, которые должны были на всю жизнь связать ее с князем. В тот же день все Ладомирские ехали на вечер к Вельским, где молодежь участвовала в живых картинах.
Приехав туда, Анжелика поздоровалась с хозяевами и прямо прошла в комнату, назначенную уборной для нее и Лизы Горловой.
Лиза участвовала в спектакле, после которого должны были быть живые картины.
Анжелике в этот день совсем было не до того.
Ей хотелось уйти подальше от всех этих людей, остаться одной со своим новым несчастьем.
Навсегда, навсегда был потерян для нее Владимир! Она решилась сейчас же после свадьбы ехать за границу. Спектакль кончился. Уже прошли две живые картины, а Анжелика еще не начинала одеваться.
В комнату поспешно вошла княгиня Вельская.
— Представьте себе, милочка, барон прислал мне только что записку, что он никак не может приехать, — сказала она, — так что мы упросили графа Ладомирского участвовать в вашей картине. Да одевайтесь же, вам ведь скоро выходить!
Княгиня ушла.
Анжелика была поражена: они с Владимиром будут изображать Амура и Психею! Что за горькая ирония судьбы!
Она стала одеваться, надела греческий костюм Психеи, который не только что открывал ее плечи и шею, но и обрисовывал всю ее стройную фигуру.
Она подошла к зеркалу и вздрогнула.
Как она волшебно была хороша в этом костюме, с маленькими крылышками за спиною. Мягкие складки белого кашемира красиво облегали ее формы, маленькие ножки были совершенно на виду.
В комнату заглянула Мери Михайловская.
— Вам идти! — сказала она.
Анжелика вышла на сцену.
Занавес был спущен. Две свечи горели на полу. Сцена была пуста, только посредине помещался пьедестал.
Несколько человек стояло вокруг.
Граф Владимир, в белом греческом плаще, подошел к ней.
Ей казалось все это сном.
Ее поставили на пьедестал.
Рядом с ней на коленях стал Владимир и обнял ее. Она вздрогнула, очнулась и слегка отшатнулась от него.
— Ближе, ближе станьте, — сказал князь Вельский, — так нельзя.
Анжелика придвинулась к графу и замерла.
Оба они забыли весь мир, смутно слышали шепот, восторги окружающих, потом кто-то сказал, чтобы они не сходили с пьедестала тотчас как опустится занавес, потому что, наверное, потребуются повторения.
Наконец занавес поднялся.
Они не слыхали взрыва рукоплесканий, криков восторга, не видали ревнивых взглядов Облонского, сидевшего в первом ряду. Они видели и чувствовали только близость друг друга.
Занавес опустили.
На сцене не было никого и было почти темно.
Анжелика зашаталась и склонилась к Владимиру. Он поднялся с колен, поддерживая ее. Взоры их встретились, и губы как-то сами собой слились в долгом, страстном поцелуе.
Через мгновение он стоял в прежней позе, с трудом поддерживая Анжелику, бывшую почти без сознания.
Занавес поднялся на минуту, и затем Владимир на руках унес Анжелику в ее уборную.
Все занялись следующей картиной: «Четыре времени года», и они снова остались одни.
Он положил ее в кресло и опустился перед ней на колени, покрывая порывистыми, горячими поцелуями ее руки.
Она пришла в себя и поднялась с кресла.
Он вскочил с колен и стал перед ней, глядя на нее безумным взглядом.
Она подошла к нему совсем близко.
— Я люблю вас, граф… люблю больше жизни. С вами жизнь, счастье, без вас — смерть и мрак, а между тем…
Голос ее, до сих пор твердый, прервался.
— Нам нужно расстаться и навсегда — мы оба не свободны.
— Анжелика! — с отчаянием воскликнул он. — Зачем, зачем вы…
— Все равно, — перебила она, — вы были не свободны, все равно вы должны жениться на Елен.
Она остановилась, с трудом переводя дыхание.
— Прощайте, Владимир Николаевич. Я больше не вернусь в ваш дом, поеду к Горловым, потороплю со свадьбой.
Он не дал ей договорить. Она была в его объятиях.
— Никогда, никогда, — повторял он между страстными ласками и поцелуями, — ты не будешь принадлежать другому, ты моя, моя, несмотря на все препятствия.
— Володя… нельзя… — слабо протестовала она, а между тем отдавалась его ласкам, отвечала на его поцелуи, чувствовала неразрывную связь, образовавшуюся между ними, расторгнуть которую могла одна смерть.
Она пугалась его страсти, старалась успокоить его. Каждую минуту мог кто-нибудь войти.
Наконец она вырвалась от него, и едва он успел уйти, как в комнату вошел князь Облонский и остановился пораженный.
Анжелика с матовой бледностью истомы на лице, с пылающими глазами и полуоткрытыми, пересохшими губами казалась воплощением какой-то дикой страсти.
— Анжелика, что с вами? — медленно спросил он, всматриваясь в нее.
С трудом подавляя свое волнение, она строго взглянула на него.
— Как вы смели войти без позволения? — резко спросила она.
— Простите… — прошептал он, забывая свои подозрения под обаянием ее красоты.
Он сделал было шаг к ней.
Она быстрым, повелительным движением руки указала ему на дверь.
— Sortez, prince[6].
В голосе ее звучала бесповоротная решимость.
Он вышел.
Она упала на колени и зарыдала.
Это были рыданья счастья, облегчившие ее наболевшую душу.
Успокоившись и переодевшись, она объявила, что едет домой, так как чувствует себя нездоровой.
На другой день Анжелика опять сказалась больной и не выходила.
Она думала, что обманывает, а между тем, она действительно была больна, если не физически, то нравственно.
Владимир испытывал почти то же самое.
После первого порыва счастья, охватившего их при мысли, что они любят друг друга, настали минуты мучительного сомненья и страха перед будущим.
Это будущее их обоих тревожило.
Оба связанные, хотя искусственно, но крепко, в глазах света с посторонними, чуждыми им лицами, они вдруг увидали самих себя связанными друг с другом нравственно до гроба.
Надо было порвать эти посторонние, препятствующие их счастью путы.
Граф Владимир, с его светлым умом и сильным характером, — черты, которыми наградила и за которые полюбила его Анжелика, к утру другого дня уже все обдумал, решил и твердо шел навстречу приближающейся жизненной грозе, предвкушая заранее чистую атмосферу счастья, покупаемую предстоящей бурей.
Нельзя сказать, чтобы это досталось ему без мучительно проведенных часов.
Вечером Анжелика вышла из своей комнаты и, войдя в гостиную, остановилась на пороге.
На кресле у окна сидел граф Владимир.
Увидя ее, он быстро встал и пошел к ней навстречу. Заметив, что она с трудом держится на ногах от волнения, он бережно довел ее до кресла и сел против нее.
Молодая девушка с невероятным усилием воли поборола свое волнение и почти спокойным голосом произнесла:
— Владимир Николаевич, нам нужно поговорить о том…
Она остановилась на минуту.
— О том, что было вчера. Я не могу больше мучиться и находиться в неизвестности.
— А вы думаете, что я не желаю того же? — с жаром сказал он. — Я и сам хотел сказать вам, что как это ни будет трудно, но вы будете моей женой.
— Никогда, — быстро перебила она его, — никогда этого быть не может. Вы можете не жениться на Елен, но моим мужем вы не будете. Ваши родители не только проклянут вас, но и лишат вас состояния. Я не хочу, чтобы из-за меня вы лишились чего-нибудь.
— Мне ничего не нужно… — начал он.
— Нет, нет, этому не бывать, — снова перебила она его, — оставим это. Я хотела объяснить вам, почему я решилась выйти замуж, несмотря на то, что сердце мое принадлежит вам. Я никогда бы этого не сделала, так как хотела посвятить себя искусству, но когда я недавно убедилась, что вы тоже любите меня, то я подумала, что если я отказываюсь от своей любви, то и не должна заставлять вас страдать, и лучшим лекарством для этого будет мое замужество. Я надеялась на себя, — добавила она с горькой улыбкой, — но… все это случилось против мой воли.
— Значит, Анжелика… вы хотите расстаться со мной? — с усилием выговорил он. — Вам не…
— Расстаться! — страстно крикнула она, порывисто наклонившись к нему и обвив руками его шею. — С вами, с тобой, никогда… нет… не могу… это невозможно, я слишком люблю тебя…
Она опомнилась, сама испугалась своего крика и, боязливо оглянувшись, отняла руки.
— Никого нет дома, — успокоил ее граф, нежно взял за руку и притянул к себе…
XXVII КРОВАВАЯ ДРАМА
— Нет, не виновна! — звучным голосом прочел старшина присяжных заседателей ответ на предложенный судом вопрос и бросил полный состраданья взгляд на стоявшую за решеткой у скамьи подсудимых, с опущенной низко головой, с грудным ребенком на руках, между двух солдат с ружьями у ноги арестантку. Почти все одиннадцать товарищей последовали его примеру.
Публика, наполнявшая буквально битком небольшую залу заседаний по уголовным делам рязанского окружного суда, встретила этот приговор взрывом рукоплесканий.
Председатель усиленно зазвонил.
Через несколько минут в зале водворилась та же невозмутимая тишина, как и пред прочтением ответа судей совести.
— В силу решения господ присяжных заседателей объявляю вас свободной от суда! — громко и отчетливо обратился председатель к подсудимой, все еще продолжавшей стоять около позорной скамьи неподвижно в прежней позе.
— Стража может удалиться.
Солдаты с шумом вышли из-за решетки.
Топот их ног, видимо, вывел из оцепенения оправданную: она подняла голову и обвела залу недоумевающим взглядом. Несчастная остановила его на своем защитнике — местном присяжном поверенном, назначенном ей от суда. Последний встал со своего стула, подошел к ней, что-то тихо сказал и подал ей руку.
Она крепко, с чувством пожала ее. На ее лице появилась горькая улыбка. Затем она наклонилась к своему ребенку и звучно поцеловала его. Разбуженный этим порывистым поцелуем, ребенок закричал.
Оправданная была молодая женщина замечательной красоты. Густые матово-черные волосы, выбившиеся из-под белого платка, которым она была повязана, окаймляли низкий, несколько выпуклый лоб, с темной линией тонких бровей над большими, красивыми черными бархатистыми глазами. Ее правильное овальное матово-бледное лицо было благородно, но холодно и, по временам, даже сурово.
Уродливый арестантский халат из тонкого серого сукна — преимущество арестантов «из привилегированных» — как-то особенно красиво, почти изящно облегал ее высокую, гибкую, грациозную фигуру.
На вид ей казалось не более восемнадцати лет. По обвинительному акту ей было, впрочем, двадцать два. В том же обвинительном акте значилось, что она варшавская жительница Анжелика Сигизмундовна Вацлавская и была предана суду по обвинению в предумышленном убийстве выстрелом из револьвера графа Владимира Николаевича Ладомирского.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.
Владимир Николаевич был красивый мужчина, лет тридцати пяти, высокий, статный шатен с матовым цветом выразительного, правильного лица и густыми шелковистыми, выхоленными усами.
Большой руки ловелас, он стал в короткое время кумиром провинциальных дам и девиц, а со своей стороны начал усиленно ухаживать за хорошенькой дочкой одного из местных купцов-миллионеров.
Утром в Фомино воскресенье к Владимиру Николаевичу явилась прибывшая накануне в город и остановившаяся в гостинице молодая женщина. После довольно продолжительного громкого разговора в кабинете, как рассказал слуга графа, вдруг раздался выстрел. Перепуганный лакей вбежал туда и увидал графа лежащим на полу и истекающим кровью. Приезжая же барыня стояла посреди комнаты с еще дымящимся револьвером в руках.
— Я убила этого негодяя, беги за полицией! — повелительным голосом обратилась она к нему.
Явившаяся полиция застала убийцу спокойно сидящей в кабинете, с револьвером в руке над похолодевшим уже трупом.
— Это я убила его! — сказала она, подавая револьвер прибывшему полицейскому офицеру.
По произведенному следствию выяснилось, что покойный граф Ладомирский увез ее из Варшавы за границу, увлекши, обещал жениться, а затем бросил, несмотря на ее беременность.
Собрав наскоро небольшую сумму денег, она бросила все и поспешила в Рязань. Приехав ночью, она остановилась в гостинице, где и отдала свой паспорт, а утром отправилась к Владимиру Николаевичу, захватив с собой взятый из дому револьвер большого калибра, с твердым намерением убить Ладомирского в случае отказа его признать ребенка и жениться на ней.
Он сделал и то, и другое, и даже в очень резкой форме.
Она выстрелила ему в левую сторону груди почти в упор, стараясь попасть в сердце и, как выяснилось по вскрытии, попала в него.
По освидетельствовании обвиняемой, она оказалась на последнем месяце беременности.
При обыске у ней найдены пятьсот двадцать два рубля и пачка писем к ней убитого Ладомирского.
Заключенная в тюрьму, она вскоре разрешилась от бремени девочкой, названной при св. крещении, совершенном, по желанию матери, в тюремной церкви, по православному обряду, Иреной.
С этим-то «плодом несчастной любви» на руках она предстала на суд присяжных.
Присяжные, как мы уже знаем, ее оправдали.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ КУПЛЕННЫЙ МУЖ
I СВЕДЕНИЯ СОБРАНЫ
В то утро, когда Ирена в первый раз ждала князя Сергея Сергеевича, последний в первом часу дня еще лежал в постели, отдыхая после бала.
Когда он проснулся, ему подали письмо Виктора Аркадьевича, заключавшее в себе извинение и объяснение его внезапного отъезда из Облонского.
Князь прочел письмо с некоторым удивлением, но не придал ему особенного значения.
Бобров был прекрасный молодой человек, очень честный, умный, князь любил его, но он все-таки был не из его общества — их интересы, склад их ума был различны.
Отсутствие его не могло быть очень заметно для князя среди гостей, наполнявших дом.
Письмо, написанное Виктором Аркадьевичем дрожощей рукой, со слезами на глазах и растерзанным сердцем, было забыто Сергеем Сергеевичем через несколько минут по прочтении.
Если бы князь взял на себя труд, то легко бы догадался о настоящей причине такого внезапного отъезда его «молодого друга», как он называл Боброва, так как был достаточно прозорлив, дальновиден и сведущ в сердечных делах, но, во-первых, после встречи с крайне заинтересовавшей его Иреной ему было не до того, а во вторых, он не мог допустить и мысли, чтобы сын дьячка мог полюбить кого-нибудь из рода Облонских, a особенно, чтобы какая-нибудь из Облонских могла полюбить сына дьячка, как бы красив, умен и знаменит он ни был.
Отъезд Виктора Аркадьевича произвел впечатление только на княжну Юлию и графиню Ратицыну, но впечатление совершенно различное.
Для Жюли это было первое, истинное, глубокое горе после испытанного ею при смерти матери.
Для Надежды Сергеевны этот отъезд представлялся грустной неизбежностью: она жалела и сестру, и Боброва, к которому питала искреннюю дружбу.
Княжна Юлия два дня не выходила из своей комнаты, никого не принимала, даже сестру, объясняя свое поведение усталостью после бала.
Наконец она решилась умыть свежей водой свои покрасневшие от слез и бессонницы глаза и выйти из своего добровольного заточения.
Когда Надежда Сергеевна подошла к ней, то была поражена холодностью ее обращения.
— Ты что-нибудь имеешь против меня? — спросила она ее.
Юлия пристально посмотрела на нее.
— Тебя это удивляет?
— Но что же я такого сделала?
— Ты выразила недоверие ко мне и к нему.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ты выгнала отсюда Виктора Аркадьевича.
— Я его не выгоняла, — ласково отвечала графиня. — Я с ним говорила, считая это своим долгом. Я его предупредила, как предупреждала и тебя. Он понял меня лучше, чем ты, так как поблагодарил меня и не сомневается в моей дружбе к нему.
— Чего же ты боялась?
— Чтобы твое увлечение не кончилось бы серьезным чувством.
— Слишком поздно, — ответила княжна Юлия, — не разлуке излечить меня от любви к нему, да я и не хочу излечиваться…
— Это серьезнее, чем я думала! — прошептала Надежда Сергеевна, окидывая сестру тревожным взглядом.
Приход Сергея Сергеевича прервал этот разговор.
Он был в прекрасном расположении духа, так как получил хорошие известия, только что выслушав доклад своего камердинера.
— Ваше сиятельство, вероятно, изволили беспокоиться? — начал Степан, входя после обеда в кабинет. — Но я хотел принести только подробные и неоспоримые сведения.
— Хорошо, посмотрим. Что же это за девушка? — спросил князь, удобнее усаживаясь на диване.
— Ирена Владимировна Вацлавская привезена сюда ее нянькой, Ядвигой Викентьевной Залесской, годовалым ребенком. Ядвига купила ферму, на которой и поселилась со своей воспитанницей. Когда последняя подросла, ей была нанята гувернантка, тринадцати же лет ее отдали в один из московских пансионов, где она находится до сих пор.
— Знает ли она, кто ее мать?
— Не имеет ни малейшего понятия.
— Бывали ли у нее какие-нибудь любовные приключения?
— Никаких! Это образец высокой нравственности.
— Анжель, видимо, приготовила из нее роскошное блюдо, — заметил князь.
— Вы совершенно правы, ваше сиятельство!
— А не узнал ты или не угадал, кому она предназначена?
— Этого сказать не могу, да мне и нечего было об этом беспокоиться, так как ваше сиятельство здесь…
— Какой же способ приступа?
— Никакого… нянька следит неустанно и строго.
— Черт возьми! — проворчал князь.
— Очень предана г-же Вацлавской… предупредила бы ее при первом подозрении, увезла бы молодую девушку или не пустила бы ее никуда от себя.
— Значит?..
— Значит, вашему сиятельству остается рассчитывать только на самого себя, но от этого, я полагаю, унывать вам нечего… Напротив…
— Ты в этом уверен?..
— Я наблюдал за барышней, не будучи ею замечен. Вот уже несколько дней, как она каждое утро ожидает ваше сиятельство…
— Ага!..
— Ваше сиятельство, как и следовало ожидать, очаровали ее, птичка поймана… вырваться не может.
— Ты думаешь?
— Уверен. Я видел ее сегодня возвращающуюся на ферму — она была так грустна, так печальна, что даже тронула меня…
— Тебя? — улыбнулся князь.
— Меня, ваше сиятельство!
— Это важно!
— Ваше сиятельство довольны мной?
— Совершенно!
Через несколько дней, как мы знаем, Ирена была уже на свидании не одна.
II ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
Прошло более двух месяцев. Каникулы подходили к концу. Через каких-нибудь две недели Ирена должна была вернуться в пансион.
Облонское, против обыкновения, в конце июля уже совершенно опустело.
Все гости разъехались.
Граф и графиня Ратицыны уехали последними и увезли с собой княжну Юлию.
Ее отец, внезапно и совершенно неожиданно для нее, решил взять ее из пансиона, где, по его мнению, ей было нечего делать, — доканчивать же свое светское воспитание она могла, по его словам, и в Петербурге, под руководством своей замужней сестры. Сергей Сергеевич переговорил об этом с графиней Надеждой Сергеевной и ее мужем, и они охотно согласились принять к себе в дом молодую девушку и руководить ее начинающеюся светскою жизнью.
— Мое положение вдовца лишает меня возможности исполнить всецело эту роль, — сказал князь старшей дочери, — ты же заменишь ей мать…
Юлия была в восторге.
Надо, впрочем, отдать ей справедливость, что не открывающаяся перспектива светских удовольствий шумной невской столицы была главною причиною этой ее радости — жизнь в доме сестры давала ей возможность снова видеться с любимым ею человеком.
Виктор Аркадьевич Бобров был друг дома Ратицыных.
Надежда Сергеевна угадывала существенную причину радостного настроения и шумного восторга своей сестры, и это сильно ее озабочивало.
Она боялась за будущее, но затаила эту боязнь в глубине своей души, дав себе слово быть настороже.
Разговора с сестрой на эту щекотливую тему она не возобновляла.
Сам князь Облонский, как, по крайней мере, говорил своему зятю и дочерям, а также и знакомым, должен был вскоре уехать по не терпящим отлагательства делам за границу и надеялся вернуться в Петербург лишь в половине зимнего сезона…
Этим объяснялся ранний отъезд его из Облонского, где в прежние годы пребывание его семьи обыкновенно продолжалось до половины сентября.
Он, видимо, с какою-то затаенною целью выпроваживал из замка и близких, и посторонних, и, лишь когда экипаж, увозивший его зятя и обеих дочерей, скрылся из глаз князя, стоявшего на террасе, он вздохнул полной грудью человека, сбросившего со своих плеч непосильную тяжесть.
Другая тяжесть, впрочем, осталась на его сердце.
Легкая летняя романтическая интрижка, начавшаяся встречей в лесу с дочерью Анжель, приняла совершенно неожиданные размеры и получила далеко не желательное для него направление.
Он день ото дня все более и более, к ужасу своему, видел и понимал, что увлечение этой наивной девочкой серьезно, что в его сердце, сердце старого ловеласа, привыкшего к легким победам, неразборчивого даже подчас в средствах к достижению этих побед, закралось какое-то не испытанное еще им чувство робости перед чистотой этого ребенка и не только борется, но даже побеждает в этом сердце грязные желания, пробужденные этой же чистотой.
Еженедельно два или три раза в продолжение двух месяцев он проводил с Иреной в лесу несколько часов; она не могла бывать чаще, не возбуждая подозрений Ядвиги, но эти свиданья не только не приближали его, но, напротив, казалось, отдаляли от намеченной им цели — обладания этим чистым, прелестным созданием.
Между тем жажда этого обладания увеличивалась прогрессивно вместе с возникающими нравственными преградами к его осуществлению.
Образ дочери Анжелики, этого честного, не тронутого растлевающим дыханием жизни существа, неотступно носился перед глазами влюбленного князя. Он не узнавал себя, насильственно зло смеялся над собой, составлял в уме планы, один другого решительнее, не доводил их до конца, чувствуя, что покорность, безусловное доверие к нему со стороны Ирены создали вокруг нее такую непроницаемую броню, разрушить которую не хватило сил даже в его развращенном сердце.
У него явилась потребность высказаться, спросить совета, помощи…
Сергей Сергеевич обратился к своему наперснику — Степану, призвав его в кабинет. С горячностью и задушевностью, достойными лучшего слушателя, высказал он ему свою серьезную тревогу.
В чуть дрогнувших мускулах бесстрастного лица лакея князь прочел осуждение своей слабости.
— Что же делать? Так тянуть далее невозможно!
— Мне ли учить ваше сиятельство! — уклончиво отвечал Степан.
— Говори, если тебя спрашивают! — крикнул Сергей Сергеевич.
— В домашней аптеке вашего сиятельства… — начал было Степан.
— Ни слова!.. — вскочил князь с кресла.
Вся кровь бросилась ему в голову. Степан почтительно отступил назад и смолк. Сергей Сергеевич быстрыми шагами стал ходить по кабинету.
— С ней… это невозможно… это подлость… она слишком чиста… — как бы про себя говорил он. — Я, наконец, хочу не бессознательной взаимности.
Во взгляде камердинера выразилось почтительное недоумение, вместе с неуловимым оттенком презрения к слабости решительного в прежнее время на этот счет барина.
— Ступай! — кинул князь Степану.
Тот вышел.
Сергей Сергеевич снова сел в кресло и задумался.
Вдруг он ударил себя по лбу и самодовольно улыбнулся.
«Обойдется и без аптечки… Экий дурак… — послал он по адресу своего верного слуги. — Конечно, придется дать ей слово, клятву, придется обмануть, но где и когда на пространстве всего земного шара, от сотворения мира до наших дней, происходили любовные истории без клятв и обмана?»
«Никогда и нигде!» — подсказал ему ответ его внутренний голос.
Откровенная, доверчивая Ирена подробно передала ему свой сон, разговор с матерью перед отъездом, свое несомненное убеждение в том, что виденный ею ее жених не кто иной, как он, князь Облонский — ее суженый, избранный ей в мужья самой Анжеликой Сигизмундовной.
Сергей Сергеевич полушутя, полусерьезно старался поддерживать в ней это заблуждение и теперь реши построить свой решительный ход на шахматной доске любви именно на этой слабой струнке души молодо девушки.
Он стал припоминать свои разговоры с ней на эту тему и с удовольствием убедился, что почва для решительного шага вполне подготовлена.
«Еще несколько слов, брошенных в ее доверчивую душу, и она поверит всему». Он решился сказать эти несколько слов в будущие свидания и объявил, как мы видели, домашним о необходимости заграничной поездки.
Прошло две недели. Ирена вполне поверила князю, что он тайно переписывается с ее матерью и что последняя очень довольна, что дочь любит ее избранника и всецело доверяется ему.
— Ты скоро с ней увидишься — я тебе готовлю сюрприз, — шепнул ей Сергей Сергеевич в последнее свидание перед отъездом зятя и дочерей из Облонского.
Наконец князь остался в деревенском доме один. Он мог теперь свободно, не стесняясь никем, приводить в исполнение задуманный план, некоторыми деталями которого он поделился со своим камердинером.
Когда экипаж, увозивший его зятя и дочерей, скрылся из виду и князь удалился в кабинет, перед ним как из земли вырос Степан.
— Прикажете мне ехать, ваше сиятельство?
— Да, да, поезжай и в ночь возвращайся обратно…
— Слушаю-с!
Камердинер направился к двери.
— А мои распоряжения на завтра исполнены? — остановил его князь.
— В точности, ваше сиятельство!
— Хорошо, ступай!
Степан вышел.
III ПОХИЩЕНИЕ
Было десять часов утра.
Князь Сергей Сергеевич, пришедший на этот раз первым, ждал на том самом перекрестке, где состояла его первая встреча с Иреной.
Никогда еще его взгляд не блестел таким живым огнем, тем огнем очей искусного генерала, когда последнему, после многих составленных и не приведенных в исполнение планов, удалось, наконец, привести врага на такую позицию, где победа является обеспеченной.
По временам только легкая тень омрачала его лицо.
Это было не беспокойство и не колебание, а скорее что-то похожее на угрызения совести.
Вдруг легкий шорох листьев заставил его поднять голову.
Ирена быстро приближалась к нему.
— Я не опоздала?
— Нет, я пришел раньше, — отвечал он, обнимая ее.
— Мне очень было трудно вырваться из дому. Няню Ядвигу начинают беспокоить мои частые прогулки… и я даже начинаю теряться, чем объяснить ей мое отсутствие.
— Все это скоро кончится, ненаглядная моя, — нежно прошептал он ей на ухо.
— Неужели? — радостно воскликнула она.
— Как я обещал… через несколько часов.
Он загадочно улыбнулся.
— Тебе нечего будет больше скрывать… и не придется больше лгать.
— О, тем лучше! — ответила она. — Я знаю, что моя мать покровительствует нашей любви, как я угадала сразу, и что ты именно тот, кому она меня предназначила, но лгать моей бедной няне даже для того, чтобы доставить тебе удовольствие… мне тяжело. Во лжи вообще есть что-то ужасно неприятное, чтобы лгать, нужно презирать или того, кому лжешь, или себя самое. Когда я вижу, что Ядвига верит тому, что я ей говорю, я чувствую, что мне стыдно за ее доверие. Иногда я себя спрашиваю, не принесет ли мне это несчастье?
— Что за вздор!
Ирена задумчиво продолжала:
— Я дрожу при мысли, что ты сам будешь меня меньше уважать и скажешь себе: «Кто солгал — тот солжет». Ты подумаешь, что когда-нибудь я солгу и тебе…
— Нет, этого-то я прошу не делать, — засмеялся он, — меня, впрочем, и не так легко провести, как Ядвигу.
— Не такого ответа я ожидала! — нежно сказала она, и в тоне ее голоса прозвучала грустная нотка.
— Вот как! Какого же ответа?
— Надо было ответить: «Мне ты никогда не солжешь, потому что ты меня любишь всем сердцем и истинно любить нельзя того, кого обманываешь…»
— Ты меня поражаешь, — проговорил князь с неопределенною улыбкой. — Я не знаю, где ты черпаешь все то, что говоришь?
— В моей любви! Разве ты не в любви почерпнул все то, что говорил мне в течение этих двух месяцев?
— Без сомнения!
На минутку он потупил глаза под взглядом молодой девушки.
— Пойдем, — поспешно сказал он ей, — я тебе обещал сюрприз.
— Куда мы пойдем?
— Дай мне руку. Я тебя поведу.
Она взяла князя под руку и со счастливою, довольною улыбкою последовала за ним.
Разве она могла ему не доверять?
Они шли около получаса, разговаривая, смеясь, как истинные влюбленные, счастливые возможностью быть вместе, вдали от посторонних взоров, идти по мягкой траве, вдыхать благоухание леса, смотреть друг другу в глаза, слушать друг друга, делиться впечатлениями или даже просто молчать, что при любви бывает подчас красноречивее слов.
Ирена не обращала внимания на путь, однако, в конце концов, она заметила, что находится в совершенно незнакомой ей части леса.
— Куда же мы идем? — спросила она с некоторым удивлением, но без малейшего страха.
Разве женщина чего-нибудь боится, когда идет с любимым человеком?
— Мы уже пришли! — отвечал князь.
Они действительно подошли к концу просеки, выходящей на большую дорогу.
Их, видимо, ожидала тут дорожная карета, запряженная четверкой прекрасных лошадей.
Кучер, одетый по-ямщицки, в шляпе с павлиньими перьями, сидел на козлах.
Около экипажа медленно прохаживался камердинер князя Степан.
— Все готово? — спросил князь, подходя вместе с Иреной к карете.
— Все, ваше сиятельство! — отвечал Степан.
Молодая девушка остановилась в нерешительности.
— Что с тобой? — нежно спросил Сергей Сергеевич. — Разве ты мне не доверяешь?
— Нет, — взволнованно отвечала она, — я тебе верю, я верю, что ты увозишь меня по поручению моей матери, с которой я сегодня же увижусь. Ведь правда, увижусь?
Она из-под широких полей своей шляпы умоляющим взглядом посмотрела на него.
— Ведь я же обещал! — нетерпеливо и уклончиво произнес князь.
Он открыл дверцы.
— Садись! — сказал он и, подняв ее на руки, усадил в карету и сам сел рядом.
— Пошел! Живо! — крикнул Степан кучеру и, ловко вскочив на козлы, занял свое место рядом с ним.
Карета быстро покатила по московскому шоссе. Успокоенная перспективой близкого свидания со своею матерью, Ирена весело болтала со своим спутником, с удовольствием нежась в мягких подушках роскошного экипажа.
Время летело незаметно, карета уже катила по улицам Белокаменной и остановилась у широкого подъезда одной из лучших московских гостиниц.
Швейцар широко распахнул двери, а, видимо, ожидавший приезда князя лакей с почтительными поклонами провел его и Ирену в лучшее отделение отеля.
— Ах, как здесь хорошо! — наивно воскликнула молодая девушка, пораженная роскошью меблировки комнат, в которые они вошли.
Отделение состояло из четырех комнат и небольшой передней. Они были убраны действительно роскошно и со вкусом.
Во второй комнате стоял стол, покрытый скатертью ослепительной белизны. На нем блестели серебро и хрусталь двух приборов, стояли вазы с фруктами и конфетами, бутылки и графины всевозможных форм.
Третья комната, в особенности поразившая Ирену, была вся обтянута белым шелком, вышитым цветами; прямо против двери в стене было громадное широкое зеркало; причудливой разнообразной формы мягкая мебель была разбросана в изящном беспорядке у стен, по углам и даже посередине уютного гнездышка, пол которого был покрыт мягким ковром. Масса тропических растений и цветов в жардиньерках и вазах наполняли всю комнату нежным ароматом, смешивающимся с каким-то тонким, но одуряющим запахом духов, которыми была пропитана атмосфера остальных комнат.
Рядом с собой в зеркале Ирена увидала князя, близко наклонившегося к ее хорошенькому личику, смотревшего на нее страстным, решительным взглядом, который пугал ее, но вместе с тем и очаровывал, делая ее слабее ребенка.
— Как все это хорошо! — повторила она с широко раскрытыми от удивления глазами.
Князь, воспользовавшись моментом, ловко снял с нее шляпку и накидку.
Она и не заметила, как очутилась в одном платье. В своем простеньком наряде, мягко и красиво обрисовывавшем ее гибкий стан, Ирена была очаровательна.
Довольно низко вырезанный ворот обнаруживал ее грациозную шейку, полуоткрытые рукава показывали белые красивые руки почти до самого локтя.
Вдруг она как бы застыдилась, на глазах ее показались слезы.
Ее охватил инстинктивный страх.
— Что с тобой опять, Рена? — спросил он, впиваясь ласкающим взглядом в ее смущенный взгляд.
— Я… я… не знаю, мне что-то страшно… Где же моя мама?
— Она приедет сюда сегодня или завтра…
— Завтра?.. — испуганно повторила она.
— Ну да, разве тебе скучно со мной? Посмотри, какая ты хорошенькая. — Не дав ей даже ответить, он повел ее к зеркалу.
Ирена взглянула на себя сначала застенчиво, а потом с улыбкой.
Она осталась довольна собой.
Вдруг она вскрикнула от удивления.
На ее шее что-то ослепительно заблестело; это было бриллиантовое ожерелье, надетое и застегнутое незаметно для нее князем.
Ирена остановилась как вкопанная. Она никогда не видала ничего подобного. Она была так ослеплена, что, впрочем, не помешало ей заметить, что шея ее в ожерелье казалась красивее.
Князь продолжал свое дело. Он снял перчатки с рук молодой девушки. Она не сопротивлялась, почти бессознательно спрашивая себя, не сон ли это?
Он надел ей на обнаженные руки два браслета превосходной работы, на одном, тонком, блестел громадный рубин, другой, более широкий, был весь усыпан бриллиантами.
— Теперь к столу! — весело сказал он, отводя силой Ирену от зеркала. — Ты должна хотеть и пить, и есть — ты, наверное, утомилась с дороги?
Она послушно последовала за ним во вторую комнату, где уже был накрыт роскошный завтрак. От поставленных в их отсутствие на стол блюд с изысканными и дорогими кушаньями несся раздражающий аппетит запах.
IV НЯНЬКА
Частые и довольно продолжительные прогулки Ирены стали, как мы уже знали из ее слов, тревожить ее няньку, хотя Ядвига была далека от каких-либо подозрений, имеющих хотя бы малейшее отношение к действительно происходившему.
Она считала Ирену, по привычке всех нянек, питомцы которых выросли на их глазах, еще совершенным ребенком, и мысль о каких-либо любовных похождениях даже самого невинного свойства, в которых бы играла роль ее «девочка», не укладывалась в голове старой польки. В день последней прогулки ее воспитанницы она как-то инстинктивно стала тревожиться ее отсутствием ранее обыкновенного. Когда же наступило время завтрака, а Ирены все не было, Ядвига положительно испугалась.
— Мало ли что может случиться, и как это я, старая дура, отпускаю ее одну! Она стала такая нервная, слабая, чего-нибудь испугается, упадет в обморок, — корила себя она, с тревогой поглядывая из окон своей комнаты на калитку, ведущую в лес, которую Ирена, спеша на свиданье, забыла затворить.
— Но ведь она гуляет одна целое лето и ничего не случалось… может быть, просто забралась далеко… — старалась она оправдать и утешить самое себя.
Время между тем шло, а Ирена не появлялась.
Беспокойство Ядвиги стало расти. Она послала работника в лес искать барышню и с беспокойным нетерпением стала ждать его возвращения.
Он ходил, казалось ей, очень долго и вернулся один. По его словам, исходив весь лес, он не нашел барышни.
Наступило время обеда, а Ирена все не возвращалась.
Залесская разогнала по лесу всех своих работников и работниц, но они все, иные уже почти к вечеру, вернулись на ферму и заявили, что барышни в лесу нет.
Весть о таинственном исчезновении Ирены, бывшей любимицей не только живущих на ферме, но и всего села Покровского, с быстротою молнии облетела все село.
— Она заблудилась… она умерла… Пропала моя головушка… — на все лады бессмысленно причитала Ядвига, рвавшая на себе волосы.
Она и сама обегала добрую половину Облонского леса, крича изо всей силы имя своей питомицы, но только эхо в некоторых местах откликалось на ее зов.
Поздно вечером на ферму явился один из крестьян села Покровского, только что прибывший из Москвы, и передал Ядвиге, что сегодня, когда он ехал в город, почти у самой заставы его обогнала дорожная карета, запряженная четверкой, и в ней он увидал своими глазами барышню — Ирену Владимировну.
— Когда это было?
— Да уже за полдень! Я еще подумал, что это так рано наша барышня-то укатила, аль мамаша за ней приехала, только одно мне показалось сомнительно…
— Что?
— Рядом с ней, кажись, сидел какой-то барин!
— Это ты обознался! — вскрикнула Ядвига, хотя в душе поняла, что мужик говорит правду.
— Видит Бог, не лгу, как сейчас ее вижу, сидит веселая такая.
— Веселая!.. Нет, это не она! — строго сказала Залесская.
Крестьянин ушел.
После его ухода она тотчас же пошла в комнату молодой девушки. Стоявшие в ней цветы распространи ли нежное благоухание. Окно было открыто. Постель постлана, как всегда. Особенного беспорядка не замечалось, исключая двух брошенных на стул платьев, доказывавших, что Ирена перед уходом не знала, какое надеть.
Ядвига стала искать какого-нибудь следа, который мог бы указать ей, что происходило в сердце молодой девушки перед ее уходом из дому.
«Было ли это заранее обдуманное намерение, или же она уступила какой-нибудь неожиданной просьбе?
Может быть, она оставила письмо, записку… Так не уезжают, не простившись, для этого нужно быть слишком черствой душой…
А Рена была такая добрая».
Так думала и рассуждала сама с собой добродушная женщина, все продолжая свои поиски.
Она не нашла ничего.
Все было на своем месте, но ни письма, ни малейшего знака, могущего объяснить, указать, не находилось.
«Если она уехала с мужчиной, с любовником, — продолжала соображать Ядвига, — то, стало быть, она его знала уже давно. А я, старая дура, этого и не замечала!»
Она снова предалась неописуемому отчаянию, бегая по комнате со сжатыми кулаками, как бы преследуя соблазнителя и похитителя ее «девочки».
«Но, — вдруг остановилась она, — он, может быть, написал».
Она снова принялась искать, переворачивая все в ящиках стола и комода, шаря по карманам платьев, встряхивая подушки, простыни, одеяло.
В этих поисках прошло более половины ночи, но они не привели, конечно, ни к каким результатам, так как князь Облонский был не из тех, которые пишут женщинам.
Утомившись, Ядвига опустилась наконец на стул, не решаясь, впрочем, уйти из той комнаты, где она все-таки чувствовала себя ближе к Рене, где все напоминало о ней.
Она напрягала слух, не слышно ли какого-нибудь стука, не подъезжает ли экипаж, может быть, Рена вернется, а может быть, мужик и ошибся.
Наступило утро. Ядвига мало-помалу успокоилась. Мысли ее прояснились.
«Заявить полиции! — мелькнуло в ее голове. — Но это будет, несомненно, оглаской. Спросят, кто мать этой девочки? Где она живет? Чем занимается?»
Ядвига знала, что Анжелика Сигизмундовна более всего боится такой огласки.
«Надо ехать к ней самой!» — решила старая полька и, передав заведование фермой своей помощнице — преданной женщине, с первым же поездом уехала в Москву, а затем в Петербург.
V НА ДАЧЕ У АНЖЕЛЬ
Было два часа дня.
Анжелика Сигизмундовна Вацлавская только что встала, выпила утренний шоколад и вышла в роскошном домашнем неглиже на террасу своей дачи.
Она была в этот день в хорошем расположении духа. Она решила через какие-нибудь два-три месяца покинуть не только Петербург, но и Россию, и уехать со своей ненаглядной дочерью, со своей дорогой Иреной, за границу, в Италию. Она поручила уже комиссионерам исподволь подыскивать ей покупателя на дачу — всю же обстановку как дачи, так и петербургской квартиры она решила поручить продать с аукциона. Подведя итоги, она была довольна крупной суммой своего состояния.
«Рена у меня не бесприданница, таким кушем не побрезгает даже иностранный принц!» — самодовольно думала она.
Перед ней носился дорогой образ красавицы дочери — этого чистого, невинного создания.
Вдруг взгляд ее упал на извозчичью пролетку, остановившуюся у решетчатых ворот дачи.
Из нее выходила женщина.
Анжелика Сигизмундовна узнала Ядвигу.
Она почувствовала, что у нее остановилось сердце, и она как бы застыла с наклоненной головой, казалось, ожидая готового разразиться над ней громового удара.
Залесская, между тем, торопливой походкой прошла сад и поднялась на террасу.
— Что случилось с Реной?! — вскричала Анжелика Сигизмундовна.
Она бросилась к Ядвиге и схватила ее за руки.
— Она умерла?
— Нет!
— Больна, умирает?
— Нет.
— Так что же?
Залесская еще ниже опустила голову.
— Что же, что же? — простонала Анжелика Сигизмундовна и вдруг схватилась руками за голову.
Она поняла.
— Это невозможно!
— Она уехала… — чуть слышно прошептала Ядвига.
— Уехала, куда, как?
— Не знаю… Ее увезли!
— Увезли!
Она хрипло вскрикнула, схватила Ядвигу за руку и с необычайной силой потащила ее в гостиную.
— И ты осмеливаешься это говорить, — продолжала она глухим голосом. — Ты, ты…
— Ради Бога, выслушайте меня… Вот как это случилось.
Ядвига подробно рассказала все, что знала.
Анжелика Сигизмундовна, овладев собой после первого порыва отчаяния, слушала ее стоя, неподвижная, бледная как полотно, с искаженным лицом.
— И это все! — почти холодно произнесла она по окончании рассказа няньки.
— По крайней мере все, что я знаю. О, вы даже не в состоянии меня обвинять так, как я сама себя обвиняю за мою глупость, за мое доверие… — говорила Ядвига, обливаясь слезами и ломая руки.
— Все это пустяки, — прервала ее Анжелика Сигизмундовна. — Что сделалось, того не воротишь. Я сама узнаю, насколько ты виновата. Дело не в слезах и не в отчаянии. Надо действовать, разыскать Рену и спасти ее, если есть время, узнать, кто этот человек. Кого ты подозреваешь?
— Никого!
— Ты ничего не замечала?
— Клянусь вам, я никого не видала около фермы.
— В таком случае, это насилие!
— Не думаю.
— Почему?
— Та, которую видели в карете, весело улыбалась.
Анжелика Сигизмундовна ходила взад и вперед по гостиной, подобно разъяренной львице в клетке.
— Вся моя жизнь снова разбита! — прошептала она. — Я проклята.
Она остановилась, посмотрела на Ядвигу и протянула ей руку.
— Я не сержусь на тебя. Мать должна сама наблюдать за своей дочерью, а я такая мать, которая не могла этого сделать!
— Вы на меня можете не сердиться, вы меня можете прощать, но я себе этого никогда не прощу. Я теперь многое припоминаю…
— Что такое?
— У девочки изменился характер.
— С каких пор?
— На другой день после вашего отъезда. Она против обыкновения не скучала. Меньше об вас говорила. Была веселее, чем прежде, кокетливее… Чаще стала совершать продолжительные прогулки… Я этому радовалась…
Анжелика Сигизмундовна опустилась в кресло, закрыла лицо руками и долго хранила глубокое молчание.
Ядвига молчала тоже, уважая сдерживаемую душевную боль матери.
— Это человек богатый… и немолодой!.. — вдруг начала, как бы разговаривая сама с собой, Анжелика Сигизмундовна.
— Почему вы так думаете? — не удержалась, чтобы не спросить, Ядвига.
— Мне знакомы подобного рода дела! Эти кареты… вся обстановка… Молодой человек, особенно влюбленный, выказал бы себя… сделал бы какую-нибудь неосторожность… Скрытность Рены, ее обдуманное молчание… все это было ей предписано… Очевидно, он все предвидел… Я узнаю ловкую руку, наторевшую в руководстве женщинами, умеющую скрыть концы любовных похождений… Бедная, бедная Рена! Мужчины — это подлые, низкие, презренные существа… Ты по своему неведению попала в их страшные когти… Нужно узнать… и я узнаю…
Она вдруг поднялась с места.
— Если поздно спасти тебя, то не поздно отомстить за тебя! — воскликнула она, ломая руки. — Ядвига, — быстро сказала она, — ты переночуешь у меня… Завтра мы вместе поедем…
— Куда?
— В Покровское! Я сама произведу следствие.
— Но разве вы не обратитесь в полицию, в суд?.. Я хотела так сделать, но побоялась без вас…
— И хорошо поступила. Никогда!.. Лучше умереть!
Ядвига смотрела на нее удивленно вопросительным, взглядом.
— Как же вы хотите ее найти?
— Да разве ты не понимаешь, что женщина, подобная мне, не может ничего предпринять или предъявить жалобу — это значит отдать себя на посмешище толпы, оскандалить мою дочь!.. Мне жаловаться на то, что соблазнили мою дочь!.. О, как над этим станут потешаться все… и в моем кругу… и в кругу порядочных людей. Кто поверит моему горю? Кто поверит искренности моих слез? Разве ты-то не знаешь, что все, что ты здесь видишь, — позор. Что вся эта роскошь, меня окружающая, — грязь. Что одно мое имя — бесчестие. Все эта, прольется потоком грязи на мою дочь… Я загрязню ее гораздо больше, если буду публично требовать ее возвращения, чем похитивший ее подлец, который, едва пройдет его минутное увлечение, прогонит ее.
— Однако… может быть, если он ее любит… она так прелестна… я не могу верить…
— Он ее не любит! — повторила Анжелика Сигизмундовна со смехом, заставившим содрогнуться Ядвигу. — Любовь… всех этих мужчин… я знаю, чего она стоит, для меня это, к несчастью, не новость! Но довольно об этом! Я решила даже не откладывать до завтра… Мы едем сегодня же вечером.
Ядвига молча стояла перед своей бывшей воспитанницей и, казалось, была теперь более потрясена страшным презрением последней к самой себе и другим, нежели несчастьем, постигшим Рену.
На следующий день они обе уже были в Покровском.
VI СЛЕДСТВИЕ
В продолжение целой недели Анжелика Сигизмундовна молча утром уходила с фермы, молча возвращалась бледная, утомленная, расстроенная.
Ядвига не смела ее расспрашивать.
Однажды вечером она вернулась позднее обыкновенного. Глаза ее блестели. Она молча села в угол своей комнаты, бывшей когда-то комнатой дочери. Она поселилась в ней по ее собственному желанию. Нянька последовала за ней.
— Я знаю теперь все! — после некоторого молчания произнесла Анжелика Сигизмундовна дрожащим голосом.
— Кто же он? — спросила Ядвига.
— Князь Облонский.
Ядвига отступила.
— Как! Этот важный барин, уже далеко не молодой… Это невозможно!
— Он!
— Но ведь здесь его все уважают, так хорошо о нем отзываются… У него самого две дочери, одна невеста, другая уже замужем… Серьезный человек, отец семейства…
Анжелика Сигизмундовна пожала плечами.
— Это ничего не значит! Я его знаю. Он первый, кого я подозревала в самом начале твоего рассказа… Он умеет прельстить… Это самое худшее, чего я могла ожидать… Это проклятие… Я знала, что у него здесь имение, в котором он проводит каждое лето, но могла ли я взять от тебя Рену? Тебе я одной доверяла… И, наконец, этого-то я от него не ожидала.
— Но как же вы разузнали?
— О, я могла бы убедиться в этом неделю тому назад, но впопыхах от неожиданности удара забыла главное — поехать в пансион г-жи Дюгамель. Я сделала это Только сегодня после обеда, и оказалось, что бумаги Рены взял обманом князь Облонский, вместе с бумагами своей дочери Юлии, уверив начальницу, что действует по моему поручению. Я не показала и виду, что это не так, что было для меня тем возможнее, что г-жа Дюгамель первая начала мне передавать о его к ней визите. Это только подтвердило окончательно мои подозрения, так как еще сегодня утром я знала, что это он.
— Почему же?
— Я разузнала все в Облонском. С деньгами можно заставить говорить прислугу. Десять дней тому назад князь внезапно выехал из имения, причем карету попали к лесу. Ранее, наконец, одна из горничных княжеского дома, у которой было назначено с кем-то свидание в лесу, встретилась с князем, но успела от него спрятаться и увидала его с молоденькой и очень хорошенькой, на вид благородной, не похожей на крестьянку девушкой.
— На что же вы решились? Преследовать его? — с волнением спросила Ядвига.
— Нет, я против него юридически бессильна, особенно теперь, когда он знает тайну рождения Рены. Он может заявить, что я ему сама продала ее, и ему поверят…
— Что же делать?
— Спрятаться и молчать. Его нет в Москве, он, вероятно, укатил с ней за границу, но он вернется, вернется в Петербург. Надо только, чтобы он считал меня в отсутствии.
— Но хорошо, положим так — он вернется… Что же тогда?
— Что тогда? Я пока еще сама ничего не знаю, но горе ему…
Анжелика Сигизмундовна злобно заскрежетала зубами.
На другой же день она уехала в Петербург, приказав Ядвиге как можно скорей продать кому-нибудь роковую для них обеих ферму и тотчас же после продажи приехать к ней.
По приезде на берега Невы она казалась по наружности уже совершенно спокойной и повела свой обыкновенный образ жизни, хотя стала торопить комиссионеров продажею дачи и распускала слух, что через несколько месяцев намерена уехать года на два за границу.
В составленном плане ей был далеко не лишним опытный помощник, и она остановилась на знакомом уже читателям Владимире Геннадиевиче Перелешине.
«Я поторопилась!» — подумала она, припомнив сцену между ней и последним менее чем за неделю до привезенного ей Ядвигой потрясающего известия.
Владимир Геннадиевич по обыкновению явился за субсидией, но она не только что отказала ему, но почти прогнала от себя.
— Я не нуждаюсь более в ваших услугах, — холодно отвечала она ему, — можете даже не беспокоиться посещать меня…
— Не нуждаетесь, — прохрипел он, — значит, вы думаете, что меня можно прогнать как лакея? Ошибаетесь.
Он посмотрел на нее угрожающим взглядом. Она не сморгнула.
— Вы совершенно напрасно надеетесь меня испугать, я не из трусливых… — холодно заметила она. — Я, право, не понимаю даже, чего вы от меня хотите?..
— Исполнения просьбы…
— Кто просит, тот, значит, не может требовать.
— Я могу, но не хочу! — запальчиво произнес он.
— Вы? — презрительно поглядела она на него.
Он смутился от ее тона и взгляда.
— Однако вы не посмеете отрицать, что я вам оказал много услуг…
— Вам за них заплачено, и заплачено щедро… Вы этого, надеюсь, тоже не посмеете отрицать…
— Это относительно! — уклончиво отвечал он.
— Вы сами заявили, что довольны…
— Но я могу и в будущем быть вам полезным, хотя и отрицательно.
— Я вас не понимаю.
— Я могу быть вам вреден.
— Вы? — уставилась она на него.
— Да, я, я могу многое порассказать…
— Кому?
Этот простой вопрос поставил в тупик Владимира Геннадиевича. Он только сейчас сообразил, что за последнее время, после совершенно разоренного Гордеева, уехавшего на службу в Ташкент, у Анжель не было обожателей, на карманы которых она бы рассчитывала и которыми вследствие этого дорожила.
Тех, которых он ввел в ее салон, постигла печальная судьба — она не обращала на них внимания. Все они были для нее слишком мелки…
Он, как читатель, наверное, уже догадался, играл относительно Анжель роль фактора, поставляющего своеобразный «живой товар», в виде кутящих сынков богатых родителей, известных под характерным именем «пижонов». Зная ее тайны, он, конечно, мог всегда подвести ее относительно ее покровителей, которых одновременно бывало по нескольку.
Теперь положение дел изменилось.
Он понял это и молчал.
Анжелика Сигизмундовна встала.
— А за то, что вы осмелились мне угрожать, я уже совершенно серьезно объявляю вам, что надеюсь разговаривать с вами в последний раз…
В ее глазах блеснул угрожающий огонек. Она медленно вышла из гостиной, оставив своего гостя в печальном одиночестве.
— Зажирела… — с бессильною злобою проворчал? он, — ну, да я тебе покажу!
Он взял шляпу и уехал.
Эту-то сцену и припомнила Анжелика Сигизмундовна.
— Все это пустяки! Надо послать за ним! — сказала она себе.
Она хорошо знала нравственную физиономию своего «верного слуги».
За деньги он перенесет данную ему без свидетелей пощечину.
Она распорядилась.
Посланный вернулся с ответом, что г-н Перелешин уже около месяца как уехал из Петербурга, куда и надолго ли — неизвестно.
Спустя два месяца среди столичных виверов разнеслась весть об отъезде Анжель, этой «рыжей красавицы», за границу.
Вся столичная золотая молодежь и масса «этих дам» присутствовали на аукционе обстановки ее квартиры на Большой Морской.
Купили, впрочем, почти все маклаки. Дачу на Каменном острове со всей обстановкой приобрел для своей подруги сердца один невский банкир, вскоре после этого вылетевший в трубу.
VII ОН ОТОМСТИЛ
В те два месяца, которые провела Анжелика Сигизмундовна по возвращении из Покровского до дня своего исчезновения с горизонта петербургского полусвета, она ни на йоту не изменяла режима своей жизни и была по наружности по-прежнему холодна и спокойна.
Она только немножко похудела и в ее чудных глазах стал чаще появляться злобный огонек, что, впрочем, придавало ее взгляду особую «адскую» прелесть и силу.
Дорого, однако, обходилось ей это показное спокойствие, и лишь оставаясь наедине с собой, она вволю предавалась мрачному отчаянию, изрыгая всевозможные проклятия и угрозы по адресу князя Сергея Сергеевича Облонского.
Как ни тяжел был удар, обрушившийся на нее при известии об исчезновении ее дочери, сила этого удара увеличилась, когда она узнала, что похитителем Ирены был не кто иной, как князь.
— Это самое худшее, чего я могла ожидать, — сказала она, как припомнит читатель, Ядвиге. — Это проклятие!
К страданиям, причиненным ей позором ее любимой дочери, присоединялось озлобление против самой себя при внутреннем неотвязчивом сознании, что любовным приключением князя Облонского и Рены она, Анжель, была потрясена и оскорблена не только как мать, но и как женщина.
Она сама любила Сергея Сергеевича — любила до ненависти.
Он погубил ее дочь, ее дорогую Рену, — она проклинала его, но в сердце ее, независимо от ее воли, шевелилось другое бесившее ее чувство — ревность к своей дочери.
Она принималась проклинать себя, старалась всею силою своей закаленной жизнью воли сбросить с себя этот страшный кошмар рокового двойного ощущения, но напрасно…
В томительные, проводимые ею без сна ночи или, правильнее сказать, при ее жизненном режиме, утра, образ князя Облонского неотступно стоял перед ней, и Анжель с наслаждением самоистязания вглядывалась в издавна ненавистные ей черты лица этого человека и доходила до исступления при мысли, что, несмотря на то, что он стал вторично на ее жизненной дороге, лишал ее светлого будущего, разрушал цель ее жизни, лелеянную ею в продолжение долгих лет, цель, для которой она влачила свое позорное существование, причина этой ненависти к нему не изменилась и все оставалась той же, какою была с момента второй встречи с ним, семнадцать лет тому назад. Этой причиной была любовь.
Она живо и ясно припоминала, как будто это было вчера, появление князя Сергея Сергеевича в ее салоне в первый год ее петербургской карьеры в качестве «львицы полусвета».
Его изящный, обаятельный образ проносился перед ней, ей явственно слышался его грудной, в душу проникающий голос.
«Он умеет прельщать!» — мелькала в ее уме фраза, сказанная ею Ядвиге. Она знала это по опыту и знала также, что протекшие годы не произвели почти никакого разрушающего действия ни на внешнюю, ни на внутреннюю физиономию этого «вечно юного ловеласа высшего разбора».
Она вспоминала, что чуть было она сама, она — Анжелика Сигизмундовна Вацлавская, с так недавно разбитым сердцем, с руками, на которых еще не успела обсохнуть кровь убитого ею любимого человека, не увлеклась ухаживаниями князя, не бросилась в его объятия с безумной бесповоротной решимостью посвятить ему одному всю свою жизнь, умереть у его ног, когда угаснет любовь в его ветреном сердце, забыв и свою цель, и свою, тогда еще малютку, дочь.
Она живо помнила, какое впечатление производил на нее в Варшаве, в доме Ладомирских, этот человек и сколько нравственной ломки пришлось ей произвести над собой, чтобы выйти победительницей в борьбе с нахлынувшим на нее к нему чувством, после подлого поступка с ней Владимира, тем чувством любви, страсти, самое воспоминание о котором она, казалось ей, похоронила навсегда в стенах Рязанского острога.
Она бросилась в Москву, в Покровское, и там только, на ферме Ядвиги, у колыбели Рены, нашла в себе вновь силу повторить свою клятву и вернуться в Петербург во всеоружии неспособной к малейшему проявлению истинной любви бесстрастной женщины.
Данная ею клятва была несложна. Вышедши оправданной из Рязанского окружного суда, вернувшись в Варшаву вместе со своею дочерью, она, устроив свои дела, увидала себя обладательницей небольшого капитала, тысяч в пятнадцать рублей. Захватив с собой свою няньку Ядвигу, она поехала в Москву, купила ферму близ Покровского и оставила на попечении старой польки малютку Рену.
Положив на имя Залесской в один из московских банков три тысячи рублей, она с остальными деньгами решила перенести свою деятельность на берега красавицы Невы.
В бессонную ночь накануне отъезда, проведенную ею у колыбели спавшей невинным младенческим сном дочери, дала она эту несложную, но страшную клятву.
«Всю оставшуюся в моем сердце любовь и нежность посвящу я тебе, дорогое несчастное дитя! — сказала Анжелика Сигизмундовна. — Никогда, ни к одному мужчине в мире не появится в нем ничего, кроме холодного презрения; ты лишена одним из них имени, я доставлю тебе громадное состояние, которое в наше время заменит всякое имя. У меня нет его теперь, но оно будет — у меня есть красота, — она тот же капитал. Она явилась одной из причин твоего появления на свет, я пожертвую ею же для тебя. Я заставлю мужчин пресмыкаться у ног моих, дорого платить за мои ласки, за мою кажущуюся страсть — страсть погубила меня, на ней же я построю твое и мое отмщение. Я буду беспощадна в разорении этих подлецов, чтобы их почти всегда покрытыми грязью деньгами упрочить благосостояние дочери подлеца. Клянусь тебе в этом тем, что у меня осталось дорогого в этом мире, — твоею жизнью!»
Она наклонилась и поцеловала ребенка, как бы запечатлев свою клятву этим поцелуем.
Эту-то клятву повторила она после чуть было не роковой для нее второй встречи с князем Сергеем Сергеевичем Облонским.
Все это она припоминала в бессонные ночи. Воспоминания ее неслись далее.
Она возвратилась в Петербург. Ее отсутствие произвело впечатление на Облонского. Разлука, хотя кратковременная, с женщиной, которой он серьезно увлекся и которая притом, по ее положению, казалась такой доступной, взбесила нетерпеливого князя. По ее возвращении он стал ухаживать усиленнее, настойчивее, но, увы, безуспешно, и притом на глазах у более счастливых соперников, поглядывавших на него с худо скрываемыми насмешливыми улыбками.
«Рыжая красавица» Анжель для него, князя Облонского, привыкшего одним взглядом своих ласкающих глаз покорять женщин с безупречной репутацией, оказалась недоступной Минервой.
Сергей Сергеевич выходил из себя.
Анжелика Сигизмундовна продолжала держать его в почтительном отдалении.
Всему бывает конец, и князь принужден был примириться со своим положением. Сохранив с Анжель игриво-дружеские отношения, он, казалось, сделался к ней совершенно равнодушен, хотя по временам в его красивых, полных жизни глазах появлялось при взгляде на нее не ускользавшее от нее выражение непримиримой ненависти и жажды мести за оскорбленное самолюбие.
Она платила ему той же, прикрытой массой холодного равнодушия, ненавистью.
Такие отношения установились и продолжались между ними.
— Он отомстил, жестоко, безжалостно отомстил! — воскликнула она при этих воспоминаниях, ломая в отчаянии свои красивые руки. — Но и я не останусь в долгу у тебя, ненавистный человек! — почти рычала Анжель. — Если поздно спасти Рену и отомстить за себя, за годы причиненных мне тобою нравственных терзаний, то не поздно никогда жестоко отомстить тебе за нас обеих.
VIII СОРВАЛОСЬ
— Что ты ничего не кушаешь и не дотрагиваешься даже до твоего стакана? — говорил князь Сергей Сергеевич Ирене, сначала весело, под впечатлением дорогих, подарков и осмотра себя в зеркале, усевшейся за стол, но потом вдруг затуманившейся и сидевшей безмолвно, с опущенными глазами.
— Я сыта! Вина же я никогда не пила и не хочу его! Я бы лучше выпила воды, — тихо, не подымая головы, произнесла молодая девушка.
— Воды! — весело продолжал он. — Кто же пьет воду? Ты только попробуй, это легкое вино, сладкий икем — он тебе понравится.
Сергей Сергеевич пододвинул к ней стакан. Ирена молчала.
— Скушай еще вот эту пожарскую котлетку, здесь их готовят мастерски, — положил ей князь из дымящейся серебряной кастрюльки кушанье на тарелку.
— Я не могу! — прошептала она.
— Тебе со мной скучно, ты не любишь меня, если не хочешь ни позавтракать со мной, ни выпить за мое и твое здоровье, за наше будущее счастье.
Она подняла на него глаза и окинула его взглядом грустного упрека.
— Если я не прав — докажи, выпей и съешь! — продолжал настаивать он, восторженно любуясь ею. Ее личико, подернутое дымкой грусти, казалось еще более прелестным.
Ирена быстро взяла свой стакан, чокнулась с князем и выпила почти залпом.
— Вот теперь я тебе верю, — засмеялся он.
Она принялась за котлету, но, видимо, ела насильно. Он налил ей бокал шампанского.
— Еще? — с испугом спросила она.
— За здоровье твоей мамы! — произнес он вместо ответа и чокнулся.
— Мамы, мамы! — порывисто повторила она и быстро выпила бокал.
С непривычки это было чересчур много. Она заметно опьянела, глаза ее заблестели, лицо покрылось ярким, почти неестественным румянцем, — она была восхитительна.
Князь пожирал ее глазами, но выжидал, боясь испортить все дело резкою выходкою.
Она весело болтала с ним, лакомясь сочною грушею дюшес, на тему приезда ее матери, предстоящей свадьбы. Она описывала ему тот подвенечный наряд, в котором она видела себя во сне.
Он не слыхал половины из ее болтовни и машинально отвечал на ее вопросы.
Кровь бросалась ему в голову, в висках стучало.
Он был пьянее, чем она, единственно от ее близости к нему.
— Мы будем венчаться здесь, в Москве?
— Не знаю, может быть, здесь, а может быть, и за границей.
— Мы поедем за границу, а не сейчас в Петербург?
— Нет, сперва за границу.
— Так и есть, так и есть, то же говорила и мама, — прошептала она. — Мне бы хотелось венчаться здесь; конечно, мама поедет с нами и за границу, но здесь на нашей свадьбе была бы и Ядвига.
При воспоминании о покинутой ею так неожиданно няне сердце Ирены болезненно сжалось.
«Бедная, она просто измучается, прежде чем узнает о моем счастии; ищет теперь, чай, по всему лесу, чего-чего не передумает», — пронеслось в ее голове.
— Когда мама приедет сюда, можно будет сейчас же дать знать няне Ядвиге, что я здесь? — спросила она.
— Конечно, можно…
— Что же мамы все нет?
— Вероятно, ее что-нибудь задержало.
Он пересел к ней на диван и обнял за талию. Рена не сопротивлялась.
Он привлек ее к себе, она почувствовала дрожь его руки и взглянула ему прямо в лицо.
Выражение этого лица, виденное ею впервые, поразило ее — она не узнавала милые ей, теперь искаженные волнением черты, взгляд его глаз не был тем бархатным, который она привыкла видеть покоящимся на себе. Он горел каким-то диким, страшным огнем.
Она задрожала и сделала невольное движение, чтобы вырваться из его объятий, но безуспешно, он сжимал ее все с большею и большею силой, покрывая ее лицо и шею жгучими поцелуями.
Вдруг она истерически зарыдала.
Первый стон, вырвавшийся из груди трепетавшего в его мощных объятиях слабого существа, моментально отрезвил его.
Он выпустил ее из своих объятий. Она упала поперек турецкого дивана, продолжая оглашать комнату истерическими рыданиями.
Сергей Сергеевич бросился в кресло.
— Не могу, не могу! — простонал он. Рыданья Ирены прекратились. Князь тоже пришел в себя.
Он прошел в спальню, взял с туалетного столика одеколон и стал приводить в чувство все еще лежавшую недвижимо молодую девушку. Он смочил ей одеколоном голову и виски, дал понюхать солей, пузырек с которыми всегда находился в его жилетном кармане. Она понемногу стала приходить в себя.
Но едва она открыла глаза и увидала его, как снова вздрогнула.
— Рена, дорогая моя, что с тобой? — нежно успокаивал он ее.
Она молча села на диван, склонив голову, и крупные слезы неудержимо полились из ее глаз.
— О чем же ты плачешь? Я тебя испугал? Прости меня, не плачь, взгляни на меня.
— Я боюсь тебя, боюсь! — прошептала она сквозь слезы.
— Чего же ты боишься, ведь ты же знаешь, как я люблю тебя.
Он наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб.
— Нет, нет, потом, при маме, на балу, на свадьбе… — бессвязно лепетала она.
Он стал ходить по комнате, по временам взглядывая на сидящую все в одной и той же позе Ирену.
Вид этого плачущего, испуганного ребенка пробудил в его сердце жалость. Первой мыслью его было отвезти ее назад, на ферму, но он тотчас же прогнал эту мысль. Трепет, хотя и болезненный, ее молодого, нежного тела, который он так недавно ощущал около своей груди, заставил его содрогнуться при мысли отказаться от обладания этим непорочным, чистым созданием, обладания, то есть неземного наслаждения. Рука, протянутая уже было к звонку, чтобы приказать готовить лошадей, бессильно опустилась.
«Нет, она будет моей во что бы то ни стало, и будет моей добровольно, даже если бы мне пришлось для этого пойти на преступление, лишиться половины моего состояния!» — мысленно решил он и снова плотоядным взглядом окинул сидевшую в той же позе молодую девушку.
Но вот она подняла голову и посмотрела на него умоляющим взглядом.
— Отвези меня назад, к няне! — заговорила она, точно угадав промелькнувшую в его голове за минуту мысль.
Скажи она эту фразу на мгновение ранее, он, быть может, и согласился бы, но теперь он снова надеялся.
На что, он не знал и сам.
«Она будет моей, она должна быть моей», — проносилось в его голове. Она повторила просьбу.
— Я не могу этого сделать для тебя, — отвечал князь деланно равнодушным тоном. — Ты сама знаешь, что ты здесь по воле твоей матери. Когда она приедет, ты можешь сказать ей, что желаешь возвратиться в Покровское или пансион, что отказываешься быть моей женой…
— Нет, нет, я не отказываюсь, я не хочу ни в Покровское, ни в пансион, прости меня, я хочу только поскорей увидеть маму, обвенчаться с тобой и уехать за границу, — заметила Рена, поспешно утирая все еще продолжавшие навертываться на глаза слезы.
Он снова сел рядом с ней на диван.
Она немного отодвинулась от него.
Не давши ей заметить, что это не ускользнуло от его внимания, он своим вкрадчивым, привычным для нее тоном стал говорить, что ей нечего беспокоиться, что дурного с ней случиться ничего не может, а что если ее мать не приедет ни сегодня, ни завтра, то, вероятно, потому, что ее задержали в Петербурге неотложные дела. Ведь она сама знает, не раз говорила ему, что ее мать настолько связана делами, что не может даже для нее уделить лишний час времени. Что он завтра же поедет к начальнице пансиона взять ее бумаги, о чем Анжелика Сигизмундовна просила будто бы его в последнем письме, а от г-жи Дюгамель, вероятно, узнает, где находится ее мать и что ее задержало. Наконец, она прямо могла проехать за границу, оставив на его имя или на имя своей дочери письмо у начальницы пансиона.
Он говорил, не составив себе еще никакого плана дальнейших действий, но по мере того, как высказывал Рене успокоительные доводы, этот план в общих чертах созревал в его голове.
Молодая девушка, желающая верить, — верила и постепенно успокаивалась.
Не прошло и получаса, как она весело болтала с ним, с радостным любопытством слушала его рассказы о петербургской и заграничной жизни, описания Парижа, Рима, Венеции и других замечательных городов и местечек Западной Европы.
Спокойная и довольная расхаживала она по комнатам, любовалась в зеркало на себя и на надетые на ней драгоценные вещи.
Он воспользовался ее расположением духа, позвонил и приказал явившемуся на зов Степану прислать барышне ее горничную.
Степан вышел, и через минуту в комнату вошла бойкая и расторопная молодая девушка, брюнетка, с миловидным, несколько нахальным лицом. Это была служанка, нанятая исполнительным камердинером и получившая от него точные инструкции обращения и разговора со своей молодой госпожой.
Она предложила Ирене пройти в спальню, где в гардеробе оказалось несколько изящных костюмов, сделанных по мерке платьев княжны Юлии, с которой Ирена была почти одного роста и сложения, и заказанных предусмотрительным князем.
Молодая девушка с восторгом стала с помощью Фени — так звали горничную — примерять обновки и наконец остановилась на голубом из легкой шелковой китайской материи платье, которое ей понравилось более всего и с которым она не хотела расстаться.
Платье действительно очень шло к ней.
— Эти вещи, — показала она горничной на ожерелье и браслеты, — подарил мне князь, мой жених, но платья уже, наверное, сюрприз от мамы?
Она вопросительно поглядела на Феню.
— Совершенно верно, милая барышня, — отвечала ловкая камеристка, — платья эти при мне привезли из магазина, и посланная в разговоре со мной объяснила, что их заказала и приказала доставить сюда г-жа Вацлавская.
— Ну да, да, это и есть фамилия моей матери и моя, — с наивным восторгом воскликнула Ирена.
Сергей Сергеевич находился тем временем в снятом им для себя соседнем номере, где продолжительно и таинственно совещался со своим камердинером.
— Скажи горничной, чтобы она ни на шаг не отходила от Ирены Владимировны во время моего отсутствия, а сам тотчас же поезжай в Покровское и устрой все поаккуратнее. Денег не жалей. Тех, которые я тебе дал, хватит?
— За глаза, ваше сиятельство! — отвечал Степан.
Князь снова прошел к Рене. Она встретила его с шумной, чисто детской веселостью, шутила, заигрывала, пообедала с большим аппетитом, но, несмотря на это, он заметил, что она все-таки все время была настороже, и, несмотря на усиленные просьбы с его стороны, ничего не пила за обедом, кроме воды.
— У меня и так болит голова, — заметила она ему.
Ее глаза по временам, когда он близко подсаживался к ней, принимали сосредоточенно-серьезное, почти строгое выражение.
Пережитое ею волнение, видимо, до болезненности обострило в ней инстинктивное чувство самосохранения.
Облонский сразу понял это и старался обращаться с ней с утонченною деликатностью.
Так провели они целый день.
Удаляясь к себе, он почтительно поцеловал ее руку.
IX МЕТРИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Сергею Сергеевичу не спалось. Давно уже он ни физически, ни нравственно не переживал такого дня. Ряд нахлынувших на него разнородных ощущений гнал сон, поддерживая возбужденное состояние духа. Пленительный образ Рены в ярких соблазнительных красках стал так живо представляться ему, что кровь бросилась в голову, в виски стучало, глаза застилало каким-то туманом. Несмотря на эти признаки сохранившихся жизненных сил, ему казалось, что он состарился — этому он втайне приписывал свое честное отступление перед бывшей в его власти беззащитной девушкой.
Это его смущало, он не узнавал себя, в первый раз переживая невольные чувства порядочного человека относительно нравящейся женщины. Немудрено, что такое отношение казалось ему только слабостью.
Победа духовной стороны над животной страстью была для него чем-то незнакомым, неиспытанным.
Он не был в состоянии взглянуть на это явление серьезно, а начинал видеть в нем только комическую сторону. Он вспоминал о петербургских друзьях, которые, наверное, бы с ядовитою насмешкой выслушали рассказ о его летнем любовном приключении, так позорно окончившемся в то время, когда ему представлялась возможность торжествовать победу.
Его высшее самолюбие — самолюбие ловеласа — было страшно оскорблено.
— Мать и дочь — это нечто роковое, — злобно прошептал он под этим впечатлением.
Князь живо припомнил страдания своего уязвленного самолюбия семнадцать лет тому назад, когда его искания с холодным пренебрежением отвергла кокотка — мать той дочери, которая сегодня заставила его испытать все муки бессильного отступления в самый последний, решительный момент борьбы.
Ему казалось, что и теперь, как тогда, семнадцать лет тому назад, он снова долгое время будет принужден проходить сквозь строй едва заметных, но для него чересчур ясных приятельских насмешливых улыбок.
«Она должна быть моей, — даже привскочил он постели, — уже потому, что я люблю ее, и потому, что я должен отомстить ее матери».
Мысли его вернулись к минувшему дню.
Сперва у него появилась мысль, что, быть может завтра все обойдется иначе, что Ирена просто испугалась непривычных для нее ласк, но он принужден был покинуть эту надежду, вспомнив все мелкие подробности изменившегося ее обращения с ним. Он вспомнил выражение ее глаз и понял, что он пробудил в этом ребенке — женщину с сильным характером, что в Рене проснулась ее мать.
«Надо действовать исподволь, — вывел он решение, — но время не терпит. На ферме хватятся Рены, там и теперь, вероятно, идет переполох. Глупая нянька может поднять целую историю. Положим, при его и силе и влиянии у него не могли бы отнять любовницу, но, увы Ирена не была еще ею. Надо спешить, а между тем это невозможно…» О том, что предприняла Ядвига, он надеялся узнать наутро от Степана.
«Увезти скорей за границу…» — мелькнуло в его голове.
На этой мысли он заснул тревожным сном уже тогда, когда яркое утреннее августовское солнце усиленно пробивалось сквозь тяжелые гардины окон занимаемого им номера.
Было около двух часов дня, когда князь, совершив свой туалет, появился в отделении Ирены.
Он застал у нее деревенскую гостью. Это была одна из работниц фермы Залесской, молодая чернобровая Марфуша, с плутоватым выражением миловидного лица.
Она была любимицей барышни и явилась к ней по поручению самой няни Ядвиги, — так по крайней мер она говорила, — чтобы передать своей ненаглядной барышне, чтобы она не беспокоилась, что ее няня хорошо знала о ее прогулках с его сиятельством, но молчала, действуя по приказанию Анжелики Сигизмундовны, что даже о предстоящем ее отъезде в Москву няня Ядвига знала еще накануне, а сегодня утром, следуя приказаниям г-жи Вацлавской, уехала к ней в Петербург, а ее, Марфушу, послала к барышне.
— А она, плутовка этакая, думала, что все время проводила меня, старуху! — со смехом передала Марфуша, будто бы последние слова Ядвиги.
Ирена была в положительном восторге; мысль, что она обманывала дорогую няню и испугала ее своим внезапным отъездом, не давала ей покою.
Теперь все разъяснилось к общему удовольствию. Ирена принялась угощать Марфушу конфетами и фруктами, показывать ей свои наряды и бриллианты.
Хитрая бабенка принялась охать от удивления и восторга и на все лады расхваливать князя Сергея Сергеевича.
В комическом виде представила она пораженных рабочих и работниц фермы по поводу загадочного для них исчезновения барышни.
Ирена заливалась детским звонким смехом. Этот смех услышал вошедший Облонский, почтительно с ней поздоровался и, не подав виду, что появление посланной из Покровского далеко для него не неожиданно, спокойно, даже с любопытством, выслушал рассказ Ирены, с детской торопливостью повторившей ему полученные ею от Марфуши новости.
— Ведь я говорил тебе, что мать знает все, но ты со вчерашнего дня вдруг перестала мне почему-то верить, — тоном нежного упрека заметил князь.
Ирена виновато опустила глазки. Князь, пробыв несколько минут, снова прошел к себе в номер, где его дожидался Степан. Он передал ему в подробности все происшедшее накануне в Покровском и сообщил, как ему удалось подкупить разбитную Марфушу.
«Надо спешить, — подумал князь, внимательно выслушав рассказ и похвалив усердие и искусство своего верного слуги, — Анжель прежде всего, конечно, бросится в пансион».
Справившись об экипаже и узнав, что карета уже давно стоит у подъезда, князь уехал.
Он не прямо отправился в пансион, а приказал кучеру ехать на Кузнечный мост, где остановился у магазина Овчинникова. Там он выбрал великолепный серебряный сервиз и с этим подарком отправился к г-же Дюгамель.
Каролина Францевна — так звали старую француженку, содержательницу пансиона, — была полная женщина, с правильными чертами до сих нор еще красивого лица и не совсем угасшими черными, проницательными глазами, с величественной походкой, одетая всегда в темное платье, с неизменным черным чепцом с желтыми лентами на голове.
Она тотчас же приняла князя — этого богача аристократа, к которым вообще Каролина Францевна питала влечение, «род недуга».
— Soyez le bien venu, mon cher prince![7] — приветствовала она его.
Он почтительно приложился к протянутой ему руке; г-жа Дюгамель даже вспыхнула от удовольствия.
Кроме общей склонности своей к представителям, русской аристократии, Каролина Францевна была особенно неравнодушна к изящному князю и даже называла его заочно — il est très bon et brave garèon chevalier pur sang[8].
Сергей Сергеевич в коротких словах объяснил ей, что, считая образование своей дочери достаточно законченным, он решил взять ее из пансиона и совершить с ней маленькое tournée за границу. Он рассыпался перед ней в благодарностях за заботы и попечения о княжне Юлии.
— Вы, надеюсь, не обидите меня отказом принять на память обо мне и о Julie эту безделицу, — заключил князь и подал Каролине Францевне внесенный за ним лакеем ящик с сервизом.
— К чему это, я считала за честь воспитывать вашу дочь, mon cher prince, я исполнила только мою обязанность… — отнекивалась Дюгамель.
Князь поставил ящик на преддиванный стол.
— Обязанность обязанностью, но маленькие подарки укрепляют большую дружбу, — заметил Облонский. — Взгляните, понравится ли, а то можно переменить.
Каролина Францевна, все еще жеманясь, открыла ящик и, увидав сервиз, не. удержалась, чтобы не воскликнуть:
— Mais c’est un vrai cadeau de roi![9]
— Рад, что вам нравится! — заметил князь.
Она крепко пожала князю руку.
— Merci, merci… Я сейчас принесу вам бумаги Julie.
Она встала с дивана.
— Un instant![10] — удержал ее князь. — Моя миссия еще не окончена, я принужден буду лишить вас и еще одной ученицы…
— Какой?
— Ирены Вацлавской.
— А! — пренебрежительно воскликнула француженка.
Несмотря на то, что она получала от Анжелики Сигизмундовны огромную плату и подарки, ее совесть не была покойна при мысли, что в ее аристократическом пансионе незаконнорожденная, une bâtarde, да еще родившаяся в остроге, quelle horreur![11] Забыв всякую расчетливость, Каролина Францевна почувствовала какое-то облегчение при известии, что Вацлавская покидает ее пансион.
Наконец, ведь могли узнать о существовании Ирены родители других учениц — мог выйти скандал, который нанесет неизмеримо большой ущерб репутации ее пансиона. Она все эти годы трепетала, но раз уже согласилась принять, то не решалась без причины уволить пансионерку.
— Elle était si gentille![12] — вспомнила начальница Рену.
Теперь все это оканчивается благополучно.
Г-жа Дюгамель была довольна.
Облонский между тем толковал ей, что Анжелика Сигизмундовна Вацлавская поручила ему получить бумаги Ирены, которая вместе с ним и его дочерью едет за границу.
— Они так дружны с Julie! — заключил князь.
Восхищенная любезностью Сергея Сергеевича и его дорогим подарком, содержательница пансиона ни на секунду не усомнилась в правдивости князя, и через несколько минут бумаги княжны Юлии Облонской и Ирены Вацлавской лежали в его кармане. Он встал прощаться.
— Привезите их обеих ко мне проститься! — сказала Каролина Францевна.
— Непременно.
Он вышел из гостиной, и г-жа Дюгамель стала внимательно осматривать подаренный ей сервиз.
Уже в карете, по дороге домой, Сергей Сергеевич вынул переданные ему начальницей пансиона бумаги и стал читать метрическое свидетельство Ирены. Содержание этого документа так поразило его, что он не в состоянии был не только сосредоточиться на мысли, что рассказать его пленнице о ее матери, но даже решить вопрос, следует ли давать эту бумагу в руки Ирены.
— Это надо обдумать на досуге. Если я поеду домой, я не удержусь, чтобы не зайти к ней, и могу снова сделать ошибку… В «Эрмитаж»! — крикнул он кучеру, высунувшись из окна кареты.
Через несколько времени князь входил в общую залу этого лучшего московского ресторана, помещавшегося на Трубной площади.
X ВНЕЗАПНАЯ МЫСЛЬ
Почти в дверях общей залы ресторана Облонский столкнулся со знакомым уже читателям Владимиром Геннадиевичем Перелешиным.
Сергей Сергеевич знал его давно, сталкиваясь с ним не только в полусветских, но даже и в великосветских гостиных Петербурга, и был, по выражению Анжель, одним из тех порядочных людей, которые не только не решались не подавать ему руки, но даже всегда готовы были выручить его в затруднительном положении, то есть дать взаймы без отдачи несколько сотен рублей.
Князь даже любил Перелешина за его веселый нрав и едкий ум. При всем этом встреча с ним в настоящую минуту ему не понравилась.
Он сжал брови, что означало высшую степень неудовольствия.
Владимир Геннадиевич, напротив, был в совершенном восторге.
— Дорогой князь, какими судьбами, а я думал, что вы за границей, — говорил он, крепко сжимая ему руку.
— Еду на днях, — проговорил нехотя князь.
— Заехал позавтракать и я тоже, только что сейчас ввалился.
Перелешин врал. Он уже с полчаса бродил по залам ресторана, надеясь встретить знакомых и позавтракать на их счет, но таковых не было.
Народу вообще было мало. Денег в кармане Владимира Геннадиевича было еще меньше. Далеко не первой свежести, хотя и изящный, костюм красноречиво говорил, что финансы Перелешина были далеко не в авантаже.
Понятно, что он набросился на Облонского, как ястреб на добычу, в надежде не только позавтракать, но и перехватить у него малую толику деньжонок.
«Надо кормить, не отвяжется», — мелькнуло в уме князя.
— Сядемте вместе! — как бы подтверждая эту мысль, заметил Облонский.
Они уселись за один из свободных столиков.
— Я закажу! — предложил свои услуги Владимир Геннадиевич.
— Заказывайте!
Перелешин был строг в соблюдении теории разделения труда: если он не мог платить, он заказывал.
Пока он вел серьезные переговоры с половым насчет закусок и завтрака, Сергей Сергеевич занялся осмотром его с ног до головы.
«Дела-то его, как видно, не блестящие», — вывел он заключение, заметив, что на Перелешине даже не было часов, не говоря уже о кольцах и перстнях, которые всегда, бывало, блестели на его выхоленных пальцах с длинными ногтями.
— А вы давно ли в Москве и зачем? — спросил князь, когда Владимир Геннадиевич окончил свое совещание с половым и тот стрелой побежал исполнять приказания.
— Не особенно давно, а зачем — странный вопрос! Зачем петербуржец приезжает в Москву? Или за калачами, или за невестами. До первых я не охотник.
— Значит, приехали жениться?
— Да!
— И что же, есть на примете?
— Какой черт есть — все мне про Москву в этом смысле наврали. Свахи там, говорили, в неделю окрутят, невест с капиталами нетолченая труба… Я тут, как нарочно, недели с две тому назад проигрался в Петербурге в пух и прах. Дай, думаю, попытаю счастья, и айда в Москву. Свах этих сейчас за бока. Не тут-то было. Деньги, проклятые, только высасывают, а толку никакого… Дошел до того, что хоть пешком назад в Петербург иди…
— Так неужели ни одной невесты? — усмехнулся князь.
— Показывали тут одну, денег всего тридцать тысяч, а урод миллионный.
Перелешин расхохотался.
— А вы хотите красавицу, да и денег, чай, полмиллиона? — улыбнулся Облонский.
— Ну, хоть не красавицу, а чтобы с души не воротило, и не полмиллиона, а хоть тысяч сто.
Половой стал устанавливать на стол заказанные водку и закуску.
Князь замолчал, видимо, что-то обдумывая. Вдруг он лукаво улыбнулся.
— А если бы я для вас принял роль свахи? — вдруг спросил он Перелешина.
«Неужели дочь? Говорят, вторая совсем красавица и к тому же миллионерша, — пронеслось в голове Владимира Геннадиевича. — Чем черт не шутит!»
— Почел бы за величайшую честь! — ответил он вслух.
— Приданого пятьдесят тысяч чистоганом вам на руки…
— Не дочь! — вздохнув, прошептал Перелешин к спросил, но уже громко:
— Хорошенькая?
— А вам что за дело?
— То есть это как же?
— Так, у меня невеста особенная, вы ее никогда в глаза не увидите.
— Я вас не понимаю. Сергей Сергеевич рассмеялся.
— Я шучу, конечно, предлагая это вам, но у меня есть в настоящее время случай дать нажить кому-нибудь пятьдесят тысяч чистоганом и без всяких хлопот. Нет ли у вас на примете такого охотника?
— Надо знать условия, — заметил Владимир Геннадиевич, сделавшись необычайно серьезным.
— Условия чрезвычайно простые: передать другому лицу свои бумаги, с которыми то лицо и вступит в брак с известной особой, а бумаги с подписью о совершении бракосочетания возвратить. Молодой муж подаст прошение о выдаче жене отдельного вида на жительство как в России, так и за границей, передаст его опять же заинтересованному лицу, положит себе в карман пятьдесят тысяч рублей и может идти на все четыре стороны.
— Но зачем же все это?
— Один из способов обладать хорошенькой девушкой.
— Разве нет других?..
— Этот оригинальнее…
Князь замолчал и принялся за завтрак. Перелешин задумался.
— А это лицо, если согласится, будет иметь дело лично с вами? — проговорил он после некоторой паузы.
— Исключительно! — отвечал князь, аппетитно обгладывая ножку рябчика.
Владимир Геннадиевич принялся за салат из омаров.
Несмотря, впрочем, на то, что он был голоден, ему было теперь не до еды. Предложение князя его соблазнило. Настоящее его положение было отчаянное. После того, как Анжель дала ему окончательную отставку и чуть прямо не выгнала от себя, он несколько дней пробыл в Петербурге, тщетно надеясь раздобыться деньгами, но успел лишь призанять у трех своих приятелей полтораста рублей и с этими деньгами укатил в Москву — жениться. Найти невесту с солидным приданым, а следовательно, и кредит перед свадьбой, ему не удалось, — дуры, оказалось, перевелись и в Белокаменной, а деньги, при его привычке к широкой жизни, вышли, пришлось заложить часы, кольца и даже кое-что из платья, но и эта сравнительно небольшая сумма, вырученная за эти вещи, ушла быстро из кармана, и он остался, что называется, на бобах. Минут за пять до встречи с Облонским, уныло бродя по залам ресторана, он лелеял скромную, но сладкую мечту перехватить у кого-нибудь хоть сотняжку рублей, и вдруг теперь ему предлагают целый капитал — пятьдесят тысяч.
Он чуть не подавился омаром, мысленно произнося эту цифру.
Положим, эти деньги дают ему за его имя, которое он должен предоставить Бог весть кому. «Несомненно будущей любовнице князя, — продолжал соображать проницательный Перелешин, — которую он, когда она ему прискучит, как ранее этого многих других, наградив по-княжески, бросит в вихрь петербургского полусвета, предоставив желающим».
Его фамилия будет, таким образом, опозорена.
Эта мысль испугала его.
«Но пятьдесят тысяч — ведь это куш», — промелькнуло снова в его уме.
Что такое фамилия? Разве не может быть однофамильцев? Он собственными глазами видел в Москве вывеску портного Перелешина. Кто будет знать, что именно он муж этой кокотки? Они с будущей женой не увидят друг друга в глаза, — мысленно стал приводить он себе доводы в пользу подобной аферы. Наконец, кто знает, если ей повезет как Анжель, он может всегда потребовать от нее крупную сумму в виде отступного, под угрозой предъявления на нее прав мужа, и она не откажет, да и не посмеет отказать ему.
Сам князь Сергей Сергеевич как его сообщник будет отчасти в его руках. От него тоже будет чем поживиться! Куш теперь в перспективе — соблазн был слишком велик.
Князь по временам искоса поглядывал на Владимира Геннадиевича, как бы угадывая течение его мыслей.
— Для вас, ваше сиятельство, я готов, пожалуй, предложить свои услуги, — проговорил наконец Перелешин.
— Для меня? — вопросительно поглядел на него Облонский. — То есть не лично для меня, но так как я хлопочу, то, пожалуй, и для меня.
Владимир Геннадиевич едва заметно улыбнулся.
— Я забыл, между прочим, одно существенное условие, — заметил князь.
— Какое?
— Безусловное уважение к тайне, без всякой малейшей попытки стараться разузнать более того, во что вас сочтут нужным посвятить…
— Понимаю.
— Значит, согласны?
— Согласен! — с некоторым усилием произнес Перелешин.
— Очень рад! — подал ему руку Облонский. — Мне все-таки приятно иметь дело со своим человеком.
Сергей Сергеевич подчеркнул притяжательное местоимение.
Польщенный этим, Владимир Геннадиевич крепко пожал его руку.
Лакей явился с входившей в меню заказанного завтрака бутылкой шампанского. Князь и Перелешин запили сделку искрометным вином.
Оба, однако, надо сказать правду, почувствовали на душе какую-то неловкость.
Князь стал расплачиваться.
— Сегодня в первом часу ночи я вас жду здесь же! — сказал он Владимиру Геннадиевичу. — Время не терпит, надо спешить, принесите все ваши бумаги.
— А вы деньги?
— Нет, деньги вы получите тогда, когда передадите мне отдельный вид на жительство вашей жене сроком на пять лет, и непременно по всей России и за границей, а также заграничный паспорт. В деньгах задержки не будет; вы мне, надеюсь, верите?
— Не в этом дело, но я… в настоящую минуту… в затруднительном положении… — сквозь зубы проговорил Перелешин.
— Вот триста рублей, это не в счет, надеюсь, хватит, все дело мы оборудуем в несколько дней.
Облонский протянул ему, три радужных. Владимир Геннадиевич небрежно сунул их в карман.
— Так до ужина? — Встал из-за стола и протянул он руку уже вставшему князю.
— До ужина!
Они направились к выходу, мимо почтительно раскланивавшихся половых.
XI ИРЕНА УСПОКОИЛАСЬ
Веселый и довольный мелькнувшим в его голове при разговоре с Перелешиным и наполовину уже осуществленным планом, сел князь Сергей Сергеевич в карету и приказал кучеру ехать домой.
Мысли Облонского приняли более спокойное направление, так что, несмотря на то, что карета через несколько минут уже остановилась у подъезда гостиницы, где находилась Ирена, программа предстоящей беседы с ней уже сложилась в голове князя.
Метрического свидетельства он решил ей не показывать. Пройдя сперва в свой номер, он застал там Степана.
Это было очень кстати.
Во-первых, князь решил тотчас же поручить ему приведение в быстрое исполнение второй части придуманного им плана, а во-вторых, его мучила мысль, не позабыл ли верный слуга настроить подкупленную им женщину уверить Рену, как бы со слов ее няни Ядвиги, что Анжелика Сигизмундовна в настоящее время так занята делами, что едва ли ей удастся приехать в Москву, но что она будто бы рассчитывает встретиться с князем и со своей дочерью за границей.
Об этом-то обстоятельстве и задал Сергей Сергеевич первый вопрос своему камердинеру.
Тот дал утвердительный ответ, доказавший, что была не забыта ни одна йота приказаний своего барина.
— Это хорошо! — заметил князь и перешел к отдаче приказаний по осуществлению задуманного им нового плана.
Степан почтительно и внимательно выслушал Сергея Сергеевича и не сразу выговорил свое стереотипное «слушаю-с» — единственный ответ, до сих пор слышанный Облонским от своего неизменного наперсника, «человека на все руки», на все отдаваемые ему приказания.
Видимо, важность поручения заставила задуматься даже оборотистого камердинера.
Несколько минут длилось молчание. Князь сидел диване и щелкал ногтями, что у него служило признаком нетерпения.
Погруженный в размышление, Степан стоял перед ним.
— Это можно-с, ваше сиятельство, — наконец проговорил он. — Есть у меня здесь один человек, он служит в духовной консистории и все эти порядки знает. Я ему только скажу, конечно, что бумаги невесты и жениха в порядке, но необходимо повенчать без огласки в несколько дней…
— Послезавтра, — нетерпеливо вставил Облонский.
— Слушаю-с!
— Свидетели при браке могут быть он да двое из его товарищей. Ни он, ни они никогда и в глаза не видали ни ваше сиятельство, ни Владимира Геннадиевича.
— Это отлично! — воскликнул Сергей Сергеевич. — Да ты-то откуда его знаешь? Согласится ли он на это?
В голосе князя появились ноты беспокойства.
— Не извольте сомневаться, он маленький чиновник, жалованье получает грошовое, доходишки по его месту тоже не Бог весть какие, и притом он мне свой человек — родственник.
— Родственник? — вопросительно поглядел на Степана Облонский.
— Так точно-с, ваше сиятельство, он женат на моей сестре, — не без оттенка гордости проговорил камердинер.
— Так действуй и денег не жалей! — радостно воскликнул князь, вставая.
— Слушаю-с! — отвечал Степан и удалился.
Облонский остался один и стал задумчиво ходить по комнате.
Составленный им так быстро план, при всестороннем его рассмотрении, казался ему весьма удачным. Добиться от Ирены той «не бессознательной взаимности», без которой он чувствовал, что не будет в состоянии обладать ею, и без которой, наконец, обладание этим чистым, наивным существом, если бы оно было возможным, представлялось ему не только лишенным всякой прелести и наслаждения, но просто омерзительным, можно было только исподволь, в продолжение более или менее долгого времени. В России, не рискуя оглаской, ежедневно возможным скандалом со стороны ее матери, женщины, прошедшей тюрьму и, видимо, способной на все, оставаться долго было нельзя.
Князь вспомнил метрическое свидетельство Ирены, лежавшее у него в кармане.
Увезти молодую девушку за границу без паспорта было также затруднительно, почти невозможно.
Жениться ему самому, ему — князю Облонскому — на незаконной дочери кокотки, родившейся в остроге!
Князь презрительно повел плечами. Он ни на секунду не мог остановиться на этой мысли.
Придуманный же им способ давал возможность получения заграничного паспорта Ирене Владимировне Перелешиной по просьбе ее мужа. Для Сергея Сергеевича, имевшего в Москве сильные связи, это было делом нескольких часов.
Кроме этого, Рена, вступив, по ее мнению, в брак с ним, Облонским, сделается тотчас же покорной женой и не испугается, как вчера, его ласк.
При воспоминании об инциденте, случившемся накануне, вся кровь бросилась в голову князя, он нахмурил брови, и лишь надежда на скорое исполнение его страстного каприза вновь озарила его лицо довольной улыбкой.
«Она будет моей, будет сознательно, а после можно будет даже покаяться ей во всем, — она простит, ведь она же женщина! Когда же надоест, обеспечить ее и ввести в тот же полусвет, где ныне царит ее мать. Она будет ее достойной преемницей в годы полного развития женской красоты».
Этой «чудной» мыслью заключил князь Облонский свои сладкие думы.
Пройдя в отделение Ирены, он застал ее всю в слезах.
— Что с тобою, моя ненаглядная? — спросил князь, целуя ее руку и садясь с нею рядом на диване.
Молодая девушка порывисто, прерывая свою речь всхлипыванием, рассказала ему, что Марфуша, посланная от няни Ядвиги, сообщила ей между прочим, что ее мать, может быть, и не приедет в Москву совсем, а проедет прямо за границу, где и встретится с ними.
— Когда же я увижу ее, когда увижу? — зарыдала Рена.
— Я не понимаю, о чем ты плачешь, — начал князь.
— Я и сама измучилась, ваше сиятельство, уговаривая Ирену Владимировну, они было утешились, занялись завтраком и потом конфетами, а тут, незадолго перед приходом вашего сиятельства, опять плакать принялись, — вставила бывшая в комнате Феня.
Облонский молча, но выразительно посмотрел на нее. Феня быстро догадалась и вышла.
— Повторяю, — начал снова он, — я не понимаю, о чем ты плачешь? Разве прежде ты так часто видела свою мать?
— Нет! — сквозь слезы ответила Ирена.
— То-то и есть. Если когда ты была одна с няней, когда около тебя не было человека, который на днях будет твоим мужем, она вследствие своих дел, для твоей же пользы, не виделась с тобой по нескольку месяцев, то теперь, когда она знает, что около тебя я, ей менее всего нужно о тебе беспокоиться… Ведь ты сама знаешь, какие у нее запутанные дела.
— Да, — прошептала Ирена.
— Эти-то дела, как передала мне г-жа Дюгамель, у которой я был сегодня и которая передала мне, по поручению твоей матери, твои бумаги, мешают Анжелике Сигизмундовне приехать на нашу свадьбу, которая будет послезавтра…
— Свадьбу… послезавтра… без мамы… — уставилась на него она, перестав плакать.
— Да, послезавтра… это также воля твоей матери, чтобы мы обвенчались скорее и без огласки. Выход твой в замужество за меня, человека с громким именем и очень богатого, может вредно отразиться на близком окончании ее дел. Приезд же на твою свадьбу породит непременно толки и совершенно нежелательную и несвоевременную огласку нашего брака. Поверь мне, что Анжелика Сигизмундовна знает, что она делает, а делает она только то, что клонится к твоей пользе, — докторальным тоном закончил князь.
— Мне это самое всегда говорила и няня… — чуть слышно пролепетала она.
— Конечно, я не хочу вести тебя со мной под венец насильно, если ты раздумала и не хочешь, то напиши своей матери — она приедет за тобой сюда или пришлет твою няньку…
— Нет, нет, как не хочу, я хочу, хочу!.. — она стремительно обвила руками его шею и поцеловала в губы.
Он едва удержался, чтобы снова не сжать ее в своих объятиях.
— В таком случае напиши своей матери, что князь и княгиня Облонские будут ожидать ее в Венеции.
— Ах, это там, где вместо улиц все каналы! — уже совсем радостно воскликнула Ирена.
— Да, — улыбнулся он.
— Я могу написать сейчас?
— Успеешь после обеда. Письмо отдашь мне. Я сделаю на нем приписку Анжелике Сигизмундовне и завтра утром отправлю на почту.
— Я напишу длинное-предлинное письмо! — заметила уже совершенно успокоенная Рена, тщательно вытирая еще влажные от слез глаза.
— Напиши, дорогая моя, а я почитаю. Я хочу судить о твоих литературных способностях, — с улыбкой сказал Сергей Сергеевич, нежно гладя ее по голове.
— Я всегда получала в пансионе отличные отметки за сочинения, — похвасталась она.
— Еще бы, ты у меня умница — m-me Дюгамель тобой не нахвалится.
Ирена вся вспыхнула от удовольствия.
— Я в каком платье буду венчаться? — вдруг спросила она.
— В каком хочешь из тех, которые у тебя есть, так как свадьба будет, опять же по желанию твоей матери, совершенно секретная, а на другой или третий день после нее мы поедем за границу, и ты сделаешь себе туалеты в Париже.
Заказ подвенечного платья мог породить нежелательные для князя толки в гостинице.
Ирена на минуту снова затуманилась.
Ее огорчило, что сон, в котором она видела себя в белом подвенечном платье, не совсем сбывается. Даже перспектива парижских туалетов не сразу ее утешила.
Он заметил это и заговорил о предстоящих удовольствиях заграничной жизни, о театрах, концертах и балах.
Тучка снова пронеслась мимо.
Незаметно пролетел остаток дня и вечер.
В двенадцать часов, пожелав Рене покойной ночи, князь поехал в ресторан «Эрмитаж».
Там уже дожидался его Перелешин, привезший с собой свои бумаги.
Они сели ужинать.
XII СВАДЬБА
На другой день князь Облонский проспал до часу дня, так как накануне, на радостном заключении с Перелешиным окончательной сделки и получении от него бумаг, не ограничился угощением его роскошным ужином в «Эрмитаже», а повез еще в лучший московский загородный ресторан «Стрельну», находящийся в Петровском парке, откуда они возвратились в пятом часу утра, выпив изрядное количество бутылок шампанского. Надо, впрочем, заметить, что на эту поездку напросился сам Владимир Геннадиевич, Сергею Сергеевичу неловко было отказать своему сообщнику на первых порах.
Надев туфли и накинув на себя халат, князь отпер номер и позвонил.
Явился Степан.
— Ну что, как дела? — спросил Облонский.
— Все готово-с, ваше сиятельство! — невозмутимо отвечал камердинер.
— Как все? — радостно воскликнул князь, садясь в кресло.
— Пожалуйте-с бумаги. Венчаться можно хоть сегодня после вечерни.
Степан обстоятельно объяснил, что с помощью мужа своей сестры он нашел священника, который соглашается обвенчать без огласки и без согласия родителей невесты, лишь бы все бумаги были в порядке. Свидетелями при браке будут брат его сестры и два его товарища, которым он, Степан, и выдал по сто рублей на приличную экипировку.
— Только церковь-то, ваше сиятельство, не в Москве, а верстах в девяти — сельская.
Степан назвал подмосковное известное село.
— Тем лучше, тем лучше, — заметил довольным тоном Сергей Сергеевич. — Молодец, благодарю, очень благодарю.
Степан стоял весь сияющий.
— Поезжай же скорее и отвези бумаги священнику, заплати ему все что следует, да лучше всего найми прямо четырехместную карету и кати вместе со свидетелями, а мы будем к пяти часам, чтобы все было готово.
Князь подал ему бумаги Перелешина, метрическое свидетельство Ирены и пачку радужных.
— Слушаю-с, ваше сиятельство! — отвечал камердинер и направился было к выходу.
— Да ты смотри, — остановил его Облонский, — не вздумай мне там при них бухнуть «ваше сиятельство», помни — я на все это время твой знакомый и даже подам тебе руку.
— Помилуйте, ваше сиятельство, разве я дела не понимаю, такого фон-барона разыграю перед этими чернильными душами, что даже ваше сиятельство хохотать будете.
Князь улыбнулся.
— Ну, хорошо, ступай, да пошли мне лакея, он мне поможет одеться.
Степан ушел.
Совершив с помощью явившегося лакея свой туалет, Сергей Сергеевич отправился к Ирене.
— Ты отправил письмо маме? — был первый вопрос с ее стороны после взаимных приветствий.
— Отправил прямо на железную дорогу, оно пойдет в три часа с почтовым, а она его получит завтра утром, когда мы будем уже обвенчаны, я даже приписал ей об этом.
Ирена вопросительно уставилась на него.
— Как обвенчаны? Когда же мы венчаемся?
— Сегодня, в пять часов вечера, но прошу тебя, именем твоей матери, ни теперь, ни после свадьбы, пока мы в Москве, никому не болтать об этом. Помни, что огласка нашей свадьбы может сильно повредить делам Анжелики Сигизмундовны.
— Конечно, конечно, не буду, да и кому мне говорить, разве Фене.
— И ей не надо — она тоже может пойти звонить об этом по Москве после нашего отъезда. Понимаешь?
— Понимаю, понимаю! Так мамочка завтра утром будет знать уже о том, что я сделалась княгиней Облонской? — с довольной, даже гордой улыбкой спросила она.
— Говорю же тебе, что я об этом приписал ей в твоем письме, а его она получит завтра в это время.
— Вот это хорошо, этому я очень рада! — захлопала в ладоши девушка.
— А после свадьбы мы долго еще пробудем здесь? — быстро добавила она.
— Два или три дня.
— Но уже будем жить вместе? — вырвался у нее вопрос.
Она опустила глаза и вся вспыхнула. В эту минуту она была так дивно хороша, что князь невольно на нее залюбовался.
— Конечно, — ответил он, улыбаясь, — как же иначе могут жить муж с женой.
— Да, мне говорила об этом Феня! — задумчиво, как бы про себя, сказала она.
— О чем это?
— О том, как живут мужья с женами.
Сергей Сергеевич расхохотался.
Щеки Рены покрылись еще более ярким румянцем.
— Однако пойдем завтракать, а потом тебе все-таки надобно переодеться, — заметил Облонский.
В четыре часа они сели в карету и отправились в указанное Степаном село. Там все уже готово было. Священник и свидетели со Степаном во главе ждали в церкви.
Князь церемонно пожал руку Степану и был представлен свидетелям и священнику под именем Владимира Геннадиевича Перелешина.
Обряд венчания начался.
Взволнованная Рена не только не узнала Степана, которого видела только раз, когда садилась в дорожную карету у опушки Облонского леса, но даже не заметила, что старичок священник упоминал все время имя Владимир, а не Сергей, как звали князя Облонского — избранника ее матери. Тем менее могла она обратить внимание на то, что Сергей Сергеевич хотя несколько измененным, но четким почерком расписался в церковных книгах: отставной гвардии корнет Владимир Геннадиевич Перелешин.
— Поцелуйтесь! — обратился священник к молодым по окончании венчания.
Зардевшаяся как маков цвет Ирена смущенно дотронулась своими розовенькими губками до выхоленных усов князя.
Из церкви они отправились в скромный домик священника, где были приготовлены фрукты и шампанское, которым Степан, свидетели и семья служителя алтаря, состоящая из его жены и двух взрослых дочерей, поздравили молодых.
Священник тем временем сделал подписи на документах и возвратил их Сергею Сергеевичу. Все разместились по-прежнему в двух каретах. Князь и Ирена в восьмом часу вечера были уже в гостинице.
Ирена, с разрешения мужа, тотчас же уселась писать своей матери.
На следующий же день, утром, князь Облонский поехал к Перелешину и передал ему его документы с надписью о том, что предъявитель их повенчан первым браком с девицею Иреной Владимировной Вацлавской.
— Вацлавской! — прочел Владимир. Геннадиевич.
«Какое странное совпадение!» — добавил он про себя.
Князь заметил произведенное на него этой фамилией впечатление, но не сказал ни слова.
Они вместе поехали в надлежащие учреждения и Перелешин, при помощи князя, без труда добился в тот же день выдачи своей жене отдельного вида и заграничного паспорта.
Заграничный паспорт Сергея Сергеевича давно уже лежал в его кармане. При передаче полученных бумаг Владимир Геннадиевич получил от князя пятьдесят тысяч рублей разными процентными бумагами, взятыми последним в тот же день из купеческого банка.
Расчет происходил за поздним обедом в том же ресторане «Эрмитаж».
Княгиня Ирена Владимировна Облонская, каковою, по крайней мере, считала себя Ирена, предупрежденная своим мужем, что его могут задержать дела, обедала в гостинице одна.
Она старалась всеми силами, хотя бы сама перед собой, казаться веселой и довольной, но сердце ее почему-то было полно безотчетной грусти, то и дело замирая, как бы в предчувствии неминуемой беды.
Не утешало ее даже и то, что Феня, заметившая со вчерашнего дня перемену отношений между ней и князем, лукаво стала звать ее «вашим сиятельством».
Через несколько дней, во время которых князь устроил все свои дела, отдал приказание оставшемуся при московском доме князя Степану, написал письма дочерям, «молодые» уехали за границу по Смоленско-Брестской железной дороге на Брест и Варшаву.
XIII В ОТСУТСТВИЕ КНЯЗЯ
Прошло около полугода. Был декабрьский морозный вечер. Холод при сильном ветре особенно давал себя чувствовать на окраинах Петербурга, где помещались заводы. Знакомый нам Виктор Аркадьевич Бобров занимал не последнее место в администрации одного из петербургских заводов, расположенных на окраине города.
Он жил в прекрасной казенной квартире, получал при этом весьма солидное, вполне обеспечивавшее его содержание и, кроме того, был на лучшем счету у своего начальства, отдававшего этим ему лишь справедливую дань за честное, добросовестное и энергичное отношение к порученному ему делу.
Такое положение еще совсем молодого человека могло бы считаться блестящим, если бы он добивался руки молодой девушки из промышленного, финансового или вообще среднего круга общества. Но для того, чтобы сделаться мужем княжны Юлии Облонской, это не имело ровно никакого значения.
Между тем, страсть молодых людей только укреплялась, она мало-помалу привела их к мысли, что препятствие, упомянутое графиней Ратицыной, важность которого в первую минуту они сами отлично поняли, не было на самом деле таким серьезным, как казалось.
Княжна Юлия, находившая любимого ею человека таким прекрасным, таким совершенным, разве могла допустить, чтобы он казался иным в глазах других.
Что же касается Виктора Аркадьевича, то, видя себя предметом внимания и всеобщего уважения, будучи с особенной любезностью принимаем в богатых и почтенных семействах, где были взрослые дочери, на руку которых он был, видимо, желательным претендентом, он поневоле стал страдать некоторою дозою самомнения и часто говорил себе, что князь Облонский не мог считать его недостойным дать свое имя его дочери.
Если даже дворянская спесь могла и воспротивиться этому неравному браку, то все же отцовская любовь должна победить, когда князь убедится, насколько княжна Юлия любит и любима, и когда поймет, что счастье всей жизни его дочери зависит от этого союза.
В Петербурге молодые люди продолжали видеться.
Виктор Аркадьевич был слишком дружен с графом Ратицыным, чтобы его жена могла решиться сообщить мужу всю истину и тем прекратить их отношения.
Она и сама, как мы знаем, любила Боброва, как брата.
Раз в неделю, по субботам, Виктор Аркадьевич обедал у Ратицыных. Графиня Надежда Сергеевна принимала по вторникам и не могла закрыть двери молодому человеку, другу ее мужа.
Такие свидания влюбленных происходили официально при свидетелях, но они не любили бы друг другая если бы не находили возможности тайно обмениваться взглядами и порой даже словами, исходящими прямо из сердца, которые имели для них большее значение, чем продолжительные беседы. Кроме того, они переписывались.
Виктор Аркадьевич ответил на первое письмо княжны Юлии, а последняя ответила на его письмо. Почтальоном у них служила молоденькая горничная, желавшая угодить своей ненаглядной барышне и заслужить вещественную благодарность со стороны молодого влюбленного.
Переписка облегчала их сердца и делала их до некоторой степени благоразумнее, удовлетворяя потребность излияний двух чувствительных душ.
Они были бы слишком несчастны, если бы им пришлось обречь себя на полнейшее молчание.
«Писать вам, дорогой Виктор Аркадьевич, — говорила княжна в своих письмах к нему, — это быть с вами. Жизнь моя состоит из трех периодов: первый — когда я думаю о вас, второй — когда я вижу вас, и третий — когда я пишу вам. Последний не хуже других, потому что тогда я начинаю думать вслух. Когда по вечерам я сижу одна и берусь за перо, я призываю ваш образ. Перед столом моим я ставлю кресло. Я представляю себе, что вы сидите в нем, что вы здесь, около меня, каждую минуту я поднимаю глаза, чтобы прочесть на вашем лице ваши мысли, ваше мнение о том, что я говорю вам; доставляет ли это вам удовольствие, хорошо ли я поняла вашу душу, та ли я женщина, за которую вы меня считаете и о какой мечтаете, и все так же ли вы любите меня?»
Она писала ему в подробности, как проводила день, где бывала, какое надевала платье, с кем говорила.
Он, в свою очередь, поступал так же по отношению к ней; открывал ей свое сердце, отдавал ей отчет во всех своих поступках, спрашивал у нее, в случае надобности, совета, как поступить, на что решиться, говорил ей о своей любви, но всегда тоном глубокого уважения, так как взаимность ее чистого сердца опьяняла его, но вместе с тем внушала ему какое-то религиозное чувство.
Несмотря на всю чистоту, невинность такого обмена мыслями, они все-таки оба чувствовали необходимость скрываться и лгать перед светом, что заставляло их страдать. К тому же, как бы честны ни были их отношения, они все же обманывают отсутствующего князя Сергея Сергеевича, обманывают графиню и графа Ратицыных. Последний со своей стороны мог также не одобрить любовь своей свояченицы к Боброву и, может быть, если бы узнал про нее, закрыл бы Виктору Аркадьевичу двери своего дома.
После долгих колебаний они наконец решили, что нужно переговорить с князем.
По возвращении последнего в Петербург, Бобров должен воспользоваться первым удобным случаем и переговорить с Сергеем Сергеевичем, признаться ему в своей любви к его дочери и попросить у него ее руки.
— Если же мне не удастся? — с дрожью в голосе спрашивал он. — Если он мне откажет?
— Мы исполним наш долг, — отвечала княжна Юлия. — Но что бы ни случилось — ничто не разлучит меня с вами, и ничто не помешает мне любить вас, ничто не заставит меня выйти за другого. К тому же, — прибавила она с улыбкой избалованной дочери, — мой отец будет говорить со мной об этом… а я сумею его тронуть и убедить…
В таком положении были дела наших влюбленных, когда в описываемый нами декабрьский морозный вечер Виктор Аркадьевич Бобров вернулся к себе домой из города, как он называл по обычаю всех служащих на заводе центральную часть Петербурга.
Первое, что он заметил на своем письменном столе, на котором слуга в ожидании его возвращения уже зажег лампу, — это лежащее на самом виду письмо.
На конверте не было никакой надписи.
Он, впрочем, узнал сейчас же форму бумаги, почувствовал знакомый запах — это было письмо от княжны Юлии.
Что могло это значить? Она уже писала ему утром. К радости примешивался страх.
Он поспешно разорвал письмо и стал жадно читать его.
Оно заключало в себе лишь несколько строк.
«Дорогой Виктор Аркадьевич!
Все переменилось. Прежде, чем на что-нибудь решиться, мне необходимо вас видеть и серьезно переговорить с вами. Не пугайтесь… Приходите завтра около десяти часов вечера на Английскую набережную… Я сумею уйти из дома незамеченною… нам можно будет свободно переговорить… Это более, чем необходимо.
Ваша навсегда
Юлия».Завтра был вторник — jour fixe в доме Ратицыных. Он надеялся там видеть княжну. Она знала это и, следовательно, этим письмом предупреждала это свидание в доме сестры, назначая его в другом месте. Значит, она имела на это свои серьезные причины. Значит, случилось что-нибудь очень важное.
Назначенное, между тем, ею самою на завтра свидание было их первым настоящим свиданием.
До сих пор они ограничивались на глазах других красноречием взглядов и полуслов.
Понятная радость молодого человека в предвкушении такого свидания сменилась беспокойством и неизвестностью.
XIV НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Часть набережной реки Невы, носящая название Английской, несмотря на то, что считается одной из аристократических местностей Петербурга, или, быть может, именно в силу этой ее привилегии, даже в праздничные дни и самый разгар зимнего сезона по вечерам сравнительно пустынна.
Нет обычного в других центральных местностях Северной Пальмиры уличного движения — почти не видно извозчиков, быстро мелькают свои экипажи, — неотъемлемое преимущество как живущих в роскошных палатах, возвышающихся на этой набережной, так и посещающих обитателей этих палат.
Еще летом кое-где на гранитных скамейках набережной можно встретить сидящие «парочки», но когда красавица Нева одевается белоснежным саваном и ее мягкие волны сковывает «ледяной покров», образуя широкое, со всех сторон открытое пространство, способное охладить самые горячие tête-à-tête, — парочки исчезают.
На этой-то набережной, в собственном палаццо с цельными зеркальными стеклами в громадных окнах, с шикарным подъездом и жил граф Лев Николаевич Ратицын со своей супругою, но на разных половинах, по непреложным законам высшего света.
Половина графини Надежды Сергеевны была в бельэтаже, сам же граф жил наверху.
Дом был трехэтажный. Внизу помещалась кухня и людская.
В этом-то доме вместе со своей сестрой жила княжна Юлия Сергеевна Облонская.
Виктор Аркадьевич не был бы влюблен, если бы не пришел более чем на час ранее назначенного свидания.
Комнаты бельэтажа дома Ратицыных были, видимо, уже освещены, так как полосы света пробивались сквозь опущенные шторы и тяжелые драпри.
Чугунные золоченые ворота, ведущие на внутренний двор дома, были затворены, около них на скамейке сладко дремал одетый в нагольный тулуп дворник.
В момент приезда на набережную Боброва к подъезду дома Ратицыных подкатила первая карета на резинах и ливрейный лакей, высадив господ, скрылся вместе с ними в подъезде.
За ней последовала другая, третья, съезд на jour fixe графини Надежды Сергеевны начался.
Виктор Аркадьевич, не находя удобным ждать против самого дома, прошел несколько далее и начал ходить взад и вперед по небольшому пространству гранитного тротуара, не теряя ни на минуту из виду подъезда графского дома, куда все продолжали подъезжать экипажи, и ворот, у которых с неподвижностью изваянной фигуры сидел страж.
Молодой технолог ходил с опущенной головой, углубленный в свои думы.
Одна мысль наполняла его сердце и ум — он увидит княжну.
К несчастью, к радости этой мысли примешивались другие, более печальные, и темными тучками пробегали но светлому настроению его души.
Сильная и искренняя любовь всегда сопровождается тревогой и беспокойством. Женщины, даже самые неопытные, хорошо это знают. Они спокойны, если любимый ими человек беспокоится — он, значит, все еще любит.
Виктор Аркадьевич дрожал при мысли о более чем вероятном отказе со стороны князя Сергея Сергеевича. К тому же свидание, назначенное княжной, таинственное, не терпящее отлагательства, невольно вызвало в его уме множество вопросов. Он сегодня имел право открыто видеться с ней там, у ее сестры.
Значит, случилось что-нибудь очень важное, если княжна выбрала именно этот вечер.
Она всегда имела возможность хоть на минуту освободиться от церемонного и многочисленного общества и перекинуться с ним несколькими словами. Значит, она имела серьезное основание желать, чтобы он переговорил с ней ранее, чем с кем-нибудь из ее домашних.
«Что же случилось?»
Вопрос этот свинцовой тяжестью лежал у него в мозгу.
Он поминутно, несмотря на довольно холодный ветер, дувший с реки, распахивал свою шубу и глядел на часы. Время, казалось ему, двигалось черепашьим шагом.
Вдруг чутким, настороженным ухом он услыхал стук калитки, и на тротуар, противоположный графскому дому, вдоль которого он уже расхаживал более часу, перебежала женская фигура.
Виктор Аркадьевич со всех ног бросился к ней навстречу.
Это, оказалось, была не более как горничная княжны — Аннушка.
— А княжна? — был его первый вопрос. Голос его дрожал.
— Она придет, она прислала меня узнать, тут ли вы? Ведь у нас сегодня приемный день и ей надо улучить минуту, чтобы исчезнуть, а также знать наверное, что вы дожидаетесь. Я пойду предупредить ее и вернусь уже с ней. Отойдите подальше от дома с глаз кучеров. Мы придем, вероятно, сейчас.
Горничная убежала на другую сторону улицы и скрылась в калитке.
Виктор Аркадьевич не совсем доверял этой девушке, но в их положении ни он, ни княжна Юлия не могли быть строгими в выборе поверенных и союзников.
Бобров говорил себе, что в ее же интересах хорошо служить им, так как он щедро платил ей.
Он отошел от дома на довольно большое расстояние и остановился неподвижно, напряженно смотря по направлению к воротам дома Ратицыных.
Глаза влюбленных обладают особенною зоркостью.
Окружавшая его тишина изредка нарушалась лишь шумом подъезжавшего экипажа с запоздавшими гостями графского дома.
Зимою у графа и графини Ратицыных раз в неделю, по вторникам, собирался на чашку чая самый интимный, хотя и многочисленный кружок их знакомых.
На этих церемонных вечерах, всецело подчиненных великосветскому этикету, недоставало веселого увлечения, несмотря на все старания молодой графини.
Граф Лев Николаевич, как большинство ограниченных людей, глубоко презирал всякое проявление веселья, смотря на него как на унижение.
Он сам отличался скорее неповоротливостью и торжественностью, чем настоящею серьезностью, и в этих своих далеко не симпатичных для окружающих качествах полагал сознание собственного достоинства и выражения высокого тона.
Собравшееся в его гостиных общество было самого высшего круга и состояло из лиц с громкими именами.
Все умирали со скуки, но были довольны возможностью поскучать, как истинные аристократы.
Кавалеры и дамы держали себя в отдалении друг от друга. Вторые, сгруппировавшись в одном месте, не двигались со своих стульев, разговаривая о туалетах. Мужчины, в большинстве, стояли за стульями своих дам и смотрели на них, иные собирались небольшими группами или же играли в винт в соседних комнатах.
Ровно в одиннадцать часов лакей, с таким же важным видом, как и его хозяин, открывал обе половинки дверей, ведущих в столовую, и докладывал, что чай подан.
Графиня Надежда Сергеевна тотчас же подымалась со своего места, брала под руку одного из особенно почетных гостей и направлялась в столовую, где дамы пили чай одни.
Мужчины тотчас заступали их места. Тогда только они начинали чувствовать себя свободнее — разговор становился более общим.
В час уже никого не было; все разъезжались довольные, что избавились от мертвящей скуки, и предавались на свободе долго сдерживаемой зевоте.
Понятно, что княжна Юлия при своем веселом, общительном характере не могла находить особого удовольствия среди этого общества.
На всех этих вечерах обыкновенно присутствовал Виктор Аркадьевич, и молодой девушке довольно было этого присутствия любимого человека, чтобы находить все прекрасным, оживленным и веселым.
Графиня Надежда Сергеевна тоже не особенно веселилась, но она думала, что это нравится ее мужу, и подчинялась, как честная женщина, всему, что могло упрочить семейное счастье. К тому же она была поглощена любовью к своему новорожденному сыну.
Что касается графа Ратицына, то он, может быть, скучал больше других, но он не хотел в этом сознаться, приученный с детства скрывать свои ощущения, что служит главной задачей аристократического воспитания.
При таких условиях княжне нелегко было так ускользнуть, чтобы ее отсутствие не было замеченным. Но если мужчины отняли у женщины все права, то природа наградила их тонкою хитростью.
Виктору Аркадьевичу пришлось ждать более часа.
Две тени мелькнули от ворот на противоположный тротуар — это была княжна в сопровождении Аннушки.
XV НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ
— Наконец-то вы, — прошептал Бобров, в страстном порыве сжимая ее протянутые руки.
— Я вас заставила ждать, но это не моя вина… уверяю вас…
— Ваше таинственное письмо, — продолжал он, — меня очень взволновало. Со вчерашнего вечера я не имел ни минуты покоя. Что случилось?
— Ничего особенного, но я все же считаю долгом вам сообщить…
Она осмотрелась кругом, взглянула на горничную, сторожившую в нескольких шагах, и приблизилась к молодому человеку настолько, чтобы не быть услышанной ею.
— Это нехорошо, что я делаю, — прошептала она, — я поклялась не говорить вам того, что узнала… и изменяю своему слову… Но ведь это все равно, так как это касается вас так же близко, как и меня, и я не имею права скрывать от вас секрета… настолько же моего, насколько и вашего…
— В чем же дело?
— Надя все сказала своему мужу!
— Все… что?
— Что мы любим друг друга. Ее смущала мысль, что у нее была тайна от мужа и что он вас принимал, не зная вашего ухаживанья за его свояченицей… Она испугалась ответственности, которой могла подвергнуться, и доверила ему нашу тайну…
— Которая ей не принадлежала! — вскричал немного резко Виктор Аркадьевич.
— Я думаю так же, но когда мы обвенчаемся, разве я буду иметь право что-нибудь скрывать от вас?
— Вы очаровательны, — отвечал он, смягчаясь, — но ведь мужья бывают разные. Конечно, я очень дружен с графом Львом Николаевичем, но мне кажется, что мои сердечные дела касаются только вас, вашего отца и… меня, к тому же я вашего beau frere’а не считаю человеком, которому можно поверять такие секреты.
— Что вы имеете против него?
— Ничего…
— Нет, имеете. Когда разговор касается его, вы как будто не договариваете… Помните бал… Можно подумать, что вы ревнуете…
— В тот вечер его взгляд мне показался странным, но оставим это, я вас к нему не ревную, нет! Я слишком уверен в вас, чтобы ревновать к кому бы то ни было… Но он и я принадлежим к разному обществу, у нас разные взгляды, мы различно чувствуем и думаем… Впрочем, дело уже сделано… что он сказал? Враг ли он нам, или друг, или ни то, ни другое?..
— Друг! Друг!..
— А! — произнес Виктор Аркадьевич, видимо, удивленный, но довольный.
— Да, да… и даже больше, пожалуй, чем нужно!
— Как так?
— Он сам хочет говорить с моим отцом, когда тот возвратится.
— Он берет на себя это дело? — заметил Бобров с легкой иронией.
— Именно; впрочем, он готов взять на себя всякое дело, в которое его только допустят. Я его хорошо знаю! — прибавила она с улыбкой.
Мы бы назвали эту улыбку детской, если бы в наше время существовали дети в полном значении этого слова.
— С тех пор, как я здесь живу, я его до тонкости изучила. Он очень застенчив, очень слабохарактерен… но очень самолюбив и горд и потому хочет казаться смелым, всезнающим и твердым, как кремень; он доверяет только своему мнению, и, когда Надя или кто-нибудь другой наводит его на какую-нибудь мысль, он хватается за нее, приписывает ее себе и уверяет, что никто в мире не сумеет лучше его повести дело.
— Да вы обладаете выдающейся наблюдательностью! — воскликнул Виктор Аркадьевич, смотря на нее с той гордою радостью, с какой смотрит всякий истинно любящий человек, открывая новое достоинство в любимом существе. — Вы несколькими штрихами сумели нарисовать полный портрет.
— Значит, — произнесла она, делая кокетливое движение своей хорошенькой головкой, закутанной в большой платок, — теперь было бы неосторожностью с вашей стороны говорить с моим отцом ранее Льва. Отец, мы получили телеграмму, приезжает завтра, я сочла необходимым вас предупредить…
— Почему же я не могу говорить с ним?
— Потому что Лев обидится, что отказываются от его помощи и посредничества, и пойдет против нас.
Бобров ответил не тотчас, он, видимо, что-то обдумывал.
— Таким образом, — медленно начал он, — наше счастье, наша жизнь, наша любовь, все это нам больше не принадлежит! Другой займется устройством нашей судьбы. Если он не сумеет взяться, или ему не удастся, тогда князь нас разлучит навсегда… О, это ужасно!
Он закрыл лицо руками.
На глазах княжны появились слезы.
— Положим, я робок и застенчив, я стесняюсь князя Сергея Сергеевича, но мне кажется, что сердце подсказало бы мне, как его тронуть, что я исполнил бы эту миссию лучше других. Ах, нескрытность графини, или, лучше сказать, ее щепетильность, может все погубить!..
— Нет, не все… — нежно, сквозь слезы, сказала княжна, — после крушения, которого вы боитесь, останется нетронутой моя любовь!
— Вы ангел! — прошептал он, страстно прижимая ее к своей груди. — Во всяком случае я не думаю, что есть человек счастливее меня!
— Барышня, — заметила горничная, приближаясь, — мне кажется, что пора… Вы уже давно здесь… Могут заметить ваше отсутствие… Я умираю от страха.
Быстрым и грациозным движением княжна вырвалась из объятий молодого человека.
— Теперь вы все знаете и можете идти к нам…
Он не успел ей ответить, как она вместе с Аннушкой уже перебежали на другую сторону и скрылись в воротах дома, у которых все так же безмятежно продолжал сладкую дремоту закутанный в нагольный тулуп дворник.
Виктор Аркадьевич, прежде чем явиться запоздалым гостем на графский jour fixe, еще несколько раз прошелся по набережной.
Завтра приезжает отец, через несколько дней решится окончательно его судьба: жизнь — обладание княжной, или смерть — потеря ее навеки!..
Кровь приливала к его голове при одной мысли о возможности последнего исхода, горло сжимало, и он, распахнувшись, с жадностью вдыхал холодный воздух.
«Но при этом крушении остается нетронутою моя любовь», — успокаивающей мелодией пронеслись в его уме слова молодой девушки.
Он запахнулся в шубу и твердою походкою, перешедши мостовую, направился к подъезду графского дома, двери которого распахнул перед ним рослый швейцар с почтительным поклоном.
Графиня Надежда Сергеевна приветствовала его с каким-то, показалось ему, виноватым видом.
Граф дружески пожал ему руку.
Боброву и тут показалось, что пожатие было как бы выразительнее обыкновенного.
Оно, казалось, говорило: надейся, я знаю все и все беру на себя!
Хотя, как мы знаем, Виктор Аркадьевич не ожидал многого от почти нежелательного для него посредничества графа Льва, но надо сказать правду, показавшееся ему красноречивым пожатие руки его друга внесло в взволнованное состояние его духа некоторую долю успокоения. Это было и немудрено: утопающий хватается за соломинку.
Княжна Юлия, чинно сидевшая в гостиной и беседовавшая с какой-то почтенной старушкой, ответила на его поклон приветливой, но чисто светской улыбкой.
Опасения трусливой Аннушки, видимо, не оправдались — отсутствия молодой девушки не заметил никто.
Скучный вечер прошел своим обычным порядком.
XVI ВЕЧЕР У ЛЬВИЦЫ ПОЛУСВЕТА
Зимний сезон был в полном разгаре.
Был последний день святок — день Крещения, одиннадцать часов вечера.
На Фурштадтской улице, почти в самом ее начале, по правой руке, по направлению к Воскресенскому проспекту, останавливалось множество карет у шикарного подъезда роскошного дома, и многочисленные гости, мужчины, дамы, закутанные в дорогие шубы и ротонды, поднявшись по лестнице до бельэтажа, входили в открытые настежь двери.
Из большой, ярко освещенной передней открывался взорам посетителей вид на огромный зал, в глубине которого было три двери, ведущие в другие три комнаты, тоже весьма обширные, хотя и меньших, сравнительно с залом, размеров.
Обстановка была роскошна до неприличия, позолота мебели, яркость обивки бросались в глаза, «кричали», как метко выражаются французы.
Множество зажженных ламп лили потоки света.
Комнаты были уже переполнены многочисленной шумной толпой, в которой заметно преобладали мужские фраки.
Впрочем, не было недостатка и в представительницах прекрасного пола, в богатых бальных туалетах, украшенных множеством бриллиантов, таким множеством, что казалось вы попали на выставку ювелиров, нашедших более выгодным заменить безжизненные, заурядные витрины прекрасными белыми руками, округленными плечами и грациозными шейками.
Между этими дамами, сливками веселого Петербурга, по большей части львицами полусвета, опереточными артистками и содержанками, были совсем молоденькие, и постарше, и зрелого возраста, но не было ни одной старухи.
Кавалеры же принадлежали ко всем возрастам, начиная с утонченных юнцов, как бы хвастающихся своим бессилием, про которых так правдиво сказал поэт:
Стаканом каждого немудрено споить И каждого не трудно удавить На тонкой ленточке, которой он повязан,и кончая старцами, потухший взор которых под усталыми веками, поблекшие черты красноречиво говорили о бурно проведенной жизни.
Присутствовали представители всех петербургских профессий, чиновники, банкиры, артисты, художники и литераторы.
Было несколько иностранцев. Среди этого смешанного общества находились и наши старые знакомые: доктор Звездич, Виктор Аркадьевич Бобров и Владимир Геннадиевич Перелешин.
Хозяйка дома, дававшая вечер, светлая блондинка, с выпуклыми большими голубыми глазами, очень полная, с чересчур развитыми формами, принимала в одной из гостиных.
Это была знаменитая Дора, или Доротея Карловна Вахер, уверявшая всех, что родилась и выросла в Вене, этом городе красивых женщин, по уверению же злых, но, кажется, в данном случае правдивых языков, родом из Риги.
Недалекая и неразвитая, она была одарена в высшей степени коммерческой сметкой и имела, несмотря на свой более чем зрелый возраст, много поклонников.
Она ни в чем не отступала от своих правил горизонталки, находя, что это ремесло, как и всякое другое, должно быть оплачиваемо по заслугам.
Она никогда не производила крупных скандалов; никогда не была причиной преступления — никто из-за нее не стрелялся.
После Анжель она была в то время первой звездой петербургского полусвета, хотя ее сбережения, несмотря на экономию, доходящую до скупости, не могли сравниться с состоянием Анжелики Сигизмундовны.
— Не понимаю, за коим чертом ты меня привез сюда? — говорил Виктор Аркадьевич доктору Звездичу.
Оба они удалились в одну из дальних комнат, скромно меблированную и слабо освещенную, обращенную на этот вечер в курительную.
Низкие диваны стояли по стенам, и Петр Николаевич, полулежа на одном из них, казалось, с наслаждением курил дорогую сигару.
Бобров стоял перед ним с кляком в руках и со скучающим, грустным выражением лица.
— Я привез тебя, мой друг, чтобы ты развлекся, но вижу, что мне это не удалось.
— Это доказывает, что или лекарство плохо, или твое леченье никуда не годится…
— Ничуть не бывало. Леченье превосходно. С некоторых пор ты грустен, чем-то занят, тебя, видимо, гнетет какая-то мысль, иногда, очень редко, бываешь неестественно весел… Одним словом, все признаки, которые замечаются у институток, влюбленных в своих кузенов, а если ты влюблен, то мое леченье правильно, — я угадал болезнь — она в сердце…
— Влюблен, я? В кого же это? — отвечал Виктор Аркадьевич, смутившись и краснея.
— В кого? Если бы я захотел, то, может быть, и отгадал бы.
Доктор продолжал с улыбкой:
— Я не выпытываю у тебя твоих любовных тайн — они меня не касаются. Только кроме любви тут есть еще кое-что… какие-нибудь препятствия, неудачи… Оттого-то происходят: грусть, нервное состояние, дурное расположение духа, подозрительность… Значит, необходимо развлечение, чтобы восстановить равновесие, разогнать тоску, близкую к меланхолии, служащей зачастую началом сумасшествия…
— Тирада совсем во вкусе мольеровских докторов! — прервал его Бобров, стараясь обратить разговор в шутку.
— Это не опровержение! А между тем, все это служит блестящим доказательством полной пригодности моего лекарства к данному случаю.
— Однако ты сам сознался, что оно, видимо, не действует.
— Что же это доказывает? Это вина больного. Если его желудок не переносит лекарства, то оно от этого не делается хуже и менее подходящим к его болезни.
— Удобная и очень успокоительная логика для совести доктора. Если больной умирает, то он же в этом и виноват.
— Бывает и так!
— К тому же, — продолжал молодой человек, — если твое лекарство развлечение, то можно ли его искать здесь? Не кажутся ли тебе все тут собравшиеся умирающими от скуки?
— Однако эти вечера у львиц полусвета, несомненно, устраиваются для развлечения.
— И ты думаешь, что здесь действительно веселятся?
— Я этого не думаю… но они так думают, и этого им довольно.
Доктор медленно поднялся с подушки дивана, бросил окурок сигары в стоящую в углу гипсовую вазу и, взяв под руку Боброва, смешался с ним в толпе, наполнявшей гостиные и зал «белокурой Доры».
Он на ходу обращал внимание молодого человека на некоторых представителей золотой молодежи, которая была почти в полном комплекте, давая им весьма меткие характеристики.
Виктор Аркадьевич по временам не мог удержаться от смеха.
— Кажется, лекарство действует! — промычал на ходу доктор.
— Я нахожу, — заметил Виктор Аркадьевич, — что все эти шуты здесь как раз на своем месте; но я не понимаю и не могу себе объяснить присутствия здесь некоторых действительно достойных и уважаемых людей, умных и талантливых. Что привлекает их? Доротея — я видел ее… Она уже немолода… безобразно толста, не умеет говорить… Чем может она нравиться… Какое самолюбие может быть польщено обладанием существом, цена которого всем известна?
— Друг мой, — отвечал Петр Николаевич тоном взрослого, говорящего с ребенком, — этот вопрос доказывает только твою житейскую неопытность. Если бы ты, подобно мне, изучал медицину, успел бы много пожить или бы наблюдать за другими, что еще поучительнее, ты понял бы…
Он замолчал на минуту.
Бобров глядел на него вопросительно.
Они остановились в амбразуре одного из окон залы.
— Какими кажутся тебе девять десятых этих людей? — продолжал Звездич. — Находишь ли ты их привлекательными? Думаешь ли ты, что женщина, истинная женщина, способная любить, может увлечься ими? Нет! Не правда ли? Они не лучше, чем эта «венская» Дора, которая обирает их, смеется над ними и продает их эгоистическому, грубому тщеславию поддельную страсть…
— Ты прав относительно тех тощих юнцов, этих молодящихся старцев… но другие?.. — перебил Виктор Аркадьевич.
— Другие… Они приходят сюда с целью отдохнуть, здесь они чувствуют себя свободными, нравственно раздетыми… Иногда находишь удовольствие выпить скверного вина, съесть яичницу с ветчиной в каком-нибудь грязном трактире… для перемены…
Этого уж я не понимаю… Как может довести человек до такого извращенного пресыщения свои вкусовые инстинкты… — горячо возразил Бобров.
Звездич снисходительно улыбнулся.
— Дай Бог тебе и не понять… Не в этом, впрочем, дело; если я привез тебя сюда, так это потому, что здесь сегодня должно произойти первое представление, если можно так выразиться.
— Какое представление?
— Представят новую звезду полусвета, о прелести которой рассказывают чудеса, и человек, открывший ее, должен ее показать сегодня собравшимся здесь «ценителям и судьям»…
— Кто же этот «астроном»?
— Я хочу, чтобы ты сам узнал его.
— Стало быть, я его знаю?
— Еще бы!
XVII НОВАЯ ЗВЕЗДА
Доктор и Бобров прошли в гостиную и поместились на одном из диванов, стоявших в глубине.
— А приедет сюда та, которую я с тобой видел летом в «Аквариуме»? — задал вопрос Виктор Аркадьевич.
— Анжель? Однако ты ее помнишь! — засмеялся Звездич.
— Я вспомнил об ней потому, что до некоторой степени понимаю успех той, но значение, придаваемое этой, у которой мы находимся, решительно мне непонятно…
— У всякого свой вкус…
— Эта Доротея, по-моему, ничего не стоит, тогда как та…
— Что та?
— Совершеннейший тип куртизанки высшего полета, судя по тому, что ты сам мне об ней рассказывал.
— Кто знает, какая тяжесть обременяет ее душу! — сквозь зубы пробормотал доктор.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего! Но здесь ты ее нынче не увидишь.
— Почему?
— Потому, что она несколько месяцев как совершенно исчезла, говорят — уехала за границу.
Звездич остановился.
— Впрочем, вот человек, который может дать об ней сведения…
И легким движением головы он поклонился вошедшему элегантно одетому господину.
— Перелешин? — вскричал Бобров.
— Ты его знаешь?
— Я встречал его у одного из моих товарищей, но давно уже потерял из виду.
— Ага! — заметил Петр Николаевич с легкой гримасой.
— Что значит эта гримаса?
Звездич пожал плечами.
— Он нечестный человек? — спросил Виктор Аркадьевич.
— Мой милый друг, нет больше нечестных людей. Он из тех, кому не нужно поручать своих денег, но кому еще можно пожать руку… Доказательством служит то, что, как ты сам видишь, никто не отталкивает протянутой им руки.
— Что же он, сомнительная личность?
— Даже не сомнительная… не входи с ним в дружбу — вот и все.
В эту самую минуту, прежде нежели Виктор Аркадьевич успел ответить, приблизившийся к ним Перелешин уже протягивал руку доктору, успев на ходу обменяться рукопожатиями и словами со многими из присутствующих.
— Вот и Владимир Геннадиевич! — вскричал Петр Николаевич самым любезным тоном. — Вы, как всегда, молоды и прекрасны.
Действительно, Перелешин был одет в безукоризненно сшитую фрачную пару, держался прямо, бросая вокруг себя смелые взгляды с легкой усмешкой нахальства и вызова на губах, что встречается у людей, не уверенных в том, как к ним отнесутся другие.
— Вы всегда веселы, доктор?
— Отчего мне грустить…
— Конечно! Если я не ошибаюсь, — продолжал он, уже обращаясь к Виктору Аркадьевичу, — кажется, г-н Бобров?
Тревожный огонек на секунду мелькнул в его глазах: он спрашивал себя, что мог доктор или кто-нибудь другой сказать об нем молодому человеку, давно уже потерянному им из виду.
Бобров поклонился ему с совершенным почтением, и Владимир Геннадиевич успокоился.
— Он, он теперь деятель «индустрии» самой высшей пробы, — заговорил Звездич.
— Я это знаю! — заметил Перелешин.
— Да вы все знаете, ходячая газета во фраке и белом галстуке… Боже, какой у вас красивый жилет, вырезан настоящим сердечком. Надеюсь, что ваше собственное менее открыто, чем это… а то бы я вас пожалел! Как раз мы об вас говорили, когда вы вошли.
Владимир Геннадиевич потупил взор.
— Вот он, — продолжал доктор, указывая на Боброва, — справлялся об Анжель, интересовался узнать, будем ли мы иметь удовольствие видеть ее сегодня вечером.
Перелешин бросил на молодого человека быстрый, но лукавый и любопытный взгляд.
— Вы ее знаете? — спросил он.
— Нет, я ее видел всего один раз в театре летом прошлого года.
— И не забыли, — иронически улыбнулся Владимир Геннадиевич.
— В том смысле, как мне сдается, вы понимаете… вы ошибаетесь… Но случайно попав в общество, к которому она принадлежит, я невольно вспомнил о ней.
— А я объявил ему, что вы один можете наверное сказать, где она, — вставил Петр. Николаевич…
— Право, в этом отношении я знаю не более других: она уехала за границу, словом, исчезла…
— Это и я знаю, но вы не догадываетесь о причинах этого внезапного и необъяснимого исчезновения?
— Не имею ни малейшего понятия…
— Она вам ничего не говорила?
— Ни слова… Да и исчезновение совпало с моим отсутствием из Петербурга, я был в Москве, а потом за границей.
— А вы ведь, кажется, были один из лучших ее друзей?
— Да, может быть, лучший друг, — самодовольно поправил Перелешин. — И это по самой простой причине: я никогда не был и не добивался быть ее любовником.
— Это меньше стоит и больше дает! — процедил сквозь зубы Петр Николаевич настолько тихо, чтобы собеседник его не услышал или же мог сделать вид, что не слышит.
— Значит, Анжель покинула Петербург. Я думаю, для вас это очень чувствительно? — прибавил он тоном, присущим единственно ему, который оскорблял и вместе с тем не давал возможности придраться.
— К тому же, — поспешно заметил Владимир Геннадиевич, делая вид, что не понял шпильки, — если бы она даже и была в Петербурге, то, по моему мнению, и насколько я ее знаю, она все-таки бы не приехала сюда сегодня.
— Почему это?
— А потому, что говорят о появлении новой звезды, совсем молоденькой, очаровательной, как сказочная принцесса, и Анжель не рискнула бы дать повод к сравнению своей зрелой красоты с распускающейся красотой своей юной соперницы, не убедившись заранее, что восторжествует над нею и уничтожит ее.
— Кто же эта звезда? — спросил Виктор Аркадьевич. В это время какой-то неопределенный, все усиливающийся шепот донесся до слуха трех собеседников.
— Пойдемте, — воскликнул Перелешин, — держу пари, что это приехала она. Он поспешно направился к двери, ведущей в большой зал, где уже столпились другие мужчины, и крикнул оттуда Звездичу и Боброву:
— Я не ошибся… Это она… Она действительно прелесть… Идите, право, стоит.
Петр Николаевич и Виктор Аркадьевич приблизились в свою очередь.
Бобров чуть не вскрикнул от удивления.
Между рядами любопытных гостей, с лицами, выражавшими восторг и зависть — восторг у мужчин и зависть у дам, — с холодной улыбкой, надменным взглядом и важной осанкой проходил князь Сергей Сергеевич Облонский, ведя за руку совсем еще молоденькое, бледное и дрожащее создание — Ирену.
XVIII ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Ирена Владимировна была в блестящем бальном наряде.
Белая атласная юбка была покрыта второй юбкой из крепдешина, слегка подобранной и отделанной крупными, величиной в орех, золотыми шариками. По обоим бокам, от самого лифа, спускались углами атласные полотнища золотистого цвета; лиф из крепдешина, с золотыми же шариками, был низко вырезан на стане и на груди окаймлен белым тюлевым рюшем, красиво оттенявшим розовато-белое тело молоденькой женщины.
Подборы и длинный шлейф скрывали некоторую худощавость ее фигуры и придавали походке особую грацию.
Вместо всяких рукавов золотые аграфы соединяли и придерживали легкую материю корсажа на ее плечах, которые, казалось, вздрагивали под восторженными взглядами мужчин.
Ее мягкие, блестящие, как шелк, волосы были высоко подняты, обнаруживая стройный затылок, и опускались мягкими буклями на лоб с темными бровями, красиво оттенявшими большие голубые глаза, опушенные длинными ресницами и светившиеся мягким блеском… В ушах ярко блестели роскошные солитеры.
На шее горело всеми огнями радуги великолепное ожерелье из бриллиантов чистейшей воды. На руках были дорогие браслеты, надетые поверх светлых перчаток, затягивавших крошечные ручки до самого локтя и обнаруживавших поразительную белизну остальной части руки. Это чудное, идеальное, дышащее неподдельной чистотой существо составляло резкий контраст с нескромными выражениями чересчур смелых взглядов более или менее усталых, с искусно ремонтированными лицами других присутствующих женщин.
Между тем, в ее ослепительной красоте было что-то неопределенное, обнаруживавшее внутреннее страдание и вызывавшее безотчетное сожаление, что все, если не могли понять, то смутно чувствовали.
Ее чудные глаза были подернуты дымкой болезненной грусти.
Сердце ее, видимо, сильно билось; порывистое тяжелое дыхание колебало ее шею и грудь.
Возбуждаемый ею восторг не вызвал торжествующего выражения на тонких чертах ее лица.
Напротив, она, казалось, с невыносимой внутренней болью переносила его.
Ее взгляд, смущенный, растерянный, то и дело обращенный на ее спутника, выражал какую-то подневольную, робкую, бессознательную покорность.
Полное торжество было лишь для него — князя Облонского. Он наслаждался им, как человек, знающий себе цену, привыкший к успеху, но никогда еще не испытавший настолько блестящего и настолько льстившего его самолюбию опытного Дон-Жуана.
Всевозможные замечания полушепотом, но ясно произносимые восклицания, невольно вырывавшиеся то у одного, то у другого, ежеминутно раздавались со всех сторон.
— Где он выкопал такой клад? — говорил один.
— Она стоит того золота, которое на ней! — замечал другой.
— Скажите лучше тех бриллиантов!
— На ней их, по крайней мере, тысяч на сто!
— Она стоит в десять раз дороже!
— Со временем и будет стоить!
— Право, князь просто колдун — это современный Калиостро.
— Хорошенькая, без сомнения, но, видно, глупа! — говорил чей-то женский голос.
— Слишком молода.
— Что и требуется для стариков!
Перелешин положительно впился в новоприбывшую взглядом.
Он догадался, что в первый раз видит свою жену.
Он, казалось, делал ей оценку, как знаток в этом деле, и рассчитывал в уме, какие проценты может принести ему этот живой капитал.
Стоявший рядом с ним Виктор Аркадьевич был, напротив, не так поражен безукоризненной красотой Ирены, как удивлен, огорчен и даже оскорблен при виде этого почтенного отца семейства, на котором лежало столько нравственных обязанностей в отношении его младшей дочери, выставлявшего себя таким образом напоказ.
Это казалось позорным серьезному труженику.
Он слышал о похождениях этого аристократа, он знал его репутацию известного волокиты, умеющего выбирать себе любовниц и тратить на них безумные деньги, но он не видел его никогда иначе, как у него, Облонского, в качестве гостеприимного хозяина, умеющего принять своих гостей с самой утонченной любезностью, все реже и реже встречающейся в нашем обществе, даже самого высшего круга.
«И это тот самый человек, — говорил сам себе Бобров, — который может отказать мне в руке своей дочери и счесть унижением иметь меня своим зятем?
Невозможно, чтобы человек, который так рискует скомпрометировать легкомысленным выбором удовольствия и так легко забывает, что должен служить примером своим дочерям, могущим узнать о его поведении, невозможно, чтобы этот человек представил мне какие-либо возражения, если я прямо и честно буду просить у него руки его дочери!»
Это соображение успокоило его мысли, занятые перспективой обладания княжной Юлией.
— Она, бесспорно, очаровательна и вполне красавица, — сказал, наконец, Владимир Геннадиевич, отводя от нее взор, как от картины, окончательно оцененной. — Если она умна, то я ей предсказываю одну из тех блестящих карьер, о которых долго говорят. В ней нет еще уменья держать себя, нет апломба… Видно, что это ее дебют… Но она еще очень молода… успеет развиться…
Бобров, все еще не пришедший в себя от удивления и в некотором роде негодования, не отвечал ему, так что друг Анжель обратился к доктору Звездичу, стоявшему с другой стороны.
— Заметили ли вы, доктор, как женщины легко меняются, смотря по окружающей их среде? Мужчина, если он не артист, — артисты в сущности все аристократы по рождению или же по отдаленным родственным связям с Юпитером, — всегда оставляет в себе след своего низкого происхождения и мужицкой крови, текущей в его венах. Сын крестьянина, мещанина, торговца, мелкого чиновника всегда остается похожим на своих папашу и мамашу по внешнему виду, манере держать себя, чувствам, характеру, понятиям о жизни, в нем проявляется что-то тяжелое, грубое, резкое, недоконченное, узкое и мелкое. Женщина, напротив, по существу своему аристократка, бесконечно более гибкое создание. Если она хороша и умна, то так искусно сумеет стряхнуть с себя природную грязь, что никто, даже самый наблюдательный человек, по прошествии нескольких лет ничего не заметит.
— Бедное дитя! — не отвечая на вопрос, сказал Петр Николаевич с выражением такого сожаления в голосе, что Виктор Аркадьевич с невольным удивлением взглянул на него.
Это были единственные симпатичные и благородные слова, сказанные по адресу молодой женщины.
До сих пор она возбуждала лишь презрительную зависть и нескромные желания.
Между тем князь Сергей Сергеевич со своей дамой, пройдя залу и одну из гостиных, направился к двери комнаты, служившей будуаром, где Дора — хозяйка дома — разговаривавшая с другими гостями, еще ничего не знала о прибытии ожидаемых лиц.
Нужно было представить восходящую звезду этому заходящему солнцу, более, впрочем, похожему на полную луну.
Целая толпа следовала за Облонским, чтобы присутствовать при этом представлении и убедиться, что прекрасная статуя умеет говорить, и с первых же слов решить, умна ли она.
Ирена и Сергей Сергеевич вошли в будуар, сделали еще несколько шагов и очутились перед Дорой, которая при виде их встала и пошла к ним навстречу с протянутыми руками.
— Моя милая, — начал князь своим по обыкновению немного насмешливым, хотя и вежливым тоном, — позвольте мне вам представить…
Он не успел окончить.
Сзади него толпа вдруг раздалась, пропуская даму, энергичным жестом пробивавшую себе дорогу.
Она подошла к молодой и положила свою похолодевшую руку на ее обнаженное плечо.
Та вся вздрогнула при этом прикосновении.
— Рена! — произнесла дама.
Несчастная оглянулась при звуке этого голоса, вскрикнула и как пораженная остановилась, широко открыв свои большие глаза.
Она была лицом к лицу со своей матерью.
XIX НАЧАЛО БОРЬБЫ
Анжель, которую считали далеко от Петербурга и которую никто не видал в продолжение нескольких месяцев, действительно явилась. Она была бледна, черные глаза ее горели, а мрачный блеск их даже в спокойные минуты имел в себе нечто суровое, угрожающее.
Как всегда, она была одета вся в черном, что еще более выделяло матовую белизну ее тела, на не прикрытых бальным платьем шее и руках пробегала дрожь от сдерживаемого с трудом волнения.
Вся ее фигура в эту минуту выражала так много истинного, глубокого трагизма, что ни один из присутствующих не сомневался в том, что здесь должна произойти драма.
Никто, впрочем, кроме князя Облонского, и не подозревал, что это была встреча матери с дочерью, так как никто не знал о существовании Рены, так заботливо скрываемой Анжель.
Первая мысль, вполне естественная ввиду места и действующих лиц, пришедшая всем в голову, была та, что придется присутствовать при сцене ревности, которую соперницы в любви устраивают друг другу, — так как невозможно было сомневаться в страшной злобе, наполнявшей все существо Анжель.
Водворилась глубокая тишина.
При крике Ирены, при внезапном содрогании всего ее тела князь также оглянулся.
Узнав мать Ирены, он невольно вздрогнул, несмотря на все свое хладнокровие и уменье владеть собой.
Это было, впрочем, на мгновенье.
Он стал снова приятно улыбаться, принял свой обычный равнодушный вид, хотя целая буря, выражавшаяся на лице куртизанки, надо сказать правду, причиняла ему некоторое беспокойство.
Если бы он только подозревал возможность такой встречи, то, без сомнения, не приехал бы, будучи врагом скандала и огласки.
Но отступать было уже поздно, выказать же малейшую трусость, хотя бы ему пришлось умереть, было не в его характере.
Анжель пристально смотрела на дочь, смеривая ее взглядом с головы до ног.
Совершенно растерянная, Ирена, как прикованная этим пронизывающим ее взглядом, крепко опиралась на руку князя, чтобы не упасть, будучи не в состоянии произнести слово, сделать малейшее движение.
Анжель медленно перевела взор со своей дочери на князя.
Их взгляды встретились, подобно двум ударившимся друг о друга стальным лезвиям мечей — светлые глаза князя твердо выдержали потемневший взор Анжель.
В комнате, казалось, стало еще тише — не было слышно даже дыхания.
Поединок начался.
— Князь, — наконец сказала Анжель вполголоса, — вот уже несколько месяцев, как я вас подстерегаю.
Он слегка поклонился, но не ответил ни слова.
— Князь, — продолжала она, после краткого молчания, — знали ли вы, кто эта девушка?
— Она мне это сама сказала.
— И зная, что у нее есть мать, вы совершили ваш поступок?
Князь не отвечал.
— Вы молчите?
— Ах, моя милая, признаюсь, я нахожу настоящую минуту очень неудобной для семейных объяснений. Если же вы так желаете…
Он опять поклонился и, обращаясь к хозяйке дома, ничего не понимавшей во всей этой сцене, сказал совершенно спокойным тоном, указывая на Ирену:
— Позвольте вам представить дочь Анжелики Сигизмундовны. Одна ее красота уже доказывает, что у нее не могла быть матерью кто-нибудь другая.
— Князь, — сказала Анжель, приблизившись к нему настолько, что он один мог ее слышать, — вы подлец…
Облонский слегка побледнел.
— Пойдем, Рена! — прибавила она, взяв за руку дочь.
— Останьтесь! — произнес Сергей Сергеевич.
— Мама! — прошептала молодая женщина, овладев собою.
— Пойдем! — повторила Анжелика Сигизмундовна таким повелительным тоном, что князь понял опасность, угрожавшую его достоинству, если он начнет борьбу, которую его соперница решилась, видимо, не прекращать до последней крайности.
Положение Ирены невольно вызывало к ней сострадание. Она растерянно смотрела то на мать, то на князя, как бы прося его поддержки, ободряющего слова, но он остался безмолвным.
В ее молчащем, скорбном взгляде было столько любви, отчаяния, страсти, преданности, что Облонский невольно почувствовал волнение.
Одна из присутствующих дам шепнула на ухо своей соседке с глупым, злым смехом:
— Да она его любит без памяти!
— Идите, дитя мое, — вдруг сказал князь ласковым голосом, — я понимаю, что ваша мать после долгой разлуки хочет вас видеть наедине и поговорить с вами. До свиданья!
Он медленно освободил из-под своей ее руку и с своей обычной ловкостью передал Анжель.
— Чтобы она с вами увиделась — никогда! — глухо отвечала Анжелика Сигизмундовна.
Князь наклонился к ее уху и своим обычным, насмешливым, холодным тоном произнес:
— К чему такая злоба против меня? Она могла натолкнуться на другого… Если я, сам того не зная, разрушил какие-нибудь другие планы, то я готов исправить ошибку.
— Вы подлец! — отвечала ему она, не возвышая голоса.
— Совсем нет, — сказал он, показывая свои белье зубы, — так как если я и знал, что она ваша дочь, то не сказал ей, кто ее мать.
Он раскланялся и отошел шага на два.
Анжель отшатнулась от него, как ужаленная, но ни слова не ответила и увлекла за собою свою дочь, которая слышала весь этот негромкий разговор и готова была, видимо, умереть от стыда и отчаяния.
Не успели обе женщины отойти на несколько шагов как несчастная Ирена потеряла сознание и упала бы на пол, если бы доктор Звездич, следивший за ней, не поддержал бы ее.
Из груди Анжелики Сигизмундовны вырвался глухой стон, похожий на крик дикого зверя, защищающего своих детенышей.
— Она умирает! — воскликнула она.
— Нет, нет, успокойтесь! — отвечал доктор. — Это просто обморок… ничего, пройдет… Нужно бы воздуху!
— Моя карета внизу.
— Вот и отлично!..
Не сказав более ни слова, не обращая внимания на мать, следовавшую за ним, он бросился в переднюю, держа Ирену на руках, как ребенка.
Одев ее с помощью слуги и накинув на себя шинель, он спустился со своей ношей по лестнице, положил молодую девушку в карету, приподнял ей голову и уселся рядом с ней.
— Домой! — сказала Анжелика Сигизмундовна кучеру, входя в карету.
Она стала на колени перед своей дочерью, руками поддерживала ее голову, избавляя ее таким образом от толчков экипажа.
Доктор опустил окно, для того чтобы холодный ночной воздух мог освежить Ирену, и дал ей понюхать солей, флакон с которыми был всегда при нем.
— Это не опасно? — с тревогой спросила Анжель.
— Нет. Она придет в себя. Слабость, больше ничего… Вот уже она начинает шевелиться.
Карета между тем ехала очень быстро, Петр Николаевич увидел, что они проезжают по Дворцовому мосту.
— Где же вы живете? — спросил он удивленно Анжелику Сигизмундовну.
— На Петербургской, — отвечала она.
Холодный воздух, тряска кареты и соли, данные доктором, подействовали на Ирену, и она открыла глаза. Некоторое время она оставалась неподвижной, как бы уничтоженной, ничего не различая в темноте.
— Где я? — слабо спросила она.
Ее протянутая рука встретила руку доктора, она ее пожала, но тотчас же оттолкнула.
Это не была рука князя, как она подумала.
Она не понимала, где она и с кем находится.
Ее голова снова опустилась, и она почувствовала что-то теплое, капнувшее на ее щеку.
— Кто плачет? — спросила она.
— Я.
— Кто вы?
— Твоя мать!
— Моя мать! — повторила она с удивлением. — Ах, да, моя мать… это правда.
Громкие рыдания вырвались из груди молодого погибшего существа.
Доктор не произносил ни слова.
Карета остановилась.
Послышался скрип ворот, и экипаж въехал на двор, в глубине которого находился дом-особняк.
В окнах замелькали огни.
Петр Николаевич взял снова на руки Ирену и внес ее через отворенные настежь парадные двери в комнаты, где их встретила старая женщина.
— Ядвига, — воскликнула следовавшая за Звездичем Анжель, — я привезла ее к тебе обратно!
XX НАСТОРОЖЕ
Петербургская сторона, являясь одной из окраин Петербурга, носит на себе совершенно отличный от более или менее центральных частей невской столицы характер.
Первое впечатление, производимое ею на новичка, случайно забредшего в ее по большей части узкие и кривые улицы и в переулки, состоящие из неказистых деревянных двухэтажных, а часто и одноэтажных домиков, построенных в большинстве случаев в глубине дворов, обнесенных решетчатыми или сплошными заборами, — это впечатление захолустного провинциального городка.
Плохо вымощенные мостовые и деревянные мостки вместо тротуаров довершают сходство, и только проходящие по некоторым из улиц «конки» своим грохотом и звоном напоминают, что вы находитесь в городе, служащем центром русской цивилизации.
На улицах, особенно в зимние вечера, совершенно пустынно: изредка встретится запоздалый прохожий или подгулявший мастеровой, извозчиков почти совершенно не видно.
Летом еще наступает относительное оживление этого столичного пригорода, ввиду соседства с излюбленными петербуржцами дачными местностями — пресловутыми «островами».
На чуть ли не самой пустынной улице этой захолустной части столицы, носящей название «Зелениной», ведущей к Крестовскому мосту, скрывалась уже в продолжение нескольких месяцев бывшая звезда петербургского полусвета, красавица Анжель, или Анжелика Сигизмундовна Вацлавская.
Отсюда-то и подстерегала она, как выразилась сама, князя Сергея Сергеевича Облонского.
Убедившись, как мы уже знаем, из произведенного ею самою негласного дознания во время пребывания на ферме близ села Покровского, на роковой для нее ферме, что ее дочь похитил не кто другой, как князь, отдав приказание Ядвиге продать как можно скорее ферму, она через некоторое время устроила так, что отъезд ее за границу стал для всех, знающих ее, несомненен.
Между тем этою «границею» была для нее река Нева.
Послушная воле своей бывшей воспитанницы, Ядвига Залесская быстро, хотя скрепя сердце и весьма убыточно, совершила продажу фермы и прибыла в Петербург. Анжелика Сигизмундовна купила на ее имя по Зелениной улице двухэтажный дом, сравнительно лучший и удобнейший в этой местности.
Новая хозяйка, действуя по заранее намеченной программе своей благодетельницы, под предлогом капитального ремонта квартир, выселила всех жильцов. Верх дома был заколочен наглухо, а нижний этаж, состоявший из двух квартир, соединен был в одну, отделан заново и меблирован, хотя и скромно, но с комфортом.
Когда все было готово, Анжелика Сигизмундовна назначила аукцион обстановки своей квартиры на Большой Морской и затем исчезла с горизонта петербургского полусвета.
Немногочисленный штат прислуги был набран из совершенно новых лиц.
Она терпеливо стала ждать возвращения в Петербург ненавистного ей князя Облонского, соблазнителя ее дочери, и, как мы видели, дождалась.
Удалившись от центра столицы, преследуя мысль, чтобы все ее забыли или же считали далеко от Петербурга, она, естественно, не могла не только поддерживать знакомство в том кругу, в котором она вращалась, но даже должна была избегать показываться на людных улицах, а потому первою ее заботою было завести агентов, которые бы дали ей тотчас же знать с прибытии на берега Невы князя, так как без них весть о его прибытии в Северную Пальмиру могла бы целые годы не дойти до Зелениной улицы.
Мы знаем, что еще до ее исчезновения она посылала за Владимиром Геннадиевичем Перелешиным, не его не оказалось в Петербурге.
Совершенно случайно, в разговоре с одним из знакомых, она получила сведения, что Перелешина видели в Москве в обществе князя.
Это одно уже тотчас же заставило ее бросить мысль пользоваться в данном деле его услугами.
Владимир Геннадиевич был, таким образом, прав, говоря доктору Звездичу и Виктору Аркадьевичу Боброву, что он знает об исчезновении Анжель не более чем другие.
Он, вместе с этими другими, считал ее уехавшей за границу.
Вопрос об агентуре, в силу этого, даже и по-переезде Анжелики Сигизмундовны в дом Залесской оставался открытым.
Мать-мстительница усиленно ломала над ним голову.
Ее выручил случай.
Никому не известная Ядвига Залесская беспрепятственно разъезжала по всему Петербургу по разным хозяйственным надобностям и, возвратясь однажды после одной из таких поездок, сообщила Анжелике Сигизмундовне, что познакомилась с одной из своих соотечественниц, служащей в горничных у Доротеи Карловны Вахер, на Фурштадтской улице.
— У Доры? Да это прямо перст Божий! — воскликнула Анжель.
Ядвига глядела на нее недоумевающим взором.
— Ради Бога, постарайся с ней сблизиться и пригласи ее к себе, — продолжала Анжель.
— А она мне, признаться, не особенно по нраву пришлась. Вертлява очень! — возразила старуха.
— Она нам нужна, необходима! Понимаешь, необходима! — задыхающимся голосом вскрикнула Анжель.
— Если необходима, то я ее залучу на той же неделе.
Вертлявая Стася, камеристка «белокурой» Доры, пила через несколько дней кофе с Ядвигой Залесской, когда в комнату вошла Анжелика Сигизмундовна.
— M-lle Анжель, вы ли это? Да ведь вы уехали! — воскликнула девушка, вскочив из-за стола.
— Я для всех, кроме тебя, и нахожусь за границей, — улыбнулась Вацлавская. — Понимаешь?
— Понимаю!
Она повела ее в свой будуар и изложила ей все, что от нее требуется.
— Ты меня знаешь, я плачу хорошо, а вот задаток. — Анжель подала ей сторублевую бумажку.
Стася вся засияла от восторга.
— Как только ты услышишь о приезде князя Сергея Сергеевича Облонского, от своей барыни или от камеристок ее знакомых, тотчас же явись ко мне и сообщи.
— Будьте покойны — устрою! Тотчас же знать будете! — рассыпалась Стася.
— О том, что я в Петербурге, — ни слова ни одной живой душе!
— Помилуйте, я очень это понимаю!
— Понимать тебе нечего, надо лишь исполнить, — резко заметила Анжель. — Девятьсот рублей за известие…
Через нее-то и узнала Анжелика Сигизмундовна о прибытии князя и о вечере, назначенном у Доры, на котором должно было состояться первое представление «новой звезды».
Эта последняя, не трудно было догадаться, была, конечно, ее несчастная дочь.
Анжелика Сигизмундовна решила встретиться с ней и с ним лицом к лицу публично.
Она приказала нанять для себя карету и в двенадцатом часу поехала на Фурштадтскую улицу и велела остановиться невдалеке от подъезда квартиры Доры, но не выходила и, завернувшись в свою дорогую ротонду из голубых песцов, следила за подъезжавшими экипажами.
Скорее инстинктом матери, нежели зрением, угадала она приезд его и ее и последовала за ними.
Остальное мы знаем.
Уезжая из дому, Анжелика Сигизмундовна сказала Ядвиге, чтобы она приготовила комнату Рены, приказала бы освежить и оправить постель.
Старая нянька удивленно вытаращила на нее глаза.
— Я привезу ее! — заметила Анжелика Сигизмундовна и вышла садиться в карету.
Старуха проводила ее недоумевающим взглядом, но, начала делать соответствующие распоряжения.
С самого начала распланировки квартиры одна из комнат была предназначена для ожидаемой.
Анжель была глубоко убеждена, что Ирена возвратится.
Это была небольшая, уютная комната в два окна, все стены которой были обтянуты розовой шелковой материей. Изящная будуарная мебель обита шелком такого же цвета; белые драпри на окнах и белый полог над пышной кроватью довершали обстановку, не говоря уже о дорогих туалетных принадлежностях и других безделушках, украшавших туалетный стол, на котором возвышалось огромное, зеркало.
Весь пол комнаты был покрыт пушистым ковром.
Это была самая уютная и комфортабельнее других убранная комната квартиры, в которую внес доктор Звездич, в сопровождении Анжелики Сигизмундовны и Ядвиги, еще совершенно не оправившуюся от обморока Ирену.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОКО ЗА ОКО
I ЗА ГРАНИЦЕЙ
Rue de la Poste — одна из центральных и оживленнейших улиц Парижа. Она находится вблизи бульваров — этих нервов парижской жизни — театров: «Grand opéra» и «Comédie Franèaise», первенствующих храмов искусства не только Европы, но и всего мира.
Среди каменных громад этой улицы, широкой и прямой, как все улицы нового Парижа, особенным изяществом архитектуры и художественными скульптурными орнаментами выделяется четырехэтажный дом с широким подъездом, над которым красуется вывеска «Hôtel Normandy».
Этот отель хотя и принадлежит к числу первоклассных, но далеко не лучший из них и отличается поэтому как скромностью своих обитателей, так и сравнительной скромностью цен.
Сама вывеска отеля — «Hôtel Normandy» — с бросающейся в глаза грамматической ошибкой, явилась вследствие желания его первого владельца отличить свое учреждение от других отелей Парижа, носящих фирму «Hôtel de la Normandie», которых несколько, и один из них принадлежит даже к лучшим, первоклассным.
Так, по крайней мере, объясняет любопытствующим эту оригинальную вывеску настоящая содержательница отеля — полная, красивая француженка бальзаковского возраста.
Бравый швейцар этой гостиницы говорит на всех языках цивилизованного мира, за исключением русского, что, впрочем, не мешает ему питать глубокое чувство уважения к представителям «ces barbares russes»[13]… вообще и к их национальной тароватости в особенности, и быть таким образом горячим сторонником франко-русских симпатий.
В то время, к которому относится наш рассказ, в числе знатных иностранцев, проживавших в отеле и пользовавшихся особенным уважением бравого швейцара, были prince Oblonsky и princesse Pereleschin, как звали в Париже знакомых нам князя Сергея Сергеевича Облонского и Ирену Вацлавскую, помимо ее воли коловратностью судьбы, как, конечно, помнит читатель, превратившуюся в Ирену Владимировну Перелешину. Княжеский титул пожалован ей был швейцаром как знак глубокого; уважения последнего к ее покровителю — князю Облонскому.
Ирена, увы, к этому времени уже знала непринадлежность ей этого титула, знала, что считается женой князя Сергея Сергеевича только перед Богом, да перед ним, но не перед людьми.
Горькую для нее истину, хотя, как оказывается, и не совсем истинную, открыл ей сам князь, умолчав о том, что он женился на ней с бумагами другого, подкупленного им лица, что она считается законною женою этого лица, а относительно его, князя, только содержанкой.
Он понимал, что истина во всей ее наготе, не прикрашенная туманными фразами, могла убить это нежное, безотчетно поверившее и бесповоротно отдавшееся ему существо. Контраст между поступком его с нею и ее отношением к нему с самого начала ее первого романа был слишком резок, чтобы не разбить вдребезги созданного ею из него, князя, кумира, и этого он еще не хотел, и это, наконец, могло стоить ей жизни. В последнем он и не ошибался.
Он убедился в этом уже по тому потрясающему впечатлению, которое произвело на нее даже прикрашенное ложью открытие, по почти ставшим роковыми его последствиям.
Это частичное, если можно так выразиться, открытие глаз несчастной женщины на ее положение было совершено князем Облонским месяца через два после приезда их за границу и уже тогда, когда он оказался, что называется, припертым к стене, когда продолжение комедии с Иреной, начатой им в тени вековых деревьев Облонского леса, стало положительно невозможным.
Задумчивая и грустная, она начала при разговоре с ним о матери, возобновлявшемся ею не только ежедневно, но за последнее время даже ежечасно, бросать на него унылые взгляды, полные красноречивого подозрения.
Отвлечь ее от мысли о предстоящем обещанном им свидании с матерью за границей не было никаких средств.
Они все были им испытаны.
Ни быстрая смена впечатлений при путешествии, — они в каких-нибудь два месяца объездили Австрию, Германию, Швейцарию и Италию, — ни дивные красоты природы, ни памятники искусств, ничто, казалось, не могло заставить забыть Ирену ежедневный, тяжелым камнем ложившийся на душу князя вопрос:
— Когда же я увижу маму?
— А в этом городе, куда мы едем, увижу ли я, наконец, мою маму?
Князь решил везти ее скорее в Париж.
Он надеялся, что этот «мировой» и, по преимуществу «дамский» город волнами блонд и кружев, грудами изящных тканей, драгоценностей, всем тем «дамским счастьем», которое так реально и так увлекательно описано Эмилем Золя в романе под этим названием, охватит все чувства молодой женщины, заставит забыть ее, хотя бы временно, обещанное им свидание с дорогой матерью, образ которой все неотступнее и неотступнее начинал преследовать Ирену.
«Вихрь парижских удовольствий, — думал он, — довершит остальное, увлеченная им, она слабее почувствует готовящийся ей удар».
Увы, он ошибся и в этих своих расчетах.
Они приехали в Париж, и князь избрал «Hôtel Normandy», конечно, не в силу описанных нами его качеств, скромности обитателей и цен, а лишь в силу того, что он знал, что отель этот редко посещается русскими, встреча же с милыми соотечественниками была для князя очень и очень нежелательна.
Первые слова Ирены были:
— Здесь, в Париже, конечно, я увижу мою маму?
— Вероятно, вероятно… моя прелесть! — уклончиво отвечал Сергей Сергеевич.
— Вероятно… — упавшим голосом повторила она, глядя на него взглядом, полным сомнения и грусти.
Князя, как ножом, резал этот взгляд. Он старался переменить разговор, но никакие темы не в состоянии были отвлечь ее от гнетущей мысли о матери, и она через несколько времени опять задавала те же мучающие его вопросы.
Князь приступил к выполнению задуманного им плана: неутомимо стал возить он Ирену по модным и ювелирным магазинам этого «города мод», тратил безумные деньги на покупку всевозможных дорогих тряпок, редких вещей и драгоценностей, буквально завалил ее всем этим, так что роскошное отделение, занимаемое ими в гостинице, вскоре превратилось в какой-то магазин.
Театры, балы, собрания, концерты сменялись перед ней как в калейдоскопе — казалось, у нее не должно было остаться ни одной минуты, свободной от новых впечатлений, свободной для размышления о себе.
— Она забудет… — вставая утром, говорил он себе со сладкой надеждой.
В течение дня, увы, он снова по нескольку раз слышал вопрос, ставший ему уже ненавистным.
— Когда же, наконец, приедет моя мама?
Так прошло около двух недель. Вопросы о матери со стороны Ирены не только не прекращались, но становились все чаще, настойчивее, и ее взгляды все подозрительнее и тревожнее.
Князь решился, наконец, покончить разом с этим гнетущим положением.
Он начал обдумывать предстоящую ему щекотливую беседу с Иреной.
«Необходимо возможно более и гуще позолотить пилюлю, возможно более смягчить силу удара, надо придумать развязку наиболее романическую, где бы мы оба являлись жертвами нашей взаимной любви, надо придать себе в этой истории все качества героя и таким образом подстрекнуть ее на своего рода геройство, на жертвы, на примирение с совершившимся фактом».
Так размышлял Сергей Сергеевич и делал в своем уме, согласно этому плану, наброски разговора с молодой женщиной.
Разговор в мельчайших деталях был почти готов, князь даже мысленно предугадывал вопросы со стороны Ирены и мысленно же давал на них ответы, естественные, правдоподобные, доказывающие его безграничную к ней любовь и вместе с тем невозможность в его положении поступить иначе.
Он оставался доволен собой, но приступить к осуществлению этого всесторонне обдуманного плана медлил.
Он боялся.
Впервые испытывал он это чувство, оно страшно бесило его, оскорбляло его безграничное самолюбие или, вернее, себялюбие.
И кого боялся он? Слабое, беззащитное существо, с бесповоротно преданным, несмотря на посетившие его за последнее время сомнения, сердцем.
Князь Облонский, со своим хваленым бесстрашием, со своим светским апломбом, пасовал перед этой слабостью.
Ее-то именно и боялся он.
В муках такой нерешительности провел он несколько дней, а эти муки усугублялись все чаще и чаще слетавшими с побледневших губ Ирены вопросами:
— Скоро ли, наконец, приедет моя мама?
— Когда же, наконец, увижу я мою маму?
Князь решился.
II СТОЛБНЯК
— Мне надо поговорить с тобой, моя дорогая! — начал князь, когда они отпили утренний кофе, и лакей гостиницы унес посуду.
— О маме? — с тревогой в голосе вскинула она на него пытливый взгляд.
— Отчасти и о ней… — сжал на мгновение он свои красивые брови.
Такое начало не предвещало, казалось ему, ничего хорошего.
Она молчала, сидя на диване у того стола, за которым они только что пили кофе, одетая в утреннее платье из голубой китайской шелковой материи.
На дворе стоял октябрь в начале — лучшее время года в Париже, в открытые окна роскошно убранной комнаты занимаемого князем и Иреной отделения врывался, вместе со свежим воздухом, гул «мирового» города. Был первый час дня, на rue de la Poste господствовало полное оживление, находящееся против отеля café было переполнено посетителями, часть которых сидела за столиками на тротуаре.
Ни Сергея Сергеевича, ни Ирену не беспокоил уличный шум, они, видимо, даже не замечали его, занятые оба своими мыслями.
Она вопросительно глядела на него, ожидая обещанного им сообщения.
Он встал с кресла, прошелся несколько раз по комнате, неслышно ступая по бархатному ковру.
Она продолжала молча следить за ним глазами.
Он подошел к дивану, движением ноги отодвинув в сторону кресло, сел с ней рядом и обнял ее за талию.
— Ты по-прежнему любишь меня, Рена?
Он с нежной грустью смотрел ей прямо в глаза. В ее взоре, неотводно устремленном на него, появилось выражение тревожного упрека.
— Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Разве ты сам не знаешь это лучше меня? — спросила его Рена вместо ответа.
Он на секунду смутился, но тотчас же оправился и продолжал тем же мягким, вкрадчивым голосом:
— Я знаю, конечно, знаю, моя ненаглядная, но мне надо сообщить тебе нечто такое, перед чем мне хотелось бы снова слышать от тебя, что ты любишь меня так же, как и я, то есть более всех на свете… что самое raison d’etre[14] нашего существования на земле с момента незабвенной для нас нашей встречи для меня — ты, для тебя — я. Не так ли?
— Случилось что-нибудь с мамой? — вдруг заволновалась она и впилась в него еще более тревожным взглядом.
— С чего ты это взяла? Ничего не случилось… Я по крайней мере не знаю… — бессвязно и отрывисто заговорил он.
— Что же такое ты хочешь сообщить мне? Говори скорее…
Она как-то инстинктивно отодвинулась от него, но он снова привлек ее к себе.
— Не торопись… К чему?.. Ответь сперва на мой вопрос… настолько ли ты любишь меня, что сумеешь простить, если бы даже узнала, что я все это время был очень и очень виноват перед тобою…
— Ты? — снова отшатнулась она от него.
— Я, я! — с болью в голосе продолжал он. — Я надеюсь только на твою всепрощающую любовь… Ты поймешь, что действовать иначе я не мог, единственно потому, что безумно любил и люблю тебя. Он низко опустил голову.
— Ты меня обманывал… относительно… мамы… — чутьем догадалась она. Голос ее дрожал и прерывался.
Его рука, обвивавшая ее стан, почувствовала, как по всему ее телу пробежала дрожь. Он молчал.
— Значит, я угадала! — чуть слышно прошептала она.
— Успокойся, дорогая моя, и выслушай меня серьезно, главное, внимательно.
— Я слушаю! — чуть слышно, преодолевая охватившую ее снова нервную дрожь, сказала она.
Он замолчал на минуту, как бы собираясь с мыслями.
— Ты знаешь, конечно, дорогой друг мой, что я по рождению и воспитанию принадлежу к тому замкнутому, кругу общества, который в России именуется «высшим» или аристократическим кругом, эта русская «аристократия» ничуть и ничем не похожая на аристократию европейскую, до сих пор ревниво охраняет свою замкнутость и на всякое вторжение в ее среду постороннего лица смотрит враждебно, давая подобным попыткам довольно сильный и неотразимый отпор. Этот беспощадный высший круг, не колеблясь, извергнет из себя каждого своего сочлена, осмелившегося попытаться ввести в него новое лицо. Особенною строгостью отличается это высшее русское общество, — князь с усилием скорчил ироническую улыбку, — относительно женщин. Всякий неравный брак, или, как он называется в высших этих сферах, mésalliance, осуждается безапелляционно. Позор подобного поступка падет не только на совершившего его, по и на всех членов его семьи. Приводить в оправдание подобного поступка пред судом общественного мнения какие бы ни было чистые чувства и побуждения бесполезно. Приговор заранее известен и неизменяем.
Князь печально опустил голову.
— К чему все это ты говоришь мне, я не понимаю? — прошептала Ирена, глядя на него широко раскрытыми глазами.
Князь поднял голову и продолжал с горькой улыбкой:
— Сейчас поймешь, немного терпения!
Она печально улыбнулась.
— Ты же, моя милая, несомненно, прелестнейшая из женщин, когда-либо встреченных мною на жизненном пути, но, увы, принадлежащая к другому классу общества, и ввести тебя в «наш круг» на правах княгини Облонской я не могу.
Ее лицо омрачилось, нижняя губа конвульсивно задрожала — она смутно начала понимать.
Князь не заметил этого, так как говорил, опустив глаза вниз.
— Ты понимаешь также, что мы, члены этой аристократической семьи, все-таки люди, что подчинять наши чувства и наши страсти суровым правилам света не всегда для нас возможно, мы можем встретиться с девушкой другого круга, искренно и сильно полюбить ее, как это случилось со мной. Что делать тогда? Для этого-то в нашем кругу изобретен так называемый «морганатический брак», в котором муж и жена считаются таковыми перед Богом, так как клялись перед Его алтарем, но не считаются ими перед людьми. Я, со своей стороны, далеко не одобряю такого иезуитского выхода и никогда бы не решился на него, если бы не был связан с обществом моими дочерьми. Я не имел права, действуя иначе, обречь их на изгнание из среды, в которой они родились и выросли. Надеюсь, что ты согласна с этим?
Он остановился и бросил на нее вопросительный взгляд.
Она молчала, продолжая в упор глядеть на него.
— Ты можешь заметить мне, что все это я был обязан сказать тебе ранее, что я все-таки обманул тебя, — ты будешь бесконечно права, и в свое оправдание я не посмею сказать ничего, кроме того, что я безгранично, безумно любил и люблю тебя, что я боялся, что ты не решишься на такой шаг, что любовь твоя ко мне вначале не была еще настолько сильна. Когда она будет моей, думал я, я сумею доказать ей, насколько серьезно мое чувство — она оценит его, простит мне и хотя бы задним числом сочтет меня достойным принесенной ею, хотя и бессознательно, мне жертвы, одобрит задним числом сделанный ею шаг, в котором я никогда не заставлю ее раскаяться.
Он снова замолк на секунду и искоса поглядел на нее.
Она сидела, не меняя позы, и молчала.
— К тому же, думал я, — продолжал он, — я сам приношу ей в жертву то общество, ту среду, в которой я провел столько лет. Я не извергнут из него, но сам не пойду в него. Я сумею составить ей и себе круг знакомых в России, где ее будут уважать, как мою вечную подругу жизни, как мою жену, хотя и не перед людьми, но перед Богом — она поймет, что к ее ногам я кладу самого себя и все свои прошлые знакомства и связи. Мои дети — члены этого общества, я откажусь и от них. Она, она одна заменит мне все и для себя найдет все в беззаветной любви моей.
Она продолжала, молчаливая, недвижимая, сидеть перед ним, как бы воплощенным упреком его совести.
Он с самого начала разговора с ней почувствовал, что не в состоянии сказать ей то, что так, казалось ему хорошо было им придумано, что он выучил почти наизусть и вдруг позабыл, как забывает порой оробевший дебютант-актер назубок приготовленную роль.
Он сознавал, что говорит бессвязные нелепости, но продолжал нанизывать слова, спеша и путаясь, с единственною мыслью как-нибудь и чем-нибудь закончить.
Ее молчание раздражало его и производило еще большую путаницу в его мыслях.
— Что же ты молчишь? Скажи мне хоть слово! — весь дрожа от волнения, произнес он.
На лице его то и дело выступали красные пятна, на лбу крупные капли пота.
— Моя мать знала и знает все это? — снова вместо ответа задала она ему вопрос.
— Нет, и в этом моя еще большая вина перед тобой, — заметил он, — она, конечно, не согласилась бы, мы обвенчались тайно от нее, она ничего не знала.
— Значит, она предназначала мне другого, а не тебя… Я поступила против ее воли, и она… она отказалась от меня.
Последние слова она через силу выкрикнула каким-то сдавленным голосом и быстро отодвинулась от Сергея Сергеевича.
Он с испугом поглядел на нее.
Все мускулы лица ее конвульсивно сократились, глаза приняли почти бессмысленное, стеклянное выражение, и взгляд устремился в одну точку.
— Прости, прости меня! — простонал испуганный князь.
Она не отвечала.
Он взял ее руки, бессильно опустившиеся на колени, они были холодны как лед.
— Скажи мне хоть одно слово… — умолял он.
Все было напрасно: она сидела как окаменелая, и когда он выпустил из своих рук ее руки, они безжизненно упали снова на ее колени.
Он понял, что она находится в столбняке, и окончательно в первые минуты растерялся.
III БОЛЕЗНЬ ИРЕНЫ
Семь дней провела Ирена в состоянии, близком к каталептическому.
Уложенная с помощью сбежавшейся на зов встревоженного князя прислуги в постель, она уже целую неделю лежала как мертвая, без малейшего движения.
Собиравшиеся около нее доктора — все знаменитости парижского медицинского мира — своими унылыми лицами красноречиво свидетельствовали о бессилии науки перед загадочной для них болезнью.
Они констатировали лишь, что больная, видимо, вследствие моральных причин, потеряла способность чувства и движения и жила исключительно растительной жизнью.
Они поддерживали эту жизнь искусственным питанием, испробовав перед тем все известные в медицине средства против столбняка, каковым, по исключительному и единогласному их диагнозу, была болезнь молодой женщины. Но на последнем консилиуме — их было несколько — парижские знаменитости решили, что наблюдаемая ими болезнь произошла, несомненно, вследствие сильного душевного потрясения и, таким образом, должна если не быть совершенно причисленной, то считаться близко граничащей с душевными болезнями.
— Надо пригласить Шарко! — сказали они князю.
Он тотчас же помчался за этим столпом европейских психиатров.
Знаменитый психиатр не замедлил явиться.
Собрались и все врачи, посоветовавшие обратиться к нему.
После тщательного исследования больной и продолжительных дебатов врачи согласились со своим знаменитым коллегой, что к этому загадочному, еще не наблюдавшемуся в их практике виду столбняка, не поддающемуся никаким испытанным методам лечения, необходимо попробовать применить не менее загадочный новый способ — способ лечения гипнотизмом.
Сам князь Сергей Сергеевич невольно тормозил самую возможность правильного и, быть может, успешного лечения Ирены.
На все вопросы приглашенных им к постели больной врачей, с доктором Шарко во главе, о причинах, заставивших впасть молодую женщину в такое состояние, он отвечал, что решительно не может себе самому объяснить их.
— Не получила ли она перед этим какого-либо потрясающего известия? — допытывались эскулапы.
— Насколько я знаю, никакого! — отвечал князь, не поднимая глаз.
— При каких, по крайней мере, обстоятельствах это случилось?
Сергей Сергеевич сообщил, что это случилось после только что отпитого утреннего кофе, когда они, сидя еще за столом, разговаривали вдвоем.
— О чем вы с ней говорили?
— О каких-то пустяках, я, признаться, даже позабыл о чем именно, пораженный случившимся с ней припадком.
Врачи, как мы видели, терялись в догадках и решили, по совету Шарко, попробовать гипнотическое внушение.
Знаменитый психиатр в этот же день прислал князю визитную карточку рекомендованного им после консилиума гипнотизера.
Jacques Bertheau
médecin — hypnotiseur
membre des plusieures sociétés savantes.
Rue St. Anne, 14 bis.[15]
Сергей Сергеевич немедленно послал приглашение этому «члену многих ученых обществ».
Посыльный вернулся с ответом, что доктор будет на другой день утром.
Князь не спал всю ночь; это, впрочем, была не первая ночь со времени болезни Ирены, проведенная им в мучительных думах.
Он испытывал невыносимые нравственные страдания — беспомощное и почти, по приговору докторов, безысходное положение молодой женщины, загубленной им, принесенной в жертву старческой вспышке его сладострастья — князь наедине с собой не мог не сознавать этого — тяжелым камнем лежало на его, довольно покладистой в подобных делах, совести.
Смерть этого так нагло обманутого им существа представлялась ему каким-то страшным, роковым событием, долженствовавшим отравить весь конец его жизни.
Анализируя свои чувства к недвижимо лежавшей в соседней комнате больной, полумертвой Ирене, князь, к ужасу своему, ясно понимал, что не одно обладание ею как красивой женщиной, находящейся в периоде пышного расцвета, связывало его с ней — он чувствовал в своем развращенном сердце еще нечто вроде привязанности к этому чистому и слабому существу.
Эта связь не была любовью, это было какое-то тяготение противоположностей, какое-то притягательное свойство положительного к отрицательному, — свойство магнита.
Единственным средством освободиться от этой привязанности и разорвать эту связь было низвести молодую женщину ниже себя, вывести ее на такой путь, идя по которому она стала бы относительно его в положение, которое даст ему возможность смотреть на нее сверху вниз, а не наоборот, как было до сей поры.
Он лелеял эту мысль и уже стремился к этой цели. Ее смерть в настоящую минуту окружила бы ее в его собственном сознании ореолом мученичества, а это и было бы главной причиной мучительных угрызений совести.
Когда он пустит ее на ту широкую дорогу, по которой пустил уже многих подобных ей, когда увидит, что она беззаботно и весело, как десятки других, бывших в его руках женщин, пойдет по этой дороге, он успокоится.
Следовательно, она должна была жить, и не только жить, но и отрешиться от своих прежних чувств и взглядов, думать обо всем его умом, глядеть на все его глазами.
Как это сделать? Как, прежде всего, заставить ее жить? Эти вопросы гвоздем сидели в непривычной к напряженной умственной работе голове Сергея Сергеевича.
Приговоры врачей тяжелым камнем давили его душу.
Если бы он откровенно объяснил им причины болезни Ирены, то, быть может, они могли бы найти средства вывести ее из этого ужасного, загадочного для них столбняка.
Но как объяснить?
Князь не решился бы никому в мире рассказать всю правду.
Мысль его перенеслась на ожидаемого гипнотизера. «Он тоже начнет допрашивать… Что отвечу я ему?» — думал он.
Он не ошибся.
Явившийся аккуратно на другой день рекомендованный доктором Шарко гипнотизер, оказавшийся маленьким, юрким еврейчиком, с большими бегающими глазами, горевшими каким-то темным огнем, осмотрев больную, обратился к князю и в упор спросил его:
— Что привело ее в такое состояние? Мне надо знать не только все малейшие причины, которые могли повлиять на нее до пароксизма, но, кроме этого, мне еще необходимо, чтобы вся душевная, если можно так выразиться, жизнь больной не была для меня тайной.
Он глядел на Сергея Сергеевича своим пронизывающим насквозь взглядом.
— Но я, право, не знаю, я сам положительно недоумеваю… о причинах, — бессвязно пробормотал князь, чувствуя себя положительно не по себе под этим убивающим в нем волю устремленным на него взглядом.
— Подумайте, — голосом, в котором звучали металлические ноты, произнес доктор Берто, продолжая глядеть на него, — иначе, поймите, искусство мое бессильно, я не буду в состоянии помочь, а ведь вам нужно, чтобы она была жива…
Последние слова он произнес с убийственной для князя хладнокровной расстановкою.
У Сергея Сергеевича положительно опустились руки: этот человек, с которым он встретился первый раз в жизни, сразу, после нескольких минут разговора, угадал его самую сокровенную мысль.
Так, по крайней мере, решил Облонский, нервы которого от бессонной ночи и от фиксирующих его глаз «загадочного жида» — так назвал мысленно он доктора — были потрясены до крайности.
У него даже не появилась мысль, что доктор Берто мог выразить свое мнение о необходимости для него жизни Ирены совершенно случайно, вывести его из расстроенного вида князя.
Вдруг в его уме блеснула счастливая мысль.
«Надо переговорить с ним, надо спасти Ирену!»
IV КНЯЗЬ И ГИПНОТИЗЕР
— Я буду с вами откровенен, но не здесь, — обратился он к доктору.
Казалось, князь боялся, несмотря на бессознательное положение молодой женщины, при ней повести этот щекотливый разговор.
Доктор Берто отвел от него глаза.
Это было все-таки облегчением для Сергея Сергеевича. Оба они удалились в соседнюю комнату.
— Насколько мне известна сущность гипнотизма, — начал князь, опустив глаза и избегая взгляда гипнотизера, который сидел против него у письменного стола, — она состоит в особой способности лица, настолько подчинять себе волю другого человека, что последний бессознательно и беспрекословно исполняет его приказания, хотя бы исполнение их длилось целый неопределенный период времени. В настоящее время область, в районе которой действительны эти приказания, или, как их называют, «внушения», настолько расширилась, что путем их происходит даже выздоровление болезней.
— Это почти так! — кивнул доктор головой в знак согласия.
Он произнес это тоном, в котором звучало снисходительное удовольствие, что профан, каким являлся его собеседник, имеет почти верное, хотя и поверхностное понятие о его науке.
— Из нашего разговора с вами у постели больной, — продолжал между тем князь, — я вынес предположение, что лечение гипнотизмом особенно применимо к болезням, причины которых лежат в нравственной, духовной стороне человека, на каковую сторону гипнотизер может действовать почти неотразимо. Полагаю, что я прав.
Доктор Берто молча кивнул головой, видимо, ожидая конца этого предисловия и угадывая, к чему клонит его собеседник.
Это красноречиво утверждала чуть заметная, змеившаяся на его тонких губах хитрая усмешка.
— Потому-то все доктора, не добившись от меня причины, полагали у Ирены Владимировны — так зовут больную, — вставил князь, — не могли определить болезни, а прозорливый Шарко, угадывая, что эта причина непременно лежит в моральном потрясении, рекомендовал обратиться к вам. Вы начали с того, что подобно им категорически спросили меня об этих причинах, а из тона вашего голоса я увидел, что вы в этом случае не подобно им внутренне глубоко убеждены, что такие причины существуют и что я их знаю. Пасуя всецело перед вашею проницательностью, я принужден сказать вам, что вы не ошиблись.
Лицо гипнотизера приняло почти надменное выражение, как бы говорившее, что он не допускает даже мысли о возможности какой-нибудь ошибки с его стороны.
— В таком случае скажите мне их! — произнес он, снова фиксируя князя своим металлическим взглядом.
— Это дело другое, — нервно повел плечами последний, не глядя на Берто, но чувствуя на себе его взгляд. — Об этом-то я и хотел серьезно переговорить с вами.
— Вы ни за что не хотите сказать их?
— Не столько не хочу, сколько не могу, — перебил его Сергей Сергеевич, — и как велика эта невозможность, вам будет ясно из того, что я сейчас скажу вам.
Он остановился.
Гипнотизер не сводил с него глаз.
— Я люблю эту женщину, — повел князь головой по направлению к комнате больной, — люблю горячо и сильно, но готов лучше обречь ее на раннюю смерть, нежели открыть эту тайну.
Доктор вдруг сделался необычайно серьезным.
— В таком случае мне здесь нечего делать, — холодно заметил он, взяв шляпу, поставленную им на пол около кресла, на котором сидел.
— Куда же вы? — остановил его князь нетерпеливым движением. — Я не только не отказываюсь от ваших услуг, я, напротив, прошу их, рассчитываю на них, за платой я не постою.
Доктор снова поставил на пол свою шляпу.
— Какого же рода услуги угодно вам от меня? — будто недоумевающе поглядел он на Сергея Сергеевича.
— Вот десять тысяч франков, — быстро вынув бумажник и отсчитав десять банковых билетов, сказал Облонский, подавая их доктору Берто. — По окончании лечения вы получите еще столько же, но она должна быть жива и здорова.
От князя не ускользнуло выражение лица гипнотизера, когда он упомянул ему, что за платой не постоит.
«Жид! — промелькнуло в его голове. — Надо возбудить в нем корысть».
Гипнотизер как-то инстинктивно опустил руку на билеты, положенные на стол.
— Конечно, — уже более мягко заговорил он, — можно посредством внушения пробудить в больной чувство движения, она встанет, к ночи выздоровеет, но я не скрою от вас: при малейшем воспоминании о том неизвестном мне факте, сообщение о котором привело ее в настоящее положение, столбняк может повториться. Зная же этот факт, можно легко внушить ей во время гипноза, чтобы она смотрела на него иначе, и он потеряет гнетущую ее душу силу.
— А не может этого сделать кто-либо другой?
— Кто же другой, я вас не понимаю?
— Я, например!
Берто внимательно и пристально посмотрел на Облонского.
— В чертах вашего лица, в ваших глазах есть, несомненно, задатки «силы влияния», так именуем мы «силу внушения» в сыром, необработанном виде. Вы можете попробовать, и даже, думаю, с успехом, тем более, что больная — данный объект гипноза — будет отзывчивее на ваше внушение. Она вас любит?
Доктор вопросительно взглянул на него. Князь утвердительно кивнул головой.
— Так лечите ее и научите меня. Возвратите ей движение и чувство, остальное будет мое дело!
— Но ведь это… — начал было Берто.
— За это будет особая плата, — не дал ему высказаться Сергей Сергеевич, — еще десять тысяч, пять вперед.
Он снова быстро вынул бумажник, и пять банковых билетов легли на столе рядом с первыми.
— В верной уплате второй половины я даю вам слово русского князя. Согласны?
Он протянул ему руку.
— О да, конечно, согласен, — даже привскочил с кресла гипнотизер и, стоя в почтительной позе, обеими руками крепко пожал протянутую ему князем руку.
Затем, бережно собрав банковые билеты, он спрятал их в боковой карман своего сюртука.
— Когда прикажете начать? — спросил он, садясь в кресло.
— Если возможно, сегодня же.
— К вашим услугам.
— Еще один, очень важный для меня вопрос…
Берто весь превратился в воплощенное внимание.
— Можно ли посредством гипноза заставить забыть какое-нибудь обстоятельство, случившееся в жизни гипнотизируемого лица, какое-нибудь событие?
— Несомненно, возможно.
— Как бы это обстоятельство, это событие ни было важно?
— Это безразлично, но только чтобы никто никогда не напоминал ему о нем, при малейшем намеке воспоминания вступят в свои права и с еще большею рельефностью, пропорционально количеству времени, протекшего со дня наступления гипнотического забвения, и часто подобный взрыв воспоминаний может иметь гибельные последствия.
«Напоминать-то ей будет некому, один Степан да я знаем только об этой комедии нашего брака!» — пронеслось в голове почти успокоившегося Облонского.
Он почему-то всецело верил в сидевшего перед ним человека, верил, что он исполнит то, за что взялся, что Ирена будет здорова и что, когда он, князь, внушит ей, что не следует обращать внимания на отсутствие матери, которая, конечно, сердится за то, что она отдалась ему без брака, — событие последнего он заставит ее позабыть совершенно, — то она будет весела и довольна.
«Можно будет поехать с ней в Петербург — не делаться же из-за нее эмигрантом, тем более, что из полученных им из Петербурга писем он знал, что Анжель уехала за границу. Пребывание в Париже, значит, опаснее…»
Все это мгновенно сложилось в его уме.
— Пойдемте к больной, я начну при вас, — прервал Берто его размышления.
— Идемте! — почти весело сказал князь, вставая. Ирена лежала по-прежнему недвижима. Первый сеанс начался.
Вера в Берто его не обманула.
Через три недели Ирена была на ногах.
У князя оказалась необычайная гипнотическая сила, и его внушения молодой женщине возымели все желательные для него последствия: она легко и беззаботно стала смотреть на то, что несколько недель тому назад поразило ее как громом. Считая себя теперь только любовницей князя, она, согласно его внушениям, видела в этом лишь одно из доказательств ее безграничной любви к нему, за которую он ей платит такой же беспредельной страстью.
— Нет любви без жертвы, я принесла эту жертву! — повторяла она подсказанную ей Сергеем Сергеевичем сентенцию.
Словом, проведя за границею еще около двух месяцев, князь, имея, как он, по крайней мере, думал, самые верные справки об отсутствии матери Ирены из Петербурга, решил, что теперь можно везти ее туда и, поселив на отдельной квартире, ввести торжественно в салоны полусвета.
Устройство петербургской квартиры Ирены он поручил письменно своему камердинеру и наперснику Степану, жившему при квартире князя в Петербурге, в его собственном доме по Сергеевской улице.
Мы видели несчастную молодую женщину в роковой вечер неожиданной для нее встречи с матерью в салонах «волоокой» Доры, отметили то подобострастно-покорное выражение ее прелестного личика и не менее прелестных глаз, взгляд которых искал, казалось, постоянно указаний во взгляде ее повелителя — князя Облонского.
«Да, она его любит без памяти!» — воскликнула, как, вероятно, помнит читатель, одна из присутствовавших на этом же вечере львиц полусвета.
И без воли и разума, добавим мы.
Все это было последствием науки доктора Берто — последствием гипнотизма.
V БЕЗ ИРЕНЫ И АНЖЕЛЬ
Легко можно себе представить, какое волнение произошло между гостями Доротеи Вахер после отъезда Анжель, увезшей свою дочь.
Никогда еще любопытство представителей и представительниц веселого Петербурга не было возбуждено до такой степени, тем более, что никто ясно не понимал, в чем дело.
Налицо были лишь два факта: первый, что князь Облонский представил новую красавицу, никому до сих пор не известную, и второй, что эта новая чудная звездочка была дочерью Анжель, которую до сих пор никто не считал матерью.
Видели, кроме того, что эта мать вырвала свою дочь из рук Сергея Сергеевича и безжалостно увела ее, несмотря на отчаяние, выражавшееся на лице молодой любовницы князя.
— Ах, Боже мой, я понимаю ее злость! — вскричала, наконец, Дора с самой скверной гримасой, на которую только было способно ее круглое лицо. — Такая хорошенькая дочка и в таком возрасте… это страшно старит Анжель! Признайтесь, дорогой князь, — продолжала она, обращаясь к Сергею Сергеевичу, все время хранившему молчание — мужчины не решались задавать ему вопросы при виде его надменно-холодного, презрительного взгляда, — признайтесь, что с вашей стороны было далеко не великодушно выставить напоказ девочку. Анжель сразу попала на второй план сорокалетних женщин и благородных матерей.
Женский смех послышался со всех сторон в ответ на слова Доры, которой было самой не менее сорока пяти лет.
В эту минуту ее злейшие враги готовы были объявить, что ей не более тридцати лет, а на вид всего двадцать восемь, единственно в пику Анжелике Сигизмундовне, замечательная красота которой, блестящие успехи и огромное состояние давно уже стали всем им поперек горла.
— Видимо, милый князь, — продолжала Дора, довольная возможностью кольнуть его, — вы верно сердитесь на нашу бедную Анжель, иначе бы вы ее пощадили…
— Я… сержусь на нее?.. За что? — спросил он со своей невозмутимой улыбкой, хотя, приглядевшись к нему попристальнее, можно было заметить, что внутри его происходит целая буря.
— О, я не буду так нескромна, чтобы сказать — за что! — отвечала хозяйка, видя, что ей представляется случай одним ударом убить двух зайцев, Анжель и князя, против которого она тоже имела зуб: он никогда, ни на один день, не удостаивал ее своим вниманием, что ее очень оскорбляло, так как нравиться, хотя бы и на самый короткий срок, этому аристократу, стоявшему головой выше всей золотой молодежи Петербурга, было большой честью.
— Вы ошибаетесь, милое дитя, — отвечал князь, с присущим ему умением подчеркивая последнее слово, что поневоле должно было обратить внимание на настоящий возраст хозяйки дома, — говорите откровенно, я вам даю на это полное право.
— В таком случае, извольте: говорят, что Анжель отклонила ваше ухаживанье.
Внезапно водворилось глубокое молчание.
Сергея Сергеевича боялись, преклонялись перед его превосходством, но не любили его. Молодые не прощали ему того, что он не старился.
— Что же, это совершенная правда, — отвечал он самым естественным тоном. — Если я об этом никогда не говорил, то только из скромности. Теперь вы меня к этому принуждаете, и я должен рассказать. Действительно, Анжелика Сигизмундовна отклонила мое ухаживанье. «Князь, — отвечала мне она, — в любви всегда есть обман. Я не хочу подвергаться обману с вашей стороны, и я знаю, что мне никогда не удастся вас обмануть. Вы единственный человек, которого я не считаю себя способной провести». Это моя лучшая победа!
Князь засмеялся.
Он повернулся и, выйдя из толпы, окружавшей его, удалился из будуара.
На самом деле он никогда не мог простить Анжель, что она была единственная женщина, оттолкнувшая его и не попавшая на его дорогу. Этим объясняется злорадство, с каким он отомстил матери, соблазнив ее дочь.
В одной из гостиных Перелешин был центром другого кружка. Все знали близость его давнишних отношений с Анжель и потому, естественно, предлагали ему всевозможные вопросы, не решаясь обратиться к самому герою приключения.
— Знали ли вы, что у Анжель есть дочь?
— Не имел понятия.
— Однако как она хорошо умела это скрыть.
— Где это князь отыскал такое очаровательное создание? Знаете ли, она может заставить наделать глупостей.
— Но зачем же Анжель так настойчиво ее скрывала?
— Что за вопрос? — отвечал кто-то со смехом. — Очень понятно, она сама хотела дать ей ход.
— Отсюда-то и ее злоба… Князь ее предупредил…
— Обокрал!
— Ограбил, как разбойник в лесу.
— Вот так молодец, положительно молодец!
— Вы, нынешние, ну-ка!..
— Предлагаю пари! — кричал какой-то англичанин.
Покинутый доктором Звездичем, единственным, кроме Перелешина, знакомым в этом чуждом для него обществе, чувствуя себя далеко не по себе и даже как-то озлобленно, Виктор Аркадьевич Бобров прятался за толпу, чтобы не быть замеченным князем.
Он боялся смутить отца княжны Юлии, показав ему, что видел его в такой странной, несоответствующей для отца семейства и человека с высоким положением в обществе роли.
Сергей Сергеевич умел покорять не только женщин: его непринужденные манеры, надменный, но далеко не отталкивающий вид влияли на всех, и Бобров понимал, что князь никогда бы не простил ему, если бы он поставил его в неловкое положение.
Поэтому он очень удивился, когда увидал его направляющимся к нему с протянутыми руками, с совершенно спокойным лицом и приветливой улыбкой.
— Как, Виктор Аркадьевич, вы здесь?
— Князь… — пробормотал тот, не зная, что отвечать.
— Наконец-то! — продолжал Облонский. — Нельзя же все заниматься, надо отдохнуть.
— Это мнение и доктора Звездича, притащившего меня сюда, в совершенно незнакомое общество.
— Доктора Звездича? — повторил князь. — Вы, кажется, с ним родственники?
— Да!
— Он очень умный человек, очень талантливый, с большими научными познаниями, хотя этого и не выказывает, он мне чрезвычайно симпатичен. Если я когда-нибудь заболею, то не приглашу другого доктора, кроме него… Он не доверяет медицине, и я также… Мы отлично поняли бы друг друга!
Виктор Аркадьевич смотрел на своего собеседника с худо скрываемым удивлением.
На лице не было ни малейшего смущения, ни тени воспоминаний о том, что произошло так недавно. Князь, видимо, заметил это.
— Вы, кажется, тоже удивлены, что видите меня здесь. У вас есть предрассудки… Это присуще вашему возрасту и воспитанию. А мы — у нас все отнято!.. Да, мой друг, поживете и увидите, что жизнь коротка и что не стоит смотреть на нее серьезно. Исключая долга чести, с которым в сделку не пойдешь, нужно во всем применяться к общему строю жизни. Посещая этот мир, вы встретитесь и с важными финансовыми тузами, со светилами науки и искусства, и даже… с теми немногими аристократами, которые еще остались.
Молодой человек слушал с большим вниманием и несколько секунд молчал, как бы взвешивая то, что собирался ответить.
— Напротив, князь, — сказал он вдруг, слегка краснея, — я очень рад, что вас встретил, у меня даже будет к вам просьба, не будете ли вы так добры уделить мне на этих днях несколько минут для разговора.
Он проговорил все это как-то залпом.
— С удовольствием! По утрам я всегда дома для моих друзей.
В эту минуту к Боброву приблизился лакей и сказал вполголоса:
— Вас ожидают внизу.
— Кто?
— Доктор Звездич.
— Хорошо, скажите, что я сейчас.
— Идите, идите! — заметил князь. — Я вас даже провожу, потому что тоже еду домой. Уйдем так, чтобы нас не заметили.
Через пять минут они оба уже были на улице, перед наемной каретой, из окна которой выглядывала чья-то голова.
— Бобров, сюда! — крикнул доктор: это был он. — Я не вошел, чтобы избавиться от вопросов, которыми меня забросали бы.
— А, князь, — прибавил он, — простите, я вас не узнал.
— Как она себя чувствует? — спросил Облонский, пожимая ему руку.
— Лучше… это ничего… сильное потрясение, глубокий обморок. Нужно спокойствие, отдых. Завтра совсем будет здорова!..
— Благодарю вас! Господа, я вас оставляю. Спокойной ночи!
— Куда мы поедем? — спросил Виктор Аркадьевич.
— Я довезу тебя и поеду домой.
— Объясни мне, что это за комедия, при которой мы присутствовали?
— Скажи лучше драма! — сказал задумчиво доктор, когда карета уже тронулась в путь.
— Ну, драма, если хочешь.
— Я знаю не больше твоего.
— Кто эта молодая женщина?
— Дочь Анжель…
— Что ж… по матери и дочка. Я не понимаю злобы этой женщины…
— Сердце человеческое — потемки… Может быть, она была истинной матерью… а эта несчастная честным созданьем. Но что бы то ни было, запомни то, что я тебе теперь говорю: это так не останется, это худым кончится.
— Для кого?
— Может быть, и для самого князя.
Оба замолчали.
Виктор Аркадьевич снова перенесся мыслью к предмету своей любви — княжне Юлии.
Двусмысленные слова князя, сказанные ему незадолго перед тем, окончательно его успокоили. Он решился на другой же день переговорить с князем Облонским.
Он был уверен, что князь, со своей проницательностью и умом, уже догадался о цели его аудиенции по одному волнению в голосе, с которым он высказал свою просьбу.
Петр Николаевич в то время думал об Анжель-матери.
VI С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Когда Ирена очутилась лицом к лицу с Ядвигой, волнение ее увеличилось, а слезы как-то сразу прекратились.
Она опустила голову и остановилась безмолвной, не будучи в состоянии произнести ни слова, но старуха бросилась обнимать ее и покрывать поцелуями.
— Все это хорошо, — сказал доктор, — но на все свое время. Самое нужное в настоящую минуту — отвести барышню в свою комнату и уложить в постель, пока я буду писать рецепт.
— Да, да, — заметила Анжель, — мы сейчас отведем ее…
— Мне довольно будет опереться на твою руку, мама! — прошептала молодая девушка. — Я чувствую себя гораздо лучше.
Ирена сама схватила под руку мать и поспешно сделала несколько шагов вперед, как будто хотела избавиться от устремленных на нее взоров.
В зале, где они были, кроме Ядвиги и доктора находились еще лакей и горничная, выбежавшие навстречу своей госпоже.
— Извините меня, доктор, я на минуту выйду, — сказала Анжелика Сигизмундовна, — я возвращусь сейчас же.
— Напрасно, — отвечал доктор, — барышня не больна, обморок прошел. Я объясню им, — он указал на Ядвигу, — как надо давать успокоительное лекарство, очень простое, но действующее быстро, его надо будет принять в случае новых признаков волнения.
— Благодарю вас, доктор, — сказала Анжель, нервно пожимая ему руку.
Она вышла об руку со своей дочерью, которая поклонилась Звездичу, не поднимая глаз.
Когда обе женщины пришли в назначенную для Ирены комнату, уже заранее приготовленную и ожидавшую ее почти в течение полугода, дочь оставила руку своей матери и сказала ей:
— Мама, не проклинай меня, не презирай меня!
— Я не имею права ни проклинать, ни презирать тебя, — отвечала Анжелика Сигизмундовна тихим голосом. — Мы после поговорим, когда ты будешь себя лучше чувствовать. Надо сначала подчиниться предписанию доктора. Я заменю тебе горничную на сегодняшний вечер.
Странное, поражающее зрелище представляли эти две женщины, одинаково прекрасные, хотя различной красотой, одинаково одетые в нарядные бальные платья, одинаково бледные, с покрасневшими веками и смотревшие друг на друга с каким-то холодным смущением.
Нервной, но все же искусной рукой принялась Анжель расстегивать корсаж своей дочери, дрожавшей, несмотря на желание казаться бодрой.
Спустившееся платье обнаружило такую белизну, такую красоту молодого тела Ирены, что Анжелика Сигизмундовна остановилась на минуту и устремила на нее долгий взгляд, в котором промелькнуло нечто вроде материнской гордости.
Вдруг ее темные глаза блеснули, в них сверкнул злобный огонек. Она заметила бриллиантовое ожерелье, окружавшее гибкую шею молодой женщины.
Быстрым движением отстегнула она его, бросила на пол и растоптала ногами в припадке безумной злости.
Золотая оправа сломалась, и драгоценные камни рассыпались по полу, подобно ослепительному фейерверку.
Ирена еще более побледнела.
Медленно она расстегнула браслеты, украшавшие ее руки, и подала их матери.
— Я гналась не за этим! — пробормотала она.
Анжель схватила их и бросила, как и ожерелье, но в это мгновение ее взгляд упал на дочь, опрокинувшуюся на спинку кресла и готовую снова упасть в обморок.
Тогда она бросилась к ней, нежно обняла ее и сказала:
— Я тебя обидела, прости меня, Рена!
Та молчала.
Она усадила ее и принялась раздевать, стала перед ней на колени, чтобы снять с нее атласные туфельки и шелковые чулки.
Ирена почти без чувств, бессознательно подчинялась своей матери, не имея сил, или вернее не смея сопротивляться ей.
Теперь она боялась своей матери.
Это была уже не та ласковая женщина, которую она когда-то знала.
Раздев свою дочь, Анжель уложила ее в постель, закрыла одеялом, вынула из комода флакон и дала ей его понюхать.
Ирена закрыла глаза и снова их открыла.
В ее взгляде появилась некоторая доля твердости.
— Благодарю, — сказала она. — Мне лучше… мне совсем хорошо…
Вдруг она поднялась с подушек.
— Ты хочешь спать? — спросила ее Анжелика Сигизмундовна.
— Спать… нет, я не могу!
— Быть может, остаться одной?
— Одной… нет, нет, не надо!
Анжель взяла руку Ирены, пощупала пульс, окинула лицо своей дочери пристальным и внимательным взглядом, как бы изучая его.
— Тебе, видимо, лучше, гораздо лучше? — спросила она.
Как опытная женщина, она знала лучше всяких докторов, в каком состоянии находятся нервы другой женщины и что происходит в ее сердце.
Она отошла от кровати дочери и медленно стала ходить по комнате.
Последняя была меблирована просто, но изящно, обтянута вся кретоном светлого цвета, с ярким рисунком; занавеси у постели и на окнах были из той же материи.
Мебель белого лакированного дерева, кроме кровати и зеркального шкафа, состояла из шифоньерки, платяного шкафа, двух низеньких кресел, диванчика и разного фасона стульев.
Между окнами, прямо против двери, стоял туалет, отделанный белыми кружевами.
Пол был покрыт мягким ковром, заглушавшим шаги.
Ходя взад и вперед, Анжелика Сигизмундовна бросала по временам на свою дочь взгляды, выражавшие то покорность, то отчаяние, то нежность, то злобу и ненависть, но среди этих разнообразных, быстро сменяющихся выражений доминировало все-таки выражение материнской любви.
Ирена сидела на постели, закрыв лицо руками.
Лампа с густым абажуром, поставленная на столе, противоположном кровати, распространяла в комнате слабый свет, похожий на свет ночника.
В дверь тихо постучали.
Анжель остановилась, потом сама пошла отворять. Это была Ядвига. Она принесла прописанное доктором лекарство, приготовленное в ближайшей аптеке, где был для этого разбужен дежурный помощник провизора, так как было уже поздно.
Пробило два часа ночи.
Анжелика Сигизмундовна взяла склянку и поставила ее на столике возле кровати.
— Спит она? — спросила нянька.
— Нет!
Ядвига подошла к постели.
— Дитя мое, как ты себя чувствуешь?
Ирена подняла голову, обняла свою старую няньку и поцеловала.
— Оставь нас! — шепнула она ей на ухо.
«Меня она не поцеловала!» — пронеслось в голове Анжелики Сигизмундовны.
VII ОБОЮДНАЯ ИСПОВЕДЬ
Ядвига тихо удалилась.
— Слушай, Ирена, — вдруг сказала Анжелика Сигизмундовна, приблизившись к дочери, — долее оставаться так нельзя, к чему продолжать это мученье, которое терзает нас обеих? Если ты достаточно сильна, чтобы меня слушать и отвечать мне, то объяснимся.
— Я достаточно сильна, — отвечала дочь.
— Мне нужно с тобой переговорить… У тебя тоже, вероятно, есть что сказать мне. Не к чему откладывать до завтра.
— Я готова! — отвечала твердо Ирена.
Анжель взяла низенькое кресло, придвинула к кровати и села.
— Я бы отдала свою жизнь, — продолжала она, — чтобы только день этот никогда не наступал, чтобы никогда между нами не происходило этого разговора… Судьба или, вернее, один подлец решил иначе. Никакие недоразумения не должны более существовать между нами.
Она нервно сжала руки.
— Это ужасно, но это так!
Она замолчала, как бы собираясь с силами.
— Какова бы ни была твоя нравственная чистота, так как он еще не успел вконец испортить тебя, ты уже до некоторой степени поняла истину… касающуюся меня.
Она с трудом произнесла последние слова и взглянула на свою дочь.
Ирена опустила глаза.
Анжель горько усмехнулась.
— Так что мне почти нечего сообщать тебе. Пока знай только, что я женщина, не имеющая права быть строгой… ни к какой другой женщине… особенно к тебе, дочь моя.
Ирена как будто не слыхала этих последних слов.
Мать, может быть, ожидала каких-нибудь успокаивающих, утешающих или укрепляющих слов, какого-нибудь порыва чистой нежности, но, увы, она не дождалась этого.
После некоторого молчания Анжель отрывисто сказала:
— Говори, я тебя слушаю!
Ирена вздрогнула, как бы оторванная от какой-то далекой мечты, и, не глядя на мать, опустив глаза и краснея, начала свою исповедь.
Когда она описывала свои первые мечты, свои впечатления первой встречи с князем Облонским, то выражалась просто, не колеблясь, но по мере того как она углублялась в рассказ, слова ее становились менее определенными.
Казалось, она силилась многое припомнить, но не могла.
Анжелика Сигизмундовна, внимательно слушавшая дочь, приписала это отсутствию искренности и нахмурила брови.
Молодая женщина между тем продолжала говорить поспешно, нервно, не входя в подробности, перескакивая с предмета на предмет, как путешественник, приехавший на последнюю станцию и собирающий последние силы, чтобы достигнуть цели своего путешествия, не останавливается полюбоваться окружающими его видами, равнодушный от чрезмерной усталости к красотам природы, рассыпанным на его пути.
Начиная со сцены в гостинице в Москве, рассказ стал еще неопределеннее — о свадьбе в сельской церкви под Москвой она даже не упомянула.
Доктор Берто предсказал верно, она позабыла о ней.
Она рассказала, впрочем, матери о появлении в гостинице успокоившей ее служанки с фермы Ядвиги, сказала несколько слов о заграничном путешествии… и только.
В Петербурге она остановилась в хорошенькой, прекрасно меблированной квартире, видимо, ожидавшей ее приезда.
Сегодня вечером князь попросил ее одеться в бальное платье и повез представлять к какой-то знакомой ему даме, где она встретила свою мать.
Анжель слушала, не прерывая, не двигаясь, не глядя на нее.
Она сидела, закрыв лицо своими белыми руками, на нем нельзя было прочесть ее мыслей и впечатлений рассказа.
Только бархат ее открытого платья слегка колыхался на ее груди от нервного, порывистого дыхания. Когда Ирена замолкла, Анжелика Сигизмундовна медленно подняла голову и посмотрела на дочь, которая, в свою очередь, закрыла лицо руками.
Казалось, обе эти женщины боялись встретиться взглядами.
— Я не знаю, — сказала Анжель, — что ответила бы другая мать своей дочери на все то, что я сейчас выслушала, — я не такая мать, как другие.
Она как-то глухо, болезненно рассмеялась.
— Для того, чтобы быть матерью, я должна была скрываться, скрывать твое существование, скрывать, что я мать тебе. Другая мать, встретившая дочь под руку с таким человеком, с бриллиантами на шее и оскорблением на лбу, вызвала бы сочувствие и негодование целого света. Все — мужчины и женщины — плакали бы вместе с ней, все поняли бы ее горе…
Она судорожно сжала руки, и злой огонь блеснул в ее черных глазах.
— А я… надо мной смеялись, когда я проходила, или считали меня сумасшедшей… другие думали, что князь Облонский не был достаточно щедр.
Она вдруг поднялась, раза два прошлась по комнате, затем снова вернулась к дочери, которая сидела на кровати не шевелясь, и снова села возле нее.
Она, казалось, была спокойнее.
— Между тем, — снова начала она, — кем бы я ни была, я все-таки сделала для тебя, для того чтобы спасти тебя, вырвать тебя из той грязи, в которой я живу, даже не дать тебе возможности знать о ней, все, что только можно сделать в человеческих силах. Я любила тебя, Ирена, всеми силами моей души. Для тебя я пожертвовала своей жизнью, для тебя я приготовляла с безумной яростью и неутомимым терпением огромное состояние, которым владею теперь. Я твердо уповала, что золото не выдаст меня и когда-нибудь упрочит твое счастье. Еще несколько времени — и я бы вся принадлежала тебе, мы бы уехали далеко, далеко… где бы никто не знал, кто я такая, и где бы я тебе купила, если бы захотела, того человека, которого бы ты полюбила…
Ее взгляд становился все нежнее, голос все ласковее.
— Я была тебе доброй матерью, насколько моя жизнь это позволяла… и ты меня любила…
— Мама! — прошептала Ирена, протягивая ей руку.
Анжелика Сигизмундовна схватила эту руку, прижалась к ней своими губами и стала покрывать ее поцелуями с какой-то яростной нежностью.
Затем она подняла свою прекрасную голову и, пожимая руку Ирены, которую она уже не выпускала из своих рук, прибавила:
— До тех пор, пока ты думала… что этот человек в согласии со мной, что он именно тот, кого я выбрала тебе в супруги, я понимаю твое молчание… Но когда ты с ним уехала, возможно ли, Ирена, чтобы ты не думала о моем отчаянии? Я могла счесть тебя умершей… Хоть бы из жалости ко мне написала несколько строк, что ты жива.
— Но я писала тебе несколько раз! — поспешно прервала ее удивленная Ирена.
— Я не получала ни одного письма…
— Это невозможно!
— Кто отправлял эти письма на почту?
— Он брал это на себя! — отвечала Ирена, внезапно смущаясь.
— В таком случае я понимаю, — сказала Анжель, едва сдерживая злобу. — Он их прятал или бросал в огонь! Но тебя должно было удивлять мое молчание… молчание твоей матери.
— Я думала, что ты очень на меня сердишься.
— Ага, да… это он так объяснил тебе.
Ирена не отвечала…
— И ты думала, что он на тебе женится? — снова заговорила Анжелика Сигизмундовна.
— Да, я это думала… мне даже казалось первое время, что мы обвенчаны…
Лицо Ирены приняло выражение, красноречиво говорившее, что она о чем-то старается вспомнить.
Ей, видимо, не удалось, она сделала досадливое движение.
— Но больше я этого не думаю…
— С каких пор?
— С того дня, как он объяснил мне закон того общества, к которому он принадлежит, просил не требовать от него невозможного, принести эту жертву за его любовь… а теперь…
— Когда ты узнала, кто твоя мать!
— Я больше не имею надежды!
— Ты, стало быть, ее имела? — произнесла Анжель.
— Это было безумием, я знаю…
— Бедное дитя! Ты его не знала… Ты не знаешь людей… мужчин… Теперь моя очередь говорить.
VIII КЛЯТВА АНЖЕЛЬ
Анжелика Сигизмундовна начала после нескольких минут размышления.
— Бедное дитя, ты жертва, а не виноватая. Впрочем, если бы даже ты и была виновата, то не мне упрекать тебя в этом… Не мне упрекать мою дочь в том, что у нее есть любовник.
Она разразилась нервным смехом.
— Мама, не смейся так! — проговорила Ирена. — Мне это тяжело слышать.
— Да, ты права… Впрочем, это не то, что я хотела тебе сказать. Я также не имею намерения извиняться, защищаться или оправдываться в твоих глазах. Только верь мне, Рена, у меня тоже была невинная молодость, чистое сердце, подобное твоему, честные мечты. Я не родилась такою, какою меня сделала жизнь, и если бы в известный момент я встретила на пути своем сердечного, благородного человека, то не была бы теперь… кокоткой…
Она через силу выговорила последнее слово и затем продолжала задумчиво, как бы говоря сама с собой:
— Может быть, я после того и встречала, но уже было поздно… Я их не была достойна. Привычка, ненависть, потребность отплачивать презреньем за презренье, быть неумолимой в отношении всех, какими были все относительно меня, — все это испортило и ожесточило мою душу. Любить, любить… я сначала боялась, а потом… не могла. Во мне оставалось только одно чувство, от которого я не краснела — моя любовь к тебе. Чем ниже я падала, тем выше я хотела поставить тебя, отстраняя от тебя позор и страдания жизни, подобной моей. Меня презирали, для тебя я хотела всеобщего уважения. Ты была светлой точкой моего существования, звездой, сияющей на небе во время бури и грозы и напоминающей, что за темными тучами есть еще бесконечная синева. Это давало мне силы жить, и это также увлекало меня глубже в грязь. Одна, без тебя, я давно бы. утомленная своим отвратительным ремеслом, покончила бы со своим жалким существованием.
И громко, как бы вне себя, она вскрикнула:
— О, ты не знаешь, что за ад увеселять других, что за каторга в этом беспрерывном празднике.
При виде смущенного взгляда своей дочери она вдруг успокоилась.
— Но я тебе сказала, — продолжала она с некоторым колебанием, — я не могла тебя спасти иначе как посредством денег. Не будучи в состоянии дать тебе положение, мне нужно было дать тебе богатство, могущее упрочить твою будущность, подкупить тех, кто бы захотел заглянуть в твое прошлое. Видишь ли, Рена, надо прожить так, как прожила я, там, где я жила, видеть то, что я видела, знать закулисную жизнь людей так, как я ее знаю, и интимную сторону самого высшего общества, чтобы иметь верное представление о могуществе золота, знать, что все можно купить и прикрыть.
— Итак, — продолжала она, вдруг изменяя тему разговора, — я также была молодой невинной девушкой. Моя мать…
Она побледнела.
Холодный пот выступил на лбу Анжель при последних словах, произнесенных глубоким голосом.
— А твой отец? — спросила Ирена.
— Мой отец, я его не знала…
Она задумалась и молчала, устремив взор в далекую точку, видимую ей одной.
Ирена посмотрела на нее.
При этом взгляде несчастная женщина быстро вернулась к действительности.
— Я любила, — вдруг сказала она. — Меня также соблазнили. Я покинула дом, Россию, в своем слепом безумии считая себя любимой, доверившись человеку, первому заговорившему мне о любви. Я носила уже тебя под сердцем… когда он… бросил меня…
— Мой отец?.. Жив? — спросила дочь.
Анжелика Сигизмундовна посмотрела на нее почти суровым взглядом.
— Он умер! — отрезала она.
— Ах! — вскрикнула Ирена, испуганная выражением лица своей матери.
— Не спрашивай меня, как он умер, — прибавила Анжель. — Тебе не нужно знать этого. Ты его никогда не знала, так же как и он тебя никогда не видел. Он умер еще до твоего рождения. Он искупил свою вину легче, чем я! — заключила она со злобным смехом, в приливе жажды мести, которую сама смерть не могла утолить.
— Но не в этом дело. Я хотела тебе сказать, что после моего первого проступка я стала тем, что я есть, и ты, полюбив одного человека и сделавшись его жертвой, также не избежишь своей судьбы… нет состраданья, нет будущности, нет извинения для обесчещенной девушки, если она бедна… Если она богата, если она принадлежит к высокопоставленной семье, о, тогда другое дело — ей найдут мужа, поймают его, если он не идет добровольно, тем дело и кончается. Но для такой девушки, как я, без средств, без семьи, нужно было умирать в нищете или сделать то, что я сделала. Приходилось бороться… я боролась! Работать… я работала…
Выражение глубокого презрения и отвращения скользнуло по бледному лицу Анжель.
— Видишь ли… мужчины… нужно их знать так, как я их знаю, чтобы оценить по достоинству, видеть их в продолжение двадцати лет у своих ног или в своих объятиях… чтобы судить о них… Все они только… животные…
— Ах, мама, — прошептала Ирена, — если бы свет был таков, невозможно было бы жить.
— Я тоже так думала, — отвечала Анжелика Сигизмундовна. В ее голосе прозвучала суровая нота.
— Бывают, впрочем, исключения, я это знаю, — смягчилась она, — я для тебя мечтала о таком исключении. Там и сям еще можно встретить мужчину, умеющего любить и достойного такого ангела, как ты. Такого я, может быть, для тебя и нашла бы. Если бы даже я и ошиблась… что ж, ты все-таки была бы богата и замужем, другими словами, пользовалась бы всеобщим уважением.
Слезы выступили на ее глазах.
— Тебя обманули, тебе солгали, не роскошь тебя ослепила, ты представила себе, что этот человек и есть твой будущий супруг, избранный мною. Но что же из этого? Как бы ты ни была, в сущности, чиста — это не может тебя спасти. Ты, как и другие, бесповоротно пойдешь по моему скользкому пути. Мужчины это знают, несмотря на то, что это те самые мужчины, у которых были матери, сестры и у которых будут дочери… нет между ними ни одного, не способного на это преступление после лишнего бокала шампанского, или просто из тщеславия… Все эти франты, высокопоставленные люди, аристократы, которых ты видела у Доры, куда тебя повез этот негодяй, — все они нас презирают и в то же время боготворят, бросают в нас грязью и золотом и делают нас такими, какие мы есть… Разве не справедливо отплачивать им разорением за позор… Они сами сделали нас скверными и бездушными эгоистками, подобными себе.
Ирена смотрела на мать, многого не понимая, но как-то инстинктивно приходя в ужас от ее речей.
— Но я здесь, — продолжала Анжель, — и все еще может быть поправлено.
— Поправлено? — повторила Ирена, вздрагивая. — Нет, никогда, теперь я не буду его женой.
— Его женой! — вскричала Анжелика Сигизмундовна. — Почему ты говоришь «теперь»? Потому, что ты моя дочь?
Молодая женщина пожала плечами.
— Думаешь ли ты, чтобы он когда-нибудь рассчитывал дать тебе свое имя? Думаешь ли ты, что он это сделал бы, если бы ты и не была моей дочерью! Ты его не знаешь! Он никогда не любил тебя… ни на минуту, ни на секунду — он это сделал частию из тщеславия, частию из мести. Ведь он меня ненавидит, и я также ненавижу его. И это будет ему дорого стоить, когда-нибудь я ему отомщу.
Она сжала свои руки, глаза ее злобно засверкали.
— Нет, не то я хотела сказать тебе… Все может быть поправлено… потому что ты никогда его не увидишь. Мы уедем из России далеко, далеко. Мы поедем туда, где не будут знать ни тебя, ни меня. Я сумею составить тебе будущность, о которой мечтала… Ты его больше не увидишь, никогда, никогда — все от этого зависит, слышишь?
Ирена вдруг страшно побледнела.
— Мама, я его люблю! — вскричала она раздирающим душу голосом.
— Ты его любишь! Ты его любишь! Ты должна ненавидеть и презирать его, потому что он насмеялся над тобой. Он тебя погубил, обесчестил! И сделал это обдуманно, с холодным расчетом.
— Я люблю его!
— Он самым бессовестным образом расставил тебе сети…
— Я люблю его!
— Этого мало, он повез тебя к этой Доре, чтобы выставить напоказ перед всеми. И ты не понимаешь после всего этого, что он подлец, заслуживающий твоего презрения и твоей ненависти?
— Я его не обвиняю и не защищаю. Будь он во сто раз хуже и преступнее, что делать! Я люблю его.
— Ты его забудешь!
— Никогда!
— Это необходимо.
— Тогда я умру.
— Ты умрешь, ты, ты…
Анжель сложила руки.
— Но чего же ты хочешь?.. Остаться его любовницей? Знаешь ли ты, сколько он времени еще продержит тебя и хочет ли он еще этого?.. Может быть, его каприз к тебе уже прошел?
Ирена рыдала, не отвечая ни слова.
Анжелика Сигизмундовна бросилась к ней, стала обнимать ее, прижимать к своей обнаженной, похолодевшей груди, на которую падали обильные жгучие слезы молодой женщины, целовала ее, смешивая свои слезы со слезами своей несчастной дочери.
В продолжение целого часа она старалась утешить ее, придать ей мужество, заставить понять, что князь Облонский не стоит ни ее любви, ни сожаления, ни слез; пробовала нарисовать ей позорную картину жизни, к которой ее приведет эта безумная любовь.
Ирена не отвечала ни слова.
— Наконец, уверена ли ты положительно, что любишь его? — вскричала Анжель в безумном отчаянии.
— Да.
Это была правда. Ирена принадлежала к тем редким личностям, которые отдают свое сердце только раз и навсегда, для нее любовь была альфой и омегой всей жизни — она могла жить любовью и умереть от нее.
Анжелика Сигизмундовна с ужасом поняла это и бессильно опустила руки.
Водворилось глубокое молчание. Анжель задумалась.
— Слушай, — вдруг сказала она отрывистым тоном, — я не хочу, чтобы ты была его любовницей! Я скорее убью тебя собственными руками, чем допущу вести эту жизнь и быть публично опозоренной!
— Я сама не хочу быть его любовницей, — твердо произнесла Ирена. — Я многое узнала и поняла. Только, — прибавила она, складывая руки, — оставь меня в Петербурге… Я его не увижу… Но я буду знать, что он здесь… И никогда не говори мне, чтобы я вышла замуж за другого.
— Иначе ты умрешь?
Ирена не отвечала.
— Если это так, то я говорю тебе, что ты будешь жить!
Она прошлась по комнате и снова подошла к дочери.
Она совершенно изменилась в лице.
Бледная, как полотно, со сверкающим взглядом, она сказала:
— Поклянись мне, что ты не будешь больше ему принадлежать!
— Клянусь тебе.
— А я клянусь тебе, Ирена, своею любовью к тебе, что ты будешь его женой!
IX НЕУДАЧНОЕ ХОДАТАЙСТВО
Неудачный день и недобрый час избрал граф Лев Николаевич Ратицын для обещанного им своей жене и свояченице представительства перед князем Сергеем Сергеевичем Облонским за наших влюбленных.
Он явился на другое утро после описанного нами вечера у Доротеи Вахер, и князь, несмотря на то, что сохранил накануне все свое невозмутимое хладнокровие и казался спокойным, проснувшись, был далеко не в розовом настроении духа.
Он был далеко не спокоен.
Конечно, с точки зрения известного успеха, ему нечего было жаловаться, так как ему удалось показать всем своим молодым и старым соперникам одну из тех, бесспорно, красивых женщин, которые очаровывают всех и возбуждают всеобщую зависть. К тому же, эта красавица была молода, почти ребенок, никому еще не известна и никто не мог похвастать, что обладал ею до него.
Но внезапное и неожиданное вмешательство Анжелики Сигизмундовны раздражило и возмутило его.
Он был слишком тонким наблюдателем, чтобы не заметить угрожающего выражения ее лица; он понял, что она не шутила, как многие матери из ее среды.
Не злоба кокотки пугала и беспокоила его. Князь считал себя слишком неприступным за своим двойным щитом аристократа и миллионера, чтобы какая бы то ни было направленная против него злоба могла омрачить ясность его жизненного горизонта.
Но эта мать могла помешать его любви к Ирене, могла его разлучить с нею и, таким образом, заставить его играть глупую роль.
Сделать ее своей любовницей для того, чтобы она была отнята у него своей матерью, было почти смешным, и мысль, что он может быть побежденным кокоткой, отклонившей, как всем теперь известно, когда-то его искания, оскорбляла его самолюбие.
Мы обязаны сказать, чтобы быть правдивыми, что князь больше был увлечен Иреной, чем ожидал, и в чем, может быть, он не сознавался даже самому себе. Его «каприз» к этому очаровательному созданию еще не прошел. Несмотря на свой житейский опыт и притупившийся в наслаждениях вкус, он нашел в ней что-то новое, познакомившее его с незнакомой ему еще любовью.
В сущности, ему, как почти всем подобным ему Дон-Жуанам, не приходилось торжествовать на неизведанной почве, и сам князь, смеясь, поддерживал эту парадоксальную истину, что нельзя быть первым любовником, что не бывает первых любовников.
Ни одна женщина не могла дать ему это ощущение свежести, нетронутой души и сердца, которая очаровала его притуплённый, но тонкий вкус.
Ирена была цветком, только что распустившимся, с чудным благоуханием и, кроме того, умна, образованна, хорошо воспитана, как девушка его круга.
Наконец, она казалась ему искренней и глубоко любящей.
«О, святое целомудрие, — воскликнул бы он, если бы не боялся показаться смешным самому себе, — оно незаменимо!»
Если он не говорил себе этого, он это чувствовал.
Кроме того, большое счастье знать, что тебя любят первого и одного, тогда не нужно бороться с воспоминаниями и сравнениями, о которых умалчивает большинство женщин, играющих в любовь, по удачному выражению итальянцев. В последнем случае, при самом нежном и интимном, свидании никогда не бывают наедине со своей любовницей и часто даже находятся в очень многочисленном обществе.
Ирена любила его, любила за него самого, а не за титул и деньги или же за репутацию «покорителя сердец», не из тщеславия или желания отбить его у той или другой соперницы; она любила его потому, что находила его прекрасным, наконец, потому, что любила его.
Это было с ее стороны глупо, но вместе с тем и упоительно.
Он хотел теперь убедиться, действительно ли она его так любила, или же счастьем последних месяцев он обязан этому проклятому гипнотизму. Вырванная из-под его влияния, она изменится.
Если верно первое, то она устоит против матери, возмутится и вернется к нему, во втором случае она, быть может, потеряна для него навсегда!
С этой томительной для него дилеммой Сергей Сергеевич заснул после вечера у «волоокой» Доры, и с ней же проснулся он, против обыкновения, довольно рано на другой день.
Она жгла ему мозг и до боли щемила сердце. Немудрено, что он был мрачен.
Не успел он выпить утреннего кофе, как в передней раздался звонок швейцара и через минуту вошедший лакей доложил:
— Его сиятельство граф Лев Николаевич!
Князь поморщился.
Он, как мы знаем, вообще недолюбливал своего зятя, а настоящий ранний, несвоевременный визит почти взбесил его.
— Что такое могло случиться, что он лезет в такую рань, — досадливо проворчал он, кинув лакею:
— Проси!
Граф вошел, стараясь изобразить на своем надменном лице возможную приветливость.
Сергей Сергеевич бросил на него далеко не любезный взгляд, и непредставительная фигура его зятя как-то особенно резко, в виду мрачного настроения князя, бросилась ему в глаза.
На его губах появилась даже презрительная улыбка, не замеченная, впрочем, Львом Николаевичем.
— Что случилось? Я только что встал… — небрежно уронил Облонский, подавая зятю свою выхоленную, белую, окаймленную обшлагом ночной батистовой сорочки руку.
Он не приподнялся с кресла, на котором сидел одетый в темно-синий шелковый халат, с бархатным отворотом такого же цвета, но более темным.
— Ничего, дорогой князь, все везде обстоит совершенно благополучно и спокойно, исключая разве сердца моей прелестной belle-soeur.
— Жюли? — произнес Сергей Сергеевич и бросил на зятя вопросительный взгляд.
Тот только загадочно и лукаво улыбнулся.
— Ей сделали предложение?
— О нет! Это только еще вопрос будущего.
Граф уселся на диван.
«Что за вздор он мелет?» — пронеслось в голове Облонского, и, обращаясь к зятю, он произнес:
— Я вас не понимаю!
— Роман, целый роман, князь! — заговорил Ратицын.
— Роман… у моей дочери с человеком, который… не делает ей предложения… — перебил его тесть, с расстановкой отчеканивая каждое слово. — Вы ошибаетесь, граф!
Он смерил его взглядом с головы до ног.
— За предложением дело не станет, лишь бы вы разрешили его сделать.
— Кто же это такой, кому я должен давать разрешение обратиться к ней или ко мне за рукой моей дочери? Я и она можем отказать по тем или другим причинам, но давать разрешение… повторяю, я вас не понимаю…
— Она-то не откажет! — воскликнул граф.
— Значит, она знает его намерения и любит его? — все еще с недоумением, продолжая смотреть на зятя, произнес Облонский.
— Давно и сильно!
— Давно и сильно! — повторил князь. — Кто же это, когда она и выезжает всего без году неделю…
— Это человек прекрасный, честный, вполне достойный любви и уважения, лично известный нашей семье, оказавший мне лично незабываемую услугу!
— Бобров? — воскликнул Сергей Сергеевич.
— Да!
Вся кровь бросилась в лицо князя.
— И вы, граф, являетесь ко мне сватом Боброва!
Он пренебрежительно подчеркнул фамилию.
— Сватом! Ce n'est pas èa…[16] — вспыхнул, в свою очередь, Ратицын. — Я, князь, как член вашей семьи, по поручению моей жены — вашей дочери — пришел переговорить с вами о судьбе ее сестры, княжны Юлии.
— Переговорить о том, — снова резко оборвал его Сергей Сергеевич, — не соглашусь ли я выдать ее замуж за господина Боброва — спасителя вашей жизни!
При последних словах в голосе князя прозвучала нескрываемая ирония.
Граф, впрочем, не понял этого и только кивнул головой в знак согласия.
— Вы сами всегда относились к Виктору Аркадьевичу с должным ему уважением, — добавил он.
— Я ничего не говорю против него, — начал более мягко князь, — как против честного человека, труженика науки, хорошего гражданина, напротив, я желал бы, чтобы мой сын, если бы он у меня был, имел те нравственные качества, которыми обладает г-н Бобров.
— Я вам сказал то же самое!
— Но все эти его внутренние достоинства недостаточны для того, чтобы стать мужем княжны Облонской.
— Но если она его безумно любит, если это серьезно, если разлука с ним может стоить ей жизни! — патетически возразил Лев Николаевич, повторяя в этом случае слова своей жены.
— Я предпочитаю видеть мою дочь в гробу, нежели женой сына дьячка! — ледяным тоном отвечал Сергей Сергеевич.
Этот категорический ответ до того поразил неумелого представителя интересов влюбленных, что все добрые советы, которые он намеревался подать своему тестю, когда в тиши кабинета обдумывал взятую на себя миссию, вылетели из его головы.
Надо сказать правду, что граф с первых же слов разговора с князем, ввиду его тона, отбросил мысль подавать ему эти советы.
В присутствии тестя вся напускная храбрость оставляла его.
Он сидел теперь с князем, недоумевающе и растерянно глядя на него.
— Вас, — заговорил опять Облонский, — мне остается только поблагодарить за то, что вы охранили доверенную вам девушку от, быть может, если верить вашим словам, рокового для неё увлечения, быть может, даже из дружбы и благодарности к г-ну Боброву покровительствовали этой любви — это тем более вероятно, что вы же и явились ходатаем влюбленных.
Все это было сказано металлическим, ровным тоном.
— Но я ничего не знал, я узнал только на днях… мне передала жена…
— Я поблагодарю ее особо… но вы, вы тотчас же не закрыли дверей вашего дома этому господину?
— Нет, я думал…
Князь не дал говорить ему.
— Что вы думали? Если то, что такие люди, как этот молодой человек, достойнее руки княжны Облонской, чем иные графы, то я с вами не буду спорить. Если вы полагали, что за спасение вашей жизни я пожертвую моей дочерью, то вы ошиблись…
— Князь, это уже слишком! — вскочил Ратицын.
В это время раздался звонок швейцара, и явившийся с докладом о посетителе лакей объявил:
— Виктор Аркадьевич Бобров!
X ОПОЗДАЛ
— Дома-с, у них граф Лев Николаевич, — почтительно доложил на вопрос Виктора Аркадьевича Боброва княжеский швейцар.
У молодого человека болезненно сжалось сердце.
«Опоздал!» — пронеслось в его голове.
Он поспешил с визитом к князю Облонскому, желая именно предупредить объяснение его с зятем, этим непрошеным и неумелым ходатаем, который может только испортить все, думал и, как мы успели убедиться, не безосновательно Виктор Аркадьевич.
«А быть может, он еще не говорил?» — мелькнул луч надежды в уме Боброва.
С замирающим сердцем шел он по анфиладе княжеских комнат к кабинету Сергея Сергеевича.
Последний, между тем, бросил доложившему о посетителе лакею лаконическое:
— Проси!
И по уходе слуги, не обращая ни малейшего внимания на горячность своего зятя, сказал ему тем же ровным, металлическим голосом:
— Я принимаю его в последний раз, надеюсь, что и вы не примете его к себе, по крайней мере, пока дочь моя находится под вашим кровом.
Ратицын что-то хотел возразить, но в эту минуту дверь отворилась и Виктор Аркадьевич вошел.
В холодном тоне князя, с которым он с ним поздоровался, в смущенном виде графа Ратицына и чересчур крепком пожатии руки, которым он наградил его, Бобров с проницательностью влюбленного, скорее сердцем, нежели умом, угадал, что ходатайство графа уже было предъявлено и что последний потерпел, быть может, для него, Боброва, крайне унизительное фиаско.
Кровь прилила к его мозгу, у него застучало в висках, и он почти бессознательно повиновался любезно-холодному приглашению Сергея Сергеевича и уселся в кресло.
Князь начал с ним официальную беседу, спросил, как он поживает, как его дела, как веселится, какое впечатление произвел на него вчерашний вечер, все это общество, в которое, как он заявил ему вчера, он попал впервые? Последний вопрос он задал с предвзятою целью. Он еще вчера заметил удивление молодого человека при встрече с ним в салоне кокотки, да еще при таких исключительных обстоятельствах, но не обратил на это никакого внимания. Теперь же, когда этот обласканный им мальчишка — как мысленно назвал князь Боброва — является претендентом на руку его дочери, целая буря оскорбленного тщеславия неудержимо поднялась в душе этого аристократа, и он, несмотря на любовь к этому достойному, по его же мнению, молодому человеку, невольно вознегодовал на него за такую неслыханную дерзость. Он хотел показать ему, что он не только не смеет помышлять породниться с ним, князем Облонским, но и должен смотреть на него не иначе как снизу вверх и тем менее судить его поступки и действия, прикидывая их на свою мерку. Между им, вельможей, и этим parvenu — целая бездна.
Так думал Сергей Сергеевич и не ошибся в расчете: Виктор Аркадьевич чутко понял это, в душе его клокотала тоже целая буря злобы и страдания, и он, насилуя себя, давал по возможности удачные, хотя и односложные ответы.
В глазах его вертелись кровавые круги.
«Она потеряна для меня навсегда, а с ней теряется и жизнь!» — то и дело мелькало в голове Виктора Аркадьевича.
«А может быть, я сумею упросить его, тронуть!..» — проносилась надежда.
«Надо пересидеть графа и все-таки поговорить самому, а там будь что будет! Хуже быть не может. Что же может быть хуже?» — решил он в уме.
То появлялась другая мысль:
«Уйти, умереть…»
Желание жизни, счастья, какая-то неопределенная надежда брали верх — он склонился к решению пересидеть и переговорить.
Но граф Лев Николаевич уходить, видимо, не собирался; он, напротив, совершенно оправившись от сцены с князем, рисковавшей принять очень острый характер, если бы не появление Боброва, вмешался в разговор, который и перешел вскоре на другие общие темы, на разные злобы дня как невской столицы вообще, так и великосветской части ее в особенности.
Виктор Аркадьевич тоже несколько пришел в себя.
Никто бы из видевших этих трех человек, спокойно беседующих о всевозможных пустяках, ни на минуту не подумал, что каждый из них занят всецело своей отдельной думой, не имеющей никакого отношения к их разговору, что в душе каждого из них гнездится или неприязненное, или горькое чувство друг к другу.
А между тем это было так!
Наконец, все темы были исчерпаны, а гости князя не покидали его.
«Его оставить с ним нельзя. Мне надо подготовить его, предупредить, как друга!» — думал граф о Боброве, хотя сознаться в неудаче было для него невыносимо тяжело, и это чувство тяжелой необходимости почти переходило в чувство озлобления против ни в чем не повинного Виктора Аркадьевича.
«Он, кажется, тоже задался мыслью пересидеть меня, — мысленно говорил себе Бобров о графе, — вот уж подлинно услужливый дурак опаснее врага».
«Когда же, наконец, они уберутся и оставят меня в покое, мне надо еще переговорить со Степаном, дать ему поручение относительно Ирены! Вот навязались!» — проносилось в уме князя относительно их обоих.
Между тем они продолжали беседу.
Сергей Сергеевич наконец первый потерял терпение и стал довольно красноречиво для своих гостей взглядывать на стоявшие на камине изящные часы, вделанные в пьедестал из черного мрамора модели памятника Петра Великого в Петербурге.
Это не ускользнуло от Виктора Аркадьевича, и он взялся за шляпу.
«Все кончено… надо уходить…» — пронеслось в его голове.
От волнения ему сдавило горло.
Князь любезно, но холодно простился с ним, сказав выразительное:
— Прощайте!
Лев Николаевич поспешил подняться вслед за Бобровым.
— И я с вами, — вынул он часы и посмотрел, — смотрите, как засиделся, ай, ай, до свиданья, любезный князь.
— До свиданья! Буду сегодня у Nadine, — подал ему руку Облонский.
Граф и Бобров удалились.
Выйдя из подъезда, первый обратился ко второму:
— Пройдемтесь, я имею нечто передать вам…
Виктор Аркадьевич бросил на него взгляд, полный невыразимого страданья.
Этот взгляд, казалось, говорил: я знаю, что ты хочешь сказать мне, ты хочешь растерзать мое сердце. Зачем ты помешал мне, я, быть может, был бы счастливее!
Он покорно подставил руку, под которую взял его Лев Николаевич, сделал знак своей изящной каретке следовать за ним шагом.
Они пошли по направлению к Литейному проспекту.
В коротких словах граф передал Боброву свой разговор с князем Облонским, умолчав, конечно, о тех резкостях тестя, которые ему пришлось выслушать по своему адресу.
— Я имел и имею на него влияние, на него я и рассчитывал, взявшись за эту щекотливую миссию, снисходя к настойчивым просьбам Nadine и Julie, но, увы, потерпел неожиданное фиаско: в этом вопросе он неумолим! — закончил граф, с важностью вытянув нижнюю губу.
Виктор Аркадьевич с бешеною злобою метнул на него взгляд, которого тот не заметил, занятый натягиванием перчатки.
«Кто это так настойчиво просил тебя? Сам навязался и испортил все дело!» — проносилось в голове молодого человека.
— Мне очень жаль, mon cher, но что же делать! Если я не сумел, кто другой мог бы вам помочь? — продолжал между тем Ратицын. — Упрямый старик с закореневшими взглядами, что поделаешь с ним. Я старался убедить его. Ничего не хочет слышать.
Он замолчал, как бы ожидая благодарности за хлопоты.
Бобров не произнес ни слова.
— Я даже, — после некоторой паузы прибавил граф, — принужден просить вас, хотя, верьте, мне и жене это очень прискорбно, пока Julie у нас, не бывать в нашем доме.
Виктор Аркадьевич поднял на него умоляющий взгляд.
— Такова воля князя! — поспешил объяснить Лев Николаевич.
— Его воля для меня священна! — произнес Бобров, не подымая головы.
Они подошли к углу Литейной.
— Вам куда, направо или налево? — спросил Ратицын Боброва, жестом останавливая следовавшую за ним карету.
Тот посмотрел на него недоумевающим взглядом и не отвечал.
— Прощайте, я спешу! — заметил граф, подавая ему руку.
Тот машинально пожал ее.
Лев Николаевич прыгнул в карету и укатил.
Виктор Аркадьевич простоял несколько времени недвижимо, опустив голову на грудь, как бы в каком-то оцепенении, затем повернул направо, к Неве, в сторону, противоположную той, куда поехала карета графа.
Куда, зачем он шел — он не знал.
XI ОТЧЕТ КАМЕРДИНЕРА
Прошло уже четыре дня с вечера у «волоокой» Доры, а князь Облонский ничего не знал про Ирену, как будто бы ее никогда не существовало.
Это его страшно бесило.
Если она по приказанию или просьбе своей матери перестанет видеться с ним, откажется от него, то роль его во всей этой истории будет крайне комичной.
Как, в продолжение полугода быть ее любовником, прилагать все свое искусство, чтобы очаровать ее, и не успеть произвести более сильного впечатления! Что терзает больше всего, когда женщина изменяет нам, — это не то, что она полюбила другого, а то, что, зная нас, могла покинуть.
Эта измена — приговор.
До сих пор Сергей Сергеевич, более послушный рассудку, чем сердцу, старался всегда изменить первый, так что в данном случае он поневоле больше беспокоился, чем это было в его привычках.
На четвертый день, утром, в дверь его кабинета осторожно постучали.
— Войди, — поспешно сказал он, зная заранее, кто этот ранний посетитель.
Дверь отворилась, и на пороге появился знакомый нам княжеский камердинер и наперсник Степан, со своим неизменным невозмутимым и торжественным видом.
— Принес ли ты, наконец, какие-нибудь сведения? — спросил Сергей Сергеевич, не стараясь скрывать от слуги своего нетерпения и нервного возбуждения.
Степан был единственным существом, перед которым князь не играл комедий и не скрывал своих впечатлений и порывов страстей.
Во-первых, было бы бесполезным притворяться перед Степаном — он слишком давно служит у аристократов, чтобы не знать их вдоль и поперек; во-вторых, Степан был слишком ничтожен в глазах своего барина, чтобы тот стал перед ним стесняться более, чем перед какой-нибудь борзой собакой из своей своры.
— Да, ваше сиятельство, я принес вам новости.
— Хорошие или дурные?
— И хорошие и дурные.
— Что это значит?
— Ирена Владимировна находится у своей матери, на окраине Петербурга, в Зелениной улице, в доме Залесской.
— Где же эта Зеленина улица?
— На Петербургской стороне.
— Ты в этом уверен?
— Совершенно. Когда дело идет о том, чтобы услужить вашему сиятельству в подобных делах, я доверяю только своим собственным глазам и ушам. Мне трудно было открыть этот секрет — он очень строго хранится.
— Что же дальше?
— Узнав крепость, я стал изучать — кем она охраняется и как к ней приступиться. Я достиг этого, не возбудив подозрений.
— Какой результат?
— Результат тот, ваше сиятельство, что крепость превосходно охраняется и что трудно будет вам в нее проникнуть, а Ирене Владимировне из нее выйти.
Князь покачал головой с иронической улыбкой.
— Я не верю в возможность запереть восемнадцатилетнюю женщину!
— Особенно, когда она имела честь знать ваше сиятельство в продолжение некоторого времени, — льстиво заметил Степан. — Ваше сиятельство, может быть, и правы… но так как я не сердцевед, то и не сумею сказать, добровольно или по принуждению скрывается Ирена Владимировна… или то и другое вместе. Я знаю только то, что это помещение, о котором г-жа Вацлавская не сообщила ни одной живой душе, охраняется двумя испытанными и весьма преданными ей слугами.
— Ты веришь этому, Степан? — улыбнулся князь.
— Да, ваше сиятельство, когда особа, внушающая эту преданность, обладает хорошим состоянием. К тому же, кроме этих двух слуг, мужа и жены, есть еще третья личность; на этот раз она будет зорко следить за доверенным ей сокровищем, после того как его так ловко похитили из ее рук в деревне.
— Кто же это?
— Ядвига, нянька Ирены Владимировны.
— Она в Петербурге?
— Да, ваше сиятельство, и даже дом куплен на ее имя. С ней, я за это отвечаю, ничего не поделаешь.
Сергей Сергеевич нахмурил брови и на секунду задумался.
— Все это затрудняет возможность видеться с ней без ее мнимого сообщничества… но это не может помешать ей спокойно выйти из дому в какой угодно час, когда это придет ей в голову.
— Ваше сиятельство, без сомнения, правы, но нужно знать, что г-жа Вацлавская говорила своей дочери, чем она старалась подействовать на нее.
Князь, разговаривая таким образом со своим первым министром любовных дел, чистил свои прекрасные ногти, что всегда у него было знаком неудовольствия или сильной озабоченности.
— И ты не видал Ирены? — прибавил он.
— Нет, ваше сиятельство, дом находится в глубине двора, небольшого, но окруженного высоким забором. В нем хорошо можно укрыться от любопытных взоров.
— Ты уверен, что тебя никто не видал?
— Вполне, ваше сиятельство! Меня никогда не видят, где и когда не следует! — хвастливо отвечал Степан.
Снова наступило молчание.
Степан отдал отчет в возложенном на него поручении, но не собирался удаляться, отлично зная, лучше даже, чем сам князь, состояние души его сиятельства и угадывая, что в эту минуту он предпочитает его присутствие одиночеству.
— Ну-с, — вдруг произнес Облонский, — мое мнение не сходится с твоим. Я нахожу твои новости скорее хорошими, чем дурными. Если бы Анжель тотчас же и навсегда хотела разлучить меня со своей дочерью и если бы ее дочь на это согласилась, она не оставила бы ее в Петербурге близ меня, в доме, существование которого при желании всякий может открыть, и под охраной более или менее преданных слуг, но которых можно подкупить, если не жалеть денег, и которые, во всяком случае, не могут помешать Ирене поступить как ей вздумается.
— Я этого не отрицаю, ваше сиятельство!
— Если даже г-жа Вацлавская лелеет надежду отнять у меня свою дочь, ничто не доказывает, что она заставила Ирену разделять ее чувство.
— Однако ее молчание… — почтительно вставил Степан.
— Ее молчание именно и доказывает, что еще не все кончено… Мать, опытная женщина, научила свою дочь, убедила ее, чтобы она предоставила ей самой вести дело… Она хочет меня подразнить ожиданием… и к тому же посмотреть, предприму ли я что-нибудь со своей стороны. Она хочет сделать осаду моего сердца или моего каприза, хочет играть на моей слабой струне тщеславия, так как она знает, что я не люблю не доводить до конца того, что раз предпринял. Если же я буду стоять на своем, то в скором времени получу предложение идти на мировую.
— Желаю, чтобы ваше сиятельство не ошибались.
Не успел Степан окончить своей фразы, как снова раздался легкий стук в дверь и вошел лакей с серебряным подносом, на котором лежала визитная карточка. Сергей Сергеевич взял ее и прочел вслух:
— Анжелика Сигизмундовна Вацлавская. Что я тебе говорил, Степан?
— Ваше сиятельство как всегда были правы.
— Эта дама ждет? — спросил князь.
— Так точно, ваше сиятельство.
— Проси.
XII В КАБИНЕТЕ КНЯЗЯ
Степан поклонился и уже повернулся уходить, как встретился лицом к лицу с Анжель, которую вводил лакей, передавший ее карточку.
Она была очень просто одета, вся в черном, с лицом, покрытым густой вуалью, сквозь которую виден был лишь блеск ее темных глаз.
Князь встал и пошел к ней навстречу со своей обычной любезностью.
— А, Степан Егорович, — заметила Анжель со злостью в голосе, — мне, право, жаль, что вы взяли на себя труд передать князю сведения, которые он мог бы узнать прямо от меня.
— Я, сударыня?.. — проговорил Степан, чуть не задыхаясь.
— Вот уже четыре дня как вы трудитесь над тем, чтобы открыть место, где живет моя дочь, и вы этого достигли, что, впрочем, не особенно трудно.
— Кто мог сказать это? Я не думал даже, что вы меня знаете…
— Друг мой, — отвечала Анжелика Сигизмундовна с глубоким презрением, — да, я не знаю, но моя полиция лучше устроена, чем полиция князя.
Она повернулась к Сергею Сергеевичу и поклонилась ему.
Степан позеленел от злости. Лицо его, на минуту потерявшее свою обычную торжественность, выражало унижение, оскорбленное самолюбие и скрытую, еле сдерживаемую злобу.
— Вот как! — вскричал князь, может быть, тоже, в сущности, раздосадованный, но слишком гордый, чтобы выказать это. — Бедный мой Степан, это вам еще раз доказывает, что мужчина в борьбе с женщиной всегда проиграет. Можете идти…
Камердинер поклонился и молча направился к двери, бросив на Анжелику Сигизмундовну злобный взгляд.
— Здравствуйте, князь! — проговорила Анжель, снова кланяясь Сергею Сергеевичу, как только слуга удалился.
Это «здравствуйте» было сказано таким спокойным, вежливым тоном, что самый опытный наблюдатель не нашел бы в нем ни малейшего намека на настоящие чувства, волновавшие говорившую женщину.
— Очень рад вас видеть, Анжелика Сигизмундовна, — также спокойно и вежливо отвечал князь. — Признаюсь, я вас ждал, о чем даже только что сейчас говорил этому бездельнику, который был здесь. Садитесь, пожалуйста.
Движением руки он указал посетительнице кресло, стоящее как раз против света. Она села в него и подняла свою вуаль, желая показать, что нисколько не старается скрыть своего лица.
Она, как всегда, была очень бледна, может быть, даже бледнее обыкновенного, отчего ее глаза казались еще темнее и глубже.
— Вам неприятно, — сказала она, — что я узнала о поручении, данном вами Степану?
— Почему же? Я этому, может быть, обязан удовольствием вас видеть.
— Я все равно приехала бы, но это подвинуло мое посещение на один или на два дня.
— Я это и хотел сказать.
— Вы догадались, не правда ли, что после всего происшедшего нам необходимо повидаться?
— По крайней мере, я на это надеялся… Вы обошлись со мной жестоко в тот вечер. Но мы слишком старые друзья, — он сделал ударение на последнем слове, — чтобы вы об этом не пожалели. Я и сам был бы в отчаянии, если бы вы не так поняли мое поведение.
Все это было произнесено хотя и вежливым, но ироническим тоном.
— Князь, — заметила Анжель, — нам нужно переговорить серьезно. Отбросим в сторону всякую игру в слова.
— Я вас слушаю, — сказал он холодно.
Он небрежно поставил локоть на стоящий возле него маленький столик, облокотился подбородком на руку и пристально посмотрел на свою посетительницу.
Анжелика Сигизмундовна выдержала этот взгляд, делая вид, что не замечает его, и медленно начала:
— Была ли Ирена честной девушкой, когда вы ее встретили?
— Вполне!
— Вы нисколько в этом не сомневаетесь?
— Нисколько.
— Как вы думаете, что может стоить честь девушки?
— Она неоценима, — отвечал он тоном, который, не переставая быть вежливым, становился все более ироническим по мере того, как Анжель тверже становилась на занятую ею позицию.
— Но ведь вы должны знать, милейшая Анжелика Сигизмундовна, — продолжал он, — я всегда поступаю достойно моего имени и ничего не жалею. В этом отношении еще никто не мог упрекнуть меня.
— Как мне вас понимать?
— Я сделаю все, что вы потребуете от меня… если только это не будет превышать мои средства.
— И это все?
Сергей Сергеевич вопросительно приподнял брови, затем прибавил, снова принимая свой насмешливо-добродушный вид:
— Вы видите, дорогая моя, что я вам отвечаю как друг и порядочный человек, потому что подобный разговор обыкновенно происходит до, а не после. Но я хочу вам доказать, что ничего не имею против вас и питаю к вам самую искреннюю симпатию… к тому же ваша дочь — ангел, для которого я готов на всякие глупости. Вы видите, что я отдаюсь вам с руками и ногами.
Анжель слушала неподвижно и безмолвно.
— Хитрить с вами было бы глупо, да это и не по мне, — продолжал он. — Вы умная женщина, все это знают, очень умная, а с умными людьми самое лучшее быть искренним. Мы оба будем искренни. Это в наших общих интересах.
— Одним словом, вы предлагаете деньги мне и Ирене?
Она повела плечами.
— Я настолько богата, что могу дать их вам, если вам нужно! — добавила она.
Князь слегка нахмурил брови.
— Дорогая моя, — произнес он, — к чему вы волнуетесь. Я вам уже все сказал.
— Нет, вы ее соблазнили… самым бессовестным образом… посредством обмана. Она обесчещена. Чем хотите вы загладить это преступление?
Сергей Сергеевич отвечал, не изменяя своей полуулыбки:
— Я вижу, что вы сердиты на меня, сердиты на мое поведение относительно вас, которое, признаюсь, не было безупречным. Но будем справедливы, всякий другой поступил бы так же на моем месте. Я совершенно случайно встречаю очаровательную молодую девушку и от нее же самой узнаю, что она ваша дочь…
Он прервал речь.
— И тогда, — докончила Анжель, — вы сказали себе: дочь известной кокотки, к чему стесняться? Мне не удалось добыть… купить мать, я возьму дочь. Это будет прекрасной местью и блестящим успехом в полусвете на эту зиму. Анжель, конечно, рассердится, что над ней подшутили, захватив тайком ее сокровище. Но дело будет сделано — не воротишь, и если в один прекрасный день она приедет ко мне, ну что ж, я аристократ, богач, выну свою чековую книжку, вырву один листочек, на котором напишу цифру, какую она мне назначит. Мы будем больше чем в расчете.
Глаза Анжелики Сигизмундовны блеснули злобным огнем.
— Если бы дело касалось меня одной, это было бы очень хорошо. Я лучшего не стою!
Она была прекрасна в своем черном наряде, с матовой бледностью лица и сверкающими глазами.
— Но, — продолжала она, медленно отчеканивая каждое слово и вставая с места, — я мать и не хочу, чтобы моя дочь стала такой же, как я.
Князь слушал ее неподвижно, слегка бледнея при этих словах, но оставаясь невозмутимым.
XIII НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
— Дело не во мне, — продолжала говорить между тем Анжель, — а в Ирене. Я сделала из нее честную девушку, в полном смысле этого слова. Вы это знаете лучше, чем кто-либо, потому что она поддалась вам по своей невинности, чистоте, неопытности, по всем этим качествам, которыми я дорожила в ней, как скупой дорожит своим золотом. Она не знала, кем была ее мать, и когда я приезжала к ней, то надевала платья, которые никогда не носила, чтобы моя грязь не могла коснуться ее даже через мою одежду. Вы все это знали, князь, потому что бедное дитя говорило вам о своей матери в выражениях, показывавших, что я ничем не омрачила ее чистоты. На этом-то вы построили ваш план опытного ловеласа, пользуясь ошибкой ее детского воображения, происшедшей вследствие сна и плохо понятых слов матери. Вы заставили ее считать себя избранным мною для нее и убедили ее, что я издали одобряю ее любовь к вам. Подлая, низкая западня! Все это, милостивый государь, недостойно честного и порядочного человека.
Сергей Сергеевич сжал руку, лежавшую на столе, отделявшем его от Анжель.
— Анжелика Сигизмундовна, — сухо отвечал он, — вы напрасно меня оскорбляете, так как здесь нет мужчины, у которого я мог бы просить удовлетворения за ваши дерзости!
— Так же, как нет мужчины, который мог бы дать вам пощечину, убить вас, отомстить вам за честь моей дочери.
Князь встал.
Его взгляд встретился со взглядом Анжель, он прочел в нем столько ненависти и истинного горя, что вздрогнул.
С минуту он молчал.
Лицо его снова приняло спокойное, насмешливо-любезное выражение, и он прибавил совсем уже другим тоном:
— Поговоримте толком. Положим, вы мать… не такая, какой я вас считал. Тем хуже для вас. Только позвольте мне вам заметить, что то же самое могло случиться с Иреной и с другим… который, может быть, не стоил бы меня.
— Никогда! — вскричала Анжелика Сигизмундовна.
— Никогда! — повторил Сергей Сергеевич. — Извините меня, если я буду выражаться несколько сурово, но вы меня к этому принуждаете. В вашей совершенно для меня неожиданной материнской страсти вы совершенно забываете печальную действительность, так что я принужден вам ее напомнить.
Он остановился.
— Я вас слушаю.
— Итак, для дочери… такой особы, как вы, существуют только две дороги.
— Какие?
— Поступить в монастырь или последовать примеру своей матери. Но так как Ирена… Владимировна, — прибавил он, — не думает посвятить себя Богу, то я позволил себе… может быть, несколько рано, открыть ей двери этого мира. Поэтому-то я и не понимаю ни вашей злобы, ни ваших упреков.
— Был еще третий исход, — отвечала Анжелика Сигизмундовна.
— Какой?
— Замужество!!
Князь чуть заметно пожал плечами, хотел что-то сказать, но остановился.
«Сказать ей, что она замужем!» — мелькнуло у него в голове, но он откинул эту мысль, надеясь, что, наговорившись досыта, она пойдет на компромисс, отдаст ему Ирену и этот брак, о котором он заставил внушением гипнотизма забыть несчастную женщину, останется тайной. С Перелешиным же он сумеет поладить — там вопрос только в деньгах.
«Если же сказать, — продолжал думать он, — она может напомнить дочери, а подобный взрыв воспоминаний может иметь гибельные последствия», — вспомнились ему слова доктора Берто.
Ему стало жаль Ирены, он решил даже изменить методу разговора, чтобы показать матери, насколько он любит ее дочь, но, увы, это ему, как увидит дальше читатель, не удалось. Это не было в его характере.
— Ирена ничего не знала о моей жизни, — продолжала между тем Анжелика Сигизмундовна. — Я могла уехать, увезти ее с собой туда, где никто бы не знал меня. Я достаточно богата, чтобы купить ей имя и положение порядочного человека.
Сергей Сергеевич слегка засмеялся безмолвным смехом.
— Вот это прекрасная мысль! Я всегда восторгаюсь женщинами, податливостью их совести и простотою их решений! Ну что же? Кто же мешает вам исполнить этот план? Уж, конечно, не я, могу вас уверить!
Выражение лица князя сделалось более серьезным.
— Я слишком люблю Рену, — сказал он, — я слишком желаю быть ей полезным во всем, что будет от меня зависеть, чтобы чем-нибудь помешать исполнению ваших планов на ее счет. Она только на минуту показалась под руку со мной в известном обществе, которое через неделю ее совершенно забудет. Я же со своей стороны ничем не упомяну обо всем случившемся. Вам стоит только подальше уехать, как вы рассчитывали это сделать. План найти ей мужа, конечно, не разрушится вследствие проступка вашей дочери, быть может, даже его не надо далеко искать. При хорошем приданом эта мелочь не может служить препятствием…
Все это было сказано с гордым, покровительственным презрением, холодная вежливость которого наносила удары, точно хлыстом.
Князь, несмотря на желание, не мог переломить себя — он был взбешен, раздражен оскорблениями, нанесенными ему Анжеликой, тревожась мыслью потерять Ирену, которая, во-первых, ему нравилась, а во-вторых, ее внезапное исчезновение грозило сделать его до некоторой степени смешным.
— Предположите, — продолжала Анжель, — что я снова возвратилась к своему плану выдать ее замуж…
— Ну и что же?
— Это невозможно!
— Почему?
— Потому, что она вас любит! — вскричала она раздирающим душу голосом.
— Бедное дитя! Ну что ж? Вы научите ее меня забыть. Вы скажите ей, что благоразумие важнее чувства. Я заметил, что это учение всегда удается и что ученики всегда бывают ему послушны…
— Это бесполезно.
— В таком случае, что я могу сделать? Ведь этот семейный разговор, как бы он ни был интересен, должен же иметь какой-нибудь конец. Что вам от меня угодно?
— Ваше имя для моей дочери!
— Что?
— К чему повторять? Вы меня слышали и поняли.
— Слышал, да, не могу же я не верить своим ушам, — сказал он со смехом, — но не понял. Вы или с ума сошли, или шутите.
— Я заранее знала, что вы откажете. Я заранее знала все, что вы будете мне еще говорить… все это заключается в следующих словах: князь Облонский никогда не женится на дочери кокотки.
— Было бы даже глупым говорить это! — отвечал князь с презрением.
Он встал, чтобы показать, что разговор кончен.
— Выслушайте меня, по крайней мере, до конца. Я хочу, чтобы Ирена жила, я хочу, чтобы ей была возвращена ее честь.
Князь молчал.
— Я становлюсь перед вами на колени.
Она действительно опустилась на колени и сложила руки с выражением мольбы.
— Ирена вас любит. Она умрет от этой любви… Я хочу, чтобы она жила, я хочу, чтобы она была счастлива… Я хочу, чтобы она была честной женщиной. Князь, перед вами мать, умоляющая за свою дочь, говорит вам: не убивайте моего ребенка, не доводите его до отчаяния… Вы совершили преступление, да, преступление самое ужасное из всех, над этим беззащитным существом, которое вы опозорили в награду за ее любовь к вам, красоту и невинность… Князь, сжальтесь над ней!
Сергей Сергеевич остановился и холодно взглянул на нее.
— Дорогая Анжелика Сигизмундовна, — отвечал он тоном самой оскорбительной снисходительности, — встаньте, прошу вас. Мне было бы за вас неприятно, если бы слуги застали вас на коленях; это может вам очень повредить, так как до сих пор вас считают очень благоразумной и гордой женщиной.
Анжель быстро поднялась, из груди ее вырвался вздох, подобный крику, в котором было что-то страшное.
Лицо ее сделалось тоже страшным, глаза блеснули злобным огнем, на ее тонких, бледных губах показалась пена.
В эту минуту она была похожа на тигрицу.
— Я сделала все, что было нужно для очистки совести, — вскричала она, — и в чем я поклялась моей дочери. Теперь кончено. Мы поквитались. Войдем снова в наши роли. Просьба не годится. Ее не было в моем сердце и не было в моем уме. Если я унижалась до такой степени, то знаю, что отомщу за это! Когда-нибудь вы будете у моих ног, как я была у ваших. Когда-нибудь вы будете умолять меня, как я вас умоляла. Я клянусь вам, что это будет так, также клянусь вам, что Ирена будет княгиней Облонской.
Она была так страшна в припадке злобы и ненависти, что князь инстинктивно отступил назад, не из боязни — это чувство было ему незнакомо, — а от удивления. Он думал, что она сошла с ума.
Но с ней это продолжалось недолго, она стихла, все, впрочем, продолжая смотреть на него вызывающим взглядом.
«Надо кончать!» — мелькнуло в его голове. Он подошел к письменному столу, выдвинул один из ящиков и вынул вчетверо сложенную бумагу.
— Вы слишком поспешили дать клятву, — насмешливо-злобно сказал он, — я уже потому не могу жениться на вашей дочери, что она уже замужем.
— Что?
Он подал ей бумагу.
Она быстро развернула ее — это был отдельный вид на жительство на имя жены отставного корнета гвардии Ирены Владимировны Перелешиной.
Ее дочь — жена этого негодяя, которого она выгнала от себя!
Она как-то сразу поняла всю сеть хитро сплетенной князем интриги.
— Вы подлец вдвойне! — бросила она ему в лицо, пряча бумагу в карман.
Сергей Сергеевич быстро подошел к камину и дернул звонок.
Вошел слуга.
— Проводите эту даму! — холодно сказал он.
Анжель спустила вуаль и постаралась казаться спокойной.
— До свиданья! — выразительно обратилась она к князю.
«Почему же Ирена скрыла это от меня?» — Эта мысль не выходила у нее из головы.
XIV НЕЗРИМАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА
Оставшись один, князь несколько раз прошелся по кабинету. На его лице не исчезали следы пережитого волнения.
Происшедшая сцена была ему крайне неприятна: слова, тон голоса этой женщины взволновали его настолько, что ему трудно было совладать с собой.
Были минуты, когда он видел в ней только мать, а не кокотку; это удивляло его, но вместе с тем и раздражало, в нем шевелилось что-то вроде угрызения совести, раскаяния за свой поступок.
Из всего сказанного Анжеликой бесспорной истиной было то, что Ирена была честной девушкой, которую он обманул и нарочно выставил напоказ как трофей своей победы.
Но он оправдывал себя трудностью предположения, чтобы кокотка Анжель могла воспитывать свою дочь с такою исключительною заботливостью не с целью извлечь из этого после материальную выгоду.
Он не понимал идейной кокотки, каковой в действительности была Анжель.
Однако, если, действительно, она мечтала сделать из нее честную женщину и скрыть от нее всю грязь ее происхождения, то Ирена была его жертвой.
Он пожал плечами.
«Ну, что же? Всякий другой сделал бы на моем месте то же самое».
Это мимолетное угрызение совести быстро исчезло. Он никогда не любил Анжель; он имел к ней когда-то лишь сильный каприз. Теперь же, после ее упреков, он ее решительно ненавидел, это новое чувство глубокой ненависти заменило все другие ощущения.
Его больше всего оскорбило то, что она, эта женщина, осмелилась ему дать урок, ему… относившемуся ко всем с такой гордостью, с таким надменным презрением.
«Впрочем, что такое она… Анжель?»
Князь засмеялся, но, надо сознаться, немного нервно.
Ирена была для него потеряна навсегда, особенно теперь, когда мать знает тайну московского брака, — и никто не спросил у него на это согласия.
Вот что особенно смущало его.
Но она любила его, по словам матери, любила до безумия. Разве это не утешение?
Он гораздо более мучился бы, если бы эта молодая женщина, которой он начинал не на шутку увлекаться, могла бы забыть его и равнодушно отнестись к оказанной ей им чести.
Его самолюбие не страдало — остальное пустяки.
По крайней мере, он так думал или хотел думать.
Что же касается последствий — Анжель была женщина такой редкой энергии и непреклонности, все вообще так боялись ее ненависти, зная, что она из тех, которые не останавливаются в мщении, так что князь поневоле спросил себя, чего серьезного или опасного ему следует остерегаться?
Сергей Сергеевич слишком хорошо знал женщин, чтобы сомневаться в их умении ненавидеть, знал также, как они умеют находить бесконечное количество способов, чтобы неожиданно нападать на тех, кого они наметили, и беспощадно терзать их.
При других условиях он беспокоился бы гораздо более, не зная, с какой стороны произойдет нападение, но что может сделать кокотка Анжель ему — князю Облонскому?
Она могла только подействовать на его сердце, отняв у него Ирену, но ведь это было неважно. Его состояния она не могла коснуться, так же, как и положения в свете.
Она будет дурно о нем говорить? Какое ему до этого дело? То, что будет сказано в ее обществе, до него не дойдет. Она будет обвинять его за недостойное поведение относительно ее дочери. Что ж! Посмеются над матерью, не пожалеют дочери и позавидуют ему!
Дело о браке ее дочери судом она не начнет. Она боится сама огласки! Притом Ирена ничего об этом не помнит, а если вспомнит, то, быть может, будут последствия, предсказанные доктором Берто.
Он усмехнулся холодной, злой усмешкой.
«Пустяки! — со смехом подумал он. — Гнев подобной женщины, оскорбления кокотки… напрасные угрозы бессильной злобы! Я еще в выигрыше… К черту эту кокотку, разыгрывающую из себя добродетельную мать, к черту, пожалуй, и дочь…»
Раздался звонок швейцара, и в кабинете без доклада появился барон Федор Карлович фон Клинген. Он был друг князя Облонского и однокашник по Пажескому корпусу — единственный товарищ детства и юности, которого князь не потерял из виду и с которым не разошелся на жизненном пути и сохранил близкие отношения. Федор Карлович был тоже из молодящихся стариков, хотя время и образ жизни поступили с ним куда беспощаднее, чем с князем Облонским, и носимый им парик, в соединении с искусною гримировкою, были бессильны придать этой ходячей развалине столь желательный для барона молодцеватый вид хотя пожившего, но все же бодрого мужчины.
Он вбежал в кабинет своей семенящей походкой, той походкой, которой ходят все молодящиеся старички, так метко названные Гоголем «мышиными жеребчиками».
К выдающимся представителям типа последних всецело принадлежал барон.
После взаимных приветствий оба друга уселись в кресла, закурили сигары и разговор начался с разного рода светских злоб и перешел, конечно, к последней интрижке князя, так оригинально окончившейся на вечере у «волоокой» Доры, на котором присутствовал и Федор Карлович.
— В чем же теперь заключается суть дела? — спросил барон.
— В чем? Кончено, мой друг, совсем кончено.
В голосе князя прозвучала холодная ирония, резкие, неприятные ноты.
— Это блестящее явление, и все продолжают до сих пор интересоваться, неужели оно не повторится?
— Для всех оно продолжалось лишь несколько минут, для меня же целых полгода, — заметил князь деланно небрежным тоном.
— И тебе надоело?
— Почти! — со смехом отвечал Сергей Сергеевич.
— Но надо согласиться, что она прелестна. Ты один только и умеешь находить таких.
— Да, действительно, красивее ее я не встречал! К несчастью, вмешалась мать!
— Анжель!
— Да, она сошла с ума!
— Полно! Она, кажется, превосходит всех дипломатов и ростовщиков на свете хладнокровием и расчетливостью.
— Честное слово! Знаешь ли, с каким она предложением, только перед тобой, являлась ко мне?
— Ну?
— Жениться на ее дочери!
— Что ты!
— Да! — захохотал князь.
Барон в свою очередь залился неудержимым, дребезжащим смехом.
— Не может быть!
— Это так же верно, как то, что я с тобой говорю.
— Серьезно?
— Совершенно серьезно, и все это сопровождалось слезами, просьбами и, наконец, проклятием и угрозами.
— Как… Анжель… просила? — удивленно, с расстановкой произнес барон.
— На коленях, барон, на коленях…
— Плакала?
— Еще как!
— Угрозы, — это я еще понимаю, хотя и считаю безрассудным. Начать в полусвете карьеру с тебя, да это обеспеченное состояние. Чего лучшего могла она желать для своей дочери?
— Я же тебе говорю, что она совсем сошла с ума. Ссылается на то, что она мать… Разыграла мне сцену из любой мелодрамы.
— И что же ты отвечал?
Облонский смерил барона взглядом.
— Князь Облонский не отвечает на… такие вещи. Я позвонил, и ее проводили.
На минуту собеседники замолчали.
— Знаешь ли, что бы я сделал на твоем месте? — заметил барон. — Она, вероятно, все еще влюблена в тебя?
— Не хвастаясь, признаюсь, что да.
— Ну так возьми ее обратно, отними у Анжель.
— Это мне прежде всего пришло в голову, когда Анжель сказала мне: она никогда не будет вашей любовницей… Но видишь ли, мой друг, Анжель хитра. Она, вероятно, научила свою дочь, которая ее слушается и участвует сама в этой комедии.
— Как так?
— Они разделили между собой роли. Мать угрожает и отнимает ее у меня, но притом по поручению последней говорит мне, что та умирает от любви ко мне.
— Да, это славно придумано, я узнаю Анжель.
— Какого-нибудь болвана, конечно, можно было бы поймать в эту ловушку, но меня не проведешь. Я поступил решительно… выгнал мать и разорвал всякие отношения навсегда.
Барон одобрительно качнул головой.
— Несчастная Анжель, представляю себе ее злость. Я знаю, на что она бьет. Знаешь, что будет дальше? — продолжал князь.
— Что?
— Дочка через несколько времени опять явится ко мне, бледная, расстроенная, чтобы снова завладеть мной.
— И ты сделаешь вид, что поддаешься?
— Я не люблю возобновлять оконченное. Я просто не приму ее.
— Как, ты будешь до такой степени непреклонен, и… не пожалеешь?
— Ну, этого я не скажу. Она бесподобная, эта девочка! Она дала мне редкое наслаждение… Понимаешь… невинность.
— В самом деле? — произнес недоверчиво барон и чмокнул губами.
— О, она самое чистое и искреннее созданье и вместе с тем столько инстинктивного уменья любить. Недаром она дочь Анжель!
Барон в ответ прищелкнул языком с видом знатока.
— Верю, уж ты в этом деле опытен!
Князь пустился в мельчайшие подробности тех наслаждений, которые он испытал с Иреной в эти полгода.
Вдруг за портьерой, отделявшей кабинет Облонского от его будуара, послышался слабый крик и падение чего-то тяжелого.
Князь и барон одновременно бросились к двери и откинули портьеру.
На пушистом ковре будуара, у самого порога, лежала в глубоком обмороке Ирена.
XV ВСЕ КОНЧЕНО
Такое неожиданное появление Ирены в будуаре Сергея Сергеевича было делом рук его камердинера и наперсника Степана.
Задыхаясь от злобы, вышел он из кабинета своего барина после разговора с Анжеликой Сигизмундовной, так ядовито разоблачившей перед князем всю его тонкую, по его мнению, игру за последние дни, игру, порученную ему Облонским, выставившей всю его неумелость в соглядатайстве, занятии, на арене которого, он считал, не имеет соперников.
Каждый его шаг оказался известным этой женщине, и она подняла его на смех со всеми его хитро обдуманными планами.
Он был разбит и уничтожен.
Его плебейское самолюбие было больно задето.
Оставить это дело так, не оправдавшись в глазах князя, не доказавши ему, что он и в борьбе с этой хитрой женщиной может выйти победителем, — было невозможно.
Это было равносильно потере места — Степан видел, что князь был взбешен позорным поражением своего верного слуги и не забудет ему этого никогда.
Продолжать служить при таких условиях было немыслимо.
«Надо воспользоваться ее отсутствием и поправить мою ошибку, чего бы мне это ни стоило», — решил Степан и, быстро одевшись, на лихаче отправился на Зеленину улицу, к дому, где жила Ирена.
Он ехал, что называется, на авось, не составив себе никакого плана, и даже дорогой ничего определенного не укладывалось в его голове.
«Я ей покажу себя!» — продолжал он лелеять заветную мысль.
Счастье ему благоприятствовало.
Ирена, как и предсказал доктор Звездич, совершенно оправилась на другой же день от обморока, случившегося с ней при встрече с матерью на вечере у Доротеи Вахер.
Она чувствовала себя физически здоровой, хотя нравственно, после разговора с матерью, была в угнетенном состоянии.
Она искала полнейшего уединения, ссылаясь на усталость и потребность отдохнуть, просила, чтобы ее не беспокоили.
Ее любовь к князю в разлуке дала себя почувствовать сильнее. Бедная женщина не могла себе представить, чтобы он помирился с разлукой, не постаравшись найти средства к свиданию.
В продолжение четырех дней и четырех ночей она прислушивалась к каждому звуку, не покидала глазами улицы, на которую смотрела, став на стул и прячась за занавеску. Она не допускала, чтобы князь не стремился открыть ее убежище.
Прожив с ним полгода, она так же, как и Степан, хорошо знала Сергея Сергеевича и была уверена, что он не остановится ни перед каким препятствием, когда дело шло об удовлетворении не только его страсти, но даже простого желания, каприза или фантазии.
Она поклялась матери не видеть его и вместе с тем ждала его; у нее была одна мысль: он придет, одно желание: видеть его, одна боязнь: если он не придет.
Когда на четвертый день она заметила бродившего по улице Степана, то не удивилась, а, напротив, ощутила необычайную радость: князь все еще любит ее, и вдруг страшная мысль промелькнула у нее в голове: разве не должно быть между ними все кончено?
Она поклялась матери… но ведь она дала клятву не принадлежать ему, но… видеться…
И неудержимое, страстное желание свиданья снова наполнило ее душу.
«Быть может, он прислал Степана, чтобы назначить час, но последний не смеет открыто войти в дом… надо узнать…»
Она накинула на голову большой платок и незаметно, к счастью или несчастью для нее, выскользнула по черному ходу на двор.
Быстро пробежала она его и очутилась за воротами лицом к лицу с наперсником князя.
— Зачем вы здесь? — задала она вопрос.
— По поручению его сиятельства! — ответил привычной фразой камердинер, ошеломленный таким быстрым и неожиданным исполнением главной цели его поездки — видеться с Иреной.
— Что он?
— Болен, очень болен и желал бы видеть вас!
Ирена вздрогнула, смертельная бледность покрыла ее щеки.
— Болен? — повторила она.
— Да, говорю вам, и очень серьезно… надо спешить…
В глазах Ирены лишь на секунду мелькнула нерешительность, но затем она произнесла твердым голосом:
— Так едемте…
На дворе хотя и стояла петербургская гнилая зима, именуемая в народе «сиротской», но проехаться с Петербургской стороны на Сергиевскую улицу в одном платке было по меньшей мере неблагоразумно.
Взволнованная Ирена, невзирая на свое легкое одеянье и туфельки, на ногах, не чувствовала холода, но Степан, несмотря на радость наступившего мгновенья доставить сюрприз своему барину, показать себя и отомстить Анжель, все-таки не удержался сказать:
— Но… как же вы… без верхнего платья?
— Это ничего, если я вернусь в дом, меня не пустят, а ведь вы говорите, что надо спешить… Мне не холодно! — отвечала она решительным тоном.
Очистивши, как ему казалось, предложенным вопросом свою совесть, Степан повел Ирену к ожидавшему его невдалеке лихачу, усадил ее и, закрыв полой шубы ее ноги, приказал извозчику ехать как можно скорее. Лихач помчался.
Степан провел сильно озябшую Ирену по заднему крыльцу княжеской квартиры прямо в будуар Сергея Сергеевича и, узнав, что у князя сидит барон, не осмелился тотчас же доложить ему о «дорогой гостье», а просил ее подождать.
В теплой, пропитанной дорогими духами атмосфере будуара молодая женщина согрелась.
Это была небольшая, мягко обитая комната, где как бы чувствовался запах женщины.
Двери этой комнаты терялись за массивными драпировками, так что Ирена не сумела бы сказать, откуда она вошла и куда ушел привезший ее Степан.
Не успела она немного привыкнуть после уличного шума к глубокой тишине, царившей вокруг нее и помогшей ей успокоиться, как до слуха ее долетели звуки чьих-то голосов. Сначала она не обратила на это внимания, но голоса становились громче.
Чей-то подавленный смех заставил ее сердце сильно забиться.
Ей хорошо был знаком этот смех, так часто приводивший ее в смущение.
Несмелым шагом пошла она по направлению к двери, закрытой портьерой и ведшей в ту комнату, откуда доносились до нее голоса.
Эта комната была кабинетом князя, где он, как мы знаем, беседовал с бароном.
Нет сомнения, что князь в соседней комнате и говорит с кем-то, даже смеется. Значит, он не болен, значит, Степан солгал!
Она дрожащими руками коснулась драпировки, приподняла ее. Теперь не только голоса, но и слова ясно долетали до ее слуха.
Одно слово как бы приковало ее к месту, она готова была скорее умереть, чем когда-либо вернуться к нему после того, как он третировал ее в разговоре со своим приятелем.
Он сказал: «Она вернется».
И, увы, она на самом деле вернулась!
Сердце ее болезненно сжалось, в глазах помутилось, она потеряла сознание и без чувств упала у порога двери.
Этот-то звук ее падения и обратил внимание князя и его гостя.
XVI ПОСЛЕ ПРИГОВОРА
Мы оставили Виктора Аркадьевича Боброва после разговора с графом Ратицыным, которым был, от лица князя Сергея Сергеевича, подписан окончательный приговор всем сладким мечтам и надеждам влюбленного молодого человека.
Пропасть, отделявшая его от предмета его пламенных вожделений, та пропасть, над которой они оба — он и княжна Юлия — думали построить прочный мост из их взаимной, страстной и серьезной любви, зияла теперь перед духовным взором Виктора Аркадьевича со всей ее роковой неприступностью. Одним словом, одним движением губ, еще менее, одним холодным взглядом этого надменного, напыщенного, кичащегося своим происхождением аристократа разрушено все будущее честного человека, рисовавшееся в таких радужных красках, разбита едва начавшаяся честная трудовая и, быть может, полезная для общества жизнь.
Вот, в общих чертах, свод тех отрывочных мыслей, которые мелькали в подавленном обрушившимся несчастьем мозгу Виктора Аркадьевича, бессознательно и бесцельно шедшего все дальше и дальше, туда, куда несли его ноги, с единственным, отчасти определенным желанием поскорей и как можно далее уйти от того рокового места, где он получил ошеломившее его страшное известие.
Образ княжны первое время как-то совсем исчез из его памяти, с ней у него казалось уже все оконченным, она была для него потеряна навсегда.
С ним произошло то, что русский народ так метко определяет пословицей «у страха глаза велики», ему не приходила на ум возможность не подчиниться беспрекословному, окончательному, бесповоротному решению князя Сергея Сергеевича.
«Во всей предстоящей борьбе, во всей предстоящей ломке знайте, что останется нетронутой моя любовь», — вдруг пришли ему на память слова княжны Юлии, сказанные ею в разговоре о предвиденной ими еще летом возможности отказа со стороны отца.
Эта мысль внезапно как бы отрезвила Виктора Аркадьевича.
Он огляделся кругом и увидал, что находится в совершенно незнакомой ему местности.
Подобно многим, даже из коренных петербуржцев, он никогда не бывал за Невой, кроме тех улиц, которые служат дорогой на острова.
Теперь же он был в совершенно другой стороне. Первое, что бросилось ему в глаза, это небольшая часовня, построенная на набережной почти у самой реки.
Не будучи человеком особенно религиозным, он все-таки совершенно невольно, под давлением обрушившегося на него несчастья, при несколько успокоившей его мысли о чувстве к нему княжны, чувстве, которое, по уверению ее самой, настолько сильно и крепко, что устоит при всякой борьбе и выйдет целым из нее, мысленно обратился к тому руководителю человеческих судеб, сознание о существовании которого лежит в душе даже атеиста, какой бы болотистой тиной материалистических и атеистических учений ни была бы она затянута.
Он быстрыми шагами перешел улицу и вошел в часовню.
Эта часовня была известной всему Петербургу часовней Спасителя на Петербургской стороне, соединяющей в себе и высокочтимую православными святыню, и памятник исторической старины, так как построена «в домике Петра Великого», который со дня основания города, уже более чем полтора столетия, стоит невредимым.
Виктор Аркадьевич опустился на колени перед божественным ликом Искупителя мира, призывавшего к себе всех несчастных дивными словами: «прийдите ко мне все труждающие и обремененные и Аз упокою вас».
Несмотря на то, что он не пришел сам, а был случайно приведен, все-таки и над ним исполнились эти слова.
После горячей молитвы, молитвы без слов, какой-то мир посетил его душу — он почти успокоился.
Он почувствовал, что, как ни бессердечны люди, он нашел себе Высшего Покровителя, который не может, думалось ему, будучи Сам в существе Своем высшей любовью, не помочь двум высоко и чисто любящим друг друга сердцам.
Вера, глубокая вера в помощь Божию вселилась в сердце Боброва, и он вышел из часовни с обновленным духом, без прежней боязни, не со скрытым отчаянием, а со светлой надеждой, смело и прямо глядя в грядущее.
Наняв извозчика, он поехал домой.
Во весь длинный путь на петербургском ваньке — существе по преимуществу лимфатическом, упрямо не дающем себе труда хотя бы немного подгонять свою заморенную клячу, Виктор Аркадьевич упорно боролся с оставшимися в его душе сомнениями о неизбежной предстоящей ему гибели, а потому даже и не заметил, что извозчик вез его почти шагом.
«Как бы мне с ней увидеться?» Эта мысль неотступно вертелась в его голове, заслонив собою на время все другие размышления.
Ему показалось даже, что он очень скоро приехал домой.
— Во двор прикажете? — вывел его из задумчивости флегматичный возница, поравнявшись с воротами заводского здания.
— Во двор, налево, ко второму флигелю!
Сбросив шубу на руки отворившего ему дверь слуги и задав ему вопрос, не было ли кого-нибудь, Виктор Аркадьевич, получив отрицательный ответ, торопливо прошел в свой кабинет и окинул беспокойным взглядом свой письменный стол, на котором весьма часто за последнее время появлялись письма княжны Юлии.
На столе письма не было.
Он снова впал в прежнее беспокойство, близкое к отчаянию.
— Все погибло, все погибло! — шептал он, ходя из угла в угол по своему кабинету.
Время тянулось томительно медленно, несмотря на то, что голова усиленно работала: планы самые разнообразные так и роились в ней, но каждый из них отбрасывался как неосуществимый.
Виктор Аркадьевич сел было заниматься, но вскоре бросил, принялся за книгу, но не был в силах прочесть и понять даже несколько строк — они прыгали перед его глазами, он не был в состоянии связать фразы.
На вопрос со стороны слуги об обеде, он отвечал, что не хочет есть. Внесенный в восемь часов вечера чай на подносе уже давно остыл в стакане. Бобров до него не дотронулся.
Стоявшие на письменном столе кабинета часы показывали двадцать минут десятого.
В передней раздался робкий звонок.
Виктор Аркадьевич вздрогнул.
Сердце его усиленно забилось тревожным, но вместе с тем каким-то безотчетно-радостным биением.
Он быстрым движением вскочил с турецкого дивана, на котором лежал, силясь, но безуспешно, задремать, и через мгновенье был уже в передней.
Там слуга уже бережно вешал на вешалку дорогую лисью ротонду, а посредине комнаты стояла стройная женщина в черном платье, лицо которой было скрыто под двойной густой черной вуалью.
Виктор Аркадьевич скорее угадал, нежели узнал в ней княжну Юлию Сергеевну Облонскую.
— Это вы! — мог только произнести он, протягивая обе руки дорогой, так страстно желанной, но все-таки нежданной гостье.
Она крепко, но молча пожала эти руки своими обеими, затянутыми в длинные черные перчатки, изящными ручками.
От внезапной радости он до того растерялся, что она после некоторой паузы принуждена была спросить его, куда ей пройти.
— Простите, — прошептал он, — я положительно потерял голову от неожиданности.
Он подал ей руку и провел в кабинет, плотно притворив за собою двери. Они остались вдвоем. Она откинула вуаль.
XVII ЧАСЫ БЛАЖЕНСТВА
Виктор Аркадьевич усадил княжну Юлию на диван и молча сел с ней рядом.
Она, видимо, от волнения первое время не могла выговорить ни слова — достаточно было взглянуть на ее бледное лицо, горящие глаза, полные какой-то бесповоротной решимости, чтобы понять, что она выдержала в душе целую бурю, один из шквалов которой и занес ее туда, где она находилась в настоящую минуту.
Бобров проницательным взглядом любящего человека все это прочел на расстроенном лице своей дорогой гостьи.
Ее волнение сообщилось ему и еще более усилило и без того угнетенное происшествиями дня состояние его духа. Он не мог, да, кроме того, надо сознаться прямо, боялся начать расспросы, хотя мысль, что она у него, значит, несомненно, любит его, должна бы, казалось, придать ему бодрости, но он, как все в первый раз горячо и истинно любящие люди, не верил своему счастью, продолжая волноваться, беспокоиться, ожидая, вопреки доводам рассудка, что вот-вот это счастье исчезнет для него, как чудное мимолетное видение, как сладкий сон, сменяющийся так часто тяжелым, страшным пробуждением.
Того только можно назвать безусловно счастливым, кто дорожит своим счастьем, страшится ежеминутно потерять его, подобно скупцу, дрожащему над своими сокровищами.
Высшее счастье — это бояться лишиться своего счастья.
Некоторое время таким образом они оба молчали. Тишину, царствующую как в кабинете, так и во всей квартире молодого технолога, нарушало лишь однообразное тиканье часов.
Кабинет представлял из себя довольно обширную, но вместе с тем и чрезвычайно уютную комнату; большой письменный стол стоял в простенке между двумя окнами, закрытыми теперь тяжелыми зелеными репсовыми драпировками, с правой стороны от входа почти всю стену занимал книжный шкаф, с левой же — большой турецкий диван, крытый тоже зеленым репсом, остальная мебель состояла из двух маленьких круглых столиков, мягких стульев и кресел и кресла перед письменным столом в русском стиле, с дугой вместо спинки. Пол был обит войлоком и темно-зеленым сукном, что совершенно заглушало шум шагов.
Большая кабинетная лампа под зеленым абажуром распространяла в комнате мягкий полусвет.
Княжна Юлия, видимо, тоже по измученному, бледному лицу Виктора Аркадьевича угадала те страдания, которые он перенес за этот роковой день.
— Вы измучились… вы не похожи на себя… я знаю это, а потому и… пришла! — начала первая она нежным шепотом.
Взгляд его глаз, неотводно устремленный на нее, имел какое-то молитвенно-восторженное выражение.
— Благодарю вас… я не ожидал, что вы… сами! Я ждал письма.
Он взял ее за обе руки и крепко пожал их. Она не отнимала рук.
— Письма!.. — повторила она с грустной полуулыбкой. — Что можно сказать письмом в такой решительный момент наших двух соединенных на веки жизней? Надо приготовиться к борьбе, надо выйти из этой борьбы победителями, не разбирая средств.
В нотах ее чудного голоса слышался как бы стальной отзвук, указывавший на бесповоротную, твердую решимость.
Недаром она была дочерью князя Сергея Сергеевича Облонского.
В немом восторге, с внезапно облегченным сердцем, исполненным вдруг твердой, непоколебимой верой в грядущее счастье, смотрел, не спуская глаз, на свою очаровательную гостью молодой человек.
— Но… как? — робко задал он вопрос.
— Как! — снова повторила она. — Если любят, то этого не спрашивают. А ты, ведь ты же любишь меня?
Она выговорила как-то неудержимо быстро этот последний вопрос.
Эти слова и это в первый раз сказанное «ты» произвели на Виктора Аркадьевича действие электрического тока.
Он вздрогнул, побледнел, потом вспыхнул и, нервно сжав руки княжны, которые продолжал держать в своих, воскликнул:
— И ты меня спрашиваешь, ты, ты сомневаешься в моей любви!
— Я в ней не сомневаюсь, иначе я не была бы здесь, — просто ответила она. — Я задала тебе этот вопрос, чтобы вдохнуть в тебя энергию, которая, видимо, оставила тебя при первом встретившемся препятствии.
— Но это препятствие — пропасть… — с выражением ужаса заметил он, — пропасть, разделяющая нас.
— Она не так глубока, как кажется, я перешла ее. Я здесь, — почти злобно улыбнулась она.
Он окинул ее удивленным взглядом, никогда не видал он ее такой, сказать более, не мог ее такой даже предполагать.
«Она закалилась, видимо перенеся страшную семейную бурю!» — промелькнуло в его голове.
— Что случилось, что произошло между тобою и князем? — задал он вопрос.
— Ничего особенного, все, что мы давно ожидали… Он не соглашается на наш брак. Он говорит, что лучше желает видеть меня в монастыре, в могиле, чем замужем за человеком не нашего, т. е. не его, общества. Он приехал сегодня к обеду и долго говорил со мной. Я объявила ему, что скорее умру, нежели буду женой другого, я плакала, я умоляла его — он остался непоколебим… и уехал, приказав мне готовиться в отъезд за границу.
— Скоро?
— Он едет, по его словам, со мной через две недели.
— Значит, все кончено… А ты, ты говоришь о победе! — прошептал он.
Этот шепот был шепотом отчаяния.
— Ничего не значит, и ничего не кончено, ведь я же здесь, у тебя.
— Что же из этого? — растерянно спросил он.
— Значит, я твоя, твоей поеду за границу, твоею вернусь, и вернусь скоро.
— Но он… — начал было Виктор Аркадьевич.
— Он палач… но я… я не жертва! — не дав ему договорить, вскрикнула она. — Я связана лишь словом, которое вымолила у меня сестра, — не оказывать решительного сопротивления отцу, пока я нахожусь под кровлей дома ее и ее мужа. Когда же мы с ним останемся вдвоем, то поборемся.
— И ты надеешься? — робко спросил он.
— Не надеюсь, я уверена. Ему не останется выбора, когда придется выбирать из двух зол. Он выберет, по его мнению, меньшее — наш брак, а не позор его имени… Для этого я и пришла сюда…
Ее глаза сверкали. Она обжигала его взглядом: он чувствовал у своего лица ее горячее дыхание, так как при последних словах она наклонилась к нему совсем близко; ее руки нервно сжимали его пальцы.
— Я твоя, понимаешь ли ты, я твоя, я хочу быть твоей!..
Вся кровь бросилась ему в голову.
Он понял и с неудержимым порывом страсти сжал ее в своих объятиях.
Губы их слились в первом горячем, страстном, грешном поцелуе…
Бледный, с потухшим взглядом, с дрожащей нижней челюстью стоял он перед ней, сидевшей на диване с поникшей головой и с опущенными на колени руками.
— Простишь ли ты меня, моя ненаглядная, мое роковое увлечение? Простишь ли мне то, что я воспользовался твоим нервным состоянием и вместо того, чтобы удержать тебя, сам…
Она быстро подняла на него глаза, они горели теперь каким-то мягким светом.
— Не нам винить себя… нас довели до того… Я знала, зачем я шла… Это единственный путь к победе… над деспотами…
— Но ты можешь раскаяться и обвинить меня?
— В чем раскаяться? В том, что я доказала тебе, что я люблю тебя, что я верю тебе?
Он опустился перед ней на колени.
— В этом, верь, ты никогда не раскаешься — вся моя жизнь теперь, более чем когда-либо, если это только возможно, принадлежит всецело тебе. Этот день, тяжелый, страшный день для нас обоих, отныне составляет эру нашего счастья. Мы будем вспоминать его всю нашу жизнь, если суждено жить, мы умрем с мыслью, что мы были счастливы хоть одно мгновенье, если нам суждено умереть.
— Верю, милый, дорогой муж мой перед Богом, и спокойна и за себя, и за тебя, — нежно отвечала она, склонившись к нему и обвивая руками его голову, — но зачем печальные мысли, откинь их, мы будем жить, будем вечно любить друг друга, будем счастливы…
Их уста снова слились в долгом поцелуе.
— Прелесть моя, ненаглядная…
— Я верю, я глубоко верю, что Провидение поможет нам, что мы теперь, соединенные крепкой, нерасторжимой связью, освятим эту связь перед престолом Всевышнего и Он, Всеблагий, простит нам и благословит нас. Если только то, что произошло, — грех и преступление, то мы, повторяю, доведены были до него другими, так пусть же этот грех и падает на их голову.
Так говорила она.
Он внимал ей, глядя неотводно в ее глаза, горевшими лучами любви и надежды.
От полноты переживаемого счастья он не мог произнести в ответ ни одного слова и лишь судорожно сжимал в своих объятиях ее стройную талию.
Они оба снова жадно стали пить нектар первых минут взаимной любви, первых порывов неиспытанной ими доселе взаимной страсти — пили и не могли насытиться.
Они забыли о том, что каждый удар секундной стрелки часов приближает их к роковому моменту разлуки, быть может, и недолгой, как уверяла княжна, но невыносимой после испытанного ими наслаждения восторгом любви.
Грозное будущее, предстоящая борьба, ожесточенная, хотя и с надеждой выйти победителями, отодвинулись в эти мгновенья для них на второй план, почти даже забылись.
Они опомнились лишь тогда, когда часы пробили полночь.
— Пора! — сказала княжна, надевая шляпку. — Прощай, мой милый, нет, не прощай, а до свиданья, до скорого свиданья…
Они последний раз поцеловались долгим поцелуем. Княжна опустила вуаль.
Виктор Аркадьевич проводил ее на извозчике до самого дома мужа ее сестры.
— Но как ты объяснишь свое отсутствие? — спросил он ее дорогой.
— Я скажу правду! — спокойно ответила княжна Юлия.
— Графу?
— Нет, не ему! Хотя и его бы я не побоялась, но он по вечерам не бывает дома, а следовательно, с его стороны я не могу ожидать вопроса. Всю правду я скажу своей сестре!
У ворот дома на Английской набережной они простились, крепко пожав друг другу руки.
— До скорого свиданья! — как-то в один голос сказали они друг другу.
Они и не подозревали, после каких ужасов состоится это их желанное свиданье.
XVIII ПРЕДСКАЗАНИЕ ДОКТОРА БЕРТО СБЫВАЕТСЯ
Первую минуту, когда князь откинул портьеру и увидал распростертую на полу бесчувственную Ирену, он был положительно потрясен.
Первое его движение было броситься на помощь молодой женщине, и он, конечно, так бы и сделал, если бы его не остановил насмешливый голос барона.
— Однако твое предсказание сбылось очень скоро — птичка снова впущена в твою клетку. Любопытно будет убедиться в силе твоего характера не поддаться вторично этому обворожительному созданию, в настоящее время, притом, притворно или непритворно, беспомощному. Обмороки придают хорошеньким женщинам еще большую пикантность…
Федор Карлович сластолюбивым, влажным взглядом своих потухающих глаз смотрел на лежавшую на полу молодую женщину.
Сергей Сергеевич искоса бросил на своего друга далеко не дружелюбный взгляд, но все-таки удержался и не тронулся с места.
Оба некоторое время молча стояли над бесчувственной женщиной.
Придя в себя, князь начал размышлять.
«Она все слышала», — сказал он себе.
Вспомнив это «все», что было им говорено на ее счет, он даже как будто слегка покраснел.
Он считал себя порядочным человеком и пожалел, что совершенно нечаянно так обидел ее. Князь не был грубым. Он только становился неумолимым, когда дело шло о его самолюбии. Если бы они встретились при другой обстановке, без свидетелей, он, конечно, тоже оттолкнул бы ее, на самом деле, как и высказал барону, решившись на это, но, во всяком случае, сделал бы это как светский человек, а не как мужик.
Все происшедшее его несколько смутило, но он кончил, однако, тем, что сказал про себя:
«Что же, тем лучше! Я этого не хотел, но зато это меня избавило от разговора с этим милым созданьем».
Затем он подумал о том, какую досаду он причинит Анжелике, когда та узнает, что ее дочь была у него, а он ее не принял.
Не зная, что рассвирепевшая мать соблазненной им дочери могла предпринять против него, и будучи уверен, что она способна на самую страшную месть, он решился опередить ее, обезоружить возвращением ей дочери и, кроме того, доказать своему старому товарищу, что у него нет недостатка в характере, в чем тот осмелился усомниться.
Барон продолжал любоваться лежавшей.
— Ты ошибаешься, — обратился к нему Сергей Сергеевич, — и сейчас же в этом убедишься. Пойдем!
— Куда? — бросил на него удивленный взгляд Клинген.
— Отсюда…
— Но как же она? — указал барон на Ирену.
— На то у меня есть люди! Они приведут ее в чувство и отвезут обратно к ее матери, — ответил деланно небрежным тоном князь и опустил портьеру.
— Неужели ты на самом деле хочешь… но ведь она прелестна… бормотал барон, отходя вместе с Облонским от задрапированной двери будуара.
Князь, не отвечая, подошел к письменному столу и три раза нажал пуговку электрического звонка.
Через мгновенье в кабинете появился сияющий своей победой Степан.
Взглянув на своего барина, он положительно обмер.
Выражение лица князя, малейшую игру физиономии которого он изучил досконально, было для него и неожиданным, и не предвещало, вдобавок, ничего хорошего.
Самодовольная улыбка мгновенно исчезла с лица верного слуги, и оно вновь стало бесстрастным.
— Что же это значит? — обратился к нему князь, кивнув головой в сторону двери, ведущей в будуар.
Сообразительный Степан не решился отвечать в присутствии барона, которому низко поклонился, не зная, в каком смысле рассказал его сиятельство своему другу свои отношения с находившейся в будуаре гостьей.
Он молчал.
Князь, видимо, остался доволен его поведением и продолжал менее суровым тоном:
— Передайте швейцару и лакеям и запомните сами, чтобы без доклада никто, за исключением барона, — Сергей Сергеевич бросил взгляд в сторону последнего, — не смел проникнуть ко мне. Я этого не потерплю, и виновный получит тотчас же расчет.
Камердинер почтительно поклонился.
— С появившейся так неожиданно для меня в моем, будуаре дамой сделалось дурно. Потрудитесь вместе с горничной привести ее в чувство и в моей карете отвезите ее обратно к ее матери — Анжелике Сигизмундовне Вацлавской с моей запиской.
Князь сел к письменному столу и стал писать. Степан, произнеся лаконическое «слушаю-с», продолжал стоять в выжидательно-почтительной позе.
— Идите же скорей!
За запиской зайдете после. Камердинер вышел.
Сергей Сергеевич наскоро набросал следующее письмо:
«Милостивая государыня!
Ваша дочь без всякого, с моей стороны, приглашения вернулась ко мне, разыграла нежную сцену, доказавшую, что к ней не только перешла красота, но и ум ее матери, и даже упала в обморок. Не желая вторично причинять вам „материнского“ горя, посылаю ее к вам обратно.
Известный вам
С. О.».Едва он успел вложить это письмо в конверт и сделать на нем надпись, как в кабинете снова появился Степан, приведший с помощью жены одного из княжеских лакеев, исполнявшей в холостой квартире Сергея Сергеевича немногочисленные обязанности горничной, в чувство Ирену Владимировну, которой первые слова, когда она очнулась, были:
— Пустите меня домой!
— Карета готова! — поспешил ответить Степан и отправился за письмом в кабинет князя.
Уйдя от князя Облонского, Анжель не вернулась тотчас домой.
Ей страшно было видеть в эту минуту свою дочь, ей стыдно было передать Ирене, с каким оскорбительным презрением этот любовник дочери осмелился выгнать мать, приказавши, вместо ответа, лакею вывести ее.
Она заранее знала, что все случится именно так, за исключением неожиданного для нее открытия, что дочь ее замужем за человеком, презираемым ею всеми силами ее души, — за этим низким Перелешиным.
Эта мысль холодила ей мозг. Что же касается до приема вообще, то более вежливый не был ни в ее расчете, ни в ее желании.
Если она, эта гордая, невозмутимая и неумолимая женщина, в которой никто никогда не замечал ни малейшего признака чувствительности, отступления от раз принятого решения, которую никто не видал когда-либо плачущей, теперь унижалась, валялась в ногах перед этим человеком, то это только потому, что она ради своей дочери хотела до конца выпить чашу оскорбления, для того, чтобы потом иметь право не отступать ни перед каким средством для достижения своей цели.
А цель эта теперь была месть!
Теперь она думала, что преимущество на ее стороне, а потому считала себя вправе поступить, как ей угодно. Она чувствовала также, что стала еще хуже: никогда еще ее существование не казалось ей так глубоко потонувшим в грязи.
Вот почему она и не была в состоянии тотчас же видеться со своей дочерью. Степан, привезший Ирену, не застал дома Анжелики Сигизмундовны, чему в душе был очень рад, так как свиданье с ней далеко не было по его вкусу, особенно при том мрачном настроении, в котором он находился после данной ему князем головомойки, вместо ожидаемой им благодарности.
Он поспешил передать молодую женщину встретившей их в передней Ядвиге, которой вручил и письмо.
Ирена приехала все еще в полубессознательном состоянии.
При виде старушки-няньки, она вспомнила свой поступок, свое бегство во второй раз из-под ее присмотра со всеми его последствиями, и снова лишилась чувств.
В это время вернулась Анжелика. Ядвига указала ей на Ирену, лежавшую без чувств на диване, на который сильная старуха перенесла ее на руках, и передала письмо князя.
Анжелика Сигизмундовна прочла, и вся кровь бросилась ей в голову.
«Подлец, он ее обесчестил, погубил, а теперь хочет убить!»
Она быстро приблизилась к своей дочери и стала приводить ее в чувство вместе с Ядвигой.
Когда Ирена очнулась и села на диване, Анжелика Сигизмундовна не удержалась и воскликнула:
— Ты опять пошла к нему, к этому бессердечному негодяю! О, несчастная, ты губишь себя сама!
Она стала подробно описывать сцену, которую выдержала в кабинете князя.
— Он обманул тебя еще подлее, чем я думала, он обвенчал тебя с достойным его сообщником, таким же подлецом, как и он сам, с Перелешиным, а ты скрыла от меня, что ты венчалась…
— Венчалась!.. — повторила Ирена каким-то загадочным тоном.
Она вспомнила.
Обморок повторился в третий раз.
Он был настолько сильнее предыдущих, что думали, что она умерла. Но это был не более как повторившийся столбняк, бывший с нею в Париже, продолжавшийся, однако, теперь только тридцать шесть часов, и от которого она очнулась, благодаря внимательному уходу и медицинским средствам, данным доктором Звездичем, приглашенным в ту же минуту.
Безмолвное отчаяние Анжель было ужасным.
— Она очень опасна? — спросила она доктора.
— Не сумею вам ответить, — отвечал он, покачивая головой. — Я одинаково боюсь ее пробуждения, как и ее нервного сна, так похожего на смерть.
— Почему?
— Она может проснуться сумасшедшею.
Анжелика Сигизмундовна сжимала свою голову похолодевшими руками.
Она думала, что сама сойдет с ума, и на самом деле была близка к этому. Действительно, Ирена проснулась в бреду. С ней сделалась сильнейшая горячка, осложнившаяся воспалением мозга. В продолжение двух недель происходила страшная борьба между наукой и болезнью, молодостью и смертью.
В продолжение двух недель Анжель не покидала изголовья своей дочери, только изредка позволяла себе отдохнуть и позабыться сном на кресле возле кровати.
Ядвига чередовалась с ней, чтобы дать ей возможность хоть немного успокоиться.
Через две недели, увы, смерть одержала победу — Ирены не стало.
Она угасла, не приходя в сознание. Из ее отрывочного, бессмысленного бреда можно было заключить лишь, что ее воспаленный мозг тяготит одна идея — о ее замужестве с князем.
Когда вместо единственной любимой дочери, которой Анжелика Сигизмундовна посвятила всю свою преступную жизнь, перед нею вдруг очутился лишь похолодевший труп, ни одна слезинка не вылилась из почти остановившихся чудных глаз этой загадочной женщины и лишь на мраморно-бледном лице ее появилось выражение непримиримого озлобления, да так и застыло на нем.
Она несколько времени пристально глядела в полуоткрытые глаза покойницы, затем почти спокойно тщательно закрыла их и отошла.
XIX МЕСТЬ ПРЕСТУПНОЙ МАТЕРИ
Сергей Сергеевич ничего не знал о болезни Ирены.
Анжель взяла клятву с доктора Звездича никому на свете не говорить о ней.
«Я не доставлю ему удовольствия знать, что Ирена умирает из-за него и что я через него схожу с ума от отчаяния, — думала она. — Но эти мучения, Боже, какие страшные права они дают мне, и как он мне дорого за них заплатит».
Князю было, впрочем, и не до того, чтобы наводить справки, а Степан, утешившийся тем, что его сиятельный барин, в душе весьма довольный доставленным ему его наперсником случаем уязвить лишний раз Анжель, вернул ему свое расположение, не получая дальнейших инструкций, почти забыл о существовании дома на Зелениной улице.
Сергей Сергеевич, отправив Ирену и проводив барона, поехал обедать в дом своей старшей дочери и все свое утреннее раздражение излил в сцене со своей младшей дочерью, сцене, о которой мы знаем со слов самой княжны Юлии, рассказавшей ее Виктору Аркадьевичу в их последнее свидание у него в кабинете.
Отец решил, как мы знаем, увезти ее за границу и через две с небольшим недели привел это свое решение в исполнение.
Отъезд Сергея Сергеевича и княжны Юлии состоялся накануне дня, в который были назначены похороны так безвременно отошедшей в вечность Ирены Владимировны Перелешиной.
На Варшавский вокзал проводить отца и сестру приехала графиня Надежда Сергеевна со своим мужем.
Князь был, по обыкновению, весел и спокоен, не обращая, видимо, ни малейшего внимания на свою попутчицу, сидевшую рядом с ним за одним из столов зала первого класса, с лицом приговоренной к смерти.
Высказав однажды ей свою непременную волю, Сергей Сергеевич, по своему обыкновению, не считал нужным повторять ее, что было бы для него неизбежным, если бы он задал вопрос о состоянии духа его дочери.
Последняя, твердо решившаяся на борьбу, собиралась с силами и по возможности отдаляла ее начало. Ее лицо красноречиво указывало, чего стоило ей это приготовление.
После первого звонка отец и дочь уселись в отдельное купе первого класса.
Наконец, раздался третий звонок, и поезд отошел от станции, напутствуемый прощальными возгласами и маханием платков со стороны провожающих, в числе которых стояли на платформе граф и графиня Ратицыны.
Согласно составленному им маршруту, князь должен был остановиться на несколько дней в Варшаве, куда вызвал управляющего своих имений в Северо-Западном крае, одно и самое обширное из которых находилось в нескольких десятках верст от этой бывшей польской столицы.
С убийственным хладнокровием, производившим на окружающих худшее впечатление, нежели самое страшное отчаяние, распоряжалась Анжелика Сигизмундовна приготовлением к похоронам и самими похоронами своей дочери, которые и устроила с соответствующим ее любви к покойнице великолепием.
Отпевание и погребение произошло в Новодевичьем монастыре в присутствии Анжелики Сигизмундовны, рыдавшей навзрыд, и близкой к умопомешательству Ядвиги Викентьевны Залесской, и доктора Петра Николаевича Звездича, глубоко потрясенного как повестью жизни Анжелики, рассказанной ему ею самой, так и событиями последних дней.
Когда гроб с останками несчастной молодой женщины опустили в могилу, засыпали ее землей и над ней вырос буквально целый холм живых цветов в венках и букетах, Анжель все еще без слезинки в остановившихся глазах, с одним и тем же, как бы застывшим выражением лица, подняла рыдавшую, распростертую перед могилой Ядвигу под руку, довела ее до кареты и, распростившись с Петром Николаевичем молчаливым крепким пожатием руки, отправилась домой.
Вернувшись в опустелую квартиру на Зелениной улице, наполненную той тягостной атмосферой пустоты, которая появляется в домах, когда из них только что вынесен покойник, Анжелика Сигизмундовна заперлась в своей комнате и несколько часов не выходила из нее.
В восьмом часу вечера она появилась с запертой шкатулкой в руках в комнате Ядвиги, одетая в дорожное платье.
— Я сегодня уезжаю, и уезжаю навсегда! В этой шкатулке все мое состояние в сериях и бумагах на предъявителя. Отныне это все твое — мне ничего не нужно! — сказала она своей старой няньке, ставя шкатулку на комод и кладя около нее ключ.
Немного успокоившаяся Ядвига смотрела на нее вопросительным взглядом, но выражение лица ее старшей воспитанницы не располагало кого-либо, особенно Ядвигу, знавшую ее с детства, задавать вопросы. Она только просто спросила:
— На что мне эти деньги?
— Употреби их на добрые дела в память несчастной Ирены.
Старуха вместо ответа зарыдала.
Через два часа поезд Варшавской железной дороги уносил из Петербурга Анжелику Сигизмундовну Вацлавскую.
Она ехала в погоню за убийцей ее дочери, как она называла князя Сергея Сергеевича Облонского, о маршруте отъезда которого она имела точные сведения.
Весь ее багаж состоял из небольшого ручного сака.
По приезде в Варшаву, прямо с вокзала, повинуясь какому-то инстинкту, она поехала на Крюковское предместье, в «Европейскую» гостиницу.
— В каком номере остановился князь Облонский? — спросила она по-польски швейцара совершенно уверенным тоном, точно Сергей Сергеевич сообщил ей свой адрес и назначил свидание.
— В третьем! — отвечал швейцар.
— Он один?
— Его дочь занимает номер рядом.
Спокойной походкой взошла Анжелика Сигизмундовна по лестнице в бельэтаж и постучалась в третий номер.
— Войдите! — раздался спокойный голос князя.
Она вошла.
Был поздний час вечера. Князь сидел за письменным столом и рассматривал какие-то бумаги. Обернувшись на шум отворяемой двери, он увидел даму, всю в черном, с густой вуалью на лице, которая стояла к нему спиной и поворачивала ключ в замке номерной двери.
Сергей Сергеевич встал и пошел навстречу странной посетительнице.
Они встретились на половине комнаты.
Гостья откинула вуаль.
Он узнал Анжель.
От неожиданности встречи он вздрогнул, но вскоре привычное самообладание одержало верх, и он спросил, хотя отчасти и деланным, но презрительно-ледяным тоном:
— Что вам угодно от меня?
Губы Анжель скривились в злобную усмешку.
— Моя дочь умерла — я приехала казнить ее убийцу!.. — гробовым голосом произнесла она.
— Ирена… умерла… — мог только проговорить князь и, инстинктивно предчувствуя неминуемую опасность, стал беспокойно озираться и попятился от Анжелики Сигизмундовны.
Это его движение не ускользнуло от нее, глядевшей на него в упор.
Она быстро вынула из кармана револьвер.
Грянул выстрел, и Сергей Сергеевич, пораженный, как и первая ее жертва, прямо в сердце, упал бездыханный на бархатный ковер приемной.
Предсмертная судорога продолжалась всего несколько минут.
Около запертых дверей номера произошло движение — раздался стук.
«Я не дам себя еще раз вывести публично на позор из-за второго встреченного мною на жизненном пути подлеца! Я не должна опозорить оглаской и память Ирены!» — мелькнуло молнией в голове Анжель.
Грянул другой выстрел, и бездыханный палач упал на труп казненного им преступника.
На другой день все варшавские газеты были наполнены описанием кровавой драмы, происшедшей в третьем номере «европейской» гостиницы.
Особенно отмечен был тот факт, что оба выстрела по своей меткости были, видимо, сделаны спокойной, не дрогнувшей рукой.
XX ВМЕСТО ЭПИЛОГА
По телеграмме, данной княжной Юлией, нельзя сказать чтобы чересчур потрясенной трагической смертью ее отца, к которому она за последнее время питала страшную злобу, в Варшаву приехали граф и графиня Ратицыны, а с ними и Виктор Аркадьевич Бобров, которого княжна с непоколебимой твердостью в голосе перед гробом отца представила своей сестре и ее мужу как своего жениха.
Гроб с прахом убитого князя был перевезен в Петербург и после отпевания в Александро-Невской лавре, на которое собрался весь великосветский Петербург, давно узнавший из газет о финальном акте драмы, начавшейся на вечере у «волоокой» Доры, положен в фамильном склепе князей Облонских.
Ядвига Залесская распределила огромное состояние Анжель по разным благотворительным учреждениям Петербурга и, продав свой дом, приняла православие и была пострижена в монашество в Новодевичьем монастыре под именем Досифеи.
Она принесла в дар монастырю огромную сумму.
Вечно молчаливая, она и до сегодня отдалась вся молитве, проводит ежедневно несколько часов на могиле Ирены, главной причиной гибели которой продолжает считать себя, и даже не надеется замолить этот свой «страшный грех».
Доктор Петр Николаевич Звездич по-прежнему завален практикой, но не по-прежнему весел: роковая жизненная драма, в которой он играл хотя и второстепенную роль, тяжелым камнем продолжает давить его душу.
Владимир Геннадиевич Перелешин, совершенно разорившийся и полусостарившийся, служит распорядителем одного петербургского увеселительного заведения и с апломбом на потертом фраке носит значок этой должности, изобретенный антрепренером этого «кафешантана», знакомым нам камердинером покойного князя Облонского — Степаном, почтительно величаемым не только подчиненными ему артистами и артистками, но и завсегдатаями его «заведения», жуирами низшей пробы, Степаном Егоровичем.
Воспоминания об Анжель и Ирене посещают Перелешина лишь в форме сожаления о потерянных доходных статьях.
После годичного траура в одной из петербургских домовых церквей состоялась совершенно скромная свадьба Виктора Аркадьевича Боброва и княжны Юлии Сергеевны Облонской.
Молодые после венца тотчас же уехали за границу. Остановившись в Варшаве, они не забыли заехать на могилу той женщины, которая хотя и роковым образом, но все-таки устроила их настоящее счастье.
Коленопреклоненные, они горячо молились о душе убийцы и самоубийцы Анжелики, хотя и применившей на практике суровый закон Бога-Отца — «око за око», но едва ли не заслуживавшей своей страдальческой жизнью прощение Бога-Сына, отменившего этот закон.
«Свет» и «полусвет» — эти далеко не параллели столичной жизни — продолжают свое бесцельное, праздное существование не без роковых точек соприкосновения, хотя не всегда порождающих такие жизненные драмы, какая описана нами выше.
На смену стареющих и уходящих на покой звезд и звездочек полусвета, вроде «волоокой» Доры, и их усердных наперсников, вроде Перелешина, на почве экономических и нравственных условий современной жизни произрастают свежие подобные им отпрыски растений-паразитов, питающихся грязной болотной водой, скрытой под роскошным, цветущим, благоухающим лугом, каковым для поверхностного наблюдателя является наш «веселый свет».
Эти паразитные растения быстро цветут и скоро отцветают. Болотная вода окрашивает их в яркие краски, но в них-то и скрывается яд, подкашивающий их молодую жизнь.
Всепожирающий ненасытный идол людской страсти, под гнетом тяжелой пяты которого живет современное общество, требует все новых и новых жертв.
Жертвы приносятся.
Примечания
1
Барышни, стойте прямо (франц.).
(обратно)2
Имеется в виду поезд. Здесь и далее примечания редактора.
(обратно)3
Произведение искусства (франц.).
(обратно)4
Кстати (франц.).
(обратно)5
Она выглядит очень вызывающе (франц.).
(обратно)6
Выйдите, князь (франц.).
(обратно)7
Прошу вас, мой дорогой князь! (франц.).
(обратно)8
Право слово, он очень храбрый и к тому же истинный рыцарь (франц.).
(обратно)9
Это королевский подарок (франц.).
(обратно)10
Позвольте (франц.).
(обратно)11
Какой ужас! (франц.).
(обратно)12
Она была так нежна (франц.).
(обратно)13
Эти грубые русские (франц.).
(обратно)14
Смысл бытия (франц.).
(обратно)15
Жак Берто, врач-гипнотизер, член многих ученых обществ. Улица Сент-Анн, 14 (франц.).
(обратно)16
Это не так… (франц.).
(обратно)
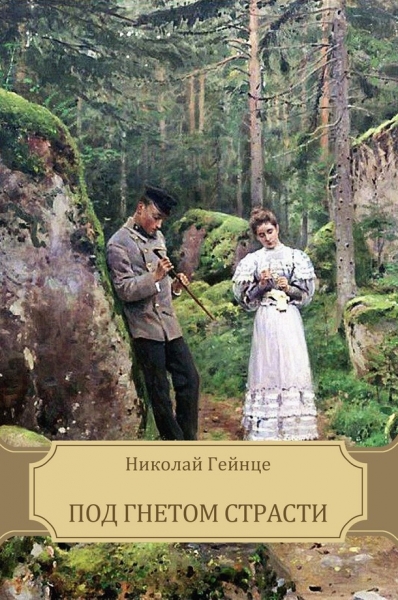

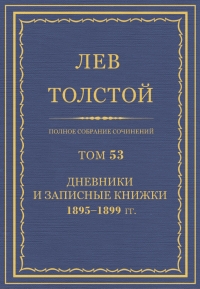
Комментарии к книге «Под гнетом страсти», Николай Эдуардович Гейнце
Всего 0 комментариев