Флегонт Арсеньевич Арсеньев ЩУГОР
Почти параллельно Уральскому хребту величаво улеглась в обрывистые берега громадная северная река Печора. Вытекая из Пермской губернии и принимая на своем двухтысячном протяжении довольно много больших и малых притоков, река эта широким руслом вливается в Ледовитый океан. Уральские горы местами так близки к печорским берегам, что кажется, тут и есть, рукой подать: так отчетливо и резко рисуется этот горный кряж на восточном горизонте. На равнине, между Печорою и Уралом, параллельно с последним, часто встречаются отдельные кряжи, которые зыряне называют пармами. Одни из парм длинные, другие короче, но все они образовались в виде складок при поднятии Уральского хребта. Самая длинная цепь этих гор известна под именем Высокой Пармы. Она поворачивает к северо-западу, проходит около деревни Почерем и расстилается затем в плоскость по берегам Печоры. Долины у подошв уральских откосов и отдельных кряжей покрыты густым хвойным лесом, который, постепенно редея и перемешиваясь с лиственными породами, восходит до известной высоты, сохраняя прямизну деревьев и здоровый их вид. Граница произрастания леса возвышается и понижается, смотря по крутизне склонов и по стране света, к которой они сходят; более всего понижается эта граница обыкновенно на северо-западной стороне гор, потому что дующие с северо-запада холодные ветры задерживают рост и развитие деревьев. Над чертою леса крутыми подъемами возвышаются горы, которых самые крайние очерки принимают преимущественно две отличные одна от другой формы: или длинные хребты с скалистыми ребрами, или круглые кегли, совершенно похожие на базальтовые и трахитовые горные вершины других стран. Пологости и проходы в горах покрыты мохом и чахлою травою, выступающей из черных щелей и трещин дикого камня. Вдоль источников, которые обыкновенно здесь берут свое начало с гор, тянется местами ивовый кустарник, заглушённый высокими травами и представляющий разным водоплавающим птицам излюбленнейшие места для свивания гнезд. Крутые скаты и вершины всех гор представляют нагроможденные в беспорядке кучи каменных глыб, переходящие иногда в отвесные, зубчатые, изрезанные щелями стены. На высотах, покрытых кучами камней, растут одни только лишаи. Еще выше, и только там, где отвесные скалы оканчиваются небольшими площадками, по берегам пробивающихся изредка источников заседает мох и мурава — единственные признаки жизни мертвых окрестностей. Всход на эти горные стремнины весьма затруднителен: надобно подниматься с большою осторожностью, чтоб не ступить на шаткий камень, который легко может потерять равновесие и покатиться в пропасть вместо с входящим человеком; но зато по этим глыбам можно, как по лестнице, достигнуть таких высот, на какие при другом образовании гор не мог бы взобраться и самый отважный альпийский охотник. На одном из откосов Урала возвышается гора с обнаженным теменем, известная под именем Моицкого Болвана. Остяцкое название: остяки называют себя — манци. Это одно из тех мест, на которых еще до сих пор сохранился обычай остяков приносить своим идолам жертвы. На таких жертвенниках нередко встречаются поставленные на камнях или воткнутые на шесте оленьи черепа с рогами и разбросанные в беспорядке кости заколотых в жертву животных. Странен обычай остяков убивать животных, назначенных для этой цели: они заколачивают оленю все отверстию ноздри, рот, уши и проч. деревянными кольями и, этим мучительным способом умерщвляют его. В прежние времена, впрочем давние, остяки приносили в жертву идолам, кроме оленей, также серебряные украшения и монеты, но с того времени, как некоторые ссыльные в Обдорске сделали в отыскивании остяцких жертвенников и в обирании с них серебра очень выгодный для себя промысел, такие жертвоприношения прекратились.
* * *
Против, селения Усть-Щугора, прорезав Ыджеди Парму, впадает в Печору Щугор, вытекая из Уральских гор. Река эта на своему чрезвычайно извилистому пути имеет протяжение, не более 350 верст; она очень глубока и необыкновенно быстра, как вообще все горные реки, имеющие крутое падение. Прозрачность воды в Щугоре, изумительная: маленькие камешки, песчинки крупного хряща можно рассмотреть в ней на саженной глубине. Вода в Печоре довольно чиста, но, когда вливает в нее свои струи Щугор, они резко отличаются от печорской воды, не утрачивая своей прозрачности на несколько верст вниз по течению Печоры, около правого ее берега.
В конце июля 186… года, в легкой, но приспособленной для дальних переездов лодочке, спускаясь вниз по течению Печоры вместе с товарищем моим не путешествию П. Д. Волковым и промышленником Зыряниным, заматерелым охотникам и рыболовом Алексеем Теньтюковым, добрались мы до устья Щугора, исследование которого входило в план нашей поездки по Печорскому краю. Погода стояла превосходная. Мучительное комариное время уже прошло. Мы перенесли его на верховьях Печоры. Комары на Печоре, в конце мая, июне и начале июля, это одна из невыносимых казней египетских. Мириады этих кровопийц, каких-то особенных, необыкновенно крупных, рыжеголовых, нападают на человека и на всякое живое существо тучами, мешают есть, нить, работать, думать; от них нет спасения: накомарники[1] не помогают; они как-то ухитряются залезть и под них; да в знойные дни и душно в накомарниках; смазывание открытых мест тела пахучими веществами не служит ни к чему. Один только ветер несколько прогоняет несносных пискунов.
К Щугору мы прибыли на солнечном восходе. Над водою колыхался туман. По левую сторону Печоры бесконечно широко расстилалась равнина с поросшим на ней темным лесом, по правую, вдали от береговой полосы, возвышались горы, из-за которых солнечные лучи золотом обливали покойную поверхность вод Щугорского устья, доходящего сажен до ста ширины. Берега Щугора при устье на пространстве двух или трех верст состоят из наносной равнины, поросшей березами и ивами, и чем далее к Камню[2], тем выше они поднимаются, переходят в угоры, делаются каменистее и покрываются хвойным лесом. По прибрежной равнине. Щугора кое-где разбросаны поляны. Дымившийся пар с этих полян и крик чаек изобличали присутствие курей (луговых озер). Мы сделали привал к луговой части берега, заехавши в заводь, образовавшуюся под небольшою острою коскою. На красивой луговинке, под раскидистой ивой, в виду двух громадных рек, устроилась наша временная стоянка.
— Как у нас запас провизии, Павел Дмитриевич? На исходе надо полагать? — обратился я к своему товарищу, заведовавшему в пути хозяйством.
— Поиздержались-таки; чаю и сахару еще много; а вот насчет хлеба насущного — плоховато: одни только сухари и остались; соли довольно.
— Значит — жить еще можно; о приварке только позаботиться следует: экскурсию охотничью сочинить нужно.
— Вали на курьи; всякой утки здесь, что мякины — не перестрелять; а мы с Алексеем в прозрачных чертогах справку наведем: рыбешки не поймаем ли.
С собою взяты были разные рыболовные принадлежности: удильные крючки, животные крюки, жерлицы и даже небольшие ботальные мережи. В длинном путешествии по малонаселенному краю эти рыболовные снасти оказывали нам большую услугу в продовольственном отношении.
Затянув патронташ, перекинув сумку через плечо и ружье за спину, я направился на крик чаек, рассчитывая попасть или на большое торфяное озеро, или на водомоину. Последние часто встречаются в луговых припечорских низинах. Образованием их служат быстро стекающие с гор потоки, во время весеннего таяния снегов. Такие водомоины, или черторои, обрастают по берегам ракитником, заглушаются болотными травами и служат превосходнейшим местом для обитания уток.
Сначала пришлось мне пробираться сквозь частый кустарник, но я скоро вышел на луговину, которая извилистым долочком тянулась около березовой рощи. Через четверть часа ходьбы долина начала принимать все более широкие размеры и наконец раскинулась обширным сенокосным наволоком. Налево, к угору, сверкнула вода; я поворотил к ней. Подхожу — лог, сажен около двадцати ширины, с сухими березами; по окраинам — осока, на воде широкие листья лопуха покачиваются ветерком, и местами резун плотно заткнул воду, разбросавшись по ней своими колючими, мясистыми листьями. Из-под ног, из осоки, сорвалась кряковая утка: ружье было на плече, я сбросил его, взял на прицел, но было уже не в меру, не успел выстрелить: утянула. Через несколько шагов еще поднимается пара; я ударил по правой: со всего размаха шлепнулся в воду тяжелый кряковень, гулко раздался выстрел, каким-то перекатистым эхом застонал он по равнине, и вот громаднейшие стада уток различных видов начали взлетать из осоки и из-под нависели ракитника и закружились в воздухе. Шурканье крыльев, крякотня, свист раздавались со всех сторон. Выстрел мой наделал необычайный переполох обитателям здешних болот и озер: всюду залетали стада, то опускаясь далее вновь на воду, то забираясь высоко в воздух. Вот мчится прямо на меня несколько десятков свиязей: я дал им сравняться, они взмыли над моею головою, порвались вправо и сплотились в клубок. Я шарахнул в самую гущу: три штуки покатились в середину лога. В горячности я и не заметил, что наглупил: утки упали далеко от берега, достать их невозможно, значит, незачем было и стрелять по направлению к воде. Сломил я хворостину аршина в четыре, попытал глубину у берега: не хватает до дна; плыть нельзя: водяная растительность, плотным ковром засевшая около берегов, не позволила бы двинуться. А убитая дичь покачивается на воде: одна свиязь лежит кверху брюшком; ярко блестит на солнце ее белесоватая хлупь; три штуки вверх спинками, опустивши вниз головки. Шаль уток, хочется их добыть, но я не мог придумать средство — как бы это сделать: хоть бы веревка была, навязать бы палку, забросить далее за уток и таким способом приплавить их к берегу. Это случалось практиковать с успехом, но веревки не было.
Ветерок стал дуть посильнее, зарябил поверхность лога и погнал мою дичь к противоположной стороне. Две утки, занесенные в резун, засели в нем безнадежно, другие две угодили в небольшую чистенькую прогалинку и довольно близко подбились к берегу; по крайней мере мне так показалось отсюда. Следовало обойти лог, чтобы достать уток с той стороны. Зарядив ружье, я пошел по окраине лога, по направлению к лесу. Печора оставалась у меня назади, а Щугор с левой руки. Не прошел я и ста шагов, как услышал позади себя необыкновенный шум а воздухе: я обернулся, вяжу — летит какой-то большой ястреб, сделал круг над моими убитыми утками, лег над водою, вытянул поджатые ноги и, подхватив крякушу, тяжело поднялся с нею на противоположный берег, пролетел над ракитовою зарослью и спустился за кустом. Обидно, подумал я, досталась добыча черту в лапы, а поделать ничего нельзя: не перескочишь, через воду. Я прибавил шагу из опасения, чтобы, и остальных уток не постигла та же участь.
Местность начала понижаться, перейдя в сыроватую с небольшими болотистыми впадинами. Наконец, я уперся в довольно большое кочковатое болото, сплошь заросшее густою осокою. Из лога вдавался в это болото залив. По берегу лога пробираться далее не было возможности, я взял влево и пошел в обход болота, держась его окраины. Из-под ног вырвался бекас, потом другой, наконец вдруг поднялось штук пять: я не выдержал и наслал голенастикам два выстрела вдогонку: крупная дробь, не задела ни одного, но выстрелы подняли вновь бесчисленное множество дичи: кроме уток, всюду залетали стада куликов, быстро помчалась возле меня станичка ржанок, закружились в воздухе кроншнепы, зычно где-то крикнул гусь и благим матом загалдели журавли. Воистину, великое и обильное царство пернатых. От такого множества всевозможной болотной дичи рьяному охотнику можно обезуметь. Я и обезумел; с изумлением, как шальной, забыв зарядить ружье, смотрел я на кружащиеся стада. Если сравнить их со стаями латающих грачей над вершинами старых берез обширного заброшенного сада или с сеткою галок над городскими церквами, то это будет весьма слабое понятие того, что совершалось надо мною… И все это пищало, кричало, крякало, все, это производило какой-то невообразимый смешанный гвалт. Через четверть часа расселась снова дичь по местам, снова все затихло, лишь изредка слышалась перекличка кряковых уток и клыканье белоголовика, на недосягаемой вышине парившего над озерами. Зарядив ружье, я двинулся по избранному пути. Болото становилося глуше, водянистее. Из травы грузно поднялась утка и повалилась с выстрела; из налетевшего на меня вслед за этим стада ржанок, я из левого ствола вышиб трех штук; потом; еще убил вскоре пару уток. Через четверть версты берег болота сделался суше. Показались кустарники можжевельника и редочи еловой подросли. Вдруг из одного елового куста, мимо которого я проходил, поднялась с большим шумом какая-то крупная птица; да секунду она застряла в вершинах дерев и потом вытянула предо мною на чистовину; вижу — глухарь; я хватил его впоперечь: свалился, как сноп. Выстрел до того был удачен, что даже досадно сделалось, что некому было полюбоваться на него со стороны; глухарь матерый, громадных размеров — около 20 фунтов весу. Заряд угодил ему в бок и уложил наповал. Казалось бы, и будет дичи, можно бы и назад возвратиться к лодке, но жаль было оставить убитых уток, за которыми я пошел в обход, да и местность настолько меня заинтересовала, что мне захотелось еще походить, поисследовать ее. Двинулся далее. Кустарник делался плотнее и, наконец, перешел в еловую чащу, составляющую опушку сплошного леса, в который с правой стороны от болота вдавалось острым углом чистое озерко. Продираясь сквозь ельник, я начал обходить это озерко. На средине его, вне выстрела, ныряли около десятка чернетей. Заметив меня, они сжались в кучу и, покеркивая, изогнув головки несколько в сторону, вдавившись как-то в воду по самую шею, бойко поплыли к противоположному берегу. Обойдя озерко, я снова вышел на обширную луговую пожню и, все держась берега, начал, как мае показалось, возвращаться с противоположной стороны назад, к тому месту, где оставил убитых уток, но вдруг я уперся в поперечную промоину, сажен, около семи ширины; она отрезала мне возможность обхода. Следовало бы воротиться назад, но продираться вновь сквозь лесную чащу, идти старым местом, не достигнув цели, мне не захотелось, и я вошел по берегу промоины, в надежде отыскать брод. Местами промоина суживалась до трех сажен, местами расширялась сажен до двадцати и более. Из-под нависели ракитника, кой-где раскидавшегося по окраине промоины, поднимались довольно часто свиязи и кряковые; но пыл во мне уже поулегся: я не стрелял их — не потому, впрочем, что находил свой ягдташ достаточно наполненным, но с подъема утки направлялись да противоположную сторону, и я не был уверен, что, убивши, воспользуюсь ими.
Я шел по берегу промоины около версты: место было открытое, плоское. Вижу — впереди опять вода. Я натолкнулся на новое озеро, с которым соединялась промоина, представлявшая таким образом пролив между двумя небольшими водоемами. Почувствовав некоторую усталость, я присел отдохнуть на берегу озера. Оно было круглой формы и имело поперечнике около 200 сажен. Судя по наружному виду, глубина в нем, вероятно, весьма значительна, потому что, несмотря на прозрачность воды, дно не просвечивалось. Окраины озера сухие, местами обросшие ракитником. Берег с моей стороны — отлогий, луговой, а противоположный, прибегающий уже к горным склонам Уральского кряжа, крутой и обрывистый, с скалистыми осыпями, по урезу которых тянулся небольшой сосновый лесок. Озеро было красиво; гладкая поверхность воды лоснилась, как стекло. Множество чаек вились и орали над водою; кое-где плавали гагары, да громадное стадо чернетей то и дело перелетало с места на место. Изредка всплескивалась рыба; расходящиеся широко круги на воде показывали, что экземпляры водяных обитателей были изрядной величины.
Время близилось к полудню. Солнце пригревало так усердно своими горячими лучами, что мне захотелось поосвежиться в озере, светлая прозрачная вода которого так и тянула выкупаться. Раздевшись, я бросился в воду; у самого берега глубина озера оказалась чрезвычайная: опустившись, я не мог достать дна; берега сходили в воду не только отвесной стеной, но еще имели под себя подмоины, или, как называют рыбаки, пазухи, куда удобно укрыться рыбе при ловле ее неводом и вообще всякими сетями. Мне не раз случалось видеть в окрестностях Шексны небольшие с подобными свойствами озерины. В них всегда было множество рыбы, которую из этих бездонных котлов, с глубокими рытвинами, далеко уходящими под берега, невозможно добыть никакими снастями, кроме единственной, самой ничтожной между рыболовными принадлежностями, — это удочки. И здесь, купаясь в водах неизвестного мне озера, приютившегося в пустынной местности на склоне уральских отрогов, я искренне пожалел, что в моем ягдташе не было в запасе этого скромного рыболовного снаряда. Невзирая на мое бултыханье в воде, рыба то и дело плавилась во всех местах озера, даже около самого меня. Часто, при сильном всплеске, дробно рассыпалась мелкая рыбешка в разные стороны, по чему можно было безошибочно судить, что эти щуки или окуни гонялись за добычею. «Жерлицы бы пустить на колодках, животные крюки поставить бы, — мелькало у меня на мыслях, — не остаться ли на устье Щугора на суточки для потехи, прийти сюда с Павлом Дмитриевичем и попытать счастья; ужо поговорю с ним, — размышлял я, — может, и согласится».
После купанья меня начало клонить ко сну. Накануне, плывя по Печоре, мы почти всю ночь не спали из желания поспеть к утру на устье Щугора, да и побродил я, должно быть, многонько: делая обходы полоев, болот и озерин, я исколесил порядочное пространство, так что чувствовал утомление. Я прилег на случившийся тут небольшой холмик. Надо мною раскидывалась бесконечная, недосягаемая высь бледно-голубого неба; солнце сияло ярко; на западе громоздились отличавшие жемчужным блеском комья небольших облаков; на востоке обрисовались зубчатые вершины горного кряжа, вздымаясь в высоту какими-то фиолетовыми буграми; ниже их темною полосою расстилался хвойный лес. Направо, «верстах в четырех, виднелись береговые очертания Печоры, верхние плеса которой в крутых изворотах блестели широкими серебряными лентами. Оглядевши местность, я сообразил, где находится устье Щугора и наша стоянка. Заблудиться было невозможно. Хотя я на этот счет и успокоился, но среди пустынной, безлюдной местности чувствовал как-то совершенно себя одиноким; ничто здесь не изобличало присутствия человека, не было слышно ни говора, ни песни людской, никакого отклика. Но в то же время иная жизнь, жизнь природы непрерывно обхватывала меня со всех сторон, бесчисленные голоса чаек оглашали окрестность громкими, словно чего-то вымаливающими криками; стаи куликов сновали передо мною беспрестанно, перекличка кряковых уток раздавалась со всех сторон. Плюханье рыб по озеру, стон крачек, перелет нырков, голоса на воде, голоса в воздухе не прекращались ни на минуту. Вдруг около самого меня шарахнулась какая-то разом обвеявшая меня масса: это белоголовик кубарем ударился в воду, подхватил довольно большую рыбину, взмыл вверх и, ровно махая крыльями, полетел за озеро, в полосу чернеющего леса; его со страшным гвалтом преследовали чайки.
Солнце жгло меня на пригорке невыносимо. Я перебрался в тень, под ракитовый куст, к самому озеру, положил ружье около себя и скоро заснул крепким сном.
* * *
Проспал я около трех часов. Когда проснулся — погода поизменилась: с запада подувал довольно крепкий ветерок; кучевые облачка похаживали по небу. В воздухе свежело. На озере, Шагах в тридцати от меня, плавало стадо штук в Тридцать чернетей, беспрестанно нырявших. Я заслонен был от них кустиком ракитника, сквозь ветви которого и осмотрел уток. Осторожно подняв ружье, подполз я еще ближе к кусту, просунув сквозь ветви стволы, и, выждав тот момент, когда чернети скучились, выстрелил в средину стада; три остались на месте, остальные, поднявшись, залепетали по воде. Из второго ствола, в угонку, еще вырвал одну штуку. Ветерок погнал убитых уток к тому берегу. Я был вполне уверен, что их прибьет к нему прежде, нежели я успею обойти озеро; к обходу же не представлялась, по-видимому, никаких препятствий. Берега сухие и возвышенные. Обход не велик, немного более версты, времени до вечера, еще много, силы подкрепились сном. Я бодро пустился в путь. На половине обхода окраина озера понизилась, берега отлого сбежали к воде и образовался узкий залив, вдавшийся в виде языка сажен на сорок в лощину лугового пространства. Залива этого я прежде не заметил: его закрывал от меня, ракитник и ольховые кусты. Сразу можно было видеть, что эта часть озера была мелка: по берегам осока и кочкарник, по воде плывуны, ряска и травяные заросли; противоположная сторона залива состояла совсем из пересохшей отмели, переходящей в тинистую грязь. Мириады мелких куликов разных видов бегали по болотине, подбирая разную болотную шмару и насекомых. Вдруг я осмотрел в конце залива, под берегом, весьма большую птицу, мерно шагающую но отмели. По серопепельному цвету и длинному носу я принял ее за журавля, но горбатая спина, опущенный кургузый хвост, петлей сложенная шея, прижатая к плечам, длинные косицы на голове — все эти признаки, изобличали, что это не журавль. Из-за куста я подошел к птице шагов на двадцать; она меня заметила и молча поднялась, вытяну» ноги назад, а шею загнув на спину: вижу — цапля. Что за чудо! Какою бурею занесло эту обитательницу умеренных стран в такие далекие северные пределы? Впрочем, не раз случалось мне встречать пернатых под несоответствующими их обитанию широтами: в Костромском уезде, в обширных луговых пространствах Поволжья, в 1854 году, я убил пару стрепетов; в Яренском уезде во ржи не раз слышал крик перепелов; на Чевьинском болоте, в окрестностях Усть-Сысольска — видел черного аиста.
При обходе залива я встретил поток, узеньким ручейком пробирающийся по луговой ложбине. Свободно перешагнув его, я скоро достиг вновь сухой местности и, огибая озеро уже с противоположной стороны, поднимался постепенно все выше и выше. Вот и сосновый лесок, который я видел с того берега. Почва сухая, песчаная, поросшая серо-пепельными лишаями. Сосны небольшие, приземистые, с кужлавыми раскидистыми верхушками. Местами подъем был крут; я шел все кверху, все в гору. Сосновая группа дерев раздалась; я вышел на небольшую площадку и ахнул от изумления: передо мною развернулся вдруг великолепный, поражающий пейзаж; под ногами, над крутым обрывом, круглое, чистое глубокое озеро. Кужлавые сосны и густые ивы, и береговая песчаная отсыпь опрокинулись через отражение в тихую гладь его вод; далее — на запад обширное луговое пространство, по которому точно сотни раскиданных исполинских стекол ярко блестели по всем направлениям курьи и полой, озерины я протоки; еще далее — широкое плесо величественной Печоры, а за нею темное море бесконечного леса, сливающегося непрерывною массою с горизонтом. На востоке тоже темная полоса лесного пространства, но ограниченная далее волнистою грядою уральских предгорий, резко обрисовывавшихся в воздухе своими голыми вершинами. Солнце зашло за тучку: вся даль, вся эта обширная плоскость с бесчисленными озеринами потонула в алом блеске, облившем багровым цветом и широкое плесо Печоры. Как хорошо здесь: конца-краю нет этому дикому приволью, не налюбуешься им вдосталь. И невольно пришло на мысль: «Что бы здесь, вот на этом самом месте, на взлобке, где стою, построить уютный домик, поселиться в нем с самыми близкими людьми и в этом уединенном угле, среди богато населенной рыбой и дичью природы, среди немолчных голосов обитателей леса и вод, пожить на свободе и вдали от горя и поденных забот, отдохнуть душою от нашей тяжелой, исковерканной неправдой людской и общественными условиями жизни!..»
Береговой обрыв против меня возвышался сажен на сорок над водою, но (сойти по нему было возможно, что я и сделал, спустившись к самому заплеску воды, и пошел по песчаной отмели, тянувшейся узкою полосою под береговою кручею. Отсыпь в разрезе состояла из слоистой глины, в которой последовательно залегали светло-серый плотный известняк, глинистый черный сланец и зернистый кварцит. Скоро нашел я убитых мною уток; их поднесло всех четырех к берегу почти в одно место. Приторочив свою добычу к ягдташу, я снова начал подниматься на береговую окраину, несколько понизившуюся в этом месте. Через несколько шагов я попал на тропу, торно пробитую по береговому откосу. Всмотревшись в нее, я различил оттиски раздвоенных копыт, отчетливо отпечатанных на глинистой почве. Ясно — это тропа оленей; они ходят по ней к озеру на водопой и купанье. На кустах ельника и вересняка, между которыми извивалась тропа, висели кое-где клочки оленьей шерсти.
Известно, что в знойные летние дни на оленей кучами нападают насекомые, преимущественно овода и слепни, кусают и кладут в густую шерсть их свои яйца. В эту пору олени — великие страдальцы, вода для них спасение. Забравшись в нее по шею, они простаивают таким образом целые дни, выставивши на поверхность одну голову с ветвистыми рогами. Именно на такое место попал я в настоящую минуту. Спустившись по тропе к самой воде, я вышел на песчаную отмель; весь песок около воды измят был копытами: именно тут, в этом месте купаются олени. Но время для этого уже прошло: в конце июля овода от холодных ночей пропадают и олени перестают принимать ванны, а то удобно было бы и постеречь их здесь, конечно с раннего утра, запасшись для этой цели особыми охотничьими снарядами.
Не отошел я и десяти сажен от оленьей тропы, как заметил на песке другой след, совершенно свежий, подействовавший на меня весьма внушительно: широкая лапа и оттиски громадных когтей несомненно убеждали меня, что сюда же является Михаиле Иваныч для освежения озерной водой своей клокастой особы. Встретиться с ним, в моем одиночном положении, при настоящих слабых средствах для борьбы, т. е. с простым дробовиком, с запасом одной шестого номера дроби, было весьма неприятно. Признаюсь откровенно, мне сделалось жутко, как Робинзону, открывшему следы дикарей на своем необитаемом острове. Помнится, у меня как будто шевельнулось что-то под картузом, мурашки какие-то пробежали по коже. А след был так свеж, так отчетлив, что, казалось, медведь был здесь не только сегодня, но несколько минут тому назад. Мне даже послышался шелест в ивовых кустах, засевших далее сплошною массою около самой воды озера. Первым моим после такого открытия делом было подняться снова наверх, на ту площадку, с которой я любовался величественным видом. Затем предстояло решить, каким путем воротиться назад к устью Щугора: идти теми же местами, какими шел сюда — надо продираться сквозь лесную чащу, чего мне, из опасения встречи с медведем, крайне не хотелось; взять направление влево, на берег Печоры и затем Печорою дойти до устья Щугора — было далеко. Но все-таки я остановился на последнем: этот путь предстоял по открытым местам, где сбиться невозможно, да и Печора в виду; значительная часть ее плеса видна отсюда, а если и скроется она от меня, когда спущусь в низины, то береговые урезы этой громадной реки все-таки будут перед моими глазами. Придется, может быть, делать обходы озерин и курей, но это ничего: лишние две-три версты не составят для такого ходока, как я, большой важности. Да кстати, возвращаясь этим направлением, я мог подобрать и уток, убитых первыми выстрелами и оставленных на логу. И так надумал я взять левое направление и с этим решением обошел правую юго-восточную часть озера и спустился в луговую плоскость.
Но недолго шел я по избранному пути; не более как через четверть часа я уперся в широкий пролив: справа он соединился, по моему соображению, с тем логом, на котором остались утки, слева уходил в луговое пространство, неизвестно на какое расстояние. Я пошел в обход. К счастью, пролой сузился сажен до десяти. По растущей в узком месте густой осоке и болотному хвощу можно было заметить, что тут неглубоко. Я разделся с намерением перебрести на другую сторону. Спустившись в воду, попробовал с осторожностью дно, боясь попасть в вязиль, из которого, пожалуй, ног не вытащишь. Тинистые, засасывающие озерины зачастую попадаются на севере, да и везде они не редки. Охотясь в вычегодских болотах, близ Усть-Сысольска, я один раз забился в такую зыбучую урему, что если б не товарищи, так бы и покончил в ней свое земное странствие. Дно в пролое оказалось хотя и илистое, но довольно твердое, глубина немного выше колена. Перебродя, я поднял трех кряковых уток: они с шумом взвились в воздух, сделали небольшой круг и спустились в этот же пролой, сажен, пятьдесят от меня далее. Но мне было не до уток: поспешно одевшись, я почти бегом пустился вперед, по направлению к Печоре. Торопиться следовало: солнце склонялось к западу, и, кроме того, я с утра ничего не ел: меня довольно чувствительно начал допекать голод. Все более надвигался вечер. Вот золотистый диск солнца врезался в темно-серую полосу облака, растянувшегося на горизонте над самыми верхушками леса; яркими, ослепительными цветами заиграли края этого облака, принимая причудливые формы. Лиловый блеск вечера мягко ложился на широкий простор Припечорья. Но когда душа непокойна, голова полна тревожными мыслями и желудок пуст, то не до красот природы. Я спешил изо всех сил, а они все более и более ослабевали: в ягдташе моем было порядочно дичи, от которой он делался час от часу тяжелее и страшно оттягивал плечо. Я отцепил уже глухаря от тороков и нес его в правой руке: так как будто полегчало.
Долго бродил я между курьями и озеринами, то перебродя их в мелких местах, то делая обходы. Все чаще и чаще встречались на моем пути препятствия в виде пролоев, промоин, горловин, проливов, логов и болот. Иногда подходил я к Печоре весьма близко, казалось, был от нее не более версты, но вдруг встретившийся какой-нибудь водоем уклонял меня в противоположную сторону, и я снова шел прочь от Печоры, путаясь между озеринами. Усталость и голод мучили меня невыносимо, беспомощность положения я приближающаяся ночь наводили страх. Я боялся запоздать; мне жутко было ночевать в этом лабиринте вод, в котором я совершенно сбился с пути и не знал, где отыскать выхода, попав в бесконечный переплет воды и земли между собою.
Давно закатилось солнце. Все гуще и темнее становились сумерки, все реже слышались голоса птиц и их перелеты. Вот и молодой месяц блеснул на небе золотым краем, звездочки вспыхнули на востоке, заря вечерняя побледнела, стих гомон чаек, не слышно переклички уток. Настала ночь. Где-то вдали, далеко ухнул филин, гагайкнула сова, лотом простонало что-то, не то олень проревел, не то росомаха, а может быть, и медведь. Я все шел, все блудился по суходолам между озеринами. Наконец, попал я на чистое, длинное озеро и поплелся по его берегу, как будто по направлению к Печоре. Ноги едва двигались, более по инерции. Я был чрезвычайно утомлен. Через четверть часа я наткнулся на новую воду: широкая курья соединялась под острым углом с тем озером, на берегу которого я стоял, и пресекла мне путь. В изнеможении я опустился на траву и решительно растерялся: ночевать, развести огня — спичек с собою не было. А в воздухе стало холодать, ночь темнела, расстроенное воображение начало представлять крайние случаи. Пропадешь, думалось, в этих озерах, не выйти из них ни ночью, ни днем, с голоду умрешь или с отчаяния пойдешь по прямой линии и, перебираясь через курьи и полой то вброд, то вплавь, засядешь в какой-нибудь тине, где так и погибнешь; а может быть, и медведь прикончит: по кустам все малинник тут, может быть, косолапая животина ходит по нем, натолкнешься на него, изуродует, искалечит — так и богу душу отдашь мучительной смертью.
Около часа пролежал я на луговине без движения. Сильно начал прохватывать меня ночной холод, а подняться, походить, чтобы согреться, возможности нет: все члены отяжелели и требовали отдыха. Ночь была тихая: ни звука жизни. Вдруг донеслись до меня какие-то глухие удары. Я начал прислушиваться. Шлепанье по воде, бульканье все приближалось. Месяц выкатился из-за тучи и облил серебром расстилавшееся передо мною озеро. Вижу — какая-то темная масса движется по направлению ко мне. Что бы это такое? Слежу внимательно, всматриваюсь: лодка. Сердце взыграло радостью: «Господи! Неожиданная помощь. Но кто же здесь в этом глухом углу и ночью, зачем, что делать в такую нору?»
— Коды таны — кто здесь? — закричал я по-зырянски.
— Кодэс ен ваэ — кого бог дает? — отвечал мне густой, крепкий голос человека с лодки.
— Кывт тадче, бур март, отдав меным: мэвоши и кула чыг-понда — подплывай сюда скорее, добрый человек, помоги мне: я заблудился и умираю с голоду!
Лодка приблизилась. Едва коснулась она носом берега, как я поспешно в нее ввалился: куда и усталость девалась.
— Коды тэ сэчэм — кто ты такой? — спросил меня зырянин, увидев вовсе не своего собрата, а какого-то чужака, неведомо как сюда забравшегося. Я объяснил ему о себе подробно, и просил доставить к товарищам на устье Щугора, обещая за это вознаградить его деньгами или порохом.
— Ничего не нужно[3], какие тут деньги; на соль разве что дашь, и спасибо. Да и самому мне туда же надо: я из села Усть-Щугора, приезжал сюда рыбу ботать: вишь каких карасей наловил. — И зырянин показал мне действительно большого, фунта в полтора, карася, достав его из-под доски со дна лодки.
— Как же мы отсюда выедем? — спросил я.
— А вот все этой курьей; там будет волока: лодку перетащим. Вот вишь какая у меня для этого колесница.
В лодке лежали два колеса, выпиленные из толстого кряжа в надетые на деревянную, грубо обделанную ось, к которой привязаны для тяги две веревки вроде постромок. Такие скаты часто употребляют зыряне на волоках, когда приходится им перетаскивать лодки через речные перешейки или суходолы между шарами.
Перетащив лодку в разных местах раза, три, наконец мы добрались до Печоры. Слава богу, сердце стало на место.
— Далеко ли отсюда до Усть-Щугора?
— Да чекмоса два с лишком будет.
В чекмосе семь верст. Далеко же забрался я, путаясь в луговой низине Припечоры, в лабиринте озер и болот.
Около полуночи подъехали мы к нашей стоянке. На берегу у товарищей разведен был громадный пажок. Высокая, сутуловатая фигура Павла Дмитриевича ясно обрисовывалась против огня на темном фоне ночи.
— Ну, разодолжил! — протяжно воскликнул Павел Дмитриевич, когда я, выдвинувшись из темноты и вступив в круг яркого света, разливаемого огнем, вдруг явился перед ним, как лист веред травой.
— Куда это тебя нелегкая занесла? Мы до страсти перетревожились, думали — случилось что-нибудь. Алексей и до сих пор тебя ищет: в пятый раз его послал!
— Да и то случилось: запутался в озерах; и не выйти бы, если б здешний рыболов из Усть-Щугора не помог, — отвечал, я на вопросы Павла Дмитриевича, поспешно сбросив с себя ягдташ и с наслаждением повалившись на разостланную около костра полсть.
— Здесь это возможно; со мной в этих же местах года три тому назад такая оказия чуть не произошла, да я был с промышленниками, так те вывели. Из ума вон предупредить тебя об этом. Как же это ты, с которого места запутался-то?
— Во-первых, есть давай что-нибудь, я голоден, как акула!
— Где же рыбак-то?
— Лодку привязывает. Дай же Христа ради чего-нибудь перекусить!
— Угощу преотменно: Алексей щуку фунтов в десять вытащил на жерлицу, да я пару окуней выудил громаднейших, что твои поросята: ушицу сварили первый сорт. Сейчас разогрею.
И Павел Дмитриевич повесил котелок с остатками ухи на колышек, по-зырянски воткнутый наискось над огнем.
Зыряне весьма опытные в приспособлениях при ночлегах под открытым небом, не делают козлов для котелка, как это водится у русских, а втыкают в землю колышек таким образом, чтоб верхний конец его приходился как раз над угольями. Повешенный на колышке котелок удобнее тогда отводить от огня в сторону, когда это бывает нужно.
Явился и проводник мой.
— Вот мой спаситель, рекомендую!
— Товарища моего от злой напасти спас!.. Спасибо, дружище! Как тебя звать-то? — обратился к нему Павел Дмитриевич.
— Назар, из Усть-Щугора. Вишь, в курьях заплутался: местов здешних не знает, а я на этот раз рыбу ботать выехал.
— Возьми, брат, вот тебе за твою услугу целковый: мало, прибавлю, — сказал я, подавая Назару рублевую бумажку.
— На что мне целковый; не надо мне твоего целкового, не стоит; по пути ехал; гривенник дай на соль да порошку малость.
Я дал ему гривенник и пороху целый фунт, чем Назар чрезвычайно остался доволен, благодарил много и искренно, подарил нам пару больших карасей и, простившись, уехал.
Удовлетворив свой голод вдосталь ухою и затем напившись чаю, я сообщил Павлу Дмитриевичу подробно о своих странствованиях.
— Чего ж ты боялся без огня остаться; огонь всегда достать можно, когда ружье да порох есть: надави пороховой пыли, обваляй в ней кудельный пыж и выстрели легоньким холостым зарядом; пыж затлеет, а ты к нему сухой травы подложи, раздуй — вот тебе и огонь…
— Знаю! Да в тот раз, когда отчаяние меня пробирать начало, всякое соображение из головы вон повыскочило. После, может быть, и обдумался бы. Но скажи пожалуйста — где же Алексей-то? Как бы и он не заблудился?
— Не заблудится: не впервые в здешних местах, да и матка[4] с ним.
— И я, в сущности, не заблудился: Печора у меня была постоянно перед глазами, в каком направлении наша стоянка — я знал, но запутался в неисчислимом множестве озер и курей и не мог найти из них выходу; то же может случиться и с Алексеем, — возразил я.
— В курьях он отыскивал тебя днем, а теперь пошел вверх по Щугору: нечего тревожиться, придет, — успокаивал меня Павел Дмитриевич, подкидывая на пажок дрова.
Глухая, тихая, звездная ночь. Впечатления ночного мрака подкрадываются в душу, словно в ней самой сгущается этот мрак. Ни малейший шелест не нарушал тишины. Закатился месяц. За кругом света от огня темнота казалась совершенно черною и непроницаемою; зато ближайшие предметы к огню освещались необыкновенно ярко, так что каждый листочек ветлы, под которою разложен был пажок, отчетливо обрисовывался в воздухе. Вдруг выстрел; эхо как-то глухо, отрывисто на него откликнулось и замерло.
— Это Алексей сигнал подает, — заметил Павел Дмитриевич, взял мое ружье и выстрелил в воздух. — Спрячься! Скажу, что ты не пришел, напугаю его: на поиски, мол, опять надо идти! То-то охать да стонать будет.
— Притомился, брат, я: не до того мне, да и около огня так развалило, что и встать не хочется; какие тут прятки!
Через четверть часа явился Алексей, увидел меня и обрадовался.
— Слава богу, отыскался. Где пропадали?
— Путался в курьях, кабы не зырянин здешний, и не вышел бы.
Рассказал я и Алексею, как было дело. Пожалел и поахал он обо мне, не менее пожалел и об утках, оставшихся зря, занапрасно на курье.
— Не благословись пошли; поглумилися над вами вэрса, а может, и куль-ва[5], подшутили, — добавил он в заключение своих соболезнований.
— Надо полагать, что они; а много их здесь живет?
— На каждом месте их тьма-тьмущая, особливо в здешних трущобах им житье привольное, церквей мало, ну и варзают.
— По этой части не знаешь ли ты чего-нибудь такого? Порассказал бы!
— Со мной не случалось, а с иными промышленниками всего бывало: блудились и пропадали, в домы свои не возвращались. Многим Морт-юр казался.
— Кто такой Морт-юр?
— А безголовый человек такой ходит по речонке, что в Ылыдзь впадает.
— Басня эта мне знакома, — заговорил Павел Дмитриевич, закуривши папироску и разлегшись рядом со мною на полсть. — Здесь Морт-юра мало знают; предание об нем всецело хранится между жителями Печорского верховья. Тебе известно, что Печора при выходе из Пермской губернии в Вологодскую, в тридцати верстах от знаменитой в том крае Якшинской пристани, называется Малою Печорою. Это название она удерживает за собою до впадения в нее реки Ылыдзи, которая течет, как и Щугор же, от Уральского хребта и, не уступая по обилию воды самой Печоре, увеличивает эту реку от слияния с нею более нежели вдвое, так что после впадения Ылыдзи Печора называется уже Большою. В Ылыдзь, верст около полутораста вверх от ее устья, вливается небольшая, извилистая и быстрая река Морт-юр.
— Постой, однако ж, как же это: то Морт-юр — безголовый человек, то река? Не понимаю.
— А вот слушай! Морт-юр в прямом переводе значит человечья голова. Давно тому назад речка эта была безымянная. На берегах ее начал появляться безголовый человек; с тех пор она и получила название Морт-юр. Почему появлялся безголовый человек на берегах этой речки, рассказывают следующее предание. Когда-то два товарища-промышленника охотились тут на птицу и разного зверя. Одному из них счастливило необыкновенно: много убил он рябчиков, куниц, белок, даже несколько штук соболей хранилось у него при ночлежном пывзане[6] в шамье[7] за своими метками. Другому вовсе несчастливило: измученный, усталый и постоянно с пустыми руками возвращался он на место ночлега и, видя необыкновенную удачу своего товарища, начал сильно завидовать ему. Кончилось тем, что неудачно охотившийся промышленник убил своего товарища в то время, когда тот наклонился к речке пить, отрубил ему голову, далеко забросил ее в чащу леса, а труп столкнул в воду. С тех пор обезглавленный человек ищет в темные осенние ночи своей головы, пугая случайно заходящих на речку Морт-юр промышленников.
По поводу Морт-юра со мною в тех местах случилось небольшое приключение, — продолжал Павел Дмитриевич. — Это было лет пять-шесть тому назад, в самый разгар лесной деятельности Латкина и компании, сгубившей множество печорских лесов, заготовляемых для заграничного отпуска, почти что несостоявшегося. В то время работал здесь уполномоченный от компании, некто Газе, господин характера твердого и воли несокрушимой, имевший железное терпение прожить лето безвыездно в лесах Припечорья. Лиственничный лес ценных сортиментов в среднем Печорском бассейне подобрался. Газе командировал меня на разведки в верховьях Печоры, поручив сколь возможно далее подняться по Ылыдзи и осмотреть речки, в нее вливающиеся, в особенности Морт-юр, где, как нам сказывали, сохранилось много хорошего лиственничного леса. В здешних широтах летние ночи почти неприметны: читать очень мелкую печать в них можно насквозь; но осенью ночи бывают до того темны, что не уступают знаменитым воробьиным ночам Малороссии. Можешь себе представить, какой мрак в такие ночи покрывает воды маленькой речки, излучисто текущей по дремучему лесу и над которой между деревьями прорезывается лишь узенькая полоса небесного свода. Небесный же свод в эту пору не теплится ни одной звездочкой, а бывает покрыт густым слоем туч, из которых сыплется не дождь, а какие-то мелкие-премелкие, частые, насквозь пронизывающие капли — жмычка, как называют промышленники.
Была уже глубокая осень, когда я с четырьмя рабочими отправился вверх по Печоре, по которой предстояло проехать до устья Ылыдзи восемь зырянских чемкосов, или пятьдесят шесть верст с небольшим хвостиком, при переложения чемкосов на версты. Из числа рабочих на моей лодке один по имени Пэдер (Федор) не был печорский уроженец, но зашел сюда из любознательности с Удоры, другой зырянской стороны, лежащей в северо-восточной части Яренского уезда по рекам Вашке, Елве и Ирве. Удорские зыряне во многом отличаются от зырян — обитателей Печоры, Вычегды, Сысолы и Лузы; даже язык их имеет много особенностей, не вполне понятных не туземцам. Пэдер отличался совершенным отсутствием суеверия, что великая редкость между зырянами; и страстной охотой к пению. Это последнее достоинство он выказал ранее, чем скрылись от нас крайние дома поселения правого берега Мылвы. Голос певца был чрезвычайно чистый и приятный тенор. Сначала я не мог разобрать длинной протяжной песни, которую пел он, хотя напев напоминал известную русскую песню «Зеленая ивушка». Когда же вслушался хорошенько в его тонкие протяжные и как бы ласкающие звуки, усвоил несколько слов из песни, то понял, что это точно была «Ивушка», буквально переведенная на зырянский язык. Замечательно, что у зырян нет родных песен. Душевные восторги, излияния горя и радости не отразились у них в песне, для которой оказался слишком бедным их язык. Вообще же зыряне петь очень любят, но поют русские песни, часто не понимая их слов.
В два дня мы проехали по Ылыдзе пятнадцать зырянских чемкосов, или сто русских верст с походцем, и достигли наконец устья таинственного Морт-юра, имеющего при впадении до пятнадцати сажен ширины. В продолжение этих двух дней ничего особенного с нами не случилось, только множились и плодились рассказы о похождениях безголового человека, по мере приближения к месту его воображаемого появления, и часто слышались в носу или корме лодки, смотря по месту, где собиралась компания, известные восклицания: «Ну вот, ладно, хорошо!» — непременно сопровождающие каждый зырянский рассказ, да скептические замечания невозмутимого Пэдера, оканчивавшего всякое мудреное повествование словом: пэръялан — надуваешь, обманываешь. Напрасно мой красноречивый лоцман — Иван Казаков приводил множество примеров и доказательств, напрасно говорил, что «ачись синтэм старик вичкодорыс адзилыс — сам слепой старик из погоста видел». Непременным следствием рассказа из уст неверующего и неумолимого Пэдера было то же: «Пэръялан, вок, пэръялан — надуваешь, брат, надуваешь». Уж как он его ни уговаривал, сколько ни называл Пэдера и «сё шайт Удоръыс — сто рублей с Удоры», и «зарни морт — золотой человек», Пэдер не поддавался, а мы все ехали, да ехали вверх по Ылыдзе.
В устье Морт-юра сделали привал, зажарили на сковороде и съели несколько шанег, лепешек из пшеничной муки на коровьем масле (любимое кушанье зырян) и, отдохнувши хорошенько, отправились по Морт-юру против извилистого довольно быстрого течения.
В конце первых суток плавания по этой речке нас застала темная, непроглядная ночь. Ни одной звездочки на облачном небе, а на воде мрак и тьма такие, что с кормы не видно было мачты, стоявшей на конце берестяной палубы. Плыли молча; рассказы прекратились, даже Пэдер перестал мурлыкать свою любимую «Ивушку», как вдруг на левом берегу посреди непроницаемого мрака сверкнул огонек. Жилья не было на сотни верст кругом, зырянам-промышленникам было еще рано заходить в глубь лесов, и у всех на языке шевелилось слово «Морт-юр», а лоцман Иван Казаков многозначительно толкнул Пэдера и благоразумно надвинул лузан (наплечник из домашнего сукна с внутренними сумами — спереди и сзади — для склада дичи) себе на голову… Весла перестали действовать, руки гребцов невольно опустились, и лодка остановилась…
«Мый оны кэрны — что теперь делать? — спрашивали шепотом друг у друга испуганные зыряне. — Омель делэ якшасьны Морт-юр код — плохо иметь дело с Морт-юром». Пэдер, схватив свою длинную винтовку-моржовку, выскочил на берег и исчез по направлению к огню. Посреди мрака и тишины не было слышно ни малейшего шелеста шагов удалого удорца; он полз, как умеют ползать только зыряне-промышленники, подбираясь к дорогой добыче. Вся компания притаила дыхание и с нетерпением ожидала, что будет. Через четверть часа самого напряженного ожидания, посреди торжественной тишины, оставшиеся на лодке услышали глухой оклик, обыкновенный между зырянами: «Код крещеный — кто крещеный?» Сперва глухо, протяжно, потом с угрожающим выражением, и на минуту все смолкло… Затем разделился огонь На две светлые точки, которые быстро стали приближаться к лодке. Лоцман Иван не вытерпел и оттолкнул лодку от берега, осенив себя крёстным знамением. Вскоре показались на берегу три темные фигуры: Две большие с головнями в руках и третья поменьше. В одной компании узнала своего Пэдера, другая принадлежала неизвестному охотнику, а третья — собаке.
«Код — кто?» — спросил дрожащим голосом наш лоцман. И на этот спрос спокойный голос Пэдера отвечал: «Нинэм, таэ Пилип Саваяг-ыс — ничего, это Филипп из савиноборской деревни».
Действительно, это был промышленник Филипп, заплутавшийся на лесовье, потерявший матку и наудачу шедший к Печоре.
— Убедились ли после этого твои спутники, что Морт-юра существует только в воображении?
— Нисколько: случай остался сам по себе, а вера в Морт-юр сама по себе, тем более что и Филипп, присоединившийся к нашему экипажу, поддержал эту басню своими убеждениями. Но подобные россказни, — продолжал Павел Дмитриевич, великолепно знавший зырянский край, — как история о Яг-морте и Морт-юре, неудивительны между жителями пустынных и обширных лесов Припечорья, где такой широкий простор для фантазии. Но вот что изумительно, что между здешним населением упорно держатся предания о разбойниках и кладах. Основательно сомневаться, что в такой стране, как Печорский край, дикой и лесистой, малонаселенной и бедной по торговым и промышленным оборотам, существовали шайки разбойников, отнимавшие плоды тяжелых и дальних странствований бедного зырянина. Однако ж, по преданиям, разбойники были, а это наводит на мысль, что здесь существовала когда-то значительная торговля: шайки разбойников не заведутся даром в отдаленной глухой трущобе, им нечего тут делать. Вероятно, в старину, во времена участия великого Новгорода в ганзейской торговле, по рекам Сухоне и Вычегде шли через переволок между Мылвами на Печору и в Сибирь европейские товары и по этому же пути вывозились произведения Зауралья. Таким же образом двигалась торговля через реки Собь, Усу — по Печоре, Ижме и Ухте через переволок на реке Вым по Вычегде и Сухоне к великому Новгороду. Есть еще старинное предание о древнем торговом пути от Каспийского моря к северному океану; он будто бы тянулся но Волге и Каме через Чердынь на реку Вычегду и оттуда к устью Двины и даже Печоры. Вероятность торговли в прежние времена в Печорском крае оправдывается еще тем, что находили здесь во многих местах болгарские серебряные монеты; иначе как бы они могли быть занесены на глубокий север.
Рассказывают, что главным притоном разбойников были реки Ылыдзь и Малая Печора, где они без боязни совершали свои кровавые дела. И до сих пор две или три крутоберегие речки, впадающие в Ылыдзь и Печору, называются разбойничьими. Зырянские сказания насчитывают довольно много разбойничьих имен; я скажу тебе только об некоторых.
Суханов грабил сначала отдаленные от Печоры страны и, говорят, доходил до Казани. Шайка его состояла из пятидесяти человек. Преследуемые правительством, они кинулись в северные леса, где и заблудились. Суханов для спасения своей шайки и себя дал обет — в первую реку, которая попадется, всыпать золото и в первую церковь сделать вклад и потом жить смирно.
После такого обещания первая попавшаяся река была Ылыдзь, в которую разбойники высыпали мешок денег и положили под сосну клад. Затем пришли они в Печорский погост, где и жили сперва несколько дней мирно; но потом двое есаулов не выдержали и нанесли какое-то оскорбление жителям. Атаман, по рассказам одних, в негодовании на дурной поступок своих подчиненных убил есаулов, а шайка, возмутившись на это, убила своего атамана. По рассказам других, один из есаулов Суханова, лично недовольный им, подговорил шайку убить своего предводителя, выбрал удобное время и напал на Суханова с возмутившимися разбойниками, которые окружили его со всех сторон, но он перескочил через всю шайку и кинулся к воде. Атамана не допустили до воды, схватив огромным багром. Его долго и варварски мучили, наконец закопали живого в землю по шею и продержали так трое суток. Выкопанный и истерзанный, он попросил, чтобы его застрелили в щеку. Убитого разбойника похоронили близ Печорского погоста, в урочище Пэ-ла-му (Дедушкино поле); ныне оно снесено водою.
Другой разбойник — Тыл-Пур-Як был крестьянин Усть-Сысольского уезда, Деревянского общества; он имел небольшую шайку и грабил суда, плававшие по Малой Печоре и по Ылыдзи. В шайке его был есаулом какой-то Антон. Рассорившись с атаманом, он отрубил ему голову и, приняв начальство над шайкою, стал грабить по Печоре. В деревне Подчерской он завел себе притон, в который по временам приходил даже один. Боясь грозного разбойника, в особенности ножа его, с которым он никогда не расставался, крестьяне не смели взять Антона. Но однажды во время сна атамана приятель его похитил из-под подушки нож и передал его крестьянам, которые утопили Антона в четырех верстах от деревни Подчерской.
Эти-то и другие, более отдаленные разбойники, некогда грабившие по Печоре, зарывали в землю свои сокровища с разными заклинаниями, и потому преданий о кладах здесь очень много. Особенно много говорят даже в настоящее время о кладе на горе Лаз-чук, близ Троицкого погоста, под тремя березами, посаженными на кургане. На речке Дац, впадающей в Ылыдзь, говорят, есть клад, который будто бы стережет медведь, беспощадно растерзывающий всякого посягающего овладеть скрытым сокровищем. На речке Юк-со, впадающей тоже в Ылыдзь, под старым кедром зарыт целый сундук с золотом. На кедре сделаны зарубины: сверху одна большая, продольная, означающая атамана, с обоих боков, внизу две параллельные — его есаулов и потом еще сорок продольных, в два ряда, — это число разбойников, составляющих шайку. Об этом кладе ходит в народе особенная запись.
Под рассказы Павла Дмитриевича Алексей давным-давно уже всхрапывал, да и меня начала клонить дрема. Подложив дров на пажок, мы звернулись в дорожные драповые плащи и спокойно улеглись на сон грядущий.
Когда проснулись, солнце стояло уже высоко; подувал довольно крепкий северо-западный ветерок, Алексей кипятил воду в котелке на кашицу, для которой на доске, принесенной из лодки, лежал совсем распластанный и вычищенный глухарь. Чайник, висевший над огнем на другом колышке, пофыркивал кипяточком из рыльца. Сейчас же заварили чай и, достав из погребца склянку сливок от бешеной коровы (коньяку), усидели с ними всласть стаканчика по три. Затем приготовили кашицу, вроде супа, с овсяной крупою и с подправкою соленым свиным салом, — очень вкусное, никогда не приедающееся и скороспелое горячее в пути, изжарили подаренных Назаром карасей и, плотно всем этим насытившись, уложились в лодку и двинулись вверх по Щугору. Так как ветер стоял попутный, то мы распустили парусок. Небольшая, но все-таки помощь для гребли.
Версты три или четыре мы бежали Щугором между низменными берегами, состоящими из наносной равнины, покрытой то группами берез, то кустами ракитника. Далее берега стали возвышаться, растительность перешла в хвойную, в береговых отсыпях и по заплеску реки часто начали встречаться камни и темно-серый кристаллический известняк. Течение воды пока держалось еще весьма тихое. Скоро мы приплыли к рыболовной сеже, или запруде, устроенной поперек реки, вплоть от берега до берега. Мы нашли здесь двух рыбаков-зырян из Усть-Щугора, постоянно живущих на сеже в своем промышленничьем пывзане. Встреча нам была самая дружеская, искренняя, приветливая. Мы не могли отделаться от ухи из свежей лоховины. Зыряне в промышленничьем отшельничестве всегда от души рады сторонним людям, вносящим своим нечаянным появлением какую-нибудь живую струйку в их одинокую однообразную жизнь. Разговорам и расспросам при этом нет конца.
— Как в нынешнем году удачен ваш лов? — спросил одного из рыбаков на сеже.
— Не кончен еще: артели вверху, не знаем, что бог даст; а в морды ничего себе идет, изрядно, лучше лонишнего.
— Прибылен ли был весною семожный промысел? Много ли добыли?
— Да пудов полтораста на две артели добыли. Продажи по четыре рубля за пуд. Цена бы ничего, но рыбы куда меньше стало против прежних годов, и сравнить нельзя, и рыба мельче: ныне пудовая-то семга на редкость, а прежде зачастую попадались.
— Четыре рубля за пуд семги — это дешево. Печорскую семгу продают в Вологде от 12–16 рублей.
— Да это не вешнюю; это осеннюю продают по такой-то цене. За вешнюю дорого взять нельзя: засол не тот.
— Долго ли сидите на затоне, или снимаете его, как кончат неводить?
— До заморозков сидим, пока не покажется шуга (лед). Рыба все идет понемногу.
По мере того, как мы поднимались от затона выше по Щугору, течение становилось все быстрее и берега реки отвеснее, принимая все более скалистую форму. Кристаллический известняк в них являлся в значительном содержании и притом такой твердости, что при ударе давал искру. Выходя часто на берег для исследования наслоений, я находил здесь чрезвычайно много различных окаменелостей. Обрывистые, очень высокие каменные скалы, посреди плоских окрестностей, представляют из себя вид расселины, сквозь которую напором горных вод прорвалась река. Таковы почти все притоки Печоры, берущие начало с Уральского кряжа. Нередко возвышенные каменистые берега Щугора переходят в плоские наносы песка и валунов известняка, кварцита и метаморфических сланцев. Вероятно, в таких местах в древние, доисторические времена бушевали здесь громадной величины и неизмеримой глубины озера, обставленные, как фортами, каменистыми утесами.
Все труднее делалась гребля. Лодка подвигалась медленно вперед. Где было возможно — шли бечевой. Часу в пятом пополудни мы достигли устья небольшой речки, впадающей в Щугор с левой стороны. Здесь мы решили переночевать, благо место удобное и уютное. Правый берег речки изображал довольно высокую скалу, с глубокой впадиной, полого склоняющейся к воде. В этой впадине, под защитою скалы, мы и основали свою стоянку.
Приготовив все для ночлега, закусив и напившись чаю, мы с Алексеем возымели намерение сходить хоть недалеко вверх по речке. По правому ее берегу тянулась тропа, проложенная, несомненно, промышленниками к своим охотничьим путикам. Мы отправились по этой тропе. Чем далее мы поднимались вверх, тем глуше и угрюмее становился лес. Наконец, мы зашли в совершенно глухой бор, раскинувшийся по равнине. Громадные сосны, ели, лиственницы высоко поднимали свои вершины, сплетаясь ими в едва проницаемый для света зеленый свод. Этот исполинский лес поразил нас своею величавою растительностью, воистину достигшею своего апогея на дальнем севере. Тихо в нем, мертво, беззвучно, но несмотря на это он как-то давил массой жизни, неслышно, незаметно обступающей со всех сторон… Тропа уклонилась от речки влево. Пройдя версты две бором, мы натолкнулись на подошву горной возвышенности. Лес поредел и понизился. Встречались кедры со множеством шишек. Орехи их еще не вполне налились ядром. Собирание кедровых орехов (меледы) доставляет здешнему населению немаловажный доход; лет тридцать тому назад, когда кедровых лесов было больше, промысел кедровыми орехами был едва ли не выгоднее всех других промыслов Припечорья. Теперь он уменьшился более чем наполовину, чему виною сами зыряне, весьма неэкономично обращающиеся с плодоносными кедровыми деревьями. Отыскав кедр с орехами, они, вместо того чтобы взлезть на него и осторожно оборвать шишки, срубают дерево, обламывают те ветви, на которых больше шишек, и складывают их в большую кучу, которую старательно прикрывают хвоей — от кедровки, великой любительницы и похитительницы кедровых орехов. Стоит только кедровке отыскать такой склад, она непременно перетаскает все шишки в свою кладовую про запас на зимнее продовольствие. Белки тоже любят кедровые орехи и также заготовляют их для себя в дуплах деревьев и гойнах. Замечательно, что как кедровка, так и белка запасают орехи самые лучшие, крупные и непременно с полным ядром. Зыряне старательно отыскивают такие запасы и обращают их в свою собственность, нередко вынимая из дупла по четверику и более превосходнейших орехов. Обломав срубленный кедр, промышленники отыскивают следующий кедр, с которым поступают таким же образом. Потом на возвратном пути сгруживают все шишки в общую массу и переправляют к домам, где и выщелучивают из шишек орехи. Ежегодно срубая в громадном количестве кедры, крестьяне уничтожили их в настоящее время почти вконец, так что теперь хорошее кедровое дерево встречается весьма редко. Попавшиеся нам кедры были невелики — молодняк с мелкой шишкой.
Поднявшись футов на триста на гору, мы добрались до такой высоты, которая господствовала над окрестностями. Вид открылся прелестный: темным морем расстилался перед ногами лес; на востоке в отдалении вырезывался Урал — дикая каменная гряда, состоящая из беспорядочно перемешанных между собою пиков, протянутых длинными зубчатыми рядами, и из шапок с растрескавшимися вершинами. Зарево заката горело на верхушках леса. Золотистые переливы солнечных лучей причудливо играли на горных вершинах. Где-то шумел водопад. Дерево треснуло: так, само по себе, или сломался сук под ногами тяжелого зверя. Резко, необычно раздался этот треск, и снова глухая тишина, лишь нарушаемая издали доносившимся звуком журчащей воды…
На возвратном пути мы вышли на новую тропу. Она шла влево по направлению к ручью. Мы пошли по ней и скоро попали в гряду того же дремучего бора. С высокой ели слетело большое стадо красных птиц.
— Что это за птаха? — спросил я Алексея.
— А клесты. Здесь их много. Дичина тоже: печорцы их промышляют и доставляют в Чердынь, Вятку и Усть-Сысольск. В пирогах куда хороши.
— На такую маленькую и выстрела-то жаль. Стоит ли их промышлять?
— Где же стрелять! Не стреляют; сильями их ловят. Тьму налавливают.
— Как же это: на деревьях расставляют?
— Нет, не на деревьях; иначе ловят: зимой, как поуглубится снег, клест сдается к жилью, по опушке еловых лесов держится, по тем деревьям, на которых больше еловых шишек. Для ловли выбирают редколесье и нагребают на нем из снегу небольшие холманчики. Потом холманчики эти обливают красным квасом. На вершину крест-накрест вдавливают бруски с сильями из волоса. Клесты, как увидят красное, так целым стадом и спустятся на холманчик, начинают на нем бегать, рыться и попадают в силья. Большие за этой птицей не ходят; ребятишки балуются — это ихнее рукоделье. Дело-то не больно мудреное, а приучаются через него к лесу, к промыслу приохачиваются.
Вышли на берег ручья. Сдавленный песчаными крутыми берегами, он бойко летел по переборам. Местами появлялись омутки, в которых вода завитком вертелась на одном месте. В одном омуте сильно взметнулась какая-то большая рыба.
— Щука, должно быть, — заметил я, обратив внимание Алексея на всплеск рыбы.
— Кто ее знает: может быть, щука, а не то и лох.
— Ну какой там лох: зачем ему забираться так высоко в мелкую речонку?
— Что вы, помилуйте, да вы не знаете, что это за рыба: в такие ли места она забирается — поверить трудно; чуть проток маленький, только бы вода сочилась, да изредка котловинки были, — скачком, вприпрыжку, а уж заберется в самый верх и лежит себе, как боров.
— И большие?
— Большущие, фунтов по пятнадцати, по двадцати. Рыбаки по маленьким потокам забивают заязки и ставят верши. Когда начнутся осенью паводки, лох двинется вниз и попадает. А то по котловинкам и острогою бьют: вода в речонках чистая, видно до последнего камушка, большую рыбу осмотреть легко, сейчас ее и на острогу… Много лоховины так налавливают — и самой лучшей, жировой. На вольных водах она выгуливается, а в тесноте-то до того тучнеет, что как облитая салом. Из кишок жиру много натапливают.
Совсем стемнело, когда мы пришли к пажку. Павел Дмит риевич возился с ухою. Выглядев в речке на переборе много харьюзов, он ухитрился учинить великолепное уженье их на сваренный яичный белок, насаживая его маленькими кусочками на крючок.
— И хорошо брались? — полюбопытствовал я.
— Удивительно! Только успевай закидывать. Одно беда: худо держится на крючке белок, часто насадку срывали.
— Сколько же выудил?
— Да штук около тридцати накидал. Кроме ухи будет еще на жаркое.
На другой день, часов в семь утра, достигли мы чрезвычайно живописного места на Щугоре, известного под именем Ульдор-Кырта (железные ворота). Довольно широкая река вдруг сжимается с обеих сторон каменными стенами, представляющими вид настоящих ворот. Стены эти тянутся сажен на пятьдесят, поднимаясь от 100 до 150 футов. Они состоят из белого, превосходно выветрившегося известняка. Течение в проходе ворот необыкновенно быстрое: громко ревела здесь река, наполняя окрестность глухим однообразным шумом. По обеим сторонам лодки вода стремилась неудержимо, неся мимо нас клочья пены. Мы гребли с Алексеем изо всех сил. Лодка подавалась медленно, по куриному шагу. В самых узких местах вода яро кружилась и, разбиваясь и пенясь, массой кидалась по течению и, злобно шипя, клокотала в подмоинах отвесных стен. Когда мы, наконец, выбились из ворот и, выехав на более покойное место, взглянули на Ульдор-Кырта, то поражены были следующею картиною: начиная с самого узкого места каждый пласт известняка в воротах отходил в сторону далее предшествующего ему, отчего ворота кажутся устроенными как бы из натуральных кулис. Самые пласты обнажены, гладки И ослепительно белы, но в тех местах, где они прилегают один к другому, в узких промежутках между ними по расселинам и трещинам, сбегают в них зеленые полоски дерна и кудреватого кустарника, украшая белые стены натуральными гирляндами. Через узкий просвет ворот, как сквозь каменные рамы, видна по ту сторону широкая гладкая равнина реки; по ней, как белые лебеди, плыли в разных местах комья вздувшейся пены. В отдалении темный лес замыкал ландшафт. В плесе перед воротами, где мы находились теперь, река раскинулась в великолепнейший, широкий, гладкий, как зеркало, бассейн, обрамленный громадным хвойным лесом.
Целый день мы плыли между берегов, состоящих то из отвесных каменных стен, то из плоской лесистой равнины. Изредка попадались нам небольшие стада нырков, подпускали близко, но мы не стреляли их: и без того был велик запас дичи. За кормою лодки пускали местами блесну: раза два садилась на нее щука, да как-то срывалась: плохо закрючивало. Раз над головою перелетел громадной величины глухарь и скрылся в зубчатых вершинах леса.
— Вот глушь-то, Павел Дмитриевич, живой души нет, а какие места: не налюбуешься; с каждым поворотом реки все новые виды — один другого лучше.
— И ни одного жилья: вот это грустно. Не люблю я безлюдных местностей, — с признаком досады и скуки отвечал Мне мой спутник.
— Зато, по словам Алексея, других жителей здесь пропасть; духов разных — злых и добрых, в водах и лесах и в расселинах скал. Много, чай, рассказов об них ведется между местными жителями.
— Небогата этим фантазия здешних зырян, хоть поле, Казалось бы, для всякой чертовщины тут и широкое. Прожил я несколько времени в Олонецкой губернии, тоже в лесной стороне, между промышленниками: там куда больше басен про разные чудесные приключения; и из них есть весьма интересные легенды, хоть баллады пиши.
— Не припомнишь ли?
— Как не припомнить; вот, например, следующая. Пошёл один охотник осенью в лес за белками. Долго он ходил по лесным трущобам и уремам, но не только ничего не убил, но даже никакого зверя, ни дичи не видал. День выдался дождливый, охотника промочило насквозь. Задумал он вернуться домой и идет мимо небольшой полянки в самом глухом лесу. Смотрит, а на самой середине полянки стоит лисица, хорошая-расхорошая, и что-то роет лапой. Остановился мужик, осторожно приловчился винтовкой к деревцу и выстрелил: лисица перекувыркнулась — и дух вон. Подбежал охотник к зверю, взял его, притащил под ель, разложил пажок и начал сдирать шкуру. Выстрел был чудесный: пуля пробила грудь и в крестце вышла вон. «Славно угодил!» — подумал мужик и повесил шкуру на сучок над огнем, чтобы попровяла, и сам после этого начал закусывать. Поднялся ветер, сперва легонький, а потом скоро перешел в такую бурю, что сосны заскрипели. Шкура так и раскачивается, так и рвется с сучка; рвалась, рвалась, соскочила и упала на лисье тельце. Вдруг тельце ожило, шкура вмиг очутилась на нем, и лисица цела и невредима потихохоньку через полянку ушла в лес. Сделалось это так скоро, что охотник только успел ахнуть от страха и дива. Лисица ушла, а мужик стоит и дивится да хлопает о полы зипуна. «Не дивись! — слышит он из лесу голос. — То ли еще бывает? Спроси-ка, что было с Иваном Голым в деревне Зубарихе, на Шоле реке». Голос замолк; мелкий осенний дождь усилился, и охотник возвратился домой без всякой добычи.
Наступила весна. Мужик этот отправился в отхожий промысел — строить суда на реку Шолу, по найму от хозяина. Живет он целую весну. Раз и вспомнил он про ту деревню, о которой ему сказано было в лесу. Стал спрашивать — не знает ли кто и не слыхал ли о деревне Зубарихе. Рабочие, его товарищи из тех мест, и говорят, что есть такая деревня, в глухих лесах стоит, и дорогу к ней рассказали. Подошло два сряду праздничных дня, мужик пошел в Зубариху. Деревня эта стояла в самом заглушье, среди темного леса и была только из нескольких дворов. Нашел он в Зубарихе Ивана Голого: это был уже пожилой мужик, живший с сыном и невесткою. Разговорились. Охотник наш и спросил, какое на веку, с ним диво в лесу случилось, и рассказал ему, в чем дело.
«Да, было, — отвечал Голой, — доподлинно диво, только не со мной, а с покойным моим отцом. Назад тому лет тридцать, — говорит, — пошел отец осенью на охоту за белками. Я остался дома — недосужно было. Ходил он по лесу день, и счастья такого никогда ему не выдавалось: убил до пяти десятков белок, да пар семь рябков, да еще сколько, не знаю, тетерь, так что целая ноша к вечеру накопилась, едва вмочь носить; к тому же еще за плечами был с харчами кошель. Дошел он к вечеру до лесной избушки и расположился в ней переночевать. Освежевал, развесил шкурки, потом сварил ужин и начал закусывать.
А на улице такая темь сделалась той порой, что хоть глаз выколи. Поднялся ветер, пошел дождь, лес зашумел, затрещал… ну, страсть, одним словом. „Эка погода! — думает отец. — Может, иной крещеный в лесу плутает в это время?“ Только подумал он это, слышит — к избушке кто-то бежит и охает. Дверь отворилась, и в нее, смотрит, лезет высокий рыжий мужик в армяке и острой меховой шапке. „Хлеб да соль“, — сказал пришелец. „Хлеба кушать“, — ответил отец. „Это хорошо, — говорит, — есть-то я давно хочу“. Он сел на обрубок перед столом и начал убирать варево за обе щеки. Скоро он съел все, что было приготовлено отцом, но не насытился. „Ну, потчуй же, — говорит, — коли пригласил“. Отец вытащил из кошеля каравай и положил на стол. Коврига в минуту исчезла, и тут отец заметил, что у мужика был такой большой рот, что целые ломти уходили в него, не задевая за губы. „Ну, давай, что еще у тебя там есть!“ — говорит мужик. Отец вытащил все, что было с собою запасу; тот и это все съел. „Ну, давай, — говорит, — еще!“ — „Да больше нет ничего, — сказал отец. — Вот буде хочешь — ешь белок!“ Он и белок съел. „Ну давай еще!“ — „Да вот, — говорит отец, — если душа вынесет, так собаку ешь“. Мужик схватил собаку и легонько проглотил и ее. Отец стоит ни жив ни мертв. „Ну, — думает, — съест теперь и меня“. Начал про себя читать отходную. „Давай, — говорит, — что у тебя есть еще?“ — „Больше, — говорит, — ничего нет“. — „Ну, коли ничего нет, так я тебя самого съем, только вот схожу недалеко“.
Ушел и унес порох и ружье. Остался отец безо всего. „Бежать, — думает, — догонит…“ Осовел, одно слово. Вдруг слышит, просунул кто-то голову в окно и говорит: „Беги, добрый человек, как можно скорее; в правой руке, недалеко, есть дорога, по этой дороге сейчас проедет тройка лошадей, ты и скочи на телегу да крепче держись смотри — подъедешь ты к трем соснам; у одной сосны сук самый толстый будет тянуться над дорогой, так ты обеими руками захватись за него и повисни, а остальное тебе уж самому видно будет“. Отец бросился из избушки и побежал в правую руку. Начал выходить месяц, вызвездило и видно стало все. Не успел отец отойти и полсотни шагов, смотрит — лежит прямая-препрямая дорога, а по дороге во всю мочь скачет тройка. Попропустив ее немного, отец приловчился, схватил за задок телеги и вскочил в кузов. Лошади пуще прежнего понеслись — летели что ветер, а около дороги все лесок тянется небольшой. Сидит отец, крепко держится в телеге. Видит — сосна, там другая, вот и третья, и от нее висит над дорогой толстый-претолстый сук. Поднялся отец, подскочил на телеге и повис на суку. Сотворил молитву — смотрит: он в своей избе висит, обнявши руками воронец. Мать еще не спала — пряла лен, ужас ее взял, как увидела, что отец будто с крыши в избу ввалился. Едва розняли мы ему руки, ровно примерзли к брусу-то. Ну, не долго же он и жил после того. А ружье, собака, белки и птицы очутились на сарае.
Вот, — говорит, — какое дело было с моим отцом. А спросись он у лесового ночевать, тот и не чудил бы: изба-то эта, надо полагать, была его».
Прибыли мы к устью реки Большой Паток. Широким руслом, разливающимся по плоской равнине, соединяется он с Щугором с правой стороны. К северо-востоку, над лесистыми окрестностями Патока, возвышается гряда гор, которая по своему голому, с отсутствием всякой растительности хребту названа Мертвою пармою. Из нее вытекает необыкновенно быстрый, шумливый ручей — Мертвый Ель, тоже впадающий в Щугор. По берегам этого ручья встречаются большие валуны зеленого сланца и появляются диориты и диоритовый порфир. Вот и другие каменные ворота — Шер-Кырта (средняя скала); они состоят тоже из белых отвесных известковых скал, стесняющих с обеих сторон реку в узкое русло, с тою только разницею, что по чрезмерной глубине Щугора течение воды в них едва заметно. Скалы не ниже, как и в Ульдор-Кырте, но как вверху, так и внизу они состоят из песчаных отсыпей, то и не имеют той красоты. Третьи каменные ворота Щугора — Вельдор-Кырта (верхняя скала). Мы прибыли к ним около полудня, на третий день нашего плавания по Щугору. Погода по-прежнему стояла ведреная, солнце не заслонялось ни одним облачком; тихо, ясно, тепло, будто и не на севере. Щугор пробил эти ворота крутым изгибом. Веледствие такого положения расселины или по другим акустическим причинам, но здесь поразило нас необыкновенное эхо, повторяющее не только крик, но и слова в разговоре с удивительною ясностью раза по три и притом с значительными промежутками.
В известковой стене правой стороны ворот открывается в Щугопе трещина; из нее вырывается пенистый ручей Вельдор-Кырта-Ель, текущий по каменистым мелким переборам. При устье ручья в береговых его наслоениях господствует доломит. Мы остановились здесь. Нам хотелось осмотреть на Кырте-Ель водопад, посещенный в 1847 году профессором Гофманом, начальником Уральской экспедиции, которая снаряжена была нашим географическим обществом. Добраться до водопада берегом не представлялось возможности: стены расселины, между которой бежал ручей, поднимались так высоко и такими обрывами, что около воды не оставалось места для прохода, наверху же, по береговому обрезу, не было тропинки. Мы пошли ручьем, вброд, что было весьма удобно, так как глубина воды не превышала пяти вершков и дно оказалось твердое. За устьем, не в дальнем расстоянии, начал попадать в берегах зернистый кварцит, с примесью листочков талька и хлорита, которые все более и более преобладают, так что наконец кварцит переходит в тальковый и хлоритовый сланец. Затем начали попадаться гнейс, диорит и порфир. Это замечательно в том отношении, что присутствие упомянутых горных пород служит признаком золотоносных россыпей.
Пройдя около трех верст ручьем, мы заслышали гул водопада. С какой стороны доносился этот гул — решить было нельзя: не то он стоял в воздухе, не то вырывался из-под земли; то слышался сзади, то далеко-далеко впереди, то справа, то слева. Я приписал это необыкновенной отзывчивости эхо, играющего здесь звуками с волшебною причудливостью. Еще прошли несколько извилин, выбрались на песчаный заплеск, круто повернули около скалы, выдавшейся острым углом в ручей, и очутились перед круглым, как чаша, котлом, шагов 30 в длину и ширину, заключенным в каменные стены, достигающие футов до ста высоты. В этот Котел, с высоты по крайней мере пяти сажен, с ревом низвергался прекраснейший водопад. Мы стояли как раз перед ним. Вода разбивалась о лежащие внизу два громадной величины камня; брызги летели в воздух и стояли в нем мелкой пылью. Выглянуло солнце из-за облачка и осветило своими лучами массу движущегося водного хрусталя, загорелась в нем разноцветная радуга, а водяная пыль окрасилась ярко-лиловым цветом. Ничего подобного в природе я не видал во всю мою жизнь.
Долго мы стояли перед водопадом, долго не могли отвести глаз, очарованные его красотою. Вода крутилась в котле, как в мельничной заборове; особенно силен напор ее был на левую стену, вследствие чего образовалась в ней глубокая выбоина. Какая-то рыба беспрестанно всплескивалась около этой темной пазухи. Стада мелкой, пестренькой рыбешки, известной под именем моля, теснились по заплеску, у самых наших ног. Вдруг Алексей толкнул меня легонько локтем.
— Смотрите! Видите под берегом-то на той стороне?
— Что там такое? Не вижу.
— Выдра пробирается; видите, около камня плывет! Вот под берег направилась, в подмоину.
По указанию Алексея я оглядел зверя: темной полосой, вся вытянувшись по воде, бойко плыла выдра, то скрываясь за клубами пены, то изредка из-за них вывертываясь. Скоро она скрылась в береговую пазуху.
— Эх, ружья не взяли: убили бы! Больше десяти сажен не было, — пожалел Павел Дмитриевич.
— Может, и убили бы, да зверь-то теперь плох, еще не выкунел: проку в нем мало, — заметил Алексей.
* * *
На другой день мы достигнули устья реки Ичет (малый) Паток. Этот приток Щугора особенно славится изобилием лоха и харьюза. Рыболовные артели забираются в его верховья за этою рыбою так далеко, как только может пройти лодка. Выше Ичет Патока Щугор значительно суживается, извиваясь крутыми изгибами между каменистыми берегами, местами торчащими в реку острыми выступами. Течение здесь необыкновенно быстро: только благодаря заводям, образующимся под острыми кремнистыми косами, возможно подниматься вверх; выезжая из заводи на струю, мы едва справлялись с быстриною. Часто лодку нашу бросало с такою силою на берега, что, казалось, разобьет ее в щепы; но ловкость Алексея и его сметливость избавляли нас от опасности.
— Что это за крест на берегу, Павел Дмитриевич, в знамение какого события он тут воздвигнут? Может быть, промышленник похоронен? — спросил я Волкова, увидев на площадке одной косы старый, покривившийся крест, сделанный из чрезвычайно толстого дерева.
— А это место названо «Молебной Костью», в память одного происшествия, по случаю которого и крест поставлен. Дело заключалось в следующем: ты видишь, до какой степени в этих плесах быстр Щугор, даже в обыкновенное меженное время, как теперь. В паводки же на Урале Щугор почти мгновенно вздувается на несколько сажен выше меженного уровня и превращается в узких теснинах в страшный порог, в котором вода с бешеною силою громадным валом мчится вниз по крутому падению. Когда-то, в очень давнее время, чердынские рыбаки, промышлявшие в верховьях Щугора харьюзов и возвращавшиеся назад, были застигнуты врасплох около этих мест, подобным валом. С белою пенящейся гривою подхватил он маленькую лодочку на свои плечи и понесся с нею вниз. Челнок бросало из стороны в сторону, как легкую чурку, ежеминутно угрожая вдребезги разбить о каменистые берега. Рыбаки ожидали верной гибели. Надеяться на помощь неоткуда. Наконец, удачным поворотом волны около мыса лодчонку выбросило вот на тот пологий откос, не причинив ни малейшего вреда чердынцам. Они, в знамение счастливого избавления от смерти, отслужили здесь сами-как сумели — молебен, назвав место «Молебной Костью», и водрузили на нем этот самый крест.
— Я и в других местах зырянского края видал кресты на пустоплесье: видно, зыряне любят их ставить, — заметил я.
— То больше над покойниками. Мало ли умирает народу во время лесовья: над каждым умершим врыть крест зыряне считают за святое дело. Ставят также кресты и на перекрестных дорогах.
За «Молебной Костью» Щугор вновь расширяется. Берега значительно понижаются, переходя из скалистых отсыпей в ровную плоскость, поросшую до самой воды густым хвойным лесом. К вечеру мы доехали до красивого острова, известного под именем Лиственничного Дискоса. Название это произошло от четырех громадных лиственниц, растущих на острове. Под одной из них мы основали нашу ночевку.
Развели огонь и в ожидании чая и ужина улеглись на полсть. Чудный вечер. Тишина невозмутимая. Запад бледнеет; блекнут яркие отблески вечерней зари. Тускнут золотые и багровые глади щугорских вод. Серый цвет ночи, мало-помалу все расширяясь, надвигался с востока, закрывая на нем темным мраком волнистые гряды уральских предгорий.
— Видишь гору впереди, — заговорил Павел Дмитриевич, когда мы на другой день, после нашей ночевки на Лиственничном Дискосе, снова въехали в область скалистых берегов Щугора. — Это Толпас-Из — ветряное гнездо.
Высокая гора довольно длинным хребтом тянулась от Урала и обрывом упиралась в Щугор. Она увенчивалась зубчатым гребнем и двумя пиками, торчащими выше прочих, обнаженными и покрытыми каменными обломками.
— Почему так называется гора? — спросил я Волкова.
— А существует между здешними жителями такое поверье, что живет на этой горе ветер, что здесь его коренное, постоянное обитание, его дом, потому-то, рассказывают зыряне, самый слабый звук человеческого голоса, даже малейший стук вызывает будто бы около этих мест страшную бурю. Промышленники, проезжая мимо Толпас-Из, сохраняют глубокое молчание и даже обертывают тряпками уключины весел, чтобы они не скрипели. Я много раз подымался на эту гору, и странное дело: как бы тихо ни было, ни малейшего хилка, листочек не пошевелится на осине, на Толпас-Из все что-то гудит и завывает; раковины такие большие бывают, видал, я думаю, приложишь ее к уху и при полной тишине и безмолвии около тебя слышишь в раковине резкие звуки, как будто поет в ней кто; так и на Толпас-Из.
— Странно это; чем-нибудь можно же объяснить такое явление?
— Ничем другим, как особенным расположением скал и пиков, с особенною чувствительностью отражающих звуки. На этой горе есть озеро, из него текут в Щугор два истока Пилип-Ель и Дур-Ель. Это чисто горные ручьи, низвергающиеся с чрезвычайным шумом с крутизны. Может быть, этот шум чрез многочисленные отражения в скалах и дает звуки, похожие на завывание бури.
Мы подъехали к южному обрыву Толпас-Из весьма близко. Гора показалась нам настолько крутою, что взобраться на нее с этой стороны мы не решались. Далее Щугор поворачивает на восток, лукой огибая Толпас-Из. Мы проехали версты три и привалили к берегу, чтобы взойти на гору с восточного склона, более пологого и потому удобного для восхождения. Мне хотелось посмотреть горное озеро, по словам Волкова, чрезвычайно характерное.
Отсюда до подошвы Толпаз-Из версты полторы. Все это пространство и самый склон горы покрыты сплошным лесом. Мы взяли с собою ружья, захватили, по настоянию Павла Дмитриевича, ботальную сеть с бечевкою, кое-что из съестного и пустились в путь.
Шли мы сначала все ельником. Черника и брусника густо заволокли лесную почву. Спелые, крупные ягоды черники весьма привлекали к себе внимание Павла Дмитриевича, и он воздавал им должную честь. Часто попадались грузди, и какие грузди — ума помрачение: белые как снег, с толстым слоем прозрачного желе на шляпках гриба. Начались чащи. Держась по компасу принятого направления, мы с трудом сквозь них пробирались. Поднялся глухарь, шумно захлопав крыльями; фыркнул выводок рябчиков; молоденькие тут же, перед нами, расселись в полдерева. Я убил пару, Волков одного. Вот и подошва горы. Издали она казалась пологой, а пришлось лезть чуть не на стену. Ель сменялась соснами. Чем выше — тем реже лес. Сосняк стоит уже вразброде, небольшими группами и в одиночку. Некоторые из сосен, подмытые в корнях весенними потоками, накренились книзу, пошатнулись, красиво разметав свои кривые, засохшие ветви. Все лезем кверху, все выше, и, сквозь краснеющие стволы сосен, начали провертываться березы; местами попадается и ель, но корявая, обтянутая мохом, который густою бородою свешивается с ветвей. Наконец, мы достигли плоской равнины. Взвизгивание гагар и пронзительные крики чаек неслись к нам навстречу. Еще несколько сажен — и мы на берегу небольшого круглого озера. Оно улеглось в седле между двумя горными пиками. Берега пустынны: кое-где, как сторожевые маяки, стоят на них громадные сосны. Вода чиста как хрусталь, но от чрезмерной глубины этого горного водоема кажется черною. Множество гагар разных пород плавали по озеру. Они не пугались нас. Видно было, что здесь не часто их тревожат.
— Что же мы будем делать с сетью, какая здесь рыба, как она на эту высь заберется? — обратился я к Волкову.
— Рыба есть; а как она сюда попала, уж этого я тебе объяснить не берусь! Пойдем к истоку Дур-Ель.
Идти было недалеко, не более ста сажен, по сухому, песчано-илистому берегу. Из озера выдвигался узенький заливчик, в остром конце которого образовался прорыв, сажен в пять шириною, служивший истоком Дур-Ель.
Тихо подойдя к заливчику, мы заметили в нем всплески рыбы. Алексей перешел речку несколько ниже истока по перебору. Мы перебросили ему бечевку и посредством ее, перетянув ботальную мережу в узком месте заливчика, заперли рыбу. Затем, вырубив шестики, начали ими ботать. С первых же ударов по воде поплавки сети порывисто заиграли, беспрестанно окунываясь. Мы вытянули мережу, битком набитую карасями. Некоторые из них были более фунта.
Поздно возвратились мы к лодке; если б не компас, верный проводник зырян в их лесных странствиях, то, может быть, привелось бы ночевать на озере. Погода изменилась: в воздухе потянуло холодом и сыростью. На другой день свинцовые облака обложили все небо, и зачастил дождь, мелкий, пронизывающий, обещая затяжное ненастье. При таком состоянии погоды мы не рискнули ехать далее в верховья Щугора и вернулись назад. Обратное плавание вниз по течению быстрого Щугора совершилось вдвое скорее. Выехав на Печору, мы встретили посыльных к себе с провизией и распоряжением отправиться вниз по Печоре вплоть до Гуляевских Кошек.
Примечания
1
Сетки, надеваемые на голову и лицо вроде пчелиных, употребляемых при вынимании меда из ульев.
(обратно)2
Горный кряж Урала.
(обратно)3
Находя не совсем, удобным для чтения привадить в разговоре зырянские фразы, я буду передавать их на одном русском языке, чего намерен держаться и далее при моих последующих встречах с зырянами в этой поездке. (Примеч. автора).
(обратно)4
Зырянский карманный компас.
(обратно)5
Вэрса — леший.
Куль-ва — водяной.
(обратно)6
Пывзан — ночлежная избушка.
(обратно)7
Шамья — амбарчик на столбе для склада дичи и провизии.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
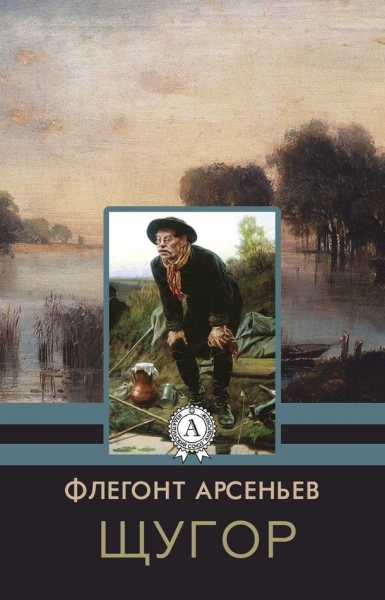

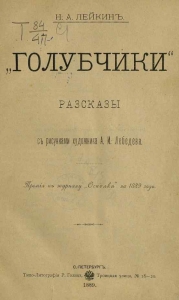
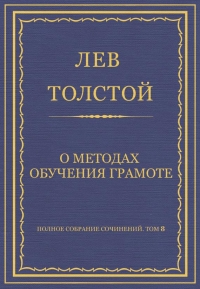
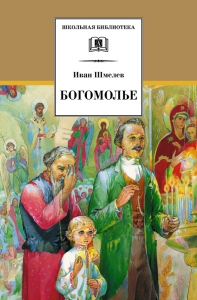
Комментарии к книге «Щугор», Флегонт Арсеньевич Арсеньев
Всего 0 комментариев