Николай Эдуардович Гейнце Рассказы
Н. Э. Гейнце.
Рассказы.
Гейнце Н. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7: В тине адвокатуры: Роман. Повести. Рассказы.
© M.: TEPPA, 1994.
УМИРАЮЩИЙ ВАРНАК Психологический этюд
Он лежал навзничь, недвижимо. Казалось, это был труп. Его фигура выделялась на белой пелене снега какою-то темною, бесформенною массой.
Только судорожные движения правильного, выразительного, бледного, измученного лица, сменяющиеся вдруг странным, поражающим контрастом — счастливой, почти блаженной улыбкой, доказывали, что искра жизни еще теплилась в нем, вспыхивая по временам довольно ярко, подобно перебегающей искре потухающего костра, разведенного неподалеку от него.
Он умирал, умирал один, вдали от людей, среди суровой, неприютной природы — в сибирской тайге.
Бесформенный вид придавала ему его одежда: она состояла из рваной собачьей дохи, шапки из такого же меха и кожаных бродень на ногах. Тощая котомка из грубого холста и длинная сучковатая палка лежали около него.
Нетрудно было с первого взгляда признать в нем варнака, то есть беглого каторжника. Он и был им. Но нетрудно было также угадать под этим безобразным костюмом человека, испытавшего когда-то иную, лучшую и далеко не суровую долю.
С правой руки его спала меховая рукавица, и тонкие, изящные пальцы, хотя и покрытые слоем грязи, красноречиво говорили о его происхождении. Из-под уродливой меховой шапки, носящей местное название треуха, выбивались шелковистые черные кудри; такие же всклокоченные усы и борода обрамляли интеллигентное, умное, энергичное лицо с нежными, аристократическими чертами. Глаза были закрыты, и густые, длинные ресницы оттеняли ушедшие от худобы лица вглубь глазные впадины. На вид ему казалось не более тридцати лет.
Таков был лежащий недвижимо варнак.
Был полдень. Яркое солнце освещало девственный лес, играло лучами на покрытых инеем сучьях вековых деревьев. Они казались осыпанными миллиардами бриллиантов чистейшей воды.
Это было холодное сибирское солнце: оно светило, светило ярко, но не грело. В воздухе стояла какая-то невозмутимая тишина. Ни малейшее дуновение ветерка, ни малейший шепот не нарушали величавого спокойствия дикой, ледяной природы.
Казалось, подавленный этой окружающей тишиной лежавший варнак, хотя и мог бы, не смел шевельнуться. Он доживал последние минуты своей надломленной жизни.
И в эти минуты с особенной рельефностью, как в калейдоскопе, проносилась в его напряженном воображении вся его прошлая жизнь. Так натянутая чрезмерно струна, готовая оборваться, звучит сильнее.
Быстро неслись перед ним воспоминания раннего детства.
Берег далекой красавицы Волги, где живописно раскинулось его родовое имение, ласки матери, давно лежащей в могиле, святой женщины, боготворившей своего единственного сына. В любви к нему находила она утешение в своей безотрадной, страдальческой жизни с деспотом мужем, из гуляки-гусара превратившегося после свадьбы в гуляку-помещика.
При воспоминании о ней светлая улыбка озарила лицо умирающего. Живо вспомнилась ему минута разлуки с этим, тогда единственным любимым им существом. Ему пошел одиннадцатый год, и отец повез его в Москву, в гимназию.
Как теперь, помнит он сцену прощания на крыльце: дрожащую, благословляющую руку и полные слез прекрасные глаза, устремленные на него с невыразимой нежностью.
Он истерически зарыдал.
Отец грубо подхватил его под руки и буквально бросил в дорожную карету, затем обратился к жене, по обыкновению, с каким-то резким замечанием.
Та без чувств упала на пол, и слуги подхватили ее.
Он не видел, как уносили ее в дом, так как отец отворил в то время дверцы кареты и стал усаживаться с ним рядом.
Карета покатила.
Это была для него первая страшная минута в жизни.
Выражение страдания и теперь появилось на лице варнака.
Большой, незнакомый город. Гимназия, куда он был помещен на полный пансион, окруженная для него какою-то таинственностью, мундирчик, в который его облекли, товарищи, учителя, новые лица, новые порядки — вся эта масса нахлынувших на ум мальчика свежих сильных впечатлений смягчили грусть разлуки с родимым гнездышком.
Отец уехал.
Сын вошел в гимназическую колею.
Потянулись долгие учебные годы. Памятно ему из них лишь время каникул, когда он снова возвращался в объятия любимой матери, передавал ей впечатления прожитого в разлуке с ней учебного года и оживал под ее животворящими ласками, сбрасывал с себя зачерствелость, навеянную сухими учебниками, переполненными сухими фактами и правилами; с жадностью, полной грудью вдыхал свежий деревенский воздух и по целым часам любовался на несущую свои мягкие волны красавицу Волгу.
Здесь проходил он курс иной, высшей науки: в объятиях матери и природы учился он чистой любви и чистой поэзии.
Снова улыбка счастья появилась на устах варнака.
Он вернулся с последних гимназических каникул в седьмой, последний класс. Радужные мечты рисовались в будущем. Через год, только через год — университет, — он решил быть юристом, — только что нарождавшаяся тогда адвокатура, слава, богатство…
Последнее, впрочем, ему было излишним.
Как единственный сын богача-отца, он не нуждался в средствах.
Вдруг, тяжелый удар.
Страшные судороги исказили лицо варнака.
Он получил от отца письмо с черной печатью, уведомлявшее его о смерти матери.
Его единственного дорогого друга не стало.
Впечатлительный юноша не вынес обрушившегося на него несчастья. Нервная горячка почти на целый месяц приковала его к постели. Без него опустили ее в могилу.
Молодость, однако, взяла свое. Он выздоровел и кончил курс.
Приехав в имение отца, не заезжая в дом, он приказал остановиться у церковной ограды и упал, обливаясь слезами, на могилу матери. Слезы облегчили его. Несколько времени провел он в тихой молитве и как-то совершенно успокоился. Странное сознание появилось в его уме: ему показалось, что когда мать была жива — он мог быть с нею в разлуке, не видеть и не слышать ее, теперь же она везде и всегда будет около него, он будет не только слышать, но и видеть ее. Он почувствовал это как-то не умом, не сердцем, а всем существом своим, и не только успокоился, но как-то странно радостно стал думать, что она умерла.
«И ей, и мне лучше!» — мелькнуло в его голове.
Он снова почувствовал, почувствовал всем существом своим, что это было именно так.
В отце он не нашел перемены. Казалось, в его жизни ничего не случилось. Он не изменил ни на йоту ее режим: те же охоты, пикники, попойки…
Встрече с сыном придал он деловой характер. Через несколько же дней ассигновал ему довольно крупную сумму в год для жизни в Москве студентом и тотчас выдал треть.
Видно было, что он его выпроваживал. Сын стеснял его.
Тот понял и, посетив еще раз могилу матери, уехал в Москву.
Отец его не задерживал.
Снова еще неизведанные впечатления — первые шаги самостоятельной жизни.
Быстро, быстро несутся воспоминания, приближаясь к роковому моменту. Первые лекции, экзамены, кружок товарищей, споры, — споры без конца на отвлеченные темы в наполненной табачным дымом комнате, мечты об идеалах, славе, исполненном долге…
Какая-то горькая усмешка появилась и теперь на лице варнака.
Он на четвертом курсе. Одна из первых лекций в начале учебного года. Каждый год в это время появляются в университете новые лица — еще совсем юноши, робко, нетвердою походкою вступающие под своды храма наук. Как бы чем-то испуганные, чего-то конфузясь, с тетрадками в руках, сторонясь других, ходят они по коридорам и залам; это первокурсники, находящиеся еще под свежим впечатлением гимназической скамьи.
Между ними в этот год оказался юноша, еще совсем мальчик, с нежным, как у девушки, миловидным, безусым лицом, с вьющимися белокурыми волосами, с восторженным взглядом светло-голубых глаз.
Его как-то потянуло к этому юноше. Он искал с ним встречи. Это было тем легче, что первокурсник был тоже юрист.
Раз завязался незначительный разговор.
— Стоцкий! — счел долгом представиться юноша.
— Бартенев! — отвечал тот.
— Бартенев? — прошептал тот и поднял на него восторженный взгляд.
Потом схватил его за руку и крепко пожал ее.
— Как я рад, как я рад!
Имя Бартенева гремело в университете: на последнем акте он получил за сочинение золотую медаль. Знакомство завязалось. Через несколько времени Стоцкий робко обратился к нему.
— Вы позволите мне посетить вас?
— Буду очень рад, — поспешил ответить он и дал свой адрес. Стоцкий не замедлил явиться и пригласил его к себе.
Он жил с родными.
Этот визит решил его судьбу.
Перед ним и теперь восстал в ярких, живых красках образ красавицы-девушки, сестры Стоцкого Татьяны Анатольевны. Похожая на брата, но еще более женственная, полувоздушная, грациозная, она казалась каким-то неземным существом, чем-то «не от мира сего», хотя опытный физиогномист по складочкам у ее розовых губок и стальному подчас блеску ее чудных голубых глаз далеко не признал бы ее чуждой всего земного.
Бартенев, увы, не был физиогномистом.
Он преклонился перед обаянием красоты.
Улыбка счастья появилась и теперь на страдальческом лице варнака.
Он припомнил впечатление этого первого знакомства: она показалась ему тем «мимолетным видением», тем «гением чистой красоты», которого так звучно воспел его любимый поэт.
Он начал бывать часто, привлекаемый какою-то неведомой силой.
Сердце сердцу подало весть.
Он добился взаимности.
Это был лучший вечер в его жизни.
Они были вдвоем.
Он робко, осторожно начал признание.
Она поняла его и потупила глаза. Незаметно очутились они близко друг к другу. Губы их слились в первом поцелуе.
Он был счастлив, счастлив полным счастьем.
Вдруг счастливую улыбку сменили страшные судороги. Лицо варнака приняло почти зверское выражение.
Недолгим было его счастье!
Оставалось несколько месяцев до окончания курса. Они решили с божественной Таней подождать объявлять родным. Тайна в любви придает ей еще большую сладость.
Незаметно неслись дни.
Вместе с уведомлением о полученном им кандидатском дипломе сообщил он отцу о своем решении жениться на девице из дворян, Татьяне Анатольевне Стоцкой, и просил его благословения.
В ответ он получил письмо, в котором отец игриво выражал свое согласие и извещал, что едет познакомиться с избранной им подругой жизни.
Он с восторгом передал своей милой Тане желание своего отца.
Жених и невеста — они уже были объявлены — стали с нетерпением ожидать приезда старика Бартенева.
Наконец он приехал.
Будущая невестка, видимо, ему полюбилась: цветы, конфеты, ценные подарки посыпались на нее дождем из щедрой руки будущего богатого свекра.
Он сам в присутствии невесты сына молодел, подтягивался и браво крутил свой нафабренный ус.
— Вам самим еще самая пора жениться, — как-то сорвалось с языка старухи Стоцкой.
— Что же, я бы не прочь, да ведь он не уступит, — молодцевато пристукнул старик каблуком, кивнув в сторону сына.
Все расхохотались шутке.
Одна Таня почему-то сконфузилась. Он — припоминает теперь — тогда не обратил на это внимания.
Стоцкие были люди далеко не богатые и хотели сыграть тихую, скромную свадьбу, но старик Бартенев воспротивился. Он добился, без большого, впрочем, труда, позволения заказать для невесты все приданое в Париже, что привело в неописанный восторг Таню, но зато огорчило ее жениха. Свадьбу поневоле должны были отложить.
Была половина августа. Заказанное приданое и подвенечное платье были получены из таможни, и день свадьбы был назначен на пятое сентября.
Так решил сам отец; но в этот же вечер он попросил сына съездить недельки на две в деревню, так как наступало время хлебных сделок.
— Надо и тебе приучаться к хозяйству, — заметил он, — я становлюсь стар; мне необходим помощник.
Он помнит и теперь, с каким восторгом согласился он исполнить волю отца, окружавшего его и любимую им девушку нежным вниманием.
Мысль о разлуке с нею кольнула его в сердце, но он пересилил себя.
Через день, простившись с невестой, он укатил на берега красавицы Волги.
— Возвращайся к третьему сентября, — сказал ему отец, обнимая на прощание.
Приехав в имение, он деятельно принялся за дела, но вдруг какое-то странное предчувствие близкого горя стало томить его.
Он начал рваться туда, в Москву, с какою-то неудержимою силой; наконец не выдержал, бросил все и помчался назад.
Живо и ясно, как-будто это было вчера, несмотря на то, что уже прошло более пяти лет, представился умирающему этот роковой момент приезда в Москву, представился во всех его мельчайших, потрясающих подробностях.
Было около шести часов вечера первого сентября. Стояла прекрасная, совсем еще летняя погода: в воздухе было жарко, и густая едкая пыль застилала московские улицы. Вот он миновал Пречистенский бульвар, площадь Пречистенских ворот и повернул на Остоженку, где жили Стоцкие, а в одном из прилегающих к ней переулков была и его холостая квартирка.
Надо было проехать мимо дома, где жила она, его Таня. Вот и их квартирка в двухэтажном домике. Но что это такое? У подъезда толпится народ, стоит несколько экипажей, а впереди парадная карета, запряженная шестеркой.
Он помнит, помнит как сейчас, что что-то больно, невыносимо больно резнуло его по сердцу.
Выражение смертельного ужаса отразилось и теперь на лице варнака.
— Стой! — крикнул он кучеру и стремительно выпрыгнул из экипажа. Из расстегнувшейся от быстрого движения клеенчатой кобуры выпал револьвер и со звоном упал на мостовую.
Какой-то мальчишка из окружающей крыльцо толпы поднял его и подал ему.
Он машинально сунул его в карман пальто.
Торопливо поднялся он на три знакомые ему каменные ступени крыльца и нервно дернул за медную ручку колокольчика.
Ему отворила дверь Настя, горничная Стоцких.
Отворила как-то странно, дико посмотрела на него, что-то вскрикнула и быстро убежала в комнаты.
Он не разобрал, что она крикнула: была ли это фраза или просто бессвязный крик.
Он потом несколько раз старался припомнить этот крик и решить этот вопрос, но безуспешно.
И теперь его мысль остановилась на том же самом.
«Нет, это просто был крик, крик испуга, неожиданности, предчувствия катастрофы, но не фраза», — решил он теперь и снова сосредоточился на воспоминании, отвлеченный невольно от них этим размышлением.
Первую фразу, связную, полную, совершенно отчетливую фразу, услыхал он в гостиной Стоцких, куда прошел не раздеваясь, как был: в пальто и даже в шляпе.
Он отчетливо помнит и теперь, что чувствовал тогда, что ему надобно снять шляпу, что в шляпе войти в комнату неприлично, но ему не только не хотелось, он просто не мог вынуть из кармана правую руку. В левой же он держал зонтик, хороший зонтик, шелковый, с ручкой из слоновой кости и его инициалами: А. Б. — Александр Бартенев.
Он, как теперь, видит перед собой этот зонтик.
Но чем же была занята его правая рука?
Он начинает припоминать. Да, он помнит. Когда Настя вскрикнула, ему вдруг стало как-то безотчетно страшно. Он опустил руку в карман пальто и ощупал положенный им туда револьвер. Он судорожно ухватился за него и чем крепче держал его, тем сильнее сознавал какую-то несомненную, но смутно представлявшуюся ему опасность. Оторвать руку от револьвера, чтобы снять шляпу, он был не в силах.
Вот почему вошел он в гостиную в шляпе.
Зала и гостиная были пусты. Рядом, в столовой, слышались голоса, гремели посудой, видимо, пили чай.
Оттуда-то и донеслась до него эта первая, связная, полная, совершенно отчетливая фраза. Говорил чей-то резкий мужской голос:
— Нельзя ли поторопить невесту? Михаил Петрович уже с полчаса, как дожидается в церкви.
Михаилом Петровичем звали его отца.
Он услыхал эту фразу, едва переступив порог гостиной.
Почти в тот же момент отворились двери, противоположные тем, которые вели в столовую, — двери, ведущие в ее комнату, в комнату его Тани, и в них появилась она, в парижском подвенечном платье, окруженная подругами, свежая, сияющая, довольная, с флер д'оранжем на голове и на груди, с великолепным из крупных бриллиантов фермуаром на белоснежной шейке, с огромными солитерами в миниатюрных розовых ушках.
Бриллианты горели всеми цветами радуги сквозь густую подвенечную вуаль, окутавшую всю ее фигуру.
— Вот и я готова! — весело начала она по адресу матери и отца, вышедших из столовой в сопровождении гостей. Но вдруг голос ее в конце фразы оборвался.
Она увидала его.
Наступила на секунду роковая тишина.
Он сделал к ней несколько шагов.
Она стояла, как бы застывшая.
Он несколько мгновений любовался этим дивным видением, казалось, спустившимся на землю в светлых, лучезарных облаках.
Вдруг мелькнул огонь, раздался выстрел, затем неистовый крик.
Чудный призрак заколыхался, и на окружающих его белых облаках появилось красное кровавое пятно.
Потом вдруг все окрасилось кровью.
Далее он ничего не помнит.
Очнулся он в тюрьме.
Началось следствие.
Он не желал отвечать ни на какие вопросы.
— Вы говорите, что я убил ее… Я вам верю и очень рад! — твердил он следователю.
Большего от него не добились.
Его освидетельствовали, но он так разумно и толково давал ответы на все вопросы, не касавшиеся события первого сентября, что врачи признали его психически здоровым.
Дело поступило в суд.
Он отказался иметь заступника.
После картинной речи обвинителя его спросили, что он может сказать.
— Они говорят, что я убил ее. Я им верю и очень рад! — сказал он присяжным.
Присяжные нашли его виновным.
Суд осудил его в каторгу.
Он помнит все это, но помнит как-то смутно, как будто та кровавая пелена, которая появилась перед его глазами в гостиной Стоцких и которая нет-нет, да и застилает их и теперь, мешает ему ясно воспроизводить в уме впечатления последующих событий. Да и самые эти события, кроме одного, о котором он и теперь не может вспомнить без ужаса, представляются ему какими-то мелкими, ничтожными.
Какой-то туман покрыл всю его жизнь, да и он чувствует, что относился к этой жизни как-то безразлично. Ничто не волновало его, ничто не привлекало его внимания: он шел, куда его вели, делал, что ему говорили. Какая-то апатия, какое-то равнодушие стали неизменным настроением его души.
«Будь, что будет!» — мелькало в его уме, и эта фраза стала его жизненным девизом.
Тюрьма, следствие, суд, путь в Сибирь по этапам, каторга — все восстает перед ним, окутанным каким-то густым флером.
Одно впечатление вынес он из пережитых им долгих пяти лет, одно ощущение осталось в нем — это ощущение чисто физической усталости.
Вот он лежит теперь один среди пустынной тайги. Он чувствует, что доживает последние минуты, но он доволен, доволен лишь тем, что может лежать и не шевелиться. Пошевельнуться теперь представляется ему страшнее, нежели умереть.
«Умереть! — мелькает в его уме. — Что такое смерть? Покой!»
Его-то он и ищет…
Он приветствует приближение этого покоя довольною улыбкой.
Костер трещит, потухая. Надо подложить топлива, иначе рискует замерзнуть или быть заживо съеденным зверями.
«Пусть тухнет, лишь бы не пошевельнуться!» — проносится в его уме.
Зачем он бежал? Да, он помнит: он сидел в одной камере с двумя товарищами; они собрались бежать и взяли его. Надо было, чтобы не осталось свидетеля их бегства. Они сказали ему, что возьмут его — он согласился. Куда? Зачем? Он не знал.
Зачем? Он теперь понял. Для того, чтобы лежать здесь и не шевелиться. Там, в тюрьме, подымали на работу, там нельзя было лежать целый день. Это ему надоело, покой соблазнил его, и он бежал.
Они пошли; шли долго, запасы вышли, товарищи стали спешить, а он, — он устал… и лег.
Они развели около него костер и пошли за припасами, обещали вернуться, велели поддерживать огонь.
«Не надо, счастливый им путь, только бы не шевелиться. Покой, покой прежде всего!»
Лицо варнака дышало выражением этого наслаждения — безусловным покоем.
Вдруг черты лица его исказились. Казалось, умирающий впал в предсмертную агонию и испытывал невыносимые страдания. Он усиленно и порывисто дышал, как бы от жгучей внутренней боли. Глаза его, черные, выразительные глаза, широко раскрылись, и зрачки, медленно двигаясь в орбитах, видимо, следили за какой-то движущейся точкой.
Образ отца-разлучника несся перед ним в пространстве.
Он различал совершенно ясно только одну голову.
Бледное, как полотно, морщинистое лицо с всклокоченными седыми волосами; глаза, выкатившиеся наружу в предсмертном ужасе; намыленный подбородок и глубоко перерезанное горло.
Он едва узнавал в этом страшном призраке родные черты.
Из подернутого туманом хаоса воспоминаний этих роковых пяти лет ярче других предстал перед ним один страшный, потрясающий эпизод из его тюремно-каторжной жизни.
Он отбывал уже второй год наказания. Один из трех его товарищей по камере — старик, сидевший много лет, умер. С прибытием новой партии на его месте появился другой — хилый, чахоточный, молодой парень. Он недолго и протянул, менее чем через полгода сошел в могилу. Новый сожитель был молчалив и необщителен, и все искоса поглядывал на него. Ему тоже казалось, всматриваясь в него, что он где-то видел это лицо, но где — припомнить, несмотря на деланные им усилия, не мог.
Прошло около двух недель.
Была глубокая ночь. Вдруг сквозь сон ему почудилось, что кто-то крадется к тому месту нар, где он спал. Он старается проснуться. Вот кто-то уже около него. Ему слышно дыхание наклонившегося над ним человека. Он открывает глаза. Перед ним стоит его новый товарищ и как-то блаженно улыбается. Огарок сальной свечки, который он держит в руках, освещает его исхудалое лицо снизу.
Он с недоумением смотрит на подошедшего.
Тот продолжал улыбаться.
— А ведь это я… я порешил вашего папеньку! — шепчет, улыбаясь, он.
— Гаврюшка! — осеняет его мысль.
— Узнали! — радостно произносит арестант, и светлая улыбка еще более расплывается по его лицу.
Перед ним стоял товарищ его детских игр, сын садовника в имении его отца — Гаврюшка.
— Как? Ты?..
— Я же, я! — заспешил Гаврюшка, как-то радостно подтверждая свое преступление.
С его лица не сходила улыбка.
— Но как, когда? — снова шепчет он.
— Служил я в подмастерьях у парикмахера-француза в Москве, на Тверской, в тот год, как папенька ваш приехал женить вас. Заехал он к нам в магазин бриться, признал меня и стал у меня бриться ежедневно. Потрафил, видно, я ему.
Гаврюшка злобно усмехнулся.
— Мастер был я своего дела, не в похвалу себе скажу, первый сорт, потому тятенька меня тому французу на одиннадцатом году, вскоре после воли, на выучку отдал, и не только брить, стричь, завивать и дам причесывать, но даже по-ихнему, по-басурманскому лопотать я отлично выучился и русскую речь ломать начал. Бывало кричу в магазине не иначе как: «Мальшик, чипцы». Многие из посетителей за кровного француза меня принимали, другим же, кто меня знал, в том числе и папеньке вашему, очень это нравилось.
Гаврюшка хрипло, надорванно расхохотался.
— И начал это папенька ваш меня к себе сманивать на службу, значит, в парикмахеры, в деревню. Жалованье назначил большое. Хотя местом я доволен был, да подумал, что у барина все посвободнее будет, — не целый день в магазине торчать. К тому же задумал я тогда жениться на нашей, на деревенской, — все одно к одному. Анютку-то, барин, помните?
Он отрицательно покачал головой.
— Кузьмы скотника дочь, белобрысая такая, все еще у скотного двора в песке копалась, махонькая тогда была еще, не ходила.
Он вспомнил и закивал головой.
— Ну, ну!
— Вот ее-то я и облюбовал. Выросла она статная такая, красивая, кровь с молоком, глаза светлые, большие… — Гаврюшка вздохнул. — Барин каждый день с ответом пристает — я и согласись, и про любовь свою рассказал. «Хороша?» — спрашивает. Я, как умел, описал ему мою зазнобушку. Ухмыльнулся только. «Значит, согласен?» — говорит. «Согласен!» — отвечаю. «Так вместе и поедем». На том и порешили. Тут в скорости разнеслась весть, как вы с невестой покончили, суд над вами состоялся, и я, грешный человек, свободную минутку урвал, послушать сбегал. Папеньки-то вашего на суде не было, больным сказался, а затем, так через недельку, получаю я от него письмо и пятьдесят рублей на дорогу; просит выезжать немедленно. Раздумье тут меня взяло. Больно в деле-то вашем неказисто поступил он, да Анютка стала перед глазами мелькать, я и поехал.
Гаврюшка остановился.
— Дальше, дальше! — шептал он.
— Приехал я. Барин, папенька-то ваш, принял меня ласково, но только так лукаво улыбается. «За невестой тебе недалеко ходить, — говорит, — в ключницах она у меня уже с месяц живет». Я так и обмер, но пересилил себя. «Что же, — отвечаю, — благодарствуйте, что барской милостью ее взыскали». И ее увидал в тот же день: нарядная, пышная такая, а со мной — как чужая. «Здравствуйте, — говорит, — Гаврила Иванович», — и больше ни слова.
Гаврюшка затрясся.
— Всю ночь я не спал, голова огнем горела, поутру лишь из какого-то забытья очнулся. Позвали к барину брить. Уселся он перед зеркалом, намылил я ему подбородок, стал править бритву, да и взгляни в окно, — а окна-то из кабинета на двор выходили, — а по двору-то Анютка идет, пышная такая, важная, и ключами помахивает. Побледнел я весь и затрясся. На барина взглянул. Заметил — сидит, ухмыляется. Зло меня взяло. Сделал я вид, что успокоился. Поднес бритву к его шее как ни в чем не бывало. Он голову поднял. Я его что есть силы бритвой по горлу и полосни. Не крикнул. Кровь фонтаном брызнула, горячая кровь, мне руки ошпарила. А с души, с души точно тяжесть какая свалилась, и легко мне в ту пору стало. Вышел я, как был, на двор с бритвой в руке, а навстречу мне Анютка плывет. Увидала меня всего в крови — побелела вся. «Поди, — говорю я ей, — обнимайся теперь с твоим полюбовником».
Гаврюшка захохотал.
Этот дикий, злобный хохот и теперь раздался в ушах умирающего варнака, раздался с такой силой, что он не выдержал и даже дрогнул всем телом, как тогда, ночью в тюрьме.
Это был, впрочем, последний пароксизм страшного, мучительного кошмара.
Лицо умирающего стало снова спокойным: глаза закрылись.
Вот появилась даже какая-то тихая, радостная улыбка.
Образ нежно любимой матери проносится перед ним. Он сразу узнал ее, он любуется, он лелеет взглядом дорогие черты, эту светлую, добрую улыбку, эти тихие глаза, глубокие, как лазурное море, освещенное солнцем. Вот и рука, его благословляющая.
— Мама, дорогая мама! — чуть слышно шепчут его губы.
А вот и она, его Таня.
Вечер первого признания восстает ярко в его памяти. Как живая, сидит она около него, вот наклоняется ближе, ближе — он переживает ощущение первого поцелуя. Улыбка неизъяснимого блаженства появляется на измученном лице.
Кругом все так же безмолвно и тихо. Природа в своем величавом покое безучастна к гибели человека — этой пылинке среди мироздания.
Но вот какой-то слабый треск нарушил невозмутимую тишину — это упала в снег последняя догоревшая ветка костра и зашипела.
Костер потух.
Варнак умер.
БРАТОУБИЙЦА Из уголовной хроники
Это был высокий, худой старик…
Седые как лунь волосы и длинная борода с каким-то серебристым отблеском придавали его внешнему виду нечто библейское. Выражение глаз, большею частью полузакрытых веками и опущенных долу, и все его лицо, испещренное мелкими, чуть заметными морщинами, дышало необыкновенною, неземною кротостью и далеко не гармонировало ни с его прической, ни с его костюмом.
Эта прическа изображала голову, половина которой была обрита, а костюм этот составлял арестантский халат.
Он был каторжник.
Наша первая встреча состоялась в одном из городов Восточной Сибири, где я находился по делам службы при приеме арестантской партии.
Когда собралось все надлежащее начальство и смотритель тюрьмы крикнул старосту, то вышел этот высокий, худой старик, гремя на ходу ножными кандалами, и снял шапку-картуз из серого сукна без козырька.
Я положительно впился в него глазами, до того он мне сразу показался симпатичным, даже в его, безобразящем всех, костюме; но более всего меня поразило то обстоятельство, что при первом появлении его перед столом, где заседало начальство, лица, его составляющие: советник губернского правления, полицеймейстер, инспектор пересылки арестантов и смотритель — все по большей части сибирские служаки-старожилы, пропустившие мимо себя не одну тысячу этих «несчастненьких», как симпатично окрестил русский народ арестантов, и сердца которых от долгой привычки закрылись для пропуска какого-либо чувства сожаления или симпатии к этим, давно намозолившим им глаза варнакам, — сразу изменились… На губах их мелькнула добродушная улыбка, и они почти хором, голосом, в котором звучали совершенно несвойственные им почти нежные ноты, воскликнули:
— Здравствуй, Кузьмич!
— Здравствуйте, господа! — степенно отвечал вышедший, вскинув на мгновение на всех нас глаза.
Глаза эти были светло-голубые, сохранившие почти свежесть юности.
— Где изловили? — спросил смотритель, и в голосе его послышалось как бы сожаление.
— В Киеве, ваше выс-родие, — отвечал арестант, — у самых ворот Лавры.
— Как же это так?
— Строго ноне стало, везде паспорта спрашивают, а у меня какой же?
— А ты что же не промыслил? — заметил я.
— Зачем грех на душу брать, — отвечал мне Кузьмич, окинув меня как новое для него лицо быстрым взглядом.
Началась проверка арестантов по статейным спискам.
«Ну, — подумал я, — вот гусь-то! В каторгу-то, чай, сослан за дело почище подделки паспорта, а жить с чужим паспортом считает грехом».
За столом в это время между делом шли разговоры.
— Ну, как, благополучно провели? — справлялся полицеймейстер у этапного офицера, приведшего партию.
— С Кузьмичом-то!? — удивленно отвечал тот. — Как овечки шли: ни шуму, ни драки, ни песен; разве что-нибудь из духовного; очень уж они его все сразу боятся и любят, чуть не молятся на него… Да вот, я за десять лет службы третий раз с ним партию вожу, и чтобы какой скандал или недоразумение — ни-ни…
— Это он шестой раз с каторги-то удирает в течение, кажется, двадцати лет! — соображал вслух советник губернского правления, не обращаясь ни к кому в особенности.
— Тебя сколько лет тому назад решили-то? — обратился он к Кузьмичу.
— Двадцать лет! — не запинаясь отвечал тот.
— А который раз бегаешь?
— Шесть раз уходил, ваше в-родие!
— Седьмой не думаешь? — улыбнулся советник.
— Хворь одолела, ваше в-родие, еле и теперь на ногах стою…
— Так ты сядь, — заметил советник. — Вы позволите, господа? — обратился он к нам.
— Конечно, садись, садись! — послышались ответы.
Кузьмич, видимо, с наслаждением опустился на пол, поджав ноги.
Все виденное и слышанное мною до того меня заинтриговало, что я порешил тотчас же по окончании приема партии расспросить о Кузьмиче подробно смотрителя, который, служа уже много лет на этой должности, мог доставить мне более обстоятельные сведения.
Наконец партия была принята.
К концу приемки приехал тюремный врач, осмотрел арестантов и несколько человек отправил в больницу. В числе последних оказался и Кузьмич.
— Что с ним? — обратился я к доктору.
— Чахотка в последнем градусе, легкого не существует, месяца не протянет, — небрежно отвечал эскулап, садясь в свою пролетку, и укатил.
Разъехалось и остальное начальство. Я умышленно замедлил свой отъезд и пошел к Кузьмичу.
Тот начал было привставать, но я остановил его.
— Сиди, сиди! Я вот о чем хотел спросить тебя: ты мне ответил, что считаешь за грех жить с чужим паспортом, а между тем сослан в каторгу. Ведь не за доброе же дело, а, чай, за большой грех? Ты что сделал?
— Брата убил, — спокойно отвечал мне арестант.
Это спокойствие в признании себя виновным в братоубийстве, хотя бы совершенном более двадцати лет назад, заставило меня отступить назад перед новым Каином.
— Нечаянно? — почти закричал я.
— Нет, умышленно, — чуть слышно отвечал Кузьмич.
— Да ведь это страшный грех!
— Нет, не грех, потому что сделано по-божески…
— Как по-божески?..
— С родительского благословения, — глухо отвечал он, — а о душе его я двадцать четыре года непрестанно молюсь, по всей Рассее-матушке исколесил, у престолов всех угодников земные поклоны клал, для того и с работ шесть раз бегал, холод и голод принимал, и тело мое все плетьми исполосовано…
Старик истово перекрестился. Я стоял перед ним и молчал.
— А любил его я больше чем брата, — начал он снова, — душу за него продать готов был, так как после матери малышом остался он, я его и воспитал; и жаль его мне было, да видно так Бог судил. Прядь волос его в ладанке у меня зашита — в могилу со мною ляжет.
Старик полез за пазуху и показал мне мешочек из грубого холста, висевший вместе с тельным медным крестом.
— За что же ты убил его? — уже совсем прошептал я.
— Других, неповинных, спасти… — отвечал Кузьмич и вдруг низко опустил голову.
Он плакал. Слезы градом катились из его глаз и падали на сложенные на коленях загорелые, мозолистые руки.
Находя неуместным продолжать расспросы, я отошел.
Загадка личности этого странного преступника не только не разъяснилась, но, скорее, осложнилась.
В это время начали собирать арестантов, назначенных доктором в больницу, и я видел, как Кузьмич, отерев рукавом глаза, медленно поплелся вместе с другими, все еще не подымая низко опущенной головы.
— А не зайдем ли выпить по рюмочке? — подошел ко мне управившийся смотритель.
Я чуть было не расцеловал его за это предложение, так было оно кстати.
Мы отправились в маленькую, но уютную квартиру смотрителя. Вскоре на столе появилась водочка и закусочка, состоящая из неизменных рыжиков и селенги.
После второй рюмки я прямо приступил к интересовавшему меня делу.
— Пожалуйста, Иннокентий Иванович, — так звали смотрителя, — расскажите мне, что вы знаете про этого загадочного арестанта?
— Это про Кузьмича-то?
— Да. То, что я узнал из короткого моего с ним разговора, просто невероятно.
Я передал моему собеседнику в коротких словах содержание моего разговора с Кузьмичом.
— Да, — заметил, выслушав меня, Иннокентий Иванович, — большего от Кузьмича едва ли можно и добиться; не словоохотлив он, да и тяжело, видимо, ему вспоминать совершенное им кровавое дело… Слишком уж оно идет в разрез с его прежнею и настоящею, трудовою и сподвижническою жизнью…
— Но почему же он совершил его? — спросил я. — Вы-то знаете?
— Я-то? — переспросил смотритель.
— Ну, да, вы…
— Я-то дело это знаю досконально, и вы весьма удачно придумали обратиться именно ко мне — я производил следствие по этому делу…
— Ради Бога расскажите!
— Извольте! Выпьем-ка еще по единой!
Мы выпили, и я весь превратился в слух.
— Было это, дорогой мой, почти четверть века тому назад, да, именно, без малого, без каких-нибудь месяцев двадцать пять лет, — так начал рассказчик. — Я был еще совсем молодым человеком и только с месяц или два получил место земского заседателя именно в том участке, где находилось село, в котором родился Кузьмич, — в этом даже селе была моя резиденция. Кузьмич — природный сибирский крестьянин, и зовут его Петр Кузьмич Орлов. Село это вы сами знаете: оно лежит верстах в двадцати пяти от нашего города по московской дороге — большое село, чай, не раз там бывали?
Я утвердительно кивнул головой.
— В этом-то селе, где жили и деды, и прадеды Кузьмича, вырос и он в родной семье. Семья эта состояла, кроме него, из отца и матери, старшей сестры и младшего брата. После смерти матери и выхода в замужество сестры Петр остался лет четырнадцати, а младший его брат Иван — лет семи… У сестры пошли свои дети, и семилетний Иван, действительно, вырос всецело на попечении своего старшего брата, ходившего за ним лучше любой няньки… По словам старика-отца, который лежит давно уже в могиле, — он умер во время производства формального следствия, — Петр любил и берег брата, как зеницу ока… Все подростки на деревне знали, что обидеть Ивана Орлова опасно, так как за него заступится Петр, — все равно, виноват ли в затеянной сваре Иван или нет. Словом, мальчишку избаловал донельзя не чуя, что балует на свою голову… Года шли, братья подрастали. Незаметно подкрался и «призывной год», когда старшему надлежало вынимать жребий. Вы сами знаете, как наши сибирские крестьяне неохотно идут в военную службу и всячески стараются от нее освободиться. Не то было с Петром: он только спал и видел, как бы ему вынуть жребий поближе и оказаться «годным», чтобы только спасти от солдатчины своего меньшого брата. Но, увы, это ему не удалось… Что сделалось с Петром, когда после двух лет отсрочки, — так как у него не выходил размер груди, — на третий призывной год осматривавшие его доктора снова произнесли для всех столь радостное, а для него роковое слово: «не годен…» — мне рассказывали очевидцы. Он побледнел, как полотно, и весь затрясся, затем бросился, обливаясь слезами, в ноги начальству и умолял принять его… Мольбы его, конечно, оказались тщетными…
— Да чего тебе так хочется? — спросил удивленный исправник.
— Брат, ваше благородие, ведь брат должен идти… — с рыданиями заявил Петр.
— А может, и он окажется негоден, — успокоил его один из членов присутствия.
— Нет, он плотнее меня, — сквозь слезы пробормотал освобожденный от службы Петр.
Иван, в самом деле, был плотнее его… Ему в то время шел семнадцатый год, но это был почти вполне сформировавшийся парень: в плечах, как говорится, косая сажень, из лица кровь с молоком… Даже ростом был уже немного выше Петра… Сорвиголова он был отчаянный… Так прошло года с три… Наступил и для Ивана «призывной» год; но недели за две до дня призыва он вдруг бесследно исчез… Несмотря на принятые со стороны начальства меры, стоявший на очереди парень разыскан не был, и в очередных списках присутствия по воинской повинности против имени Ивана Кузьмича Орлова появилась лаконическая отметка: «в безвестной отлучке». Петр все время ходил, как потерянный. Отец, давно собиравшийся женить его, приглядел ему и невесту — красивейшую и богатейшую девушку из всего села, но Петр, сам неравнодушный к избранной для него отцом будущей подруге жизни, решительно отказался вступить в брак, видимо, занятый и озабоченный чем-то другим… Почти через день ездил он на заимку, где и ночевал.
— Куда? — переспросил я.
— На заимку. Ах, да, я и забыл, что вы человек новый, — заметил Иннокентий Иванович. — Заимками в Сибири называются отдельные хутора, лежащие в семи, десяти верстах от деревни. Такие заимки существуют у большинства зажиточных крестьян. На них, обыкновенно, бывает пчельник, содержится скот… Да вы, чай, много их видали, ехав из России…
— Понял, понял! — нетерпеливо заметил я. — Пожалуйста, продолжайте!
— Такая-то заимка была и у Орловых. На нее-то и ездил Петр. «Какого ляда ты там делаешь?» — спросит его, бывало, отец. «Кой-какие поделки есть…» — неохотно ответит Петр.
Так прошло около полугода. Безвестная отлучка Ивана Орлова продолжалась, но вскоре и о нем стали доходить вести. Вести эти были не из хороших. Рассказывали, что встречали его в компании каких-то бродяг то на большой дороге, то в ближайшей тайге — так зовутся в Сибири лесистые места. Между тем в местности, где лежало родное село Орловых, считавшейся до сих пор спокойной и безопасной, стали производиться разбои и грабежи, частые нападения на проходящие обозы вооруженными злоумышленниками; разграблена была даже одна почта, совершено несколько зверских убийств в самом селе, но преступники успевали скрыться и ловко заметали свой след. Постоянные полицейские розыски, тасканья к допросу, чуть не ежедневные обыски, аресты — часто ни в чем не повинных людей, — и, наконец, чувство самосохранения от близости кучки неуловимых злодеев, привели все село в уныние. Народный голос, который метко зовется «гласом Божиим», указывал на Ивана Орлова, как на главного виновника во всех этих зверских преступлениях, и вскоре его имя стало пугалом населения. И народ не ошибся. Начальство добыло веские данные, из которых можно было заключить, что в ближайшей тайге образовалась шайка злоумышленников, коноводом которой был Иван Орлов, но последний оставался неуловим, а по показаниям нескольких оплошавших его сотоварищей, попавшихся в руки властей, живет отдельно от товарищей и является лишь для того, чтобы идти на «работу», но где имеет он пристанище — они отозвались незнанием. Дерзость Ивана Орлова дошла до того, что он стал среди бела дня появляться в родном селе, и встретившиеся с ним односельчане или, ошеломленные, пропускали его мимо себя, или с перепугу бежали от него без оглядки. Раз, встретившись с дочерью своей сестры, девочкой лет одиннадцати, он дал ей пять рублей. Девочка принесла подарок дяди домой, но старый дед молча взял из рук внучки деньги и бросил их в топившуюся печь. Девочка расплакалась.
— А с братом он не видался? — задал я вопрос.
— Нет! По крайней мере, Петр на допросе показал, что видел его перед днем убийства один раз за неделю, а не верить ему нельзя, — да и не было нужды ему, явившемуся с повинною, показывать ложь.
— Однако, я так увлекся сам рассказом, что и выпить не предложу, — заметил хозяин, наливая рюмки.
Мы выпили.
— Продолжайте, продолжайте! — поспешил попросить я.
— Похождения Ивана Орлова, — снова начал хозяин, — не остались без влияния на отношение односельцев ко всему, до сей поры уважаемому, семейству. Начались косые взгляды, укоры по адресу отца, не сумевшего обуздать сына, и избаловавшего его брата. Петр ходил, как приговоренный к смерти и избегал ходить на улицу. Кровь, пролитая одним из членов семьи, легла на эту семью несмываемым пятном. Дни, один тяжелее другого, проходили своей чередой. Однажды, в конце мая месяца, — я передаю это вам из показаний старика Орлова и Петра, — отец послал Петра на заимку осмотреть колоды для пчел. Петр поехал и, сделав, что было надо, уже вышел из двери избы, когда перед ним, как из земли, вырос Иван.
«Брат!» — воскликнул последний и бросился на шею Петру. Братья расцеловались. Петр ввел его в избу.
«Что ты делаешь! Чем ты стал!» — начал Петр. «Что?» — как бы не поняв, переспросил Иван. «Как что? Душегубствуешь, над неповинными надмываешься, как дикий зверь, в лесу хоронишься; разве это жизнь?..» — «Получше твоей, — развязно отвечал Иван, — ни горя, ни заботы, ни недоимок, ни солдатчины… День да ночь — и сутки прочь…» — «А грех? О смертном часе помышляешь ли? Что там-то будет?..» — «Не сули журавля в небе, давай синицу в руки». — «Опомнись!» — «С нашей дорожки назад не вертаются и вперед не видать, потому кривая… Да что лясы-то точить, я к тебе за делом. Уж с месяц, как все в эти места захожу, тебя поджидая». — «За каким делом? Какое может быть у меня дело с тобою? Ты не брат мой, уйди…» — «Не шабарши, брат, а выслушай. Знаю я, хоть и в лесу живу, что не сладка тебе жизнь в селе-то, а ты одинокий. Давай со мной заодно: таких дел натворим, что небу жарко будет. А то у меня и молодцов-то моих за это время поубавилось. Да и где же им до тебя: парень ты на всякое дело золотой… Оно и к отцовской кисе недурно подобраться — не два века старине жить… будет… Сестре же дом и хозяйство оставишь».
Петр выслушал и не верил своим ушам. Он понял, что перед ним стоит злодей неисправимый, не задумывающийся поднять руку даже на отца из корысти. Чего же ожидать от него другим? Он глядел на брата остановившимися глазами, и волосы дыбом поднялись на голове его… Страшная мысль мелькнула в его уме. «Подумать надо», — через силу проговорил он. «Умные речи хорошо и слушать, — отвечал Иван, довольный успехом. — Когда же ответ?» — «Через неделю, к ночи…» — машинально проговорил Петр. «Ладно, через неделю — так через неделю, — хлопнул его по плечу Иван. — Сюда же приду… А пока прощай!» — «Прощай!» — задумчиво повторил за ним Петр.
Они обнялись, но на поцелуй Ивана пересохшие от внутреннего волнения губы Петра не отвечали поцелуем. Иван вышел, а Петр тяжело опустился на лавку и задумался. Мелькнувшая в его уме при разговоре с братом мысль, клещом засела в его мозгу, как ни старался он отогнать ее, по временам даже мотая головой. Просидев так более часу, он поплелся из избы и, сев на лошадь, поехал домой. «Что это ты, али с медведем столкнулся?» — встретили его вопросом домашние. «А что?» — спросил Петр. «Да на тебе лица нет!» — «Нет, так, что-то неможется».
Сели ужинать, но Петр и не прикоснулся к еде. Прошло пять дней. Петр совершенно осунулся и еле ходил. Отец и сестра с мужем начали за него беспокоиться. Стали поговаривать, что надо-де отвезти его в город к доктору. «Не надо! И так пройдет!» — заметил Петр на предложение отца в этом смысле.
Наступил канун дня, назначенного для свидания с братом. Семья, отужинав, стала ложиться спать. Сестра с мужем ушла на свою половину. Петр остался с отцом с глазу на глаз. Старик было тоже поднялся с лавки. «Погоди, отец, поговорить надо», — остановил его сын, не вставая с места.
Старик опустился на лавку и вопросительно поглядел на сына. Петр в немногих словах рассказал ему встречу с братом, не скрыв и замыслов последнего на его жизнь. Старик поник головою. «Благослови меня, отец, спасти и тебя, и всю округу от злодея», — прервал молчание сын. «Как?» — вскинул на него глаза отец. «Убить его!» — прохрипел Петр. «Да ты ошалел! Себя загубишь! Ведь ты у меня один», — простонал старик. «Дочь есть, зять вместо сына будет… неповинных спасем… от изверга избавим… другого, исхода нет… он слуга дьявола… Твоя плоть, моя вина. Ведь это я его от солдатчины на заимке схоронил! Думал, век там проживет, а он сбежал…» Наступило молчание… «Благослови!..» — шепотом произнес Петр и опустился на колени.
Старик молча взял из киота икону, которой благословлял его к венцу и, крестообразно осенив ею сына, положил ему на голову. Благословение на братоубийство было дано. Отец и сын разошлись спать, но едва ли сомкнули в эту ночь глаза. Наступил роковой день. Наточив топор и захватив с собой как его, так и четверть ведра водки, Петр после полудня отправился на заимку. Приехав туда, он начал молиться и ждать.
Вскоре после захода солнца отворилась дверь и в избу быстро проскользнул Иван. «Ну, что, надумался?» — спросил он, поздоровавшись с братом. «Надумался, идет!» — отвечал тот. «Вот это по-нашему, по-молодцовски!» — воскликнул Иван и бросился обнимать брата. Тот не противился. «Надо бы уговор-то запить…» — заметил Петр. «И то дело! А разве есть?» — «Припас», — ответил Петр, вынимая из-под стола, под которым лежал и топор, четвертную бутыль. «Ну, парень, да ты не брат, а золото!» — восхитился Иван.
Вынули краюху хлеба и чашки. Началась попойка. Иван заметно начал хмелеть, на Петра же, вследствие душевного волнения, вино не производило никакого действия. Брат хвастал совершенными им преступлениями и добычей и рисовал картины будущих, которые они совершат вместе. Петр слушал молча и подливал брату водку. Наконец совершенно захмелевший Иван упал на стол головою и захрапел. Петр встал, вынул из-под стола топор, перекрестился и с размаху ударил брата острием по голове. Тот даже не вскрикнул. Смерть, как потом дал заключение и врач, была моментальна. Часть окровавленных волос, отрубленных топором, упала на стол. Петр бережно собрал их и, завернув в лоскуток холста, оторванный им от мешка, в котором был привезен им на заимку хлеб, спрятал за пазуху. Затем он сел на лошадь и помчался в село. Поздно вечером явился он ко мне и рассказал о своем преступлении… Я арестовал его при сельском управлении, где он тотчас раздобылся у сторожа иголкой и ниткой и собственноручно зашил волосы убитого им брата в ту ладанку, которую он вам показывал сегодня. Сам же я, собрав понятых, помчался на заимку. Вот вам и вся история Кузьмича, — закончил смотритель, наполняя рюмки.
— А что же дальше?
— Дальше было произведено формальное следствие, а затем, года через три, вышло ему и решение, которым он оказался приговоренным к двадцатилетней каторжной работе… Вот и все…
Мы занялись закуской.
— Вы, может быть, удивляетесь, — начал хозяин, — что я, несмотря на такое количество прошедших лет, в такой подробности помню дело Кузьмича.
— Да, признаться…
— Вот оно где у меня это дело, — показал смотритель на затылок. — Я Орловых-то, и старика, и сына — больно жалость меня к ним взяла — отдал под надзор полиции… Стряпчий на меня взъелся, прокурор губернатору пожаловался, запросы разные пошли, я отписывался и дело это чуть не наизусть выучил… Однако, их, рабов Божиих, в тюрьму законопатили, — старик там и умер, — а меня в пристрастии, чуть не во взяточничестве, обвинили, да и причислили к общему губернскому управлению. Года три я без места шлялся, пока сюда не пристроился… Поневоле такое дельце век помнить будешь.
«Ну, — подумал я, — такое дело и без этого забыть нельзя», — но не высказал своей мысли и стал прощаться, поблагодарив за рассказ.
— Теперь и вам из-за Кузьмича работы поприбавится, — заметил смотритель, провожая меня в прихожую.
— Это почему?
— А как же. Все шесть раз, как его возвращали из его самовольных путешествий по святым местам, сейчас прознают в селе, да почти все село у него и перебывает: и старый, и молодой, — ведь они его за мученика и спасителя всей округи считают, — провизии сколько натащут; все принимает и арестантам отдает, а сам одним черным хлебом питается и водой запивает.
Я уехал.
Смотритель оказался прав. Уже с другого дня ко мне повалил народ за получением пропускных билетов в тюрьму для свидания с арестантом Петром Орловым.
При моих посещениях острога я всегда заходил в больницу навестить Кузьмича, но он, видимо, боясь с моей стороны новых расспросов, при моем появлении притворялся спящим. Я его не беспокоил.
— Как Кузьмич? — справлялся я у фельдшера.
— Плох, — лаконически отвечал тот.
Недели через три после дня приема партии, с которою прибыл Кузьмич, я получил от смотрителя тюрьмы краткое официальное донесение о том, что ссыльно-каторжный Петр Кузьмич Орлов умер.
Односельчане покойного с сельским старостой во главе, который оказался его родным племянником, выхлопотали у начальства дозволение перевезти гроб с его останками в село и похоронить на сельском кладбище. Могилу они выкопали перед кладбищем, почти около тракта, оградили ее решеткой и поставили громадный деревянный крест.
Возвращаясь в Россию, я видел эту могилу.
Проезжая мимо, я приказал ямщику остановиться, вылез из возка и поклонился праху этого преступника.
ИЗ-ЗА КОРЫСТИ Быль
Заимка Иннокентия Тихонова Беспрозванных находилась невдалеке от леса.
Самая физиономия владельца заимки указывает, что место действия этого рассказа — та далекая страна золота и классического Макара, где выброшенные за борт государственного корабля, именуемого центральной Россией, нашли себе приют разные нарушители закона, лихие люди, бродяги, — нашли и осели, обзавелись семьей, наплодили детей, от которых пошло дальнейшее потомство, и образовались таким образом целые роды, носящие фамилии Беспрозванных, Неизвестных и тому подобные, родословное дерево которых, несомненно, то самое, из которого сделана «русская» скамья подсудимых, — словом, Сибирь.
Заимками в Сибири именуются разбросанные там и сям по ее необозримым пространствам хутора, стоящие вдали от селений. Кругом избы, дворы с крепкими тесовыми воротами и высоким заплотом {Местное название забора.}, за которым находятся надворные постройки, идет огороженный невысоким тыном огород и сад-пчельник, далее же лежат пашни; их площадь не определена, сколько сил и зерна хватит, столько и сеют, — земли не заказаны, бери — не хочу. Занял то или другое количество десятин — все твои, отсюда и слово: «заимка».
Заимка Беспрозванных лежала верстах в пятнадцати от ближайшего села и, с точки зрения крестьянского хозяйства, была, что называется, полная чаша. Поля засевались на большое пространство; пчельник и огород были в образцовом порядке, лошадей, скота и птицы в изобилии.
Сам Иннокентий Тихонов Беспрозванных был степенный мужик-скопидом, хотя еще совсем молодой, — ему было лет тридцать пять. В хозяйстве и скопидомстве была ему примерною помощницею жена его — Татьяна Дмитриевна, красивая баба лет двадцати шести, один из типов тех русских крестьянок, дышащих красотой, здоровьем и силой, о которых сложилась народная поговорка: «Взглянет — рублем подарит», — и о работе которых на пашне так красиво сказал поэт: «Что взмах — то готова копна».
Беспрозванных считался поэтому в округе зажиточным крестьянином, имевшим про черный день хорошую деньгу.
Это мнение общественников не было ошибочным.
Весной, летом и осенью на заимках обыкновенно господствует оживление, идет лихорадочная деятельность: хозяева, не будучи в силах управиться одни с обширным и разнообразным хозяйством, нанимают несколько рабочих из ссыльно-поселенцев, которые ежегодно тысячами прибывают в Сибирь и за ничтожную плату готовы по первому призыву предложить свои руки, чтобы хоть что-нибудь заработать на долгую сибирскую зиму. Иные из владельцев заимок переезжают зимою в село, оставляя сторожить скот, птицу и другое хозяйство какого-нибудь бобыля-поселенца из стареньких, иные же остаются и лишь изредка отъезжают в большие села или города — если таковые есть поблизости — дабы продать лишние запасы и закупить необходимое на сельском или городском базаре.
К последним, то есть остающимся на зиму, принадлежал и Беспрозванных.
Втроем проводили они на заимке суровую зиму, когда необозримые поля покрывались белой, серебристой пеленой, на которой вдали виднелся буро-зеленым пятном соседний хвойный лес: сам Иннокентий Тихонов, жена его Татьяна и десятилетний единственный сын-первенец Мища — кумир и баловень, надежда и радость обоих родителей.
Дело было именно зимой.
В тот день, когда начинается этот рассказ, хозяин с утра уехал в город, лежащий верстах в восьмидесяти от заимки. Дома осталась одна Татьяна с сыном.
Уже совсем смерклось, и они собирались ложиться спать, как вдруг раздался стук в ворота.
— Кого Бог несет? — осведомилась вышедшая на двор Татьяна.
— Пусти, родимая, переночевать: баба у меня очень заморилась, на сносях, — раздался у ворот жалобный голос.
Вслед за этим послышались оханье и стон.
Татьяна отперла ворота и увидала двух странников с котомками за плечами. Фигура женщины при свете фонаря, который Татьяна держала в руках, выдавала ее положение. Мужчина тоже казался утомленным.
— Пусти, родимая, не дай нам, грешным, на морозе пропасть. Бабе моей, кажись, последний час пришел, — взмолился снова мужчина.
Женщина продолжала охать и стонать.
— Хозяина-то нетути… Без него как бы и неладно, — заговорила нерешительно Татьяна.
— Ой, батюшки, родимые, смертушка моя подходит, — начала причитать женщина.
— Будь по-вашему, идите, бабы-то больно жаль, — согласилась сердобольная Татьяна.
— Пошли тебе, Господи, доброе здоровье! — проговорил мужчина, тихо входя в открытые Татьяной ворота.
За ним, еле передвигая ноги, вошла и баба.
Татьяна заперла ворота и вернулась в избу. Гости ее уже расположились в ней. Миша спал. После предложенного Татьяной ужина, до которого женщина, все продолжавшая охать и стонать, и не дотронулась, хозяйка и гости стали укладываться спать.
Татьяна хотела было помочь раздеться больной бабе, но та отклонила ее предложение:
— Не замай, родимая, благодарствуй, теперь словно как и полегчало, это, должно, с усталости — много шли.
— А вы издалека? — полюбопытствовала Татьяна.
— Из-под Иркутска, родимая, давно идем, — отвечала женщина.
— Куда пробираетесь?
— К Томску, родная, к Томску.
— Далеко еще, — промолвила Татьяна.
— Неблизко, ну, да Бог даст, доберемся, — заметил мужчина.
Татьяна затушила свечу, но ей почему-то не спалось. Какое-то тяжелое предчувствие щемило ей сердце. Она то прислушивалась к тихому и ровному дыханию спящего около нее Миши, то к прерывистому, неровному храпу заснувших гостей, то к вою зимнего ветра на дворе. Вдруг она услыхала в том углу, где расположились ее гости, какую-то возню и шепот. Ей явственно послышались слова: «Пора, спит».
Вскочить с постели и зажечь свечу — было для нее делом одной минуты. Изба осветилась, и перед ошеломленной Татьяной вместо утомленного путника и его беременной спутницы оказались два рослых мужика: один постарше, а другой совсем молодой, безусый, игравший роль женщины.
В руках у старшего блеснул большой нож.
— Ну, Бог тебя спас, что пробудилась. Отдавай деньги добром! — воскликнул он.
— Кажи, где мошну хоронишь! — заметил другой.
— Родимые, нет у меня денег — хозяин увез, пощадите, не губите, — опустилась Татьяна на колени перед злодеями.
Разбуженный шумом Миша проснулся и, спустившись с кровати, робко прижался к матери.
— Нишкни {Молчи, цыц.}, зря не болтать, а не то тут со своим щенком и ляжешь. Давай деньги! — загремел старший.
У Татьяны блеснула мысль.
— Будь по-вашему, берите, только своими руками сокровище свое не отдам, — годами коплено, — сами берите.
— Где? — в один голос спросили обрадованные злодеи.
— В подполье, — указала она на творило, находившееся среди комнаты, — в правом углу за верхней доской.
— Не врешь?
— Разрази Господи!
— Укажи сама… — сказал старший.
— Не… не могу! — вздрогнула Татьяна.
— Сынишка пусть с нами идет, — заметил молодой, — а то ты творило-то прихлопнешь, да с мошной и драло, — мы тоже из стреляных.
Татьяна нервно прижала к себе Мишу.
— Зачем! Клянусь, там, с места не сойду! — прошептала она.
— Товарищ дело бает, не финти, а то вот — и конец, — замахнулся старший на Татьяну ножом.
Татьяна отшатнулась. На лице у нее промелькнуло выражение внутренней борьбы. Она поглядела на сына, покосилась на печку… Глаза ее сверкнули каким-то странным огнем.
— Берите… — хрипло сказала она, толкнув сына к бродягам.
Младший взял его на руки. Ребенок залился слезами и с ревом рвался, к матери.
Старший зажег фонарь, поднял творило и стал медленно спускаться в подполье, за ним последовал и младший с Мишей на руках.
Татьяна стояла, как вкопанная, и бессмысленно глядела на происходящее.
Едва успели они спуститься в подполье, как Татьяна, словно разъяренная тигрица, бросилась к нему. С нечеловеческим усилием вытащила наверх лестницу и захлопнула творило… Затем подвинула на него тяжелый кованый сундук, на сундук опрокинула тяжелый стол, скамьи, кровать… Все это было сделано до того быстро, что злодеи не успели опомниться. Потом, подойдя к печке, она вынула один из кирпичей, сунула руку в образовавшееся отверстие и, вынув толстый бумажник желтой кожи, быстро спрятала его за пазуху.
В творило раздался стук. Татьяна дико захохотала и опустилась на пол. Стук продолжался.
Татьяна, сидя на полу около устроенной ею баррикады и прижав руки к груди, как бы боясь, что у нее отнимут бумажник, отвечала на него хохотом.
— Отвори, иначе щенка твоего прирежем, — раздались угрозы из-под полу.
Татьяна продолжала хохотать. Раздался крик ребенка:
— Мама, мама, режут!..
Дикий хохот был ответом.
Возгласы злодеев, смешанные со стоном и криками ребенка, продолжались.
Татьяна хохотала…
Наступил день и прошел. Вечерело.
По дороге от села к заимке показались двое розвальней в разнопряжку: в передних сидел возвращающийся из города домой Иннокентий Тихонов. Первая лошадь уперлась лбом в ворота.
Никто не встретил приехавшего. Ворота оказались запертыми. Сердце у Беспрозванных упало, почуяв беду.
На его сильный и продолжительный стук никто не откликался, только спущенные цепные собаки заливались громким лаем.
Он перелез через заплот и вошел в сени. Дверь в избу оказалась тоже запертою изнутри.
Он стал стучаться.
В ответ на этот стук из избы раздался дикий хохот, но двери не отворяли. Он окликнул жену по имени.
В избе снова захохотали. Убедившись, что дома неладно, Иннокентий Тихонов снова перелез обратно со двора, сел в сани и погнал, что есть духу, к селу.
На заимку вернулся он, рассказав о случившемся, со старостою и понятыми. Их сопровождало человек двадцать крестьян.
Перелезши на двор, они толпой вошли в сени избы и стали стучаться. В избе послышался неистовый хохот.
— Баба-то у тебя хмелем не зашибается? — спросил староста Иннокентия Тихонова.
— Отродясь… — упавшим голосом отвечал тот.
После несколько раз повторенного стука и криков: «Отворяй», — выломали дверь, и глазам пришедших представилась следующая картина: Татьяна сидела, дико озираясь, на полу, прижав руки к груди, возле груды наваленной мебели и дико хохотала.
Увидав вошедших, она вскочила с пола и начала метаться по избе, выкрикивая бессмысленные фразы. Ее принуждены были связать.
Она не узнала не только знакомых, но и мужа.
— Отворите, православные, — послышалось из подполья.
Сдвинули вещи, отворили подполье и спустили лестницу. Видя себя окруженными толпой народа, злодеи беспрекословно дали себя связать. Они были в крови…
В подполье же лежал изрезанный по частям труп несчастного Миши…
Это было около десяти лет тому назад.
Если вы в одном из городов Восточной Сибири, лежащих на пути от Иркутска к Томску, посетите городовую больницу и войдете в женское отделение для душевнобольных, то вас прежде всего поразит вид исхудалой, поседевшей страдалицы, сидящей на своей койке с устремленным вдаль остановившимся взглядом и с прижатыми к груди руками. Больная по временам оглашает палату диким неистовым хохотом, от которого вас невольно охватит нервная дрожь.
Это хохочет сумасшедшая Татьяна…
В том же городе вы непременно встретите на улице нищего мужичонку, одетого в невообразимые лохмотья, вечно пьяного и на вид до того худого, что кажется, будто у него остались кости да кожа. Он робко протягивает руку за подаянием…
Если вы дадите ему пятачок, то он моментально скроется под вывеской ближайшего питейного.
Это — Иннокентий Тихонов Беспрозванных.
НА ВСКРЫТИИ Набросок
Стоял октябрь 1886 года.
В одном из крупных сел Восточной Сибири, верстах в пятидесяти от города П*, места моего служения, был назначен прием новобранцев. Приехал и я туда в качестве члена присутствия по воинской повинности.
Первый день ушел на проверку очередных списков и семейного положения призываемых. Со второго началось освидетельствование новобранцев. Приехали двое врачей: военный и гражданский — окружной, как называют их в Сибири.
Последний, немолодой уже человек, был любимцем всего округа. Знал он по имени и отчеству почти каждого крестьянина в селах, входящих в район его деятельности, и умел каждого обласкать, каждому помочь и каждого утешить. За это и крестьяне платили ему особенным, чисто душевным расположением и даже, не коверкая, отчетливо произносили его довольно трудное имя — Вацлав Лаврентьевич.
Особенно расположены крестьяне были к нему за то, что он по первому призыву ехал куда угодно и не стеснялся доставляемым ему экипажем или лошадьми — едет на одной. Рассказывали как факт, что однажды его встретили переезжавшим из одного села в другое на телеге рядом с бочкой дегтя, — и это по округу, раскинутому на громадное пространство, при стоверстных расстояниях между селениями. Словом, это был, как говорили крестьяне, «душа-человек».
Несмотря на недавнее наше знакомство, мы с ним успели сойтись и сдружиться, а потому я с удовольствием встретился с ним на второй день призыва в помещении волостного управления — месте присутствия.
— Со мной обедаете, конечно? — спросил я его после обычных приветствий.
— Да, но не сегодня: мне сегодня надо пораньше кончить — дельце тут еще одно предстоит.
— Какое?
— Вскрытие надо произвести; убили тут одного с месяц тому назад.
— Знаю, но разве до сих пор труп не вскрыт?
— Нет, я в другом конце округа {Сибирский уезд.} пребывал; чай, сами знаете, сколько там происшествий, убийств, скоропостижных смертей.
— Но как же можно так долго держать покойника?
— Эх, вот и видно, что вы новичок! Месяц — долго!.. Да при прежнем враче — положим, это давно было, я уж лет десять служу — по полугоду трупы вскрытия ждали, а он, при наших расстояниях, говорит: месяц — долго! Приедут из России, да на российскую мерку и меряют.
— Да разве здесь не Россия? — улыбнулся я.
— Россия-то Россия, да только подите, поскачите-ка по ней с мое. Между каждым селом чуть не ваш уезд поместится.
— Это-то так, но как же их сохраняют? Ведь за это время они могут подвергнуться сильной порче!
— В ледниках, — такие помещения в каждом селе имеются.
— Но как же вскрывать мерзлый труп?
— Для этого есть «анатомия», то есть изба с печкой. Истопят ее пожарче, да покойника накануне вскрытия туда и принесут. Я уж вчера сделал распоряжение.
— Запах все-таки, я думаю, ужасный?
— Ничего, слабоват… Да пойдемте вместе, увидите и узнаете; кстати, и вскроем в вашем присутствии… — предложил мне Вацлав Лаврентьевич.
— Пожалуй! — согласился я.
— Начнемте, начнемте, господа! — заторопился окружной судья, председатель присутствия.
Мы уселись за стол и началось освидетельствование.
По окончании присутствия отправились на вскрытие.
В «анатомии» уже дожидался нас земский заседатель {Род станового пристава, исполняющего обязанности следователя и мирового посредника.} с письмоводителем, фельдшер и несколько крестьян-понятых.
Вообразите себе небольшую, в две квадратных сажени, избу, состоящую из одной комнаты с двумя окнами, добрая половина которой занята громадной печкой, а другая — большим деревянным столом для трупов — остальная мебель состоит из нескольких табуретов — дверь в эту избу прямо с улицы, без сеней, с крылечком в несколько ступеней — и вы будете иметь полное понятие о сибирском анатомическом театре, кратко именуемом «анатомией».
Температура в «анатомии» напоминала жарко натопленную сибирскую баню (сибиряки все сплошь большие любители париться); сторож, приставленный к этому общественному учреждению, ввиду присутствия в селе почти всего начальства видимо постарался.
И в такой-то температуре почти целые сутки пролежал труп, уже с месяц хранившийся в леднике, хотя и набитом льдом, но атмосфера которого, ввиду спертости воздуха и отсутствия вентиляции (об этой затее сибиряки не имеют понятия — даже форточки вы редко встретите в сибирских городских жилищах) не предохраняет от гниения. Трудно себе представить, какой заразой обдало нас с доктором, когда мы отворили дверь…
Доктор, впрочем, как человек привычный, не обратил на это обычное для него явление никакого внимания, меня же положительно отшатнуло, но, устыдясь свой слабости, я вошел довольно смело. Поздоровавшись с присутствующими, я уселся на любезно предложенный мне заседателем табурет.
Все разместились, и началось вскрытие.
В избе стоял какой-то пар, еще более сгустившийся после того, как один из понятых затворил дверь, оставленную мною открытой. Мне казалось, что я с трудом вижу лица присутствующих и только слышу выкрикивания Вацлава Лаврентьевича, диктующего письмоводителю акт вскрытия, и скрип письмоводительского пера.
Не прошло и пяти минут, как я не вынес и встал.
— Нет уж, вы, доктор, орудуйте без меня: я уйду… не в состоянии… обедать подожду… — заявил я и, шатаясь, направился к двери.
Если бы понятые не поддержали меня под руки и не вывели за дверь, я упал бы.
— Ишь, петербургская неженка, амбры, видно, захотел… — раздалась за мной шутка Вацлава Лаврентьевича.
Выйдя на улицу, я опустился на ступени крыльца и несколько минут не мог прийти в себя, но морозный воздух скоро сделал свое дело — я, что называется, очухался — но разыгравшийся было во время присутствия аппетит совершенно пропал, и я смело мог исполнить данное доктору обещание — подождать его обедать.
Я потихоньку отправился на квартиру, которую занимал по отводу у одного зажиточного крестьянина, почтенного, но еще бодрого старика Ивана Павловича Точилова.
Точилов почитался в селе первым человеком, и мир всегда приглашал его для обсуждения казусных дел, хотя он давно, по старости лет, как он уверял, отказался от выборных должностей. Впрочем, на своем веку он послужил обществу, немыми свидетелями чего были похвальные листы, выданные ему начальниками губернии и развешанные по стенам в рамках за стеклами. Власти в селе он не потерял, а служба отнимала время, которое ему было дорого, — он был приискатель, то есть, кроме крестьянского надела, имел свой небольшой прииск. Я застал его маленькую семью, состоящую из старухи-жены и младшей дочери, девушки лет девятнадцати (три старших были замужем; одна даже за купцом, о чем Иван Павлович очень любил говорить), в моей комнате за чаем.
Увидав меня, обе хозяйки заторопились было подавать обедать, но я заявил, что подожду доктора, и присел к столу.
— Ну, чайком не побрезгуйте; не кирпичный — байховый, — заметил хозяин.
Я не отказался.
— А Вацлав Лаврентьевич в «анатомии»? — спросил он, беря из рук жены стакан и подавая мне.
— Да, и я было пошел туда, да сбежал, не вынес.
— Непривычному человеку оно, точно, муторно {Тошно.}; не раз тоже я на своем веку там бывал; уж на что, кажется, человек неслабый, а все слюна возжей.
— Ужасно! А главное — ничего не поделаешь, — согласился я, вспомнив разговор с доктором в присутствии.
— Я, вот, когда в головах {До введения в Сибири земских учреждений в селах были не старшины, а головы.} ходил, одно средство придумал, — помогало, — заметил хозяин.
— Какое же?
— Солил.
— Что солил? — удивился я.
— Покойников, — невозмутимо продолжал Иван Павлович. — Посыпешь, это, на лед соли, положишь его, тоже сольцей обсыпешь, он и в сохранности. Соль-то у нас недорога. Многие головы и по соседним селам то же делали, а потом перестали, потому народ стал не в пример бесстрашнее, да и строгости уже не те…
— Разве не те!? Прежде, как говорил Вацлав Лаврентьевич, по полугоду трупы вскрытия ждали — какие же тут строгости!
— Оно точно, — отвечал хозяин, — и поболе даже лежали; однако, все же у нас насчет покойников строго было, потому покойник, коли ненадлежащую кончину принял, — казенный, а казенное, известно, пуще глаза беречь надо.
— Кто это вам сказал, что покойник казенный?
— Известно кто — барин!
— Какой барин?
— Заседатель был у нас — законник такой, до страсти. Лет с десять будет, как его сменили. Так тот, если какой изъян в трупе увидит — беда!
— Какой такой изъян? — недоумевал я.
— Да такой: однажды случилась оказия при мне еще, как я последний год в головах ходил; караулили мы одного покойника, караулили, да и прокараулили — мыши нос у него и отгрызли. Насилу откупились.
— Как откупились?
— Так! Приехал доктор, вынесли, это, покойника в «анатомию», ан носа-то у него нет! Заседатель на дыбы: «Как же я от вас, православные, казенное имущество с повреждением приму? Самому мне, что ли, за вас ответ давать? Нет, благодарствуйте, я сейчас рапортом по начальству», — и ушел из «анатомии». Крестьяне ко мне: «Выручай, Иван Павлович!..» Пошел. Прихожу к барину — сидит, пишет. Так и так, ваше благородие, не погубите… ведь один нос… на что ему его в землю-то? «Как на что? Лик, можно сказать, обезображен, а он — один нос!.. Ах ты… да я тебя!» И начал, и начал. Вижу, что разговоры пустые бросить надо, твержу только: «Не погубите, заслужим, миром заслужим». Пять красненьких заломил! Однако, на трех порешили.
— И отдали? — спросил я.
— Предоставили в минуту. Беду-то и сбыли, слава тебе, Господи! — заключил хозяин.
Я расхохотался во всю комнату.
Иван Павлович удивленно смотрел на меня.
В это время в дверях показался доктор и начал разоблачаться.
— Ну, слава Богу, жив! — обратился он ко мне. — Чего вы тут на все село гогочете?
— Да, помилуйте, Вацлав Лаврентьевич, Иван Павлович просто уморил, рассказывая, как у них заседатель нос покойника в тридцать рублей оценил, — отвечал я, еле сдерживая душивший меня хохот.
— А… Слышал я эту историю. Ведь смешно кажется, а факт. Делались тут дела в относительно недавнее время… Как-нибудь порасскажу вам на досуге, — заметил доктор, усаживаясь за стол, на который хозяйка уже поставила дымящуюся миску с пельменями.
Мы принялись за них.
СИБИРСКИЙ «ДЕРЖИМОРДА» Из моей памятной книжки
По прибытии на службу в Восточную Сибирь мне вскоре пришлось выехать в округ, или, по-нашему, уезд, в одно из больших сел, отстоящих от того города, где я имел пребывание, в ста верстах.
В этом селе имел, как принято выражаться в Сибири, резиденцию земский заседатель. Этот сибирский чин равняется нашему становому приставу, с тою лишь разницею, что кроме чисто полицейских обязанностей, он исполняет обязанности мирового посредника и судебного следователя. В этом последнем качестве он был отчасти подчинен мне, и я ехал обозревать его делопроизводство. Собственно, делопроизводство не того, который находился в то время на этом посту, а его предместника. Новый был только что назначен и сообщил мне, что встречает много затруднений ввиду запутанности следственной части принятого им участка, и я, собственно говоря, ехал помочь ему разобраться, тем более, что «запутанность» была весьма естественна, если знать, что за «субъект» был его предместник. Это был один из старых «сибирских служак», большая часть которых, при облегченном вздохе населения, по введении реформы 25 февраля 1885 года сошли, по независящим от них обстоятельствам, с арены их многолетней и небесплодной для них самих служебной деятельности.
Описываемый мною заседатель был один из первых уволен без прошения, под судом же он состоял давно, каковое обстоятельство в Сибири не мешает состоять на государственной службе. Вскоре к нему присоединились десятки других отозванных от «кормления» служак, и они составили чуть не целую армию «недовольных» новыми порядками и ликующих при малейшей неудаче, ошибке или невинном промахе «новых деятелей». Увольнение этого пробывшего почти десять лет в одном и том же участке заседателя случилось вследствие выкинутого им «кушдштюка» сравнительно невинно-игривого свойства. В местной врачебной управе получен был от него в одно прекрасное утро с почтою тюк, состоящий из ящика, по вскрытии которого в нем оказалась отрубленная человеческая голова с пробитым в двух местах черепом. Одновременно с этим было получено и отношение земского заседателя, к номеру которого и препровождался тюк, в каковом отношении заседатель просил врачебную управу определить причину смерти по препровождаемой при сем голове, отрезанной им, заседателем, от трупа крестьянина, найденного убитым в семи верстах от такого-то села. При этом заседатель присовокупил, что на остальном теле убитого знаков насильственной смерти, по наружному осмотру, не обнаружено. Врачебная управа, получив такую неожиданную посылку, сообщила о таком «необычайном казусе» по начальству, которое ввиду наступивших новых веяний и уволило «рьяного оператора» от службы. Интересно то, что уволенный заседатель никак, вероятно, и до сих пор не может понять, за что его уволили, так как, по его словам, он сделал это единственно, дабы не затруднять начальства и не наносить ущерб казне уплатою прогонов окружному врачу. Под судом же этот заседатель состоял по делам «почище», которые, впрочем, все сводятся к тому, что он не только «брал» — что в прежнее время в Сибири не считалось даже проступком — но брал «не по чину».
В делопроизводстве-то такого сибирского «юса» мне приходилось разбираться.
Выехав из города рано утром, я прибыл в село, служившее конечной целью моего путешествия, когда уже стало смеркаться. Дело было зимой. Село было большое — в Сибири, впрочем, мелких поселений-деревень почти нет, и села, хотя отстоят друг от друга на сотни верст, но зато всегда громадны. Существуют такие, которые тянутся на протяжении семи и более верст. Крестьяне живут зажиточно, у них, по большей части, двухэтажные дома. В селе всегда имеется церковь, трактир, несколько лавок с овощным и панским товаром и неизменный «питейный». Лишь на краях каждого села, у «поскотины», как именуется здесь околица, ютятся «мазанки» — глиняные лачуги ссыльно-поселенцев. Они составляют в сибирских селах как бы отдельную корпорацию и, по большей части, служат в работниках у крестьян.
Уже совсем смерклось, когда ямщик мой лихо вкатил в распахнутые настежь ворота «земской квартиры», где я решил отдохнуть до утра, когда прибудет извещенный о моем приезде заседатель и мы примемся за «дела». «Земской квартирой», или «дворянской», называется в Сибири дом зажиточного крестьянина, где есть две-три чистые комнаты, которые он отдает «под проезжающих чиновников», за что получает известное вознаграждение от казны. Убранство этих «земских квартир» нимало не отличается от убранства помещений других зажиточных крестьян, в которых они живут сами. Те же беленые стены с видами Афонских гор и другими «божественными картинками», с портретами Государя и Государыни и других членов Императорской фамилии, без которых немыслим ни один дом сибирского крестьянина, боготворящего своего Царя-Батюшку, та же старинная мебель — иногда даже красного дерева диваны с деревянными лакированными спинками, небольшое простеночное зеркало в раме и непременно старинный буфет со стеклами затейливого устройства, точно перевезенный из деревенского дома «старосветского» помещика и Бог весть как попавший в далекие Сибирские Палестины.
Хозяин «земской квартиры», с которым я был знаком ранее, так как он не раз бывал у меня в городе по делам, принял меня с настоящим «сибирским» радушием. На столе тотчас появился чай со всевозможными «припусками» и «приедками» — так именуются в Сибири печенья к чаю и пирожки с разным фаршем — водочка с закуской, состоящей из неизменных рыжиков, селенги (копченая сибирская селедка) и «стругани» — мороженой сырой стерляди, настроганной ножом и облитой соусом из горчицы, масла и уксуса. Я попросил хозяина составить мне компанию, и мы, усевшись за стол, принялись за чай и прочие яства. Разговор перешел, как всегда и везде в Сибири в то время, на «новые порядки».
— Ну, что, Иван Алексеевич, — обратился я к хозяину, — довольны у вас новым заседателем?
— Не пригляделись мы еще к нему, ваше высокоблагородие, да и он к нам, — степенно отвечал тот. — Да после старого-то, впрочем, и волк за ягненка покажется, — прибавил он после некоторого раздумья.
— А что, разве лют был?
— Как зверь рыкающий, по деревне рыскал. Кровопивец!
— Что же вы не жаловались?
— Жаловались, и не раз, да все на свою голову. Доказать не могли. Да и не те были порядки, что ноне. Ну, и выходил зверь-то наш лютый — овцою неповинною. Однажды даже подвести надумались, да не удалось.
— Как подвести?
— Да так, взятку при свидетелях дать, а потом и к начальству.
— Что же, не взял?
— Какое не взял, вдвое взял, да только не взяткой это оказалось.
— Как так? Расскажите!
— Да что я вам, ваше высокоблагородие, своими мужицкими речами докучать буду! Вы, может, после дороги и почивать желаете, — стал отлынивать спохватившийся хозяин, увидав, что он, по его мнению, не в меру заоткровенничал с «начальством».
— Нет, еще рано, ночь велика, пожалуйста, расскажите! — пристал я.
— Будь по вашему, — согласился припертый, что называется, к стене хозяин.
Наполнив стаканы чаем, он начал:
— Ходил я в те поры сельским старостой. От кровопивца-то нашему селу, поблизости, больше всех доставалось. Вот и собрались мы на сход и порешили: дать ему пятьдесят рублев при свидетелях. Меня застрельщиком к нему послали. Прихожу. «Что надо?» — рявкнул барин {Народное прозвище заседателей.}. «Да так и так, ваше благородие, — начал я, — как вы завсегда наш благодетель, о нашем благе радетель и пред начальством заступник, то мир порешил вас отблагодарить». — «Деньгами?» — «Так точно, ваше благородие». — «Что ж, это хорошо», — заметил барин. «Только, ваше благородие, решили, чтобы „депутацией“ в несколько человек поднести». — «Сколько народу?» — «Да окромя меня, трое». — «Гм, — крякнул заседатель, — что ж, это можно! На, вот, тебе мой кошелек». Вытащил он его из кармана и, вынув перво-наперво находившиеся там деньги, передал кошелек мне. «Положи туда деньги и принеси, а они пусть войдут… ничего!» Положили это мы в кошелек пять красненьких, да и айда опять к заседателю, уже вчетвером. «Вы зачем?» — как рявкнет он на нас, у нас всех поджилки затряслись. Одначе я успел выговорить: «Вот кошелек!» — «Кошелек, — ударил он себя по карману, — а я и не заметил, как его на деревне обронил, ну, спасибо, любезные, что нашли и доставили. Заседательские деньги трудовые, святые, день и ночь о вас пекусь, покоя не имея, спасибо, спасибо». Мы только рот разинули и ни с места. «Только, что же это?» — закричал заседатель, взяв кошелек, вынув и сосчитав деньги. «Тут всего пятьдесят рублей, а было сто. Так вы, други любезные, себе половинку прикарманили. Начальство обворовывать! Я вам покажу! В остроге сгною! Чтоб сейчас остальные доставить. Вон!» Я обернулся, а свидетелей моих уж и след простыл. Ну, я и сам задом к двери, — кое-как восвояси убрался. Вот он какой эфиоп-то был, — заключил свой рассказ хозяин.
— Что же дальше? — спросил я.
— Дальше-то… Собрались, покалякали, почесали затылки, полезли за голенища, собрали еще полусотенную, да и предоставили. Одначе, я с вами заболтался, — заметил хозяин. — Покойной ночи, приятного сна!..
Мы расстались.
Я, вынув из ремней одеяло и подушку, устроился на диване и потушил свечу, но долго не мог заснуть. Мне все мерещилась комически-грустная картина шествия опростоволосившихся мужичков, почесывающих затылки и несущих сметливому заседателю его «собственные» деньги.
В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО Быль
Памятна для меня эта страшная ночь.
Два года прошло с тех пор, а между тем при одном воспоминании о ней мурашки бегают по спине и волосы дыбом поднимаются. Так живы и так потрясающи ее впечатления.
Был поздний вечер 24 декабря. Я прибыл на Установскую почтовую станцию, отстоящую в двадцати пяти верстах от главного города Енисейской губернии — Красноярска — места моего служения, куда я спешил, возвращаясь из командировки. На дворе стояла страшная стужа; было около сорока градусов мороза, а к вечеру поднялся резкий ветер и начинала крутить вьюга.
Местность — безлесная, однообразная степь с виднеющимися вдали по обеим сторонам хребтами высоких гор — отрогами Саянских.
— Лошадей! — крикнул я, вбежав, совершенно закоченевший, несмотря на надетую на мне доху, в теплую комнату станции.
Из-за стола, на котором стояла высокая лампа со стеклянной, молочного цвета подставкой и самодельным абажуром из писчей бумаги, поднялся старичок-смотритель, прервав какую-то письменную работу. И, сдвинув очки в медной оправе на лоб, меланхолически проговорил:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! — повторил поспешно я, подавая ему руку. — Нельзя ли приказать поскорей лошадей?
— Приказать, отчего нельзя — можно, — тем же тоном продолжал он, — только мой совет вам — здесь переночевать.
— Как переночевать? — вскрикнул я, посмотрев на часы.
Было десять часов вечера. Через два часа я надеялся быть в городе и хоть в первом часу ночи, хоть в час — на елке у губернатора, а там, — там был для меня, как говорит Гамлет, «сильнейший магнит».
— Так, переночевать, а завтра, чуть забрезжит, и ехать, — невозмутимо советовал мне смотритель.
Хладнокровие его взбесило меня.
— Вы с ума сошли! Мне через два часа надо быть в городе! — категорически заявил я.
— Да вы видели, погода-то какая? — уставился он на меня.
— Погода, погода, — погода ничего… — смутился я, тем более, что как бы в подтверждение его слов сильный порыв ветра буквально засыпал окна станции мелким сухим снегом.
Стекла дребезжали.
Он молча указал мне на них.
— Ну, что ж, холодно, метель, да не Бог знает, что такое. Да и езды-то всего каких-нибудь два часа. До города рукой подать, — оправился я от первого смущения.
— Холодно, метель!.. — укоризненно передразнил смотритель. — Не метель, а вьюга, сибирская вьюга! А вы знаете, что такое сибирская вьюга?
— Не знаю и знать не хочу! Что-нибудь очень скверное, как и все сибирское, — обозлился я.
— Все, положим, не все, а вьюги здесь скверные, и вам все равно до города скоро не доехать, так как дорогу занесло и надо будет ехать чуть не ощупью. А неровен час собьетесь с пути — пропадете вместе с ямщиком! Засыпет — и капут.
Я было струхнул, но воображению моему представился образ «сильнейшего магнита».
— Бог милостив, живо докатим, — заявил я. — Да и что попусту время тратить? Мы бы уж версты три отъехали, пока с вами здесь разговоры разговаривали. Говорю вам, давайте лошадей.
— Извольте! — пожал он плечами и направился к выходу. — Вы «по казенной», так мне вас хоть на тот свет, а отпустить надо, а ехали бы «по частной» — ни в жисть бы лошадей не дал.
Новый порыв ветра, сильнее первого, дал знать, что погода не унимается.
На дворе начали позванивать колокольцы, и тройка вскоре была готова.
— Останьтесь лучше, — начал быстро смотритель.
— Вот пустяки! — выбежал я на крыльцо и бросился в повозку. Староста застегнул передний замет.
Вьюга разыгралась вовсю.
— С Богом, трогай, — глухим голосом произнес смотритель, стоявший на крыльце, и быстро ушел в комнаты, сильно хлопнув дверью. Тройка понеслась. Колокольчик застонал.
Я не помню, долго ли мы ехали. Под однообразный звон я дремал, пригревшись в уголке со всех сторон закрытой кошмой {Войлок.} повозки.
Вдруг прекратившийся звук разбудил меня.
Колокольчика не было слышно.
— Что случилось? — крикнул я ямщику.
— Беда, барин, дорогу потеряли, заносит, — донесся до меня его голос.
Он, видимо, был в нескольких шагах от повозки.
Я отстегнул переднюю кошму.
Вьюга бушевала. Лошади стояли, понурив головы, изредка вздрагивая; повозка накренилась на бок и почти уже до половины была занесена снегом. Луна ярко светила с почти безоблачного неба, но, несмотря на это, далее нескольких шагов рассмотреть было ничего нельзя, так как в воздухе стояла густая серебряная сетка из движущихся мелких искорок.
Снег падал хлопьями.
Ветер гудел и вдруг с силой рванул переднюю кошму и помчал далеко в поле.
Слева от меня, в двух шагах, выделялся на белой пелене поля большой деревянный крест.
Таких крестов не встречается нигде чаще, чем в Сибири. Они попадаются и около почтовых трактов, и близ проселочных дорог, и совсем в стороне от дороги, и служат немыми свидетелями совершившихся в этой «стране изгнания» уголовных драм, придорожных убийств и разбоев.
На местах, где находят жертвы преступлений, ставят эти символы искупления, а подчас найденные трупы и хоронят тут же, без отпевания, для которого надо было бы везти их за сотни верст до ближайшего села.
Снова послышался звон колокольчика. Я посмотрел по направлению к лошадям — это ямщик отпрягал пристяжную и толкнул дугу над коренником.
— Что ты делаешь? — спросил я его.
— Верхом, барин, дорогу поискать хочу, пешком-то было утоп, сугробы, — отвечал он.
Ветер продолжал яростно гудеть, вьюга крутила все сильнее и сильнее.
Повозка наполнялась снегом: мои ноги, обутые в высокие валенки, были закрыты им до колен.
Я не помню, что я отвечал ямщику и лишь смутно припоминаю его фигуру уже верхом.
Меня охватила какая-то внутренняя дрожь, затем вдруг стало теплее и теплее. Я почувствовал сладкую истому…
Крест слева стоял уже передо мной и как будто подвинулся ближе. Я не спускал с него глаз.
Вот он тихо закачался, потом движения его стали сильнее, и он постепенно начал подниматься кверху, как бы подталкиваемый кем-нибудь из-под земли.
Вот он наклонился совсем, а на его месте стоял, выделяясь на снежной равнине, дощатый гроб.
Я затаил дыхание.
Крест уже лежал плашмя.
Раздался мерный, глухой стук, а затем послышался треск, — это отлетела крышка стоявшего около меня гроба.
Из него приподнялась женщина, одетая в одну белую рубашку с высоким воротом и длинными рукавами. Черные как смоль волосы, заплетенные в густую косу, спускались через левое плечо на высокую грудь, колыхавшуюся под холстиной, казалось, от прерывистого дыхания. Лицо ее, с правильными, красивыми чертами, было снежной белизны, и на нем рельефно выдавались черные дугой брови, длинные ресницы, раздувающиеся ноздри и губы, — красные, кровавые губы. Глаза были закрыты.
— Ты пришел, я ждала тебя… — прошептала она, но губы ее не шевелились.
Я вздрогнул, услыхав этот шепот.
Она протягивала ко мне свои руки, белые, как мрамор.
Я невольно, как бы подчиняясь непреодолимой силе, потянулся к ней и почувствовал ее холодные, как лед, объятия, они постепенно леденили меня; я коченел.
Она приподняла меня, и мы отделились от земли и неслись в каком-то пространстве, в облаках серебристого света. Она наклонила ко мне свое лицо. Я слышал ее дыхание, — оно было горячо, как огонь; я прильнул губами к ее раскаленным губам и ощутил, что жар ее дыхания наполнял меня всего, проходя горячей струей по всем фибрам моего тела, и лишь ее руки леденили мне спину и бока.
Мы продолжали нестись, слившись в огневом поцелуе.
— Кажется, жив! — раздался около меня голос.
Я открыл глаза и увидал перед собой старика-смотрителя Установской почтовой станции. Я лежал на лежанке, и меня растирали снегом.
Когда я совершенно пришел в себя, меня уложили в постель и стали поить чаем.
Оказалось, что мы отъехали от станции не более пяти верст, как сбились с пути, и ямщик верхом, поворотив назад, с трудом отыскал дорогу и объявил на станции о случившемся. Сбили народ, отправились выручать меня и нашли уже засыпанным снегом.
— Говорил ведь, не слушались, — покачал головой смотритель, садясь ко мне на кровать. — Слава Богу, вовремя поспешил, а то так и нашли бы вы могилку в сибирской степи.
Я только схватил его руку и крепко, с благодарностью пожал ее. Я понял, что он спас мне жизнь.
— И занесло-то вас к Варвариной могилке.
Я посмотрел на него вопросительно.
— Кто была эта Варвара?
— Бродяжка тут одна; года полтора, как была поселена у нас; чудная такая, видимо, из благородных, из себя высокая, красивая, молодая еще, в работницах у старосты жила; только вдруг с год, как заскучала, да в одной рубахе зимой и ушла; на том месте, где она похоронена, и нашли ее замерзшей.
Я рассказал смотрителю мое видение.
— Она, она, вылитая она! — воскликнул он.
Объяснить это последнее совпадение я не берусь, но только повторяю, что для меня вечно будет памятна эта ночь под Рождество.
НА ЕЛКЕ У ПРИРОДЫ Быль
Была ночь на 25 декабря 188* года.
Лютые морозы уже давно крепко сковали быстроводный Енисей, нагромоздив на нем глыбы льда в форме разнообразных конусов, параллелограммов, кубов и других фигур — плодов причудливой фантазии великого геометра-природы.
Вся эта грандиозная сибирская река казалась широкой лентой фантастических кристаллов, покрытых белоснежною пеленою, искрящеюся мириадами блесток при ярком свете северной луны.
Только ближе к берегу, на котором расположился неказистый, хотя и состоящий в чине губернского, сибирский городишко, ледяная поверхность глаже, и на белоснежном фоне виднеется темная полоса. Это дорога водовозов, направляющихся ежедневно к сделанной невдалеке проруби.
Город расположен на горе, и к реке ведут крутые спуски, застроенные домами, образующими несколько переулков. На самом же берегу, внизу, у главного центрального спуска — Покровского — тоже виднеется справа масса построек: покосившихся деревянных домишек, лачуг и даже землянок, образующих затейливые переулки и составляющих Кузнечную слободу, получившую свое название от нескольких кузниц, из отворенных дверей которых с утра до вечера раздается стук ударов молота о наковальню.
Кузнечная слобода сплошь заселена поселенцами.
Город еще не спал. Большие окна деревянного здания на Большой улице, в котором помещался клуб или, как он именуется в Сибири, Общественное собрание, лили потоки света, освещая, впрочем, лишь часть совершенно пустынной улицы. В клубе была рождественская елка. Все небольшое общество города, состоящее из чиновников по преимуществу, собралось туда со своими чадами и домочадцами встретить великий праздник христианского мира.
Около этого-то здания и была некоторая жизнь. В остальных же частях города, и в особенности в слободе, царила невозмутимая, подавляющая тишина.
Бедный люд спал после тяжелого дневного труда, и сладкие грезы переносили его, быть может, в другие миры, на елки не в пример роскошнее той, возле которой собралась аристократия сибирского города.
Но, чу!.. В одной из слободских землянок скрипнула дверь, отворилась, и на пороге появилась человеческая фигура.
Осторожно притворила она за собой дверь и быстрою, неровною походкою направилась к Покровскому спуску.
Вот она уже у самой реки, вот вступает на лед и идет, но уже медленно, к проруби.
Отблеск луны в снежных кристаллах дает возможность рассмотреть во всех деталях эту фигуру.
Эта фигура женщины.
Изодранные валенки на ногах, пестрядинная юбка, наточная неуклюжая кофта с несколькими разноцветными заплатами на спине и боках и дырявый шерстяной платок, окутывающий всю голову, — вот ее костюм.
Она подходит к проруби, замедляя шаги, останавливается у самого края, как бы в раздумье, и вдруг в изнеможении опускается на один из ледяных выступов реки и низко-низко наклоняет голову.
Лица ее все еще не видно.
Как-то холодно, жутко становится при виде этой склонившейся над прорубью одинокой человеческой фигуры среди безбрежного царства снега и льда.
Сильный мороз, от которого не спасает ее убогая одежда, вероятно, пронизывает ее всю до костей, но ей, видимо, не холодно.
Вот она судорожным движением сорвала с головы платок, расстегнула ворот кофты и выпрямилась.
Луна осветила ее лицо.
На вид ей казалось не более двадцати пяти лет: истомленное худое лицо носило отпечаток пережитого горя, преждевременно ее состарившего; русые с золотистым отливом волосы, всклоченными, полурасплетенными косами ниспадали на ее плечи.
Все выносящее, но дошедшее до конца, терпение и невыносимые страдания читались на этом, когда-то миловидном, лице.
Исхудалая грудь нервно колыхалась. Глаза, когда-то голубые, но выцветшие от слез, уставившись на открытую пасть проруби, выражали нечеловеческую решимость.
Кто бы из обывателей города ни увидал ее, всякий узнал бы в ней всегда молчаливую, всегда готовую на самые тяжелые работы поденщицу.
Она была известна всем в городе под странным прозвищем — «жены бродяги».
Кто она? Откуда? Как зовут ее? — никто не знал, да и не от кого было узнать это.
Только двое людей знали ее прошлое: ее муж-бродяга, по самому характеру преступления не могущий никому ничего рассказывать, и на все вопросы, обращенные к нему, отделывавшийся стереотипным «не помню», да она. Но она сама старалась забыть это прошлое и, если бы было можно, даже забыть самое себя… Ей было не до разговоров.
В народе толковали, что ее муж, женившись на ней, в России носил довольно громкое имя, которое оказалось не принадлежащим ему. Когда это обнаружилось, он, не долго думая, причислил себя к непомнящим родства, заявив, что он — «бродяга».
Толковали также, что ее семья, весьма почтенная и богатая, требовала, чтобы она разошлась с мужем, «непомнящим родства», но она любила не имя, а человека — своего мужа, отца только что родившегося ребенка — девочки, и отказалась.
Родные тоже отказались от нее.
«Не помнящий родства» был осужден на ссылку в Сибирь, и она, «жена бродяги», без колебаний, с ребенком на руках, пошла за ним, «по воле», «этапным путем».
Окончился тяжелый каторжный путь. Они прибыли на место и поселились в Кузнечной слободе, в землянке, купленной ею на оставшиеся гроши от продажи в России последних вещей и от расходов далекого пути.
Не долго муж прожил с ней: месяца через два он ушел из дому и не воротился. Пошел ли он просто бродяжничать, собрался ли назад в Россию — неизвестно. Он ушел, не простившись ни с женою, ни с дочерью, которой уже пошел третий год.
Пять лет прошло с тех пор. Она все ожидала его, но он не возвращался. Всю нежность своего любвеобильного сердца отдала она дочери. Для нее трудилась, не разгибая спины, над непривычной для нее поденной работой.
Вся жизнь матери была в ее ребенке.
Ежегодно свято соблюдался в неприютной землянке день 24 декабря. Посередине убогой комнатки ставилась маленькая елочка, украшенная грошовыми гостинцами, и мать встречала Рождество Спасителя, любуясь радостью своей дочурки, весело и беззаботно прыгавшей вокруг освещенного и украшенного деревца.
В описываемый нами день елочки этой зажжено не было. Малютка уже около месяца лежала в постели — сильная простуда разрушила слабый организм ребенка.
Мать день и ночь просиживала у ее изголовья, но заботы ее не помогли.
В ночь на 25 декабря ребенок ушел на елку к Христу.
Долго еще бедная мать сидела перед ним, не спуская глаз с безжизненного, вытянувшегося тельца, как бы все ожидая, что оно пошевелится, и лишь когда убедилась в роковой истине, она осторожно оделась, будто боясь потревожить ее вечный сон, тихо отворила дверь и вышла.
Ни одной слезинки не показалось на ее глазах.
Очутившись над прорубью, за секунду до осуществления роковой мысли, за секунду до перехода в другой лучший мир, все ее прошлое — со дня ее детства до страшного момента оставления ею холодного трупа ребенка там, в пустой землянке, — пронеслось перед ней яркой живой картиной.
Ее душит внутренний жгучий жар этих воспоминаний.
Она усиленно дышит, бессознательно глядя в пространство.
В рассыпанных кругом по снежным кристаллам искрометных блестках — отражениях холодной, но яркой луны «страны изгнания» — ее воспламененному воображению чудятся иные огни.
Вспоминается ей тоже все залитое огнями пространство. Громадная зала представляется ей — она и теперь, кажется, вдыхает насыщенную ароматами атмосферу. Слышится ей и теперь мягкий шелест нарядной толпы, звуки музыки, полные неги.
Она вспоминает свою «первую елку».
Горькая усмешка скользит по полураскрытым от тяжелого дыхания устам.
«Да разве я и теперь не единственная гостья на елке у холодной, богатой, роскошной природы?» — мелькает в ее уме вопрос.
Она почти весело озирается кругом, любуясь переливами огней в ледяных и снежных кристаллах.
Вот она встала, с силой рванулась вперед, как бы падая в чьи-то объятия.
Раздался сильный всплеск воды и все опять тихо.
На ледяном выступе реки, у края проруби, черным пятном виднелся оставленный ею дырявый шерстяной платок.
Кругом все также весело искрились разноцветными огнями ледяные и снежные кристаллы, отражая кроткий блеск яркой луны.
Нагоревшая сальная свеча в мрачной землянке тускло освещала окоченевший труп маленькой девочки.
В «общественном собрании» тоже гасли одна за другой свечи в канделябрах и люстрах. Лишенная своих украшений елка печально стояла посреди темнеющей залы. С полными руками конфет и игрушек разъезжались по домам счастливые наступившим праздником дети.
Свиделась ли гостья на елке у природы со своею дочерью на елке у Христа?
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! Рассказ
Было два часа великой ночи на Светлое Христово Воскресение.
Роскошный дом Сергея Прохоровича Сазонова сиял огнями. В столовой был великолепно сервирован стол для разговенья. В доме, кроме прислуги, был один Сергей Прохорович. Вся семья его, состоящая из жены, трех дочерей и двух сыновей, была в церкви;, ему же что-то нездоровилось и он остался дома. На разговенье ждали гостей.
— Я здесь, кстати, и распоряжусь, — сказал он жене, отправляя ее с детьми к заутрени.
Молча ходит он по своему комфортабельному кабинету в ожидании возвращения семьи из церкви и приезда приглашенных.
Вдруг он остановился посреди комнаты, как вкопанный. Глубокие морщины появились на красивом лбу этого, далеко не старого человека с легкою проседью в черных как смоль волосах на голове и бороде — видимо, его осенила какая-то гнетущая мысль…
Он вспомнил своего покойного друга и товарища по делу — Павла Николаевича Храброва… Вспомнил, как они оба начали то дело, которое привело его, Сергея Прохоровича, к богатству и почету, а Храброва к преждевременной могиле от излишних трудов. Вспомнил, как умирающий просил его позаботиться о его семье — жене и трех малолетних детях, и как он, Сергей Прохорович, обещал ему эту заботу. Но что же он сделал для этой семьи? Он принял жену его на службу в одну из своих контор с жалованьем по тридцати рублей в месяц и на этом успокоился. Бедная женщина гнет спину за эти гроши, на которые она едва перебивается в маленькой квартирке на Песках с тремя детьми подростками, с девяти часов утра до восьми часов вечера, а ночи проводит за домашней работой, а он… он утопает в роскоши. Нужда, и им когда-то испытанная, представляется ему чем-то далеким-далеким. Он забыл ее.
Худая, бледная, измученная непосильной работой вдова Храброва как-то особенно рельефно предстала в его воображении именно такою, какою он недавно видел ее в конторе.
«Ей долго не прожить», — мелькнуло еще тогда в его голове.
А между тем покойному Храброву причиталось получить прибылей от прекрасно пошедшего незадолго до его смерти дела около пяти тысяч рублей. Смерть покончила счета, не основанные на документах, и деньги остались в кармане Сергея Прохоровича.
«Я вор, я утаил эти деньги от его семьи! — как-то болезненно вдруг крикнул он сам себе. — Но почему же только теперь, в эту великую ночь, я сознал эту ужасную истину?.. Это Господь вразумляет меня. Надо спешить».
Быстро подошел Сергей Прохорович к вделанному в стене несгораемому шкафу, отпер его и нервно начал считать деньги. Отсчитав пять тысяч рублей, он положил их в карман и вышел в переднюю.
— Скажи барыне, что я буду через полчаса, чтобы подождали меня, — сказал он лакею, подававшему ему пальто.
— Слушаю-с! — стереотипно ответил тот. Сергей Прохорович вышел из дому.
Стояла чудная теплая ночь. В городе царствовала какая-то торжественная тишина, изредка прерываемая отдаленным стуком экипажа. На улицах было пусто — все были в церквах. Но чу… раздался звон колокола, сперва в одном месте, затем, как эхо, в нескольких других и, наконец, в воздухе повис, как бы шедший сверху, какой-то радостный, до сердца проникающий гул — это звонили к обедне… Сергей Прохорович, с удовольствием вдыхавший в себя мягкую свежесть теплой ночи, перекрестился…
— Как хорошо! — невольно сказал он сам себе.
Долго шел он пешком, пока не нашел извозчика, в пролетку которого и сел, не торгуясь.
— На Пески, в пятую улицу! — приказал он вознице.
С трудом отыскав во дворе громадного дома квартиру Храбровой, Сергей Прохорович постучался в указанную ему дворником дверь, которую отворила сама хозяйка и как бы окаменела от удивления.
Опрятная нищета, которая страшнее нищеты непокрытой, проглядывала во всей обстановке этого убогого жилища.
В квартире еще не спали. Мать с тремя детьми разговлялась скудною трапезою.
— А я к вам, не ждали? — начал Сергей Прохорович, вступая в комнату.
Храброва все еще не могла произнести ни слова.
— В эту великую ночь, когда Воскресший спаситель мира запечатлел наше искупление от грехов, я хочу искупить мой тяжкий грех перед вами и вашим мужем: вот пять тысяч рублей, принадлежавшие ему, так как это половина прибыли, полученной с нашего дела еще при его жизни. Возьмите и простите меня, — протянул он ей пачки.
— Христос воскресе! — машинально произнесла все еще не опомнившаяся Храброва.
— Воистину воскресе! — набожно ответил Сергей Прохорович.
Они похристосовались.
Затем он перецеловал детей, обещав им прислать на другой день по яйцу, снова объяснил Храбровой, какие деньги он привез ей и, пожелав ей счастья, уехал.
— Христос воскресе! — встретили его дома жена, дети и собравшиеся гости.
— А мы заждались тебя, — сказала супруга. — Куда это ты ездил ночью?
Сергей Прохорович в коротких словах передал причины и цель своего отъезда.
— Зато теперь я могу спокойно и нелицемерно ответить вам: воистину воскресе! — закончил он свой рассказ и начал христосоваться с семьей и гостями.
ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Из личных воспоминаний
— Доброе слово, в час сказанное, — сила, государь мой, великая сила.
Так сказал между прочим наш приходской священник отец Алексей, когда, после обедни, в воскресенье, я по обыкновению зашел напиться чаю к гостеприимному пастырю и к не менее радушной его хозяйке — матушке-попадье Марье Андреевне.
Перед нами дымились уже не первые стаканы душистой китайской влаги, и мы основательно успели отдать должную честь разным «яствам и питиям», большею частью домашнего приготовления, собственноручного или под наблюдением матушки-попадьи, от которых буквально ломился стол со стоявшим на нем свистевшим и пыхтевшим внушительных размеров самоваром, вычищенным до блеска червонного золота.
Отец Алексей был свежий и бодрый старик лет шестидесяти с умным и добродушным открытым лицом — весьма редко встречающееся соединение.
Около двадцати лет служил он все в одном и том же богатом петербургском купеческом приходе и был положительно боготворим своими духовными детьми, привлекая их и своевременною строгостью, и своевременным словом утешения, и добродушно-веселым нравом во благовремении.
Господь благословил его двумя, как принято называть, «красными» детками: сыном и дочерью. Первый учился в университете и жил отдельно от отца, а вторая была замужем за одним из московских присяжных поверенных.
Отдельная жизнь сына была далеко не результатом натянутых отношений с отцом. Напротив, отец Алексей сам настоял на этом, не желая стеснять молодого человека, избравшего себе иную, светскую дорогу.
— Сами были молоды, сами были студентами, хоть и духовными, а бывало к товарищу, что в родительском доме живет, на канате не затащут. И сидит он, горемычный, сиднем один, или сам из-под крова родительского убежит; а для молодежи обмен мыслей — первое дело. В спорах они и развиваются… Ну, покутят там, Бог с ними, все мы люди, все мы человеки. А зато ума друг от друга набираются… Ко мне придет — милости просим, значит, по доброй воле с отцом-стариком побеседовать желание возымел, — говаривал отец Алексей, когда заходил разговор о его сыне.
Таким образом, он жил лишь вдвоем с женою, почтенною старушкою, такою же, как и он, свежею, бодрою и веселою, в маленьком флигеле его собственного дома, стоявшем в глубине его обширного двора и окруженном небольшим садиком с выкрашенной яркою зеленою краскою решеткою — уютном гнездышке двух состарившихся голубков, каковыми, несомненно, представлялось всякому эта примерная супружеская чета.
В маленькой уютной столовой этого-то флигелька и шел тот разговор за чаем, который служит предметом настоящего рассказа.
Было это лет десять тому назад, в последнее воскресенье на масленице, именуемое прощенным.
Темою разговора была только что произнесенная отцом Алексеем проповедь на тезисы молитвы Господней: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим».
Отец Алексей был один из выдающихся петербургских проповедников.
Основная идея этой проповеди была та, что мало испросить прощенье у ближнего на словах, надо заслужить это прощенье и делом, и словом, и помышлением, и, главное, самому безусловно, непоколебимо, с чистым сердцем, простить врагов своих. «Яко же и мы оставляем должникам нашим», — таково условное обращение к Богу-Отцу, предписанное нам словом Бога-Сына.
Проповедь эта, произнесенная с тою силою и рельефною картинностью, которыми отличалась речь отца Алексея, произвела на слушателей потрясающее впечатление. Я был положительно растроган до глубины души и рассыпался в искренних восторженных похвалах проповеднику.
— Не в картинности и витиеватости сила нашего «духовного» слова, — скромно остановил меня отец Алексей, — а в удаче и счастье найти среди слушателей хоть единую душу, куда навеки западет сказанное слово, и исполнится на ней слово Евангелия: «А иное семя упало на добрую почву и дало плод». Доброе слово, в час сказанное, — сила, государь мой, великая сила!
Не успел отец Алексей окончить этой фразы, как в передней раздался сильный звонок.
Отворившая горничная пришла доложить, что пришел посланный от купца Синявина, который и просит отца Алексея немедленно пожаловать к ним.
Гаврила Семенович Синявин был купец-миллионер — один из выдающихся тузов петербургского хлебного берега. Он был вдовец и жил с дочерью, Надеждою Гавриловной, красивой двадцатидвухлетней девушкой, чернобровой, круглолицей, как говорится, кровь с молоком, обладающей тем типом русской красоты, о представительницах которой сложилась поговорка: «Взглянет — рублем подарит».
Не смотря на миллионное приданое, она продолжала сидеть «в девицах», и об этом обстоятельстве ходили разноречивые толки.
Утверждали между прочим, что она без памяти влюблена в одного из «молодцов» своего отца, а потому и отказывает всем другим женихам, но не решается сознаться в этом своему родителю, хотя и боготворящему свою единственную дочь, но человеку нрава крутого, способного на всевозможные самодурства под девизом: «Нраву моему не препятствуй», — девизом, впрочем, общим для представителей серого петербургского купечества, во главе которого стоял Синявин. Толки эти, однако, большинством относились к области сплетен.
Мы с отцом Алексеем вышли в переднюю к посланному.
— Заболел, что ли, кто у вас? — справился отец Алексей у подошедшего под его благословение посланного «молодца».
— Никак нет-с, батюшка, все, слава Богу, в добром здоровьи…
— Молебен, что ли, служить?
— К молебну не готовятся.
— Что же случилось?
— Этого мы не можем знать, чудное что-то делается…
— Что же такое?
— Вернулись Гаврила Семенович от обедни, да прямо в образную и прошли. С час места там пробыли и вышли оттуда сияющий такой, радостный, — никогда мы его такого не видали. В столовую прошли, а оттуда тотчас приказ вышел: Алексея Парфеновича, что у нас в кухонных мужиках служит, и сына его, нашего же «молодца», Петра Алексеевича, к чаю позвать, а меня — бежать к вам, а потом и их к нам пригласить.
Посланный молодец при последних словах обратился ко мне. Я был уже несколько лет поверенным Гаврилы Семеновича.
«Зачем я-то вместе с отцом Алексеем понадобился? Завещание, что ли, хочет переписать? Да ведь недавно еще оно написано», — недоумевал я.
Получив ответ, что мы сейчас явимся, посланный удалился.
Алексей Парфенович жил у Синявина хотя и не совсем в «кухонных мужиках», как выразился посланный, но, собственно говоря, «по милости на кухне».
Изредка из досужих уст врагов Гаврилы Семеновича слышались рассказы, что будто бы Парфеныч, как обыкновенно звали этого худенького, вечно задумчивого, молчаливого, как бы пришибленного тяжелым горем старичка, был когда-то богачем и хозяином Синявина, служившего у него «старшим приказчиком». Доверившись последнему, Алексей Парфеныч задумал «вывернуть тулуп», что на купеческом жаргоне означает объявить себя несостоятельным. Переведя на его имя все свои лавки и дом, он, по благополучном окончании несостоятельности сделкою, остался не при чем, так как Синявин наотрез отказался перевести имущество на имя его настоящего владельца. Управы на него искать было нельзя, ибо все было сделано на законном основании.
Алексей Парфеныч сперва рвал и метал, но пробившись, как рыба об лед, года два в Петербурге и потеряв за это время свою жену, он смирился и обратился снова к Синявину, совершившему с ним «коммерческий оборот». Тот милостиво отвел ему место на кухне, а сынишку его, Петра, взял мальчиком в одну из лавок.
Этот-то Петр и был тем «молодцом», ради которого, как утверждала молва, Надежда Гавриловна осталась «в девицах». История с Парфенычем, за давностью лет, повторяем, припоминалась лишь изредка и была почти забыта.
Богатые хоромы Синявина были невдалеке от церкви и от дома отца Алексея, а потому не более как через четверть часа после ухода посланного мы уже входили в столовую Гаврилы Семеновича.
В столовой, кроме «самого» и его дочери, были старушка-тетка Надежды Гавриловны, сестра ее матери, вдова купца, умершего несостоятельным, заведывавшая хозяйством Синявина, и два соседа по лавкам Гаврилы Семеновича, нарочно, как мы потом узнали, приглашенных хозяином. Тут-то, у стола, в сконфуженно-недоумевающем ожидании, на кончиках стульев, сидели старик Алексей Парфенович и его сын Петр — красивый брюнет лет двадцати пяти.
Не успели мы показаться с отцом Алексеем в дверях столовой, как из-за стола поднялась красивая, атлетически сложенная фигура Гаврилы Семеновича.
Все остальные сидевшие поспешили вскочить со своих мест.
Он быстрою, твердою походкою подошел к отцу Алексею и совершенно неожиданно для него упал на колени и поклонился ему в ноги.
Пораженный служитель алтаря остановился недвижимо.
— Великое дело совершил ты надо мной, добрый пастырь стада Христова, — начал Синявин, сделав три земных поклона, — свет пролил мне в душу словом Божиим, просветлил мой ум, и совесть моя чернее ночи мне показалась. Помоги мне и ее осветить светом истины. Помолись за меня, великого грешника, отец мой духовный!
Гаврила Семенович стал лицом к громадному образу Спасителя в массивной золотой ризе, висевшему в столовой, божественный лик которого был освещен мягким светом литой серебряной лампады.
Отец Алексей, не ответив ему ни слова, стал громко читать молитву Господню. При словах «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим» из груди упавшего ниц Синявина послышались глухие рыдания.
— Яко твое есть царство и сила и става во веки веков! Аминь! — закончил священник и остановился.
Гаврила Семенович поднялся с колен.
— Выслушай же теперь, отец мой, — снова обратился он к отцу Алексею, — мою исповедь. Выслушайте и вы, православные.
Синявин сделал нам всем три поясных поклона.
— Исповедь греха моего, который я скрывал даже на духу в течение двадцати лет!
Он в коротких словах рассказал историю своего поступка с Парфенычем, уже известную читателям.
— Просветленный пастырским словом, хочу я смыть с души моей этот тяжкий грех. Горячо, прийдя от обедни, молился я и Господь вразумил меня. Не мне, ни Алексею Парфеновичу не нужно богатство — о другом богатстве помышлять нам пора — а потому все свое состояние передаю я сыну его, Петру Алексеевичу. Вас прошу я это оформить по закону, но, слышите, все-все! — закончил он свою речь уже обращаясь ко мне.
Я молча поклонился в знак согласия, положительно потрясенный всей этой сценой.
— А теперь я могу с чистым сердцем попросить у тебя, Алексей Парфенович, прощения.
Синявин упал в ноги старику, обливаясь слезами. Тот поднял его и трижды облобызал. Оба несколько времени искренно плакали.
Все присутствующие хранили гробовое молчание. Его нарушил Петр Алексеевич.
— Надо ведь и меня стоит спросить: соглашусь ли я сам принять этот дар?
Все в недоумении установились на него.
— Я согласен только при условии, что это состояние я получу как приданое за моей будущей женой, а вашей дочерью — Надеждой Гавриловной! — твердым голосом продолжал молодой человек, обращаясь к Гаврилу Семеновичу.
Он подошел к зардевшейся, как маков цвет, девушке, взял ее за руку и подвел к отцу.
— Благословите…
— Ин будь по твоему! Благодари отца Алексея, просветившего душу мою. Заикнись ты вчера…
И в глазах Синявина мелькнул на секунду прежний огонек самодурства, но тотчас угас. Он обнял жениха и невесту. Отец Алексей, по согласию обоих родителей, тоже благословил их.
Все успокоились и сели за стол, на котором появились дымящиеся блины и всевозможные разносолы.
Во время великого поста я устроил перевод состояния, а на красной горке Надежда Гавриловна стала госпожой Парфеновой.
Гаврила Семенович, совершенно удалившийся от дел, и Алексей Парфенович неуклонно посещают и по сей день церковные службы в храме, где и до сих пор священнодействует отец Алексей.
Их можно всегда видеть стоящими у алтаря.
Оба живут у сына и дочери.
Дела фирмы Петра Парфенова, бывшей Гаврилы Синявина, идут блестяще.
Несмотря на протекшие десять лет, для меня памятно и, вероятно, останется памятно на всю жизнь это прощенное воскресенье, и я душой понимаю до сих пор звучащие в моих ушах слова отца Алексея:
— Доброе слово, в час сказанное, — сила, государь мой, великая сила!
ЧЕРНИЛЬНАЯ КЛЯКСА Идиллия
Ардальон Михайлович Тихомиров был тогда совсем еще юноша, несмотря на то, что ему шел уже двадцать четвертый год; он был еще мальчик наружностью и душою.
Столичная жизнь, в которую он окунулся недавно, приехав из отдаленной провинции, сопутствуемый благословением родной матери, бедной вдовы-чиновницы, собравшей на поездку единственного сына в столицу за карьерой последние крохи, не успела еще наложить на него свою печать преждевременной зрелости. Окончив курс лишь гимназии, он не мог рассчитывать на многое и с помощью нескольких лиц, знавших его покойного отца, получил место вольнонаемного писца в одной из бесчисленных столичных канцелярий.
Кроме того, что это был вполне приличный, скромный молодой человек, он отличался еще необыкновенно красивым почерком; письмо свое, при старании, он мог довести до художественной изящности.
Это скоро выдвинуло его в глазах начальства: ему назначили больше жалованья и стали поручать переписку важных бумаг, идущих к важным лицам. Работу ему приходилось брать и на дом. Он просиживал над нею целые вечера и часть ночей, но усиленная и кропотливая работа не могла заглушить голоса молодости со всеми ее мечтами и увлечениями.
Этот голос дал себя знать…
На дворе стояла весна, сердце просило любви, и Ардальон Михайлович влюбился. Предметом его страсти была бойкая девушка — Марья Петровна Бобылева, соседка по комнатам с Ардальоном Михайловичем. Оба они снимали комнаты в одном из домов на Песках у съемщицы.
Марья Петровна была хорошенькая блондиночка лет двадцати, работящая девушка, искусная белошвейка, имевшая заказы от нескольких магазинов и многих частных лиц. С утра до вечера сиживала она за работой, оглашая свою комнату веселым пением. Симпатичный голос невольно западал в душу каждого.
Ардальон Михайлович, сидя вечером за работой, невольно, через отделяющую их тонкую стенку, заслушивался пением своей веселой соседки.
Живя рядом, они невольно встречались ежедневно и наконец познакомились.
Ардальон Михайлович ни за что бы не решился на первый шаг, но она сама заговорила с ним по какому-то незначительному случаю и знакомство завязалось.
Марья Петровна в свободную минуту забегала в комнату Ардальона Михайловича посмотреть на работу «отменного каллиграфа», как она шутя называла его.
Влюбленный Ардальон Михайлович и наслаждался, и страдал от этих посещений. Бесконечная любовь, обуявшая его к соседке, виднелась во всех чертах его молодого, симпатичного лица, но ни единым нескромным словом не выдал он перед ней свою тайну.
Так, по крайней мере, казалось ему.
Но для бойкой Марьи Петровны чувства ее соседа к ней далеко не были тайной.
Она давно видела его насквозь, ценила его скромность и не старалась оттолкнуть, но и первого шага делать не хотела.
Однажды Ардальон Михайлович сидел над перепиской длинной бумаги к какому-то чересчур важному лицу.
Он работал над нею уже второй вечер, и работа подходила к концу.
Только что он начал выводить первую фигурную букву последней красной строки, как в его комнату впорхнула Марья Петровна с новым песенником в руках.
Углубленный в работу, он не слыхал ее приближения. Она же, перегнувшись через его плечо, посмотрела на его работу и как-то, совершенно нечаянно, толкнула его.
На артистически написанном листе появилась огромная чернильная клякса.
Ардальон Михайлович был до того поражен, что, обернувшись к Марье Петровне, вдруг заплакал…
Она растерялась и нагнулась к нему совсем близко… В комнате раздался поцелуй…
Через несколько времени он получил штатное место и они обвенчались…
Это было двадцать пять лет тому назад. Теперь он уже делопроизводитель, а она мать пятерых детей, из которых взрослая дочь уже пять лет как замужем, а сын кончает курс в университете.
Они до сих пор почти по-прежнему любят друг друга.
Лист бумаги с огромной чернильной кляксой, в рамке из черного дерева, под стеклом, висит у него в кабинете.
Он любит показывать его своим добрым знакомым, говоря, что этой чернильной кляксе он обязан своим настоящим счастьем.
СЕСТРА НАПРОКАТ Старинная история
Это старая история, которая вечно…
Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть «вечно… новою», но и не может — я глубоко убежден в этом — даже повториться в наше время.
Я рассказываю ее без всяких намеков на современность и, перефразируя девиз ордена Подвязки, заранее говорю всем моим читателям: «Да будет стыдно тому, кто иначе об этом подумает».
Итак, это было давным-давно.
Федор Петрович Стремлянов был молодой человек с обеспеченными средствами. Приехав на жительство в Северную Пальмиру, он, несмотря на возможность жить без труда, пожелал поступить на службу.
— Все-таки будет у меня известное «положение», — рассуждал он как сам с собою, так и в кругу своих приятелей.
Решившись на этот шаг, он начал наблюдать за открывавшимися вакансиями в разных ведомствах. Кандидатский диплом открывал ему дорогу и давал право на поступление на службу по тому или другому ведомству по его выбору.
Долго присматривался он к тем и другим ведомствам; наконец одно из них пришлось ему по вкусу и он подал докладную записку. Место было довольно заманчивое, а потому на него было много претендентов.
Шансов получить его было мало, хотя Федор Петрович по образованию мог бы иметь преимущество, но… Это роковое «но» существовало и тогда для людей без протекции.
Познакомившись и сошедшись даже на дружескую ногу с некоторыми из служащих того учреждения, куда он метил поступить, Федор Петрович разговорился как-то с ними по вопросу: выгорит ли его кандидатура или нет?
Со стороны чиновников было выражено сомнение.
— Вот если бы за вас кто-нибудь просил особенно, — говорили одни.
— Если бы у вас была жена или сестра, да еще хорошенькая, ну, тогда дело можно бы считать решенным. Наш старикашка большой волокита и не в состоянии отказать в просьбе хорошенькой женщине, — заявляли другие.
— Да, это было бы другое дело, — соглашались все.
Федор Петрович положительно потерял надежду: он был холост, сестер у него не было, знакомых, кроме нескольких друзей, товарищей по университету, людей чинами незначительных, тоже не было: приходилось проститься с мыслью получить желаемое место.
Свое горе он сообщил своим приятелям.
— Это дело, по-моему, поправимое, — заметил один из друзей Федора Петровича, Николай Сергеевич Рахманов.
— Будь друг, скажи как? — весь превратился в слух Стрем-янов.
— Надо напрокат сестру достать…
Последовал взрыв общего хохота.
— Не понимаю, что тут смешного, я говорю совершенно серьезно, — продолжал Рахманов. — В Петербурге все отдается на прокат, начиная с мебели и кончая живыми людьми. Мать родную, а не только сестру можно на прокат достать.
— Если ты не шутишь, то объясни! — заявили слушатели.
— Извольте! Есть у меня на примете одна хорошенькая штучка, пополнившая недавно контингент наших «этих дам», но еще неизвестная. Она с удовольствием согласится — за известное вознаграждение, конечно — разыграть роль сестры Стремлянова и ходатайствовать за него у его будущего начальника.
— А ведь это мысль! — заметил Стремлянов.
— Конечно, мысль! — продолжал Николай Сергеевич. — Кроме того, ходатайство такой «сестры напрокат», будет не в пример успешнее, чем сестры настоящей, так как она может дать старичку более авансов.
Все согласились, что выдумка — хоть куда.
— Ты мне это, брат, устрой! — приставал к Николаю Сергеевичу Стремлянов.
Тот обещал.
Через несколько дней он привез согласие Полины Александровны — так звали эту барыньку — устроить дело за тысячу рублей: половина должна быть выдана вперед, а половина — по благополучном окончании.
Стремлянов согласился.
Вскоре он получил вызов к начальнику.
— Я нашел возможным оставить просимое место за вами, — обратился к нему старичек.
Стремлянов почтительно поклонился.
— Как здоровье вашей сестры?.. Она премилая девушка! — заметил начальник.
— Благодарю вас! — и Стремлянов незаметно улыбнулся.
Он получил место и выдал остальные пятьсот рублей Рахманову для передачи Полине Александровне.
Старичок-начальник почти ежедневно, при докладе, справлялся о здоровьи его сестры.
Прошло несколько недель.
Раз в кабинет начальника учреждения, в котором служил Стремлянов, влетел начальник другого учреждения, такой же молодящийся старичок, bon-vivant.
— А я за тобой заезжал вчера, но не застал дома, — затараторил пришедший, — мы устроили катанье на тройках, а потом ужин. Какую я новую «звездочку» открыл, не иностранную, а нашу русскую, но красота, грация, свежесть — dИlicieuse! — причмокнул гость.
— Жаль!.. Я вчера ездил по делу. C'est enneux.
— Не жалей! Не скрою: познакомлю… Ну, и рассмешила же она нас вчера, рассказывая, как она за тысячу рублей разыграла недавно роль сестры одного господина и исходатайствовала ему у какого-то «старого дуралея» место.
Лицо начальника Стремлянова вытянулось.
— Она блондинка? — спросил он.
— Настоящая!
— На левой стороне шейки родимое пятно?
— А ты почем знаешь?
— Так… я слышал, — процедил тот сквозь зубы.
Приятели расстались.
С тех пор начальство никогда не справлялось у Стремлянова о здоровье его сестры.
ДВА МУНДШТУКА Очерк из канцелярской жизни
У канцелярского чиновника Петра Сергеевича Пальчикова после одного из двадцати чисел появился янтарный мундштук.
Мундштук был хороший, довольно большой и отделанный в серебро.
Петр Сергеевич с важностью вынул его перед товарищами из футляра и, вставив папироску, закурил, пока просыхала написанная им страница.
Товарищи полюбопытствовали.
— Настоящий молочный янтарь: пять рублей заплатил, — ораторствовал Пальчиков.
У некоторых из чиновников разгорелись от зависти глаза; но особенно появление у Пальчикова мундштука повлияло на его приятеля, канцелярского служителя Ивана Ивановича Ягодина.
Он положительно заскрипел зубами.
Надо сказать, что несмотря на то, что Ягодин с Пальчиковым были приятели, они, вместе с тем, были страшными соперниками, но соперничество их стояло, впрочем, исключительно на почве туалета. Приобретет ли себе Пальчиков новую жилетку — глядь, и у Ягодина появляется новая жилетка; появится ли у Ягодина булавка в галстуке или новый брелок на цепочке кастрюльного золота — смотришь, на другой же день такою же, если не лучшею, вещью щеголяет Пальчиков. Соперничество это доставляло им порой дни, проводимые на сухоедении, но все-таки продолжалось. Часто они в душе злились друг на друга, но все же были приятелями.
Понятно, что появление у Пальчикова такого дорогого мундштука поразило в самое сердце Ягодина.
— Лучше, вероятно, и нет, а если есть, то баснословно дороги, — думал про себя Ягодин, рассматривая мундштук приятеля.
К столу подошел столоначальник Анисим Петрович.
— Хорош, — глубокомысленно произнесло ближайшее начальство, — но если бы такого размера был весь пенковый, то было бы лучше.
— Вы говорите, Анисим Петрович, пенковый лучше? — воззрился на него Ягодин.
— Да, пенковый не в пример лучше и дешевле; но если его хорошенько обкурить, то больших денег он стоит, — решил Анисим Петрович.
У Ягодина отлегло от сердца.
— И долго его обкуривать надо? — продолжал он приставать к Анисиму Петровичу.
— Солдатам дают, обыкновенно, обкуривать; за полтинник на водку в месяц чернее угля сделает; табак-то крепкий, махорку курят.
— Но почему же так обкуренные пенковые мундштуки ценятся, что лучше и янтарного? — вступился, обидевшись за свой мундштук, Пальчиков.
— А потому, что из обкуренного пенкового мундштука дым мягче, да, кроме того, он крепче железа делается, хоть об камень, что есть силы, бросай — не разобьется.
— Да ведь и янтарный… — пробовал заступиться Пальчиков.
— Янтарный, да не такой! Который не бьется — не пять, а пятьдесят, может, стоить. Да ты попробуй об пол ударить, — поглядев, решило начальство и отошло.
Пальчиков ударить об пол не попробовал, но как бы обидевшись за мундштук, бережно уложил его в футляр и спрятал в карман.
— Сегодня же куплю себе пенковый; куда ни шло, трешник истрачу, недельку в кухмистерскую не похожу и баста! — решил Ягодин.
Чиновники принялись за прерванные занятия.
— Где бы получше мне пенковый мундштук приобресть? — спросил, по окончании присутствия, Ягодин у Анисима Петровича.
— А на какую цену?
— Рубля на три.
— Можно; пойдем, покажу — мне мимо, а, пожалуй, и выберу, — я в этом толк знаю…
— Сделайте одолжение…
Анисим Петрович с Ягодиным отправились в табачный магазин, где, после долгого выбора, купили пенковый мундштук за три рубля пятьдесят копеек.
— Куда ни шло — еще денька два не поем, — решил мысленно Ягодин, видя, что торговец не уступает из четырех рублей более полтинника.
Мундштук был куплен. Он был молочного цвета, с небольшим янтарем, в футляре, отделанным внутри красным атласом.
Поблагодарив Анисима Петровича, Ягодин со своей драгоценной ношей отправился домой.
Он жил на Сенной площади, в комнате от съемщицы.
— Надо еще хозяйкиному куму за обкур отложить, — итого, четыре рубля; значит, не обедать-то придется дней десять — рассчитывал он, ощупывая в кармане свою покупку.
На другой день мундштук был показан товарищам, те одобрили.
— А все-таки твой дешевле! — заметил Пальчиков.
— Дороже будет! — отвечал Ягодин.
— Это когда еще будет…
— Скоро.
Ягодин уже переговорил накануне со своей хозяйкой, и та обещала уломать кума, бравого солдата-гвардейца, обкурить мундштук за полтинник.
— Табачищу этого он садит — страсть, — заметила она.
По возвращении на другой день из присутствия, Ягодин вручил полтинник и мундштук гвардейцу.
— Недели в три у нас углем сделается, — тотчас пообещал хозяйкин кум.
— Ты постарайся.
— Уж будьте без сумления.
Ягодин стал ожидать. Потянулись томительные дни. Хорошо, что Пальчиков, истратившись на мундштук, не приобретал себе обновок, а то бы совсем беда. Ягодин голодал и так.
Наконец, через три недели и два дня (Ягодин считал даже часы) хозяйкин кум принес мундштук. Красный атлас футляра был порядком позасален, но зато сам мундштук сделался из молочного темно-коричневым.
Ягодин был на седьмом небе…
Он с нетерпением ждал утра другого дня, когда он будет торжествовать победу над Пальчиковым. Всю ночь ему не спалось…
— Я ему форсу-то поубавлю, — думал он, ворочаясь на жестком, как камень, тюфяке.
Наконец, наступило утро.
Он пришел на службу и вынул мундштук.
Товарищи заахали.
— Вот это мундштук, так мундштук! — авторитетно заявил Анисим Петрович.
Ягодин торжествовал.
— А, ну-ка, брось! — произнес Пальчиков. Ягодин самоуверенно бросил. Мундштук разлетелся вдребезги.
— Не совсем обкурился, — хладнокровно решил Анисим Петрович и отошел.
Ягодин со слезами на глазах бросился собирать осколки. Пальчиков, самодовольно улыбаясь, покуривал из своего янтарного мундштука.
Картина!
ПОВЫСИЛИ Очерк из канцелярской жизни
Грустен и пасмурен пришел в один прекрасный день на службу канцелярский чиновник Виктор Дмитриевич Быков.
Без сна проведенная ночь положила свою печать на лицо молодого человека, и без того утомленное сидячею жизнью писца.
Не в оргии с товарищами буйно проведенная ночь сделала это.
К чести моего героя надо сказать, что он не пил, но был на дороге сделаться пьяницей: он был влюблен и влюблен несчастно.
Не в отсутствии взаимности состояло это несчастье, но в лице папеньки «предмета», отставного секретаря сиротского суда, колежского советника Акиндина Михайловича Грабастова. Сердце его юной дочки Софьи Акиндиновны давно уже трепетно билось о корсетик при виде Виктора Дмитриевича и, особенно, его цветных галстуков. Давно они уже передавали друг другу цыдулки на бумажках с изображением Амура, несущего в руках сердце, пронзенное стрелой, но отец был непреклонен.
Еще вчера сказал он Быкову, когда тот наконец решился в последний раз открыть ему свое сердце, пылающее любовью к его дочери:
— Ты, молокосос, эти мысли брось! Диво был бы хоть помощником столоначальника, а то мелкотравчатая канцелярия-пописуха и туда же — на секретарскую дочку, благородную, можно сказать, девицу, с немалыми приложениями, зеньки свои бесстыжие закидывает!..
Виктор Дмитриевич пробовал прослезиться!..
— Брось! — решительно повторил Акиндин Михайлович. — А то и в дом к себе не пущу, а придешь — ноги переломаю!
Так пали лучшие надежды!
Вот отчего произошла бессонная ночь моего героя…
Тихо уселся он на свое обычное место и машинально стал записывать в исходящий реестр подписанные накануне бумаги.
Окончив наконец эту работу и законвертовав всю почту, он принялся за переписку.
«Вследствие отношения вашего превосходительства, от 14-го января, за № 648, имею честь…» — начал выводить он.
Вдруг!.. Но это надо рассказать обстоятельнее.
— Господин Быков, — провозгласил вошедший в канцелярию начальнический курьер, — пожалуйте к его превосходительству.
Виктор Дмитриевич застегнул виц-мундир и с трепетом сердца отправился через коридор и приемную к двери кабинета начальника, несколько раз перед ней откашлялся и вошел…
— Вы уже давно служите, господин Быков, — ласково встретил его начальник, — и всегда были исполнительны… Помощник столоначальника Скворцов подал в отставку, и я нашел возможным назначить вас на его место. Скажите, чтобы заготовили ордер.
Виктор Дмитриевич был на седьмом небе. Он едва проговорил:
— Благодарю, ваше-ство! — и вышел из кабинета.
Не успел он выйти в коридор, как столкнулся с отцом своего «предмета». В коротких словах он передал ему свою радость.
— Молодец! Коли не врешь, — Соньку можешь считать за собою, — проговорил Акиндин Михайлович.
Не чувствуя под собою от радости ног, вошел Быков в канцелярию, передал секретарю приказание начальника об изготовлении ордера и уселся на свое место, размышляя о том, нельзя ли будет попросить пособия на свадьбу.
— Господин Быков! — раздался над ним чей-то резкий голос. Виктор Дмитриевич вскочил.
— Это что такое!? Спать непробудным сном в канцелярии!? Ночлежный дом, что ли, для вас здесь открыли?.. Я этого не потерплю! Пьянствуют по ночам, а сюда спать приходят!.. Извольте подать в отставку!
Перед Виктором Дмитриевичем стоял «сам». На столе лежало недописанное отношение. Это был сон.
ЖЕНУ КУПИЛ До невероятности современный факт
Утро. Кабинет одного из петербургских адвокатов. Хозяин что-то пишет за письменным столом. В передней раздается звонок, и через несколько минут в дверях кабинета появляется, приглаживая рукою сильно напомаженные волосы, еще довольно молодой человек с русой бородкой клином, в длиннополом сюртуке и сапогах бурками.
— Адвокат-с вы будете? — обращается он к хозяину.
— Я буду. Что вам угодно? Прошу садиться, — указывает тот на кресло.
Клиент садится и вертит в руках черный суконный картуз на вате.
Молчание.
— Чем могу служить? — спрашивает адвокат.
— Дело у меня к вам, можно сказать, особенное-с, — как-то конфузливо говорит пришедший.
— Какое же?
— На счет супруги-с.
— Бракоразводное? Я ими не занимаюсь; обратитесь к другому, — замечает хозяин.
— Нет, зачем разводное-с, докладываю я вам — особенное-с.
— Да какое же особенное? — недоумевает адвокат.
— Супругу-с я, значит, в собственность приобрел по документу-с.
— Как супругу? Чью? — уставился хозяин на клиента.
— Тут одного из наших мест-с. Мы, значит, из Лебедяни, купец Куроедов по фамилии-с, красным товаром торгуем-с.
— Это к делу не относится, — перебивает его адвокат, — вы расскажите самое дело поподробнее.
— Поподробнее-с — оно длинное будет, — замечает клиент.
— Ничего; чтобы дать вам тот или другой ответ, надо знать дело обстоятельно.
— Это точно-с, — соглашается клиент, — значит, вам спервоначалу все рассказать?
— Ну, да, спервоначалу!
— Тэк-с. Годика четыре это тому назад будет-с, объявился у нас в Лебедяни тоже адвокат, оно не то, чтобы настоящий, а так, супротив вас, например, другой товар будет, чиновник выгнанный, пропойца. Одначе, мелкие дела по купечеству в лучшем виде орудовал-с и в компании, таперича, человек золотой-с был. Ну, купечеству, сами знаете, это на руку — полюбили. Случись тут у меня дельце кляузное, ну, я, значит, и к Паупертову — адвокат этот самый так по фамилии-с. Познакомились, компанию водить стали, в дом к себе меня пригласил и судьбу этим мою порешил. Жил это он грязно-с, на окраине три комнаты занимал с супругою-с. Увидал я ее и обомлел-с. В грязи да загоне она у мужа находилась, а с лица — красота писаная. Повадился я к ним. Мужа-то одна заря вгонит, а другая выгонит — пьянствует, ну, а мы с супругой тем временем разговоры разговариваем, и всю судьбу ейную я досконально узнал. Не жисть ей, голубушке, была, а каторга: на третьей на ней, на сироте, муж-то аспид женился, года с четыре всего, и дня она, голубушка, с тех пор светлого не видала; нужда, голод да муж пьяница. Жалость меня взяла, и ласков я к ней не в пример после рассказа ее стал. Ну, ласки-то она, может, отродясь не видала, отозвалась, и полюбили мы друг друга.
— Ну, понимаю. Что дальше? Вы, все-таки покороче, — заметил адвокат.
— Слушаю-с. Долго ли, коротко ли, стал я ее от мужа сманивать к себе, значит, в холе пожить. Согласилась. С мужем я на ста рублях поладил; паспорт выдал — переехала. С год уж прошло, супруг не очинно нас беспокоил, иногда это в пьяном образе десятку или синенькую сорвет — и ничего; только к концу прошлого года стал он с меня эту самую контрибуцию уж очинно часто взыскивать; деньжищ я ему целую прорву переплатил-с, а окромя того скандалы-с.
— Вы к делу-с, поближе к делу, — заметил нетерпеливо хозяин.
— Сейчас, к самому концу пришли-с, — отвечал клиент. — На второй день Рождества, значит, является к нам супруг ейный в трезвом виде, как следствует, в аккурате и такую речь повел: «Иван Силыч, — меня так кликают, — чем по мелочи мне с вас за разрушение моего семейного счастья брать, не лучше ли к окончательной цифре прийти, в виде отступного, и супругу тогда я вам мою законную по документу передам и никаких против нее и вас претензий иметь не буду». Что-ж, думаю, кажись и дело говорит. В трактир я его повел, да за чайком и к делу приступили. «Сколько же вы с меня за супругу вашу единовременно возьмете?» — спрашиваю я его. Три тысячи заломил, я ахнул. Одначе, сдался — на тысяче мы порешили; бумагу писать стал. Я, было, чтобы у нотариуса заявить настаивал, а он говорит: «Это для меня конфуз один, и так крепко будет», Я согласился. Съездил домой, десять радужных ему передал и вот эту самую расписку от него получил с маркой гербовой.
Клиент вынул из кармана объемистый бумажник, достал оттуда расписку и подал адвокату.
Тот развернул ее и прочел: «1884 года, декабря 26 дня, я, нижеподписавшийся, выдал сию расписку купцу Ивану Силову Куроедову в том, что передал в вечное его владение законную супругу мою, Митродору Петрову Паупертову, за что и получил с него, Куроедова, тысячу рублей серебром, и обязуюсь никаких беспокойств ни ей, супруге моей, ни ему, Куроедову, не оказывать и никогда против них никаких претензий не иметь, в противном случае должен я ответствовать по законам гражданским и уголовным. Отставной провинциальный секретарь Фемистокл Аристидов Паупертов руку приложил».
— Что же вы хотите? — улыбнулся адвокат.
— Как чего? По законам с ним поступить, так как он с Нового же года деньги опять с меня требовать стал и скандалы учинять, да при том и супругу отобрать грозился, а мне без нея не жисть, — заволновался клиент.
— Вот вам мой ответ: бумагу вы эту разорвите, потому что по законам и покупателя, и продавца живого человека к суду притянут, и вам же достанется, — отвечал адвокат.
— Это за мои же деньги? Ну, закон-с! Значит, окромя денежной контрибуции от супруга ейного ничем не отбрыкаешься?
— Значит!
— Ну, дела! За беспокойство прощенья просим-с…
Своеобразный клиент удалился.
ЦЕПОЧКА Рассказ чиновника
Был воскресный день. На уютной дачке Ивана Павловича Верховенского, в Царском Селе, собралось несколько человек из его бывших сослуживцев.
Гости приехали с утра, завтракали, гуляли, обедали, потом снова гуляли и наконец собрались выпить по «разгонной», с намерением убраться восвояси.
Было уже десять часов вечера, и гости с хозяином во главе сидели в столовой за легонькой закуской, не заметив, что на небе собрались тучи, и только что они хотели подниматься для прощания, как хлынул проливной дождь.
Уезжать не было возможности и приходилось переждать.
Хозяин и гости очутились, как это часто бывает, в весьма неловком положении. Все за день было переговорено, все интересы и новости дня исчерпаны, а расстаться, когда расстаться настало самое время, нельзя…
Наступило общее молчание.
По временам слышались сетования на погоду.
Хозяин предложил выпить.
— Вот что, господа, — произнес вдруг один из гостей, еще молодой, веселый блондин с министерскими баками, — пока этот несносный дождь льет, как из ведра, и, видимо, не обещает скоро кончиться, давайте, чтобы не играть в молчанку, поочередно рассказывать какой-нибудь эпизод из своей собственной жизни…
— Какой же эпизод? — послышались голоса.
— Какой-нибудь, все равно! — заметил предложивший.
— Нет, уж лучше пусть каждый расскажет, каким образом совершился с ним один и тот же факт, — заметил другой гость — лысый старичок с золотыми очками на носу.
— То есть, как один и тот же факт?
— Очень просто: мы все люди служащие и — кажется не ошибаюсь — все женатые, так пусть каждый расскажет, например, как он поступил на службу или как он женился…
— Отлично, я согласен с этой поправкой моей мысли, — заметил блондин, — но предлагаю лучше рассказать о последнем. Поступление на службу слишком прозаично, женитьба же все-таки поэтичнее…
— Прекрасно, великолепно… — одобрили остальные. — Но кому же начинать?
— Пусть и начнет подавший эту прекрасную мысль — Андрей Афанасьевич, — заметил блондин.
— Да, да, пусть начнет Андрей Афанасьевич, — тотчас согласились все.
— Извольте, я не протестую, я согласен! — ответил старичок. Воцарилось молчание.
Андрей Афанасьевич поправил на носу очки, вынул серебряную табакерку, сделал аппетитную понюшку, откашлянулся и начал:
— Было это, государи мои, ровно тридцать шесть лет тому назад. Я был тогда совсем еще молодым человеком, но уже служил около года писцом по найму. Жалованье я получал грошовое, но жизнь в то время была куда дешевле, а потому я перебивался себе кое-как и даже считался в нашей канцелярии франтом. Из драгоценных вещей была у меня только одна вот эта цепочка моей матери. Покойница, царство ей небесное, подарила мне ее за год до своей смерти, когда я еще в гимназии был. «Носи, — сказала, — Андрюша, дай Бог, чтобы она принесла тебе счастье — из ценных вещей она у меня последняя».
При этом рассказчик показал старинную золотую дамскую шейную цепочку для часов.
— Но при чем же здесь цепочка? — послышался вопрос.
— В ней-то вся и суть, — отвечал старик.
— Не мешайте! Слушайте! Продолжайте! — раздались голоса.
Андрей Афанасьевич продолжал:
— Познакомился я в то время с семейством одного моего сослуживца-старика — нештатного чиновника Сергея Петровича Фролова. Жил он с женой и тремя дочерьми-невестами на Выборгской. Младшая из дочек, шустрая блондиночка Варя, очень мне приглянулась. Стал я бывать у Сергея Петровича довольно часто, а потом, каждое воскресенье, чуть не на целые дни заряживал. Родители принимали меня радужно и ласково, видимо, рассчитывая на меня, как на жениха. Дочек с рук тоже до зарезу сбыть хотелось, потому — бесприданницы были. Я хоть и молод был, но это понимал и вел себя осторожно, потому что в серьезном взгляде на жизнь у меня и тогда, не в похвалу себе будь сказано, недостатка не было, и самому нищему и на нищей жениться считал я нерезонным, да, видно, судьба-то нас не спрашивает и ни один человек не знает, где найдет и где потеряет.
Старик задумался.
— Как, государи мои, осторожен я ни был, — начал он снова, после некоторого молчания, — а молодость брала свое. Стал я за Варенькой ухаживать, а потом и амуры с ней на розовой воде разводить. Барышня не препятствовала… Начались пожатия ручек, а затем дошли тайком да урывками и до поцелуйчиков в щечку, а иной раз и в губки. История обыкновенная — сами, чай, знаете…
Рассказчик засмеялся.
— Насчет свадьбы у меня и в уме не было: так, дескать, в невинную любовь поиграю — и баста… как-то в одно из воскресений, после обеда, папенька ее отдохнуть, по обыкновению, лег, маменька по хозяйству пошла, сестры тоже куда-то разбрелись, и остались мы с Варенькой в гостиной вдвоем. Ну, значит, я сейчас поближе подсел, бобы разные разводить начал, да и, наклонясь к ней, поцеловал ее. Поцеловал сладко так, как теперь помню… В это время маменька в дверь. Я было отскочить от Вареньки хотел — не тут то было, не пускает что-то. А это я своей цепочкой за пуговицы Варенькиного платья зацепился. Ну, и накрыли… В этот же вечер женихом был объявлен, а через месяц и женился. Сначала я поселился у ее родителей, а там, через полгода с небольшим, штатное место получил, и мы уж завели свое хозяйство, да вот тридцать шесть лет с моей Варварой Сергеевной и живу, да так, как дай Бог всякому: в мире, ладу и счастье. Вот она, господа, цепочка-то! Маменька-то, покойница, точно напророчила: именно счастье и принесла мне. Оттого я и не расстаюсь с ней, хотя и немодная, — закончил свой рассказ Андрей Афанасьевич.
— Теперь чья очередь? — раздались голоса.
— Этот черед надо будет отложить, — заметил блондин, — оттого, во-первых, что интереснее рассказа Андрея Афанасьевича едва ли можно ожидать, во-вторых, хозяину пора дать покой, а в третьих, дождь перестал…
Погода на самом деле прояснилась.
Гости поднялись из-за стола и, распростившись с хозяином, отправились на вокзал к двенадцатичасовому поезду, рассуждая дорогой на тему только что слышанного рассказа.
БРАК НЕ ПО СЕРДЦУ Совершенно невероятное приключение
Барон Карл Федорович фон Крафт был молодой человек, подающий блестящие надежды. Выпущенный не так давно из одного привилегированного учебного заведения, он поступил на службу в один из многочисленных петербургских департаментов.
Служба не обременяла его. Питомцы привилегированных заведений не употребляются на черную канцелярскую работу. Они обыкновенно сперва «состоят», а потом сразу «заведуют». Карл Федорович теперь «состоял».
Рекомендованный своему непосредственному начальнику одним из товарищей последнего, — дальним родственником Карла Федоровича, — он был обласкан его превосходительством и даже принят в дом; следовательно, карьера его, при небольшом с его стороны умении, была обеспечена, а умения нашему барону было не занимать. Еще на школьной скамье он мечтал о карьере и между товарищами выбирал лишь сыновей влиятельных и сановитых родителей, умел делаться их другом и через них попал в центр высшего петербургского света, куда нелегко пробраться даже баронам, особенно при том недостатке, которым, к несчастью, обладал Карл Федорович — он был беден.
Впрочем, наш барон и тут умел жить. С помощью тех же товарищей ему был открыт кредит, которым он, в надежде на карьеру и выгодную женитьбу, и пользовался широко.
Все шло, как по маслу. Но туча надвигалась.
Павел Николаевич Оболдуй-Загорянский, начальник Карла Федоровича, был вдовец. Он жил со своей единственной дочерью, Александрой Павловной, красивой девятнадцатилетней брюнеткой, с год как кончившей курс института — богатейшей невестой Петербурга (ходили слухи, что за ней отец дает в приданое полмиллиона, и слухи эти, в виду колоссального состояния Оболдуй-Загорянского, не были неправдоподобны). При дочери жила компаньонка — девушка лет тридцати, имевшая, если верить доходившим сплетням, большое влияние на старика.
Марья Николаевна Шеина — так звали эту компаньонку — жила в доме Павла Николаевича до выхода его дочери из института в качестве домоправительницы и лишь вслед за этим преобразилась в компаньонку.
Оболдуй-Загорянский несколько раз пытался выдать ее замуж за кого-либо из своих подчиненных, но безуспешно: Марья Николаевна была разборчива и не хотела расстаться со своим тепленьким местечком.
Блестящий барон покорил, однако, сердце этой перезрелой девы — она видимо к нему благоволила.
Старик заметил это; но барон был подчиненный привилегированный: ему нельзя было приказать жениться, и Обалдуй-Загорянский выжидал.
Несколько раз он как бы вскользь замечал барону, что за Марьей Николаевной двадцать пять тысяч приданого, но тот, видимо, не понимал или старался не понимать этого намека.
Павел Николаевич не переставал, однако, надеяться и радушно принимал Карла Федоровича, который бывал в его доме запросто почти ежедневно.
Но что же влекло барона?
Не компаньонка. Он метил выше. Полумиллионное приданое хорошенькой дочки Павла Николаевича было для него сильнейшим магнитом.
Александра Павловна тоже не была глуха к исканиям барона, и между ними завязался роман в легком жанре.
Влюбленная парочка, насладившись всеми платоническими прелестями любви, начала мечтать о браке.
Но как быть? Рассчитывать на согласие отца нечего было и думать. Несмотря на неизмеримую любовь к дочери, он бы никогда не согласился на брак ее с малочиновным бедняком.
Баронство Карла Федоровича тоже мало значило в глазах Оболдуй-Загорянского.
Все это молодые люди знали.
На романтическое бегство великосветская красавица не соглашалась, находя это слишком shoking.
Влюбленные страдали.
Барон ходил, как в воду опущенный: чувство любви и жажда уз Гименея увеличивались в нем чувством должника, преследуемого своими кредиторами.
В таком-то состоянии Карл Федорович совершал раз свою обычную прогулку по Невскому.
— Барон, вы ли это? — раздался чей-то голос.
Карл Федорович обернулся и на ступенях входа к Доминику увидал своего старого знакомого и приятеля — Сергея Ивановича Доброволина и вошел с ним к Доминику.
Сергей Иванович велел подать себе водки и кулебяки, а барон чашку кофе и сладкий пирожок.
После обычных расспросов Карл Федорович рассказал Сергею Ивановичу историю своей любви и беспокоющее его разрешение вопроса: «как быть?»
Имя невесты, конечно, было скрыто.
— Очень просто! — заметил Сергей Иванович (он был большой делец). — Она может выйти за вас замуж, не выходя из своего дома, и даже в тот момент, когда будет сидеть с отцом за чаем.
Барон вытаращил глаза.
— Надо достать бумаги невесты, — конечно, с ее согласия, — продолжал развивать свою мысль Доброволин, — а с ними всегда можно найти подходящую «особу», которая согласится за известную плату пойти под венец и расписаться именем и фамилией, значащимися в бумагах невесты. Настоящая невеста спорить против брака не будет, отец не решится на скандал, и все будет обстоять благополучно.
Барона этот план поразил.
— А согласитесь вы помочь мне в этом деле? — вкрадчиво спросил он Доброволина.
— Отчего же, — отвечал тот, — «особу» я вам найду рублей за триста. Привезите бумаги.
Барон записал адрес Дорброволина, а ему дал свою карточку, и они расстались. В этот же вечер Карл Федорович передал план Доброволина Александре Павловне.
Та, после долгих колебаний и упрашиваний со стороны барона, согласилась; но, чтобы добыть бумаги, надо было довериться и Марье Николаевне. Это взялась устроить сама Александра Павловна, ручаясь за успех.
— Она мне очень предана, да и к тебе тоже благоволит, — она согласится, — уверенно заметила она.
Барон был в восторге.
На другой день, утром, он отправился к Доброволину, отвез ему триста рублей и просил найти «особу».
«Особа» была найдена.
В то же время в доме Оболдуй-Загорянского происходили следующие сцены:
Марья Николаевна, выслушав признание и просьбу Александры Павловны, согласилась.
— Это страшно рискованно, ваш отец сживет меня со свету, но я ни в чем не могу отказать вам.
Девушки упали друг другу в объятия.
Через несколько времени Марья Николаевна была уже в кабинете старика.
В коротких словах она изложила ему план его дочери и барона.
— Гм! — крякнул Оболдуй-Загорянский и начал ходить по кабинету.
Несколько минут продолжалось молчание.
— Хочешь быть баронессой фон Крафт? — остановился он вдруг перед Марьей Николаевной.
Та покраснела. Старик понял.
— Положи в конверт вместо бумаг дочери — свои. — Влюбленные рассеянны, а за все остальное отвечаю я, — заметил он.
Марья Николаевна вышла.
Запечатанный конверт с бумагами был вручен барону Александрой Павловной вечером того же дня.
Барон уехал от Оболдуй-Загорянских ранее обыкновенного, крепко пожав на прощание руку Марьи Николаевны.
Та скромно потупила глазки и покраснела.
Карл Федорович помчался к Доброволину и вручил ему пакет, а также и свои бумаги.
Тот объяснил, что свадьбу можно сыграть даже завтра.
— Свидетелями будут: я и трое моих приятелей, — добавил Сергей Иванович.
— Завтра, так завтра! — решил со смехом барон и попросил Доброволина завернуть к нему завтра сообщить назначенный час.
На другой день, в шесть часов, он был в церкви, где невеста, молоденькая миловидная брюнеточка, и Доброволин с приятелями дожидались его. Все было кончено.
За бумагами пришлось заехать через несколько дней.
Дня через три барон получил приказ о назначении его в одну из приволжских губерний. Приказ сначала поразил его, но, обдумав, он решил, что тем лучше.
— Теперь есть предлог потребовать свою жену, — самодовольно сказал сам себе барон. — Можно сделать это и нынче, — продолжал он соображать и взглянул на часы.
Была половина первого — час, когда Оболдуй-Загорянский бывает дома.
Карл Федорович заехал получить бумаги и прямо отправился к «тестю».
— Довольны вы вашим назначением? — встретил его начальник.
— Благодарю вас, но я желал бы выехать к месту моего служения с моею женой, — твердо произнес барон.
— Кто же вам мешает, если вы женаты, чего я не знал, впрочем, — удивился Оболдуй-Загорянский.
— Да, я женат недавно, и жена моя живет в вашем доме, — продолжал барон.
— В моем доме!? — как бы недоумевал Павел Николаевич.
— Да, вот доказательство!
Барон подал бумаги Оболдуй-Загорянскому, который развернул их и начал просматривать.
— Вы женились, мой милый, без позволения начальства и даже тайно от меня, своего хорошего знакомого, а я ведь не был бы ничуть против этого брака.
Карл Федорович не ожидал. Он был потрясен.
— Простите… Страстная любовь… — шептал он.
— Что тут прощать, дела не поправишь! — заметил Оболдуй-Згорянский и позвонил.
Вошел лакей.
— Попроси сюда Марью Николаевну! — приказал он ему.
Через несколько минут Марья Николаевна вошла в кабинет.
— Стыдно, сударыня, иметь тайны от меня, вашего благодетеля, почти отца! — обратился к ней Оболдуй-Загорянский. — Барон сейчас сознался мне, что он недавно тайно обвенчан с вами…
При последних словах Оболдуй-Загорянский подошел к несгораемому шкафу и отпер его.
— Вот ваше приданое — двадцать пять тысяч! — продолжал он, подавая ей сверток ценных бумаг. — Бог простит вас, как прощаю и я… Можете отправляться с вашим мужем: он получил назначение в с-кую губернию.
Барон стоял и слушал в полном недоумении.
— Но я женат не на Марье Николаевне! — успел наконец вставить он свое слово.
— Как!? А что это?
И генерал подал ему бумагу.
Федор Карлович взглянул и обомлел. Это было метрическое свидетельство девицы из дворян Марьи Николаевны Шейной с надписью о том, что она повенчана первым браком с бароном Карлом Федоровичем фон Крафт.
Барон до крови закусил себе губы и злобно посмотрел на свою супругу, стоявшую с опущенной головой и со свертком процентных бумаг в руке.
Через некоторое время молодые отправились в с-кую губернию.

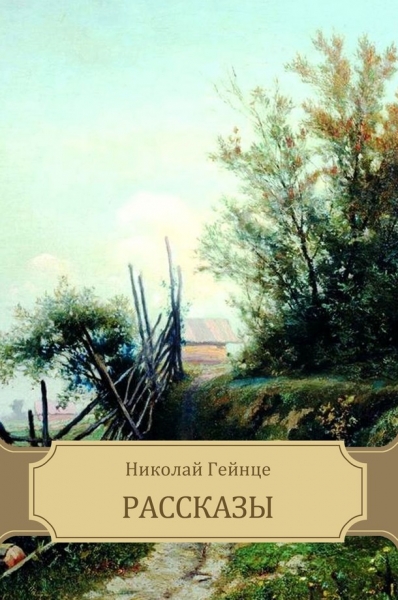


Комментарии к книге «Рассказы», Николай Эдуардович Гейнце
Всего 0 комментариев