I
Эта ночь в Атлантическом океане, под северными тропиками, градусах в пяти от экватора, была волшебная, чарующая ночь.
Небо сверкало звездами, точно брильянтами на темном бархате. Лениво, словно бы нехотя плывущая полная луна глядела сверху задумчиво-томной красавицей и лила свой серебристо-бледный свет, побеждая мрак тропической ночи и придавая ей еще большую прелесть. Океан притих, точно дремал, нежась под лунным сиянием, и волны тихо и ласково шептались одна с другою. И от них и от мягкого пассатного ветра веяло нежной прохладой, столь желанной после палящих лучей тропического солнца. Одетый сверху донизу своих трех высоких мачт парусами, имея их и между мачтами и впереди у бугшприта, военный клипер «Русалка» легко и грациозно скользит по сонным, тихо переливающимся, но все-таки могучим волнам среди волшебного полусвета, весь залитый лучами месяца, направляясь к югу.
С плеском, похожим на ласковый шепот, волны нежно лижут со всех сторон покачивающийся клипер «Русалку», загораясь от прикосновения к ней ослепительным фосфорическим блеском и рассыпая алмазную пыль своих гребешков.
И кажется, будто «Русалка» плывет в каком-то волшебном водяном царстве, полном чудес, в кайме растопленного серебра, оставляя за кормой блестящий след в виде широкой серебристой ленты, исчезающей вдали.
Все спят, кроме вахтенного офицера и вахтенного отделения матросов.
На «Русалке» и вокруг тишина.
Слышатся только словно бы вздохи океана да однообразно тихий гул воды, рассекаемой клипером, напоминающий лепет морского прибоя во время штиля, да по временам пониженные до шепота голоса вахтенных матросов, разгоняющих сказкой или бывальщиной незаметно подкрадывающуюся дрему.
II
Юный мичман Лютиков, худощавый и стройный блондин с большими ласковыми глазами, едва пробивавшейся бородкой и маленькими усиками, казавшийся при лунном освещении еще пригожее, чем был в действительности, только что вступил на вахту с полуночи до четырех.
Он поверил часовых, осмотрел огни, убедился, что паруса стоят хорошо и все шкоты дотянуты до места, поднялся на мостик и, оглядываясь вокруг, замер от восторга, немеющий и умиленный волшебной красотой ночи.
Охваченный ее властными чарами, он очень скоро охотно и неосмотрительно отдается во власть воспоминаний о чарах, которые еще так недавно сводили его с ума. Основательно ими отравленный, он все еще не может от них избавиться, несмотря на свои двадцать два года, изрядное легкомыслие, насмешки сослуживцев, укорительные письма матери и несмотря даже на то, что съезжал на берег и в Копенгагене и в Лондоне и ездил из Шербурга [1] на три дня в Париж.
Это был совсем «диковинный» мичман, как выражался молодой судовой врач Василий Парфенович, любивший объяснять все явления анатомически, физиологически и химически и возлагавший большие надежды на съезды на берег.
– Господи! Что за дивная ночь! – взволнованно шепчет мичман.
Он шепчет, готовый заплакать, полный тоскливого томления и жажды какого-то необыкновенного, захватывающего счастья, о каком можно мечтать только в чине мичмана, да еще в такую волшебную ночь и на такой покойной вахте, когда вахтенному начальнику почти что нечего делать.
И он ходит по мостику в приподнятом и нервном настроении, жадно вдыхая ночную прохладу, мечтательно взглядывает и на мигающие звезды, и на самодовольно-красивую луну, и на сонный океан и прислушивается к его тихим, словно бы жалостным вздохам.
Но на что ни глядит теперь мичман, он все-таки видит неотступно перед собой гибкую, как ива, стройную, как пальма, по его мнению, обворожительную черноглазую женщину, краше, милей и привлекательней которой не было, нет, да, разумеется, и не будет на свете, что там ни говори доктор и «испанский гранд» (как звали смугло-желтого брюнета и большого лодыря, лейтенанта Анчарова) насчет его ослепления Ниной Васильевной, женой чрезмерно тучного и потому не особенно счастливого в семейной жизни капитана первого ранга Ползикова.
«Идиоты! Если бы они знали!»
Положительно Лютиков был самый диковинный и нелепый мичман среди всех мичманов балтийского и черноморского флотов и недаром ставил в тупик судового врача, не оправдывая его физиологических объяснений.
Казалось бы, громадность расстояния между тропиками и Кронштадтом способна отрезвить самое пылкое воображение. Казалось бы, кое-что значило и то обстоятельство, что в Порто-Гранде [2] – последней стоянке клипера – не было нетерпеливо ожидаемого письма за Э 20 в ответ на его обширное послание за Э 52 (это в два-то месяца) в прозе, а частью и в стихах, обращенных однако не к «Нине», а к какой-то королеве неизвестного государства – Стелле [3], единственным и действительно настоящим верноподданным которой был обезумевший мичман. Наконец и фотография «королевы», снятая перед уходом «Русалки» в плавание и хранившаяся в шифоньерке мичмана, была такая скверная и так мало похожа на «обворожительную», что не могла вызывать милого образа. Что же касается до прядки черных волос, свернутых колечком, и хранившейся под стеклом в медальоне, висевшем на часовой цепочке, то и эта «память» едва ли могла приводить в состояние невменяемости человека, понимающего разницу между стеклом и женскими губами.
А между тем «властительницею дум» и настроения мичмана теперь снова была та самая чаровница лет тридцати (а, быть может, и с хвостиком), которую мичман, влюбленный, как воробей, ревнивый, как старый муж молодой жены, и бешеный, как тетерев по весне, чуть ли не ежедневно в течение шестимесячного знакомства то возвеличивал, то низвергал. Он считал госпожу Ползикову то мадонной, на которую готов был молиться, то такой лживой, бездушной, легкомысленной и коварной женщиной, какой не существовало еще в подлунной, – хотя и были Лукреция Борджиа [4] и Мессалина [5], – и которую следует убить и затем застрелиться самому, предварительно однако отравившись ее горячими поцелуями, чтобы провести последние минуты жизни счастливо.
И если Нина Васильевна и мичман до сих пор были живы, то единственно потому, что госпожа Ползикова в моменты такой кровожадности мичмана умела внезапно превращаться в мадонну.
Так мичман и ушел в кругосветное плавание, не уяснив себе окончательно, мадонна ли Нина или коварная дама, но все-таки влюбленный до безумия в обе разновидности одного и того же лица.
III
Ночь так обаятельна, ночь так опьянительна, что мичман, сперва было великодушно пожелавший Нине всех благ и радостей без собственного в них участия, внезапно, при одной мысли, что Нину может целовать какой-нибудь другой мичман, меняет свое самоотверженное решение. Он озарен счастливой идеей о том, что высшее на земле счастье, по крайней мере для него, мичмана Лютикова, в гербе которого недаром же два лютика, соединенных в клюве аиста, олицетворявшего постоянство, не командовать клипером, не сделаться адмиралом, не искать славы, почестей и богатства, – все это ерунда, – а очутиться сейчас же, сию минуту, не дожидаясь смены с вахты, на каком-нибудь малообитаемом, а то и на необитаемом, но во всяком случае никому не известном острове. Разумеется, очутиться вместе с Ниной Васильевной, среди такого же чудного океана и в такую же волшебную ночь, чтобы взять ее обе маленькие, душистые руки с длинными, тонкими пальцами в свои, заглянуть поглубже в ее большие лучистые глаза и высказать ей все, решительно все, что не успел он высказать в течение шести месяцев, хотя и бывал у Нины чуть ли не ежедневно, болтая сперва как сорока, пока вдруг не смолк и только вздыхал, и наконец снова не заговорил счастливыми восторженными восклицаниями после безмолвных и долгих поцелуев.
И после того, как он все ей выскажет, она убедится в беспредельности и силе его любви, – убедится, что так «свято» ее никто не любил и не будет любить, и не станет его мучить, как мучила, меняя по нескольку раз в час свое настроение и делая его то бесконечно счастливым (когда бывала мадонна), то бесконечно несчастным (когда говорила, чтобы он уходил навсегда). Она поймет странность своего отношения, не станет больше приводить его в ужас своими резкими переходами от ласки к выражению презрения и не будет питать его ревности на необитаемом острове, кокетничая, за неимением мичманов, с чайками.
О, она раскается за то, что терзала так бедного мичмана, и, вся просветленная, после объяснения скажет:
– Никс! Я люблю тебя одного. Я твоя, и только твоя и никуда не хочу с необитаемого острова. Даже Гостиный двор [6] позабуду ради твоего счастия!
Разумеется, не предполагалось, чтобы на необитаемый остров мог прибыть капитан первого ранга Ползиков или – что было бы еще ужаснее – несколько поклонников-мичманов, присутствие которых, особенно поодиночке, около кокетливой Нины вызывало в Лютикове бешеное желание отправить всех этих господ на тот свет или, по меньшей мере, сделать из них более или менее обворожительных, хотя, разумеется, и «подлых» лиц нечто, похожее на рубленые котлеты.
Вот почему, мечтая теперь о Нине, мичман забыл, как она его изводила, с веселой жестокостью играя его настроениями. Напротив, он благодарно вспоминал о том, как она его целовала, и, считая теперь Нину только мадонной, еще сильнее рвался на необитаемый остров.
Затем мечты его вдруг прервались воспоминаниями.
Начал мичман их в хронологическом порядке, то есть с маленьких рук, на которых не было, казалось, ни одной точки, пропущенной губами пылкого мичмана… Затем вспомнил шею, лицо, глаза, маленькие ноги в красных туфельках.
И из груди мичмана вдруг вырвался такой громкий вздох, что стоявший вблизи и клевавший носом молодой сигнальщик Ефремов мгновенно встрепенулся и, думая, что мичман его кличет, поспешил крикнуть:
– Есть, ваше благородие!
Несмотря на тоскливо-нервное свое настроение, Лютиков невольно улыбнулся и, приблизившись к сигнальщику, с обычным своим добродушием спросил:
– Верно, вздремнул, брат?
– Никак нет, ваше благородие. Маленько задумался.
– Задумался?
– Точно так, ваше благородие. В задумчивость вошел. Ночь такая.
– Это правда! Чудная ночь.
– Ахтительная, ваше благородие. В Рассее таких нет.
– О чем же ты задумался, Ефремов?
– Так, обо всякой, значит, всячине, ваше благородие.
– Так, может, ты думал…
Мичман запнулся и неожиданно спросил:
– Ты любишь какую-нибудь женщину, Ефремов?
Сигнальщик на минуту опешил. Но вслед затем усмехнулся несколько самодовольной улыбкой и ответил:
– Без эстаго никак нельзя, ваше благородие. Какая баба подвернется, тую и любишь. Известно, матросское звание: на брасах не зевай!
Оскорбленный такою профанацией, мичман не продолжал разговора и снова зашагал по мостику, продолжая мечтать о своей «королеве».
IV
Но теперь мечты его приняли другое направление. Он уже не на необитаемом острове, а в Петербурге, куда только что приехал, возвратившись из кругосветного плавания по болезни, как только получил от Нины письмо, в котором она пишет, что муж умер…
И мичман, безжалостно отправив на тот свет капитана первого ранга Ползикова, торопится к Нине Васильевне. Она теперь свободна и следовательно имеет возможность видеть мичмана не только часто, как ей хочется, судя по последнему письму за Э 20, но постоянно.
Вот он подъехал к дому, в котором поместила Нину пылкая фантазия мичмана, взбегает на лестницу, звонит, входит в ее маленькую, но хорошенькую, конечно, квартиру и… Господи! Да как же она хороша в глубоком трауре!
Он целует ее руки, глаза, волосы, щеки, губы и только после того умоляет ее быть его женой. Она сперва говорит о разнице лет: ему двадцать два, ей тридцать, но скоро соглашается. Еще бы не согласиться! Недаром же ее письма говорят о том, как без него скучно, очень скучно.
И все складывается в мечтах мичмана удивительно хорошо. Даже финансовый вопрос разрешается без малейших затруднений выходом мичмана в отставку и получением места с хорошим жалованьем, тысячи полторы-две в год, и они отлично заживут…
Мичман представляет себе, как они заживут, но представления его ограничиваются лишь поцелуями, которыми он теперь может пользоваться a discretion [7] и без всякого страха, что в гостиную неожиданно войдет капитан первого ранга Ползиков или влетит этот болван вестовой Егоров, совсем не соображавший, как надо входить в гостиную, когда там сидит мичман вдвоем с Ниной Васильевной. Не помешают и мичманы. Во-первых, они будут жить не в Кронштадте, а в Петербурге, и, во-вторых, он так-таки и не велит никого принимать. Ни единой души. Они будут всегда вдвоем. И выходить из дому будут всегда вдвоем.
Однако мысль о том, что придется по утрам ходить на службу, куда никак нельзя брать Нину с собой, возбуждает в мичмане ревнивое подозрение насчет того, что в его отсутствие кто-нибудь из этих подлецов-мичманов может являться с визитом и мало того, что разговаривать с Ниной, но и нахально целовать ее руки… Она несколько легкомысленно-свободно относится к тому, что у нее целуют руки, и это обстоятельство бывало не раз одним из мотивов, по которым мичман после бурной сцены уходил мрачный, с зарождающимися мыслями убить Нину Васильевну и потом застрелиться самому.
Более других возмущал его «подлец» Ракушкин, смуглолицый, красивый и фатоватый мичман, декламировавший стихи и игравший на фортепиано «с большим чувством», по словам многих дам. Возмущал он его главным образом потому, что в качестве товарища и бывшего друга знал, что Лютиков влюблен в Нину Васильевну, и вместо того, чтобы не мешать ему, как следовало бы порядочному человеку, и ухаживать за женой какого-нибудь другого чрезмерно тучного или чрезмерно худого капитана первого ранга, он стал ухаживать за Ниной Васильевной, торчал по целым часам, не спускал с нее глаз и с особенным чувством играл ноктюрн Шопена и добивался-таки того, что Лютиков демонстративно уходил мрачный, чувствуя себя бесконечно несчастным и готовым убить Ракушкина, если бы… И только записочка Нины Васильевны, звавшей его вечером «поскучать вдвоем», успокоивала его вместе с уверением «мадонны», что пока ей, кроме Лютикова, никто не нравится.
Но теперь, на ночной вахте, в таком далеком расстоянии от Кронштадта, при невозможности иметь успокаивающую записочку, мичман терзается ревностью, и ему снова кажется, что поселиться на необитаемом острове было бы лучше, чем в Петербурге…
Однако и необитаемый остров, и супружеское счастье в Петербурге, и горячие поцелуи – все это вдруг вылетает из головы мичмана, и напрасно он старается возвратиться к этим мечтам, приводившим его в приятное настроение.
Все его мысли сосредоточены на Ракушкине и Нине, которая снова представляется ему уже не «мадонной», а прямо-таки лживой и бездушной женщиной, с которой он на свое несчастье только встретился. В этот именно час («а в Кронштадте теперь около часа пополудни», – мысленно перевел время Лютиков) Ракушкин сидит около Нины Васильевны на том же самом небольшом диванчике, на котором вдвоем так удобно сидеть и на котором так часто сидел и он. Ивана Ивановича Ползикова, по обыкновению, нет дома. «Засиживается в канцелярии, дурак, вместо того, чтобы торопиться домой», – мысленно покорил теперь мичман тучного капитана первого ранга за то именно, за что еще недавно, когда сам сидел на диванчике, очень хвалил, находя его одним из энергичных и деятельных экипажных командиров.
И Ракушкин без всякого стеснения говорит теперь Нине о своей любви и умоляет позволить ему поцеловать ее руку… Она слушает этого «мерзавца» и, бессовестная, забывает, что еще два месяца тому назад, на самом этом диванчике… Она забывает, что писала в письмах, как скучала без него, все забыла, коварная, и вместо того, чтобы прогнать, как бы следовало, Ракушкина, продолжает улыбаться, слушая его, и главное, – не отнимает своей руки…
Эта картина так живо и ярко представляется мичману, что сердце его замирает, затем негодование охватывает его, и он, полный отчаяния и злобы, сам не замечает, как говорит вслух:
– Бессовестная!.. Подлец, подлец! – несколько раз повторяет мичман, угрожая Ракушкину из-под пятого градуса широты и готовый непременно бросить его в океан, предварительно, конечно, дав ему в морду и сказавши, что так поступают только Иуды-предатели.
– Есть! – снова раздался неестественно громкий окрик сигнальщика Ефремова.
Пробудившись от дремоты, близкой к настоящему сну, которой сигнальщик предавался хотя и не в особенно удобном положении, – стоя с подзорной трубой в руках и прислонившись к поручням мостика, – но все-таки довольно основательно, Ефремов на этот раз явственно слышал, как вахтенный начальник ругался подлецом. Нимало не сомневаясь, что выругали именно его за то, что он снова «маленько задумался», сигнальщик поторопился доказать своим громким окриком, что он бодрствует.
– Ты что кричишь? Опять дрыхнешь? – не без раздражительной нотки спросил, останавливаясь, мичман.
– Никак нет, ваше благородие. Вы изволили меня обругать подлецом… Но только, осмелюсь доложить, я не дрыхал.
– Я не тебя! – проговорил мичман.
Он снова заходил, и снова воображение его представило Нину Васильевну рядом с Ракушкиным, который целовал уж не руки, а самые губы…
И волшебная ночь потеряла для него всякую прелесть. И он чувствовал теперь себя самым несчастным человеком в мире, каким только может быть мичман в двадцать два года.
V
Прошел месяц.
Лютиков опять стоял на вахте с полуночи до четырех в то время, как «Русалка» под парами шла к выходу из Зондского пролива [8], направляясь после недельной стоянки в Батавии [9] в Сингапур [10].
Опять была волшебная ночь, но мичман уж не мечтал так, как раньше. И сам он изменился: похудел, побледнел после болезни.
И он ее еще не пережил, эту болезнь молодости, этот первый удар, полученный им в виде нескольких строк от Нины Васильевны, полученных им в Батавии.
Эти строки гласили: «Не пишите более. Так будет лучше для нас обоих».
Мичман только ахнул, прочитав эти строки. Еще в последнем письме она писала, что любит его, и вдруг: «не пишите более»…
Он целый день не выходил из своей каюты и не находил от тоски себе места.
Но еще обиднее и больнее было ему, когда на другое утро «испанский гранд» сказал ему:
– А знаете, Коленька, какие известия из Кронштадта?
– Какие?
– Дама вашего сердца… госпожа Ползикова обратила особенное внимание на мичмана Ракушкина, и он теперь при ней безотлучно…
– Ну так что ж? – вызывающе крикнул, бледнея, Лютиков.
– Ничего… Я вам только сообщаю новость, – лениво протянул «испанский гранд».
А доктор, улыбаясь, прибавил:
– Не ждать же ей диковинного мичмана три года…
– Она не ждет ни меня и никого не ждет. И все эти известия – подлые сплетни… И я вас вызываю на дуэль! – вдруг неестественно громко выкрикнул Лютиков «испанскому гранду», а сам трясся, как в лихорадке.
– Вы, Николай Николаич, того, напрасно волнуетесь… Лучше на берег, голубчик, съездите, – заметил доктор.
– А вы меня за что на дуэль? – добродушно спросил «гранд».
Мичман ответил:
– Вы не смеете так о ней говорить.
– Да что я сказал?
– Про Ракушкина… Это вздор… Этого не может быть… И я не позволю так говорить о порядочной женщине!
Насилу его успокоили и заставили просить извинения у «гранда».
Все пять дней, что клипер стоял в Батавии, Лютиков пробыл у себя в каюте и лежал на койке. Напрасно доктор несколько раз заходил к нему, рекомендуя съездить на берег.
Мичман сердито отказывался.
И теперь, несколько успокоившийся, хотя все еще не переживший первого своего разочарования, он мечтает о том, с каким ледяным равнодушием он взглянет на Нину Васильевну, когда вернется в Россию… Ракушкину не поклонится… Пройдет мимо, осмотрит их обоих с холодным презрением и…
«Какие все люди подлые!» – мысленно говорит мичман и еще раз решает не любить больше никого.
– Не стоит! – шепчет он, подбадривая себя. Ему хочется поскорее показать «этой женщине», что он совсем к ней равнодушен и презирает ее, и в то же время чувствует себя одиноким на свете и готов заплакать.
А ночь такая волшебная, и мичману так хочется счастья.
1898
1
Шербург (Шербур) – французский город-порт в центральной части пролива Ла-Манш.
(обратно)2
Порто-Гранде – город-порт на одном из островов Зеленого Мыса в Атлантическом океане близ западного побережья Африки.
(обратно)3
Стелла (лат.) – звезда.
(обратно)4
Лукреция Борджиа (1480–1519) – дочь папы римского Александра VI; принимала деятельное участие в осуществлении политических замыслов своих родственников.
(обратно)5
Мессалина (I в. н.э.) – третья жена римского императора Клавдия, прославившаяся своим распутством, властолюбием и жестокостью.
(обратно)6
Гостиный двор – торговый центр Петербурга на Невском проспекте.
(обратно)7
Сколько угодно (франц.)
(обратно)8
Зондский пролив – пролив между островами Ява и Суматра, соединяющий Яванское море (межостровное море Тихого океана) с Индийским океаном.
(обратно)9
Батавия – город-порт на северо-западном побережье острова Ява (ныне – столица Индонезии Джакарта).
(обратно)10
Сингапур – город-порт на острове Сингапур в Юго-Восточной Азии.
(обратно)

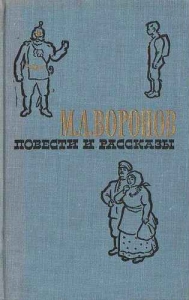

Комментарии к книге «О чем мечтал мичман», Константин Станюкович
Всего 0 комментариев