Лев Николаевич Толстой Полное собрание сочинений. Том 25 Произведения 1880–х годов
Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва — 1937
Электронное издание осуществлено
компаниями ABBYY и WEXLER
в рамках краудсорсингового проекта
«Весь Толстой в один клик»
Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY
Подготовлено на основе электронной копии 25-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной
Российской государственной библиотекой
Электронное издание
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого
доступно на портале
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru
Предисловие к электронному изданию
Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая
Перепечатка разрешается безвозмездно
————
Reproduction libre pour tous les pays
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1880-х годов
РЕДАКТОРЫ:
Н. К. ГУДЗИЙ
А. И. НИКИФОРОВ
В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ
Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1885 ГОДУ
С фотографии ВЕЗЕНБЕРГА и Ко.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ПЯТОМУ ТОМУ.
В двадцать пятый том входят: I. Народные рассказы и II. Статьи, а также шуточные произведения, написанные для «почтового ящика». Народные рассказы относятся: один — к 1881 году, двадцать — к 1884—1886 гг. Они чрезвычайно близки друг к другу по общему строю, характеру и цели написания и в конце концов все предназначались для одного и того же народного книгоиздательства «Посредник», задуманного и осуществленного В. Г. Чертковым, при поддержке Толстого. Поэтому все эти произведения и вошли в один том.
За исключением одного произведения, все были напечатаны при жизни Толстого. Одно — «Нагорная проповедь», не прошедшее целиком старую духовную цензуру, ныне печатается впервые. Кроме того, печатаются впервые некоторые начальные редакции рассказов; они настолько отличаются от последующих, что помещены в «вариантах». То же нужно сказать и относительно набросков и многих отрывков старшего по времени рассказа «Чем люди живы» которые печатаются также впервые, за исключением наброска «Архангел», напечатанного в 1914 г. в газете «Речь».
Вторую часть настоящего тома занимают преимущественно статьи Толстого; они написаны им в период 1882—1887 гг.
Центральное место среди этих статей занимает трактат «Так что же нам делать?», отличающийся очень сложной историей своего писания и печатания. Помимо рукописных вариантов к известным в печати произведениям Толстого, здесь публикуются впервые и четыре до сих пор неизвестные статьи Толстого: две законченные — Речь о народных изданиях и «Страдание святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины» — и одна незаконченная — «Китайская мудрость», а также два плана — одной ненаписанной статьи («Московские прогулки») и одной, лишь отчасти написанной («Сиддарта, прозванный Буддой»).
Впервые вводится в число произведений Толстого и статья «Греческий учитель Сократ», написанная первоначально А. М. Калмыковой, но настолько радикально переделанная Толстым в первых ее девяти главах, что она с полным правом в этой части может считаться произведением Толстого. Перепечатываем здесь петитом и остальные четыре главы статьи, выделяя корпусом исправления Толстого.
Редакция Народных рассказов, за исключением рассказа «Где любовь, там и бог», редактированного А. И. Никифоровым, принадлежит В. И. Срезневскому. Весь остальной материал, за исключением «Речи о народных изданиях», приготовленный к печати П. С. Поповым, редактирован Н. К. Гудзием.
Н. Гудзий.
А. Никифоров.
В. Срезневский
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.
Тексты произведений, печатавшихся при жизни Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:
Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»). Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.
В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.
Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.
Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.
Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый» вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.
Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.
Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.
После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]
На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.
Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.
Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.
Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.
Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.
В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаен явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.
При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.
Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: Абзац редактора.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.
Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.
Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Л. Толстого, *** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.
30 июня 1936 года скончался член Редакторского Комитета Юбилейного издания полного собрания сочинений Л. Н. Толстого
ВСЕВОЛОД ИЗМАЙЛОВИЧ СРЕЗНЕВСКИЙ
редактор Народных рассказов, вошедших в настоящий том и ряда других произведений и дневников Л. Н. Толстого.
В. И. Срезневский много потрудился над изучением и опубликованием рукописей Л. Н. Толстого. В лице В. И. Срезневского Главная Редакция понесла тяжелую утрату.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1880-х годов
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ
ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ.
Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти (1 посл. Іоан. III, 14).
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? (III, 17).
Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной (III, 18).
Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (IV, 7).
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (IV, 8).
Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает (IV, 12)
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (IV, 16).
Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? (IV, 20).
I.
Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.
К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей 20 копеек было за мужиками в селе.
И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «получу пять рублей с мужиков, приложу своих три, — куплю овчин на шубу».
Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику, — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, — забожился мужик, что нет денег, только 20 копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины, — в долг не поверил овчинник.
— Денежки, — говорит, — принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.
Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил 20 копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.
Потужил сапожник, выпил на все 20 копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.
— Я, — говорит, — и без шубы тепел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-Богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и всё, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном, — откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.
Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит — за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, — думает, — здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»
Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».
И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди возжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только Бог!»
И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.
И остановился сапожник на дороге.
— Ты что же это, — говорит на себя, — Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!
Повернулся Семен и пошел к человеку.
II.
Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно — измерз человек и напуган; сидит прислонясь и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.
— Будет, — говорит, — толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!
Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи, — не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.
Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «у меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».
Посадил его и сапоги валеные обул ему.
Одел его сапожник и говорит:
— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?
Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.
— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!
И пошел человек. И пошел легко, не отстает.
Идут они дорогой, и говорит Семен:
— Чей, значит, будешь?
— Я не здешний.
— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?
— Нельзя мне сказать.
— Должно, люди обидели?
— Никто меня не обидел. Меня Бог наказал.
— Известно, всё Бог, да всё же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?
— Мне всё одно.
Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «мало ли какие дела бывают», и говорит человеку:
— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.
Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.
III.
Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.
«Если, — думает, — Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».
Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».
Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.
«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а всё шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выдти, ни куда. А то вот пошел со двора, всё на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»
Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.
Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, — думает, — так и есть загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, — думает, — деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».
Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.
Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что́ от них будет.
Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.
— Что ж, — говорит, — Матрена, собери ужинать, что ли!
Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.
— Садись, — говорит, — брат, ужинать станем.
Сел странник на лавку.
— Что же, али не варила?
Взяло зло Матрену.
— Варила да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.
— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...
— Ты сказывай, куда деньги девал?
Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.
— Деньги —вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.
Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.
Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:
— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.
— Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...
— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Не даром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала —ты пропил; пошел шубу купить —пропил.
Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только 20 копеек; хочет сказать, где он человека нашел, — не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то всё помянула.
Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.
— Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!
Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой такой человек.
IV.
Остановилась Матрена и говорит:
— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.
— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него Бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.
Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:
— Матрена, али в тебе Бога нет?!
Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.
— Хлебайте, что ль, — говорит.
Подвинул. Семен странника.
— Пролезай, — говорит, — молодец.
Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.
И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.
Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:
— Да ты чей будешь?
— Не здешний я.
— Да как же ты на дорогу то попал?
— Нельзя мне сказать.
— Кто ж тебя обобрал?
— Меня Бог наказал.
— Так голый и лежал?
— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда придти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас Господь!
Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.
— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись, где полюбится — на хоры али на печь.
Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.
Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.
Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.
Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.
— Семен!
— А!
— Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.
— Живы будем, сыты будем.
Полежала баба, помолчала.
— А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.
— Должно, нельзя.
— Сём!
— А!
— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?
Не знал Семен, что сказать. Говорит: «будет толковать-то». Повернулся и заснул.
V.
На утро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.
И говорит Семен:
— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?
— Я ничего не умею.
Подивился Семен и говорит:
— Была бы охота. Всему люди учатся.
— Люди работают, и я работать буду.
— Тебя как звать?
— Михаил.
— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, — кормить буду.
— Спаси тебя Господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.
Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.
— Дело не хитрое, гляди...
Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.
Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.
Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.
Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.
VI.
День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла попрежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.
Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.
Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.
Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:
— Кто хозяин сапожник?
Вышел Семен, говорит:
— Я, ваше степенство.
Крикнул барин на своего малого:
— Эй, Федька, подай сюда товар.
Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.
— Развяжи, говорит. Развязал малый.
Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:
— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?
— Вижу, — говорит, — ваше благородие.
— Да ты понимаешь ли, какой это товар?
Пощупал Семен товар, говорит:
— Товар хороший.
— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.
Заробел Семен, говорит:
— Где же нам видать.
— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?
— Можно, ваше степенство.
Закричал на него барин:
— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь— берись, режь товар, а не можешь— и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.
Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу.
Толконул его локтем и шепчет:
— Брать, что ли?
Кивнул головой Михайла: «бери, мол, работу».
Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.
Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.
— Снимай мерку!
Сшил Семен бумажку в 10 вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.
— Смотри, в голенище не обузь.
Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.
— Это кто ж, — говорит, — у тебя?
— А это самый мой мастер, он и шить будет.
— Смотри же, — говорит барин на Михайлу, — помни, так сшей, чтобы год проносились.
Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.
— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.
И говорит Михайла:
— Как раз поспеют, когда надо.
— То-то.
Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.
Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.
Отъехал барин, Семен и говорит:
— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.
А Матрена говорит:
— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.
VII.
И говорит Семен Михайле:
— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.
Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.
Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.
Хотела сказать Матрена, да думает себе: «должно не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».
Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.
Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла всё шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.
Ахнул Семен. «Как это, — думает, — Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь».
И говорит он Михайле:
— Ты что же это, говорит, милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?
Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.
— Здорово!
— Здорово. Чего надо?
— Да вот барыня прислала об сапогах.
— Что̀ об сапогах?
— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.
— Что̀ ты!
— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.
Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.
— Прощайте, хозяева! Час добрый!
VIII.
Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет попрежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во всё время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.
Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.
Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.
— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками никак к нам идет. А девочка одна хромая.
Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.
И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена, — идет, припадает.
Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.
— Здорово, хозяева!
— Просим милости. Что надо?
Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.
— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.
— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.
Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.
И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а всё не поймет Семен, что̀ он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.
Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:
— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.
Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:
— С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?
— Нет, мать задавила.
Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:
— А ты разве им не мать будешь?
— Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе — приемыши.
— Не свои дети, а как жалеешь их!
— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да Бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.
— Да чьи же они?
IX.
Разговорилась женщина и стала рассказывать:
— Годов шесть, — говорит, — тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обмо̀рушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал Богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, — ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.
Пошла я на утро проведать соседку, прихожу в избу, а она сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух, — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало. Двоих кормлю бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!
Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.
И вздохнула Матрена и говорит:
— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без Бога не проживут.
Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.
X.
Подошел к нему Семен: что, — говорит, — ты, Михайла!
Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:
— Простите, хозяева. Меня Бог простил. Простите и вы.
И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:
— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?
И сказал Михайла:
— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь Бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова Божии. И я узнал слова Божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.
И сказал Семен:
— Скажи мне, Михайла, за что̀ Бог наказал тебя и какие те слова Бога, чтобы мне знать.
И сказал Михайла:
— Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Я был ангел на небе и ослушался Бога.
Был я ангел на небе, и послал меня Господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что Бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел Божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к Господу на небо. Прилетел к Господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал Господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.
Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю.
XI.
И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.
И сказал ангел:
— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что̀ делать. Увидал я — в поле часовня для Бога сделана, подошел к Божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека— мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о Боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал Бога.
И вспомнил я первое слово Бога: «узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что Бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.
Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово Бога: «узнаешь, чего не дано людям».
Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что Бог мне другое слово открыл.
Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И всё жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «просила мать за детей, и поверил я матери, — думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы. И узнал, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.
XII.
И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:
— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.
Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.
Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.
Знал я прежде, что Бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.
Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и за тем открыл им то, что̀ им всем для себя и для всех нужно.
Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь.
И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.
И когда очнулся Семен, изба стояла попрежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.
ИСКУШЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Над картиной написано:
Евангелие от Матфея, гл. IV, ст. 1—11.
1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола.
2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.
3. И приступил к нему искуситель, и сказал: Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Второзаконие, глава 8, стих 3).
5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелом Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею (Книга псалмов, псалом 90, стихи 11, 12).
7. Иисус сказал Ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего (Второзаконие, глава 6, стих 16).
8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их.
9. И говорит ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне.
10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи (Второзаконие, глава 6, стих 13).
11. Тогда оставляет Его диавол, и — се, Ангелы приступили и служили Ему.
Под картиной написано:
Так дьявол искушал Господа Иисуса Христа и так Господь отогнал дьявола и победил его. Так точно искушает и каждого из нас дьявол, и так же точно по учению Иисуса Христа мы можем отогнать его и спасти свою душу. Как только захочет человек жить по-Божьи, так тотчас враги его (часто они же домашние его) скажут ему: «Нынче нельзя жить по-Божьи — станешь свое отдавать, а от других не брать — умрешь с голоду. Пить, есть надо, а из камней хлеба не сделаешь». Так скажут человеку враги его. И когда они скажут это, пусть вспомнит тот человек, как на эти слова отвечал Христос дьяволу, и пусть скажет тем, кто смущает его, то же, пусть скажет, что человеку важнее исполнить волю Бога, чем заботиться о хлебе. А воля Бога не в том, чтобы брать, а в том, чтобы давать. — Жив Бог, жива душа моя. И если человек скажет это, то враги и на это скажут то же, что в другой раз говорил дьявол. Они скажут: «Если не будешь заботиться о жилище, еде и одежде, то умрешь с голода и холода. И если уж ты веришь, что Бог не оставит тебя, то не жалей свою жизнь, не заботься ни о чем, не береги себя, а прямо губи свое тело, душа твоя не умрет, а пойдет к Богу». Так скажут человеку враги. И когда они скажут это, пусть вспомнит он, как на эти слова ответил Христос дьяволу, и пусть скажет тем, кто смущает его, то же. Пусть скажет, что живет наша душа в теле не по своей воле, а по воле Бога, и что потому по своей воле заморить или погубить тело, значит не верить Богу и искушать Его. А надо беречь и душу и тело. И, может быть, на это враги скажут ему то же, что в третий раз говорил дьявол. Они нападут на того человека, как дьявол на Христа, и так же будут соблазнять его. Они скажут: «Ты о хлебе не хочешь заботиться, а тело свое бережешь, и погубить его не хочешь; так вот и делай же то, что мы все делаем — поклонись лжи и обману. Служи мамоне, и всё на свете будет у тебя». — Так скажут человеку враги его. И когда они скажут это, пусть вспомнит он, как на такие же слова отвечал Христос дьяволу, и пусть скажет тем, кто смущает его, то же. Пусть скажет, что первая его забота будет не хлеб, а исполнение воли Бога, что губить свое тело он тоже не будет, потому что душа его в теле по воле Бога, но что живя в теле служить он будет не лжи и обману, а единому Богу. Пусть скажет это и пусть живет так, и тогда спасет свою душу.
ДВА БРАТА И ЗОЛОТО.
Жили в давнишние времена недалеко от Иерусалима два родные брата, старший Афанасий и меньшой Иоанн. Они жили в гoрè, недалеко от города, и питались тем, что им давали люди. Все дни братья проводили на работе. Работали они не свою работу, а работу бедных. Где были утружденные работой, где были больные, сироты и вдовы, туда ходили братья и там работали и уходили, не принимая платы. Так проводили братья врозь всю неделю и сходились только в субботу вечером к своему жилищу. Только воскресный день они оставались дома, молились и беседовали. И ангел Господень сходил к ним и благословлял их. В понедельник они расходились каждый в свою сторону. Так жили братья много лет, и всякую неделю ангел Господень сходил к ним и благословлял их.
В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны, старшему брату, Афанасию, стало жаль расставаться с любимым братом и он остановился и оглянулся. Иоанн шел, потупив голову, в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн тоже остановился и, как будто увидав что-то, пристально, из-под руки, стал смотреть туда. Потом приблизился к тому, на что смотрел, потом вдруг прыгнул в сторону и, не оглядываясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним. Удивился Афанасий и вернулся назад к тому месту, чтобы узнать, чего так испугался его брат. Стал подходить он и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе — на траве, как высыпана из меры, лежит куча золота, беремени на два. И еще больше удивился Афанасий и на золото и на прыжок брата.
«Чего он испугался и отчего он убежал? — подумал Афанасий. — В золоте греха нет, грех в человеке. Золотом можно зло сделать, можно и добро сделать. Сколько сирот и вдов можно прокормить, сколько голых одеть, сколько убогих и больных уврачевать на это золото! Мы теперь служим людям, но служба наша малая по нашей малой силе, а с этим золотом мы можем больше служить людям». Подумал так Афанасий и хотел сказать всё это брату; но Иоанн ушел уж из слуха вон и только, как козявка, виднелся он уж на другой горе.
И снял Афанасий с себя одежу, нагреб в нее золота, сколько в силах унесть, взвалил на плечо и понес в город. Пришел в гостиницу, сдал гостинику золото и пошел за остальным. И когда принес всё золото, то пошел к купцам, купил земли в городе, купил камней, лесу, нанял рабочих и стал строить три дома. И прожил Афанасий в городе три месяца, построил в городе три дома: один дом — приют для вдов и сирот, другой дом — больница для хворых и убогих, третий дом — для странников и нищих. И нашел Афанасий трех благочестивых старцев, и одного поставил над приютом, другого — над больницей, а третьего — над странноприимным домом. И осталось еще 3000 золотых монет у Афанасия. И отдал он каждому старцу по тысяче, чтобы на руки раздавать бедным. И стали наполняться народом все три дома, и стали люди хвалить Афанасия за всё то, что он сделал. И радовался на это Афанасий, так что и не хотелось ему уходить из города. Но любил Афанасий брата своего и, распрощавшись с народом, не оставив себе ни одной монеты, в той же старой одеже, в какой он пришел, в той же и пошел назад к своему жилищу.
Подходит Афанасий к своей горе и думает: «Неправильно рассудил брат, когда прыгнул прочь от золота и убежал от него. Разве не лучше я сделал?»
И только подумал это Афанасий, как вдруг видит — стоит на пути его тот ангел, который благословлял их, и грозно глядит на него. И обомлел Афанасий и только сказал:
— За что, Господи?
И открыл ангел уста и сказал:
— Иди отсюда. Ты не достоин жить с братом твоим. Один прыжок брата твоего стоит дороже тех твоих дел, которые ты сделал золотом твоим.
И стал Афанасий говорить о том, сколько бедных и странных он накормил, сколько сирот призрел. И ангел сказал ему:
— Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим.
И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для Бога делал он дела свои, и он заплакал и стал каяться.
Тогда отстранился ангел с дороги и открыл ему путь, на котором уже стоял Иоанн, ожидая брата. И с тех пор Афанасий не поддавался соблазну дьявола, рассыпавшего золото, и познал, что не золотом, а только трудом можно служить Богу и людям. И стали братья жить попрежнему.
ИЛЬЯС.
Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец только женил его год и сам помер. Было в то время именья у Ильяса 7 кобыл, 2 коровы и 2 десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женою, раньше всех вставал и позже всех ложился и с каждым годом всё богател. Прожил так в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье.
Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло и сыр, Всего было много у Ильяса; и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили: «счастливый человек Ильяс: всего у него много, ему и умирать не нужно». Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека. И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай и шерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу.
Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец, а как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного, старшего, в драке убили, а у другого, меньшого, попала сноха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось Ильясу отделить его.
Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясово. И скоро после этого напала болезнь на овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год — сено не родилось: поколело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизцы отбили, и стало Ильясово именье убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже. А сил стало меньше. И дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом и скотину стал продавать последнюю, и сошел Ильяс на-нет. И сам не видал, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только и осталось у Ильяса именья, что платье на теле, шуба, шапка и ичеги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было некому.
Пожалел стариков их сосед Мухамедшах. Сам Мухамедшах был ни беден, ни богат, а жил ровно и человек был хороший. Вспомнил он хлеб-соль Ильясову, пожалел его и сказал Ильясу: «Приходи, — говорит, — ко мне, Ильяс, жить и с старухой. Лето по силе своей мне работай на бахчах, а зимой скотину корми, а Шам-Шемаги пусть кобыл доит и кумыс делает. Кормить, одевать буду вас обоих и, чего вам нужно, вы скажите, я дам». Поблагодарил Ильяс соседа и стал с женою в работниках у Мухамедшаха. Сначала тяжело показалось, а после приобыкли. и стали старики жить и по силе работать.
Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были и все порядки знали и не ленились, по силе работали; только жалко бывало Мухамедшаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали.
И случилось раз, приехали к Мухамедшаху сваты, далекие гости; пришел и мулла. Велел Мухамедшах поймать барана и убить. Ильяс освежевал барана и сварил и послал гостям. Поели гости баранины, напились чаю и взялись за кумыс. Сидят гости с хозяином на пуховых подушках, на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют, а Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухамедшах и говорит гостю:
— Видишь ты, этот старик прошел мимо двери?
— Видел, — говорит гость; — а что же в нем удивительного?
— А то в нем удивительного, что это наш первый богач был — Ильясом звать, может, ты слышал?
— Как не слыхать, — говорит гость; — видать не видал, а слава его далеко была.
— Так вот теперь ничего у него не осталось, и живет он у меня в работниках, и старуха его с ним же, кобыл доит.
Подивился гость, пощелкал языком, помотал головой и говорит:
— Да, видно, так счастье перелетает, как колесо; кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же, — говорит гость, — тоскует, я чай, старик?
— Кто его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо. —
Гость и говорит:
— А можно поговорить с ним? Расспросить бы его про его жизнь.
— Что ж, можно! — говорит хозяин и кликнул за кибитку:
— Бабай (значит дедушка по-башкирски), заходи, выпей кумысу и старуху зови.
И вошел Ильяс с женою. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, прочел молитву и присел на коленочки у двери; а жена прошла за занавеску и села с хозяйкой.
Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, поклонился, отпил немного и поставил.
— А что, дедушка, — говорит ему гость, — скучно, я чай, тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать, — как ты в счастьи был и как ты теперь в горе живешь?
И усмехнулся Ильяс и сказал:
— Сказать мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь; спроси лучше бабу мою; она баба — что на сердце, то и на языке; она тебе всю правду об этом деле скажет.
И сказал гость за занавеску:
— Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе?
И сказала Шам-Шемаги из-за занавески.
— А вот как сужу: жили мы с стариком 50 лет — счастья искали и не нашли, а только вот теперь второй год, как у нас ничего не осталось и мы в работниках живем, мы настоящее счастье нашли и другого нам никакого не надо.
Удивился гость, и удивился хозяин, привстал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается, на старика своего смотрит, и старик усмехается. Старуха еще раз сказала:
— Правду я говорю, не шучу: полвека счастья искали и, пока богаты были, всё не находили; теперь ничего не осталось, в люди пошли жить, — такое счастье нашли, что лучше не надо.
— Да в чем же ваше счастье теперь?
— А вот в чем: были мы богаты, не было у нас с стариком часу покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться. Сколько у нас заботы было! То гости к нам, — забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками смотрим — они норовят отдохнуть да послаще съесть, а мы глядим, чтобы наше не пропадало — грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка, как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спится — как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью; только успокоишься, — опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало того, и согласья у нас с стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю этак, и начнем грешить и браниться. Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни.
— Ну, а теперь?
— Теперь встанем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласьи, спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем, — только нам и заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не убыток, а барыш был. Придем — обед есть, ужин есть, кумыс есть. Холодно — кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и об душе подумать, и Богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли.
Засмеялись гости.
А Ильяс сказал:
— Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая. И мы глупы были с старухой и плакали прежде, что богатство потеряли, а теперь Бог открыл нам правду, и мы не для своей утехи, а для вашего добра вам ее открываем.
И мулла сказал:
— Это умная речь, и все точную правду сказал Ильяс, это и в писании написано.
И перестали смеяться гости и задумались.
ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ.
Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик — трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — подумал: тяжело будет Капитошке моему в чужой семье рости, оставлю его при себе. И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал Бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у Бога смерти и укорял Бога за то, что Он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичек — уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться:
— И жить, — говорит, — Божий человек, больше не охота. Только бы помереть. Об одном Бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.
И сказал ему старичек:
— Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть, а тебе — жить. Значит так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.
— А для чего же жить-то? — спросил Мартын.
И старичек сказал:
— Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для Него и жить надо. Когда для Него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и всё тебе легко покажется.
Помолчал Мартын и говорит:
— А как же для Бога жить-то?
И сказал старичек:
— А жить как для Бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для Бога жить. Там все показано.
И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый Завет крупной печати и стал читать.
Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и всё от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет и как надо для Бога жить; и всё легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и всё про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава Тебе, слава Тебе Господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир, чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет бывало с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь всё это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.
Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
Прочел и дальше те стихи, где Господь говорит:
«Что вы зовете Меня: Господи, Господи! и не делаете того, что Я говорю? Всякий приходящий ко Мне, слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строющему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».
Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой:
— Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется всё и сделал, как Бог велит, а рассеешься и опять согрешишь. Всё ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне Господи!
Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости, и прочел о том, как женщина грешница помазала Ему ноги и омывала их слезами, и как Он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать:
«И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а ода с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: «Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал»...
И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался.
«Такой же видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам Господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал»?
И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал.
— Мартын! вдруг как задышало что-то у него над ухом.
Встрепенулся Мартын с просонок:
— Кто тут?
Повернулся он, взглянул на дверь — никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит:
— Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду.
Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам, — во сне или на яву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать.
На утро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает на двое: то думает — померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. — Что ж, думает, бывало и это.
Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поровнялся с окном старый солдат Николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу.
— Вишь, одурел видно я со старости, — сам на себя посмеялся Авдеич. — Степаныч снег чистит, а я думаю Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч.
Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит Степаныч прислонил лопату к стене, и сам не то греется, не то отдыхает.
Человек старый, ломаный, видно и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь.
— Войди, погрейся, что-ль, сказал он. Озяб, чай.
— Спаси Христос и то — кости ломят, — сказал Степаныч.
Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается.
— Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись, — сказал Авдеич. — Вот чайку выпей.
И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть.
Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал благодарить. А самому видно еще хочется.
— Кушай еще, — сказал Авдеич и налил еще стакан и себе и гостю.
Пьет Авдеич свой чай, а сам нет, нет на улицу поглядывает.
— Али ждешь кого? — спросил гость.
— Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, a запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой; читал я вчера Евангелие про Христа Батюшку, как Он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай?
— Слыхать слыхал, отвечал Степаныч, да мы люди темные, грамоте не знаем.
— Ну вот, читал я про самое то, как Он по земле ходил, читаю я, знаешь, как Он к фарисею пришел, а тот Ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал: как Христа Батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу по имени кличет: поднялся я, голос, ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду.
Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову — сам себя браню, и всё жду Его, Батюшку.
Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, но Авдеич опять поднял стакан и налил еще.
— Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда Он, Батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Всё по простым ходил, учеников-то набирал всё больше из нашего брата, таких же, как мы грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы Меня, говорит, Господом называете, а Я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые.
Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезый. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся.
— Ну, кушай еще, — сказал Авдеич. Но Степапыч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал.
— Спасибо тебе, — говорит, — Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело насытил.
— Милости просим, заходи другой раз, рад гостю, — сказал Авдеич.
Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу — строчить задник. Строчит, а сам всё поглядывает в окно — Христа ждет, всё о Нем и об Его делах думает. И в голове у него всё Христовы речи разные.
Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в чищенных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли, и вот поровнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из под окна Авдеич, видит женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул:
— Умница! а умница! Женщина услыхала и обернулась.
— Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот.
Удивилась женщина. Видит старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним.
Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати.
— Сюда, — говорит, — садись умница, к печке ближе — погреешься и покормишь младенца-то.
— Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела, — сказала женщина, а всё-таки взяла к груди ребенка.
Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил.
— Садись, — говорит, — покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были — умею с ними няньчиться.
Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Всё кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила.
— Я, — говорит, — солдатка, мужа 8-й месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела всё с себя. Хотела в кормилицы — не берут — худа, говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его сердечного замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас за ради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить.
Воздохнул Авдеич и говорит:
— А одежи-то теплой али нет?
— Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила.
Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку.
— На, — говорит, — хоть и плохая штука, а всё пригодится завернуть.
Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучек, покопался в нем и сел опять против женщины.
И сказала женщина:
— Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно Он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же Он, Батюшко, тебя в окно поглядеть, и меня горькую пожалеть.
Усмехнулся Авдеич и говорит:
— И то Он наставил. В окно-то я, умница, не спроста гляжу.
И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь придти к нему.
— Всё может быть, — сказала женщина, — встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича.
— Прими, ради Христа, — сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину.
Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного.
И вот, видит Авдеич против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет.
Да видно оттянул ей плечо мешок; захотела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике, и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается:
— Я, — говорит, — не брал, за что бьешь, пусти.
Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит:
— Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа!
— Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу.
Стал Авдеич упрашивать старуху:
— Пусти, — говорит, — бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа!
Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его.
— Проси, — говорит, — у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял.
Заплакал мальчик, стал просить прощенья.
— Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе.
И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику.
— Заплачу, бабушка, — сказал он старухе.
— Набалуешь ты их так, мерзавцев, — сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился.
— Эх, бабушка, бабушка, — сказал Авдеич. — По нашему-то так, а по Божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами то за наши грехи что сделать надо?
Замолчала старуха.
И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял слушал.
— Бог велел прощать, — сказал Авдеич, — а то и нам не простится. Всем прощать, а несмысленному-то и поготово.
Покачала головой старуха и вздохнула.
— Так-то так, — сказала старуха, — да уж очень набаловались они.
— Так нам, старикам, и учить их, — сказал Авдеич.
— Так и я говорю, — сказала старуха. — У меня самой их семеро было, — одна дочь осталась.
И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери, и сколько у ней внучат.
— Вот, — говорит, — сила моя уж какая, а всё тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная... И совсем размякла старуха.
— Известно дело ребячье. Бог с ним, — сказала старуха на мальчика.
Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик, и говорит:
— Дай я снесу, бабушка, мне по дороге. — Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика.
И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и всё смотрел на них и слушал, как они шли и что-то всё говорили.
Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и видит фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно надо огонь засвечать», подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки и концы и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу — стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос:
— Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня?
— Кого? — проговорил Авдеич.
— Меня, — сказал голос. — Ведь это Я.
И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся, и как облачко разошелся, и не стало его...
— И это Я, — сказал голос.
И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали.
— И это я, — сказал голос.
И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали.
И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там где открылось. И наверху страницы он прочел:
— И взалкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня...
И внизу страницы прочел еще:
— Так как вы сделали это одному из сих братий Моих, меньших, то сделали Мне (Матфея 25 глава).
И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день Спаситель его и что точно он принял его.
УПУСТИШЬ ОГОНЬ — НЕ ПОТУШИШЬ.
Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? (Матф. XVIII, 21).
Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз (22).
Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими (23).
Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов (24).
А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить (25).
Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу (20).
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему (27).
Раб же тот, вышедши, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне что должен (28).
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе (29).
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга (30).
Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, пришедши, рассказали государю своему всё бывшее (31).
Тогда государь призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня (32).
Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя (33)?
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга (34).
Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (35).
Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо; сам был в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах: один женатый, другой жених, а третий, подросток, с лошадьми ездил и пахать зачинал. Старуха Иванова была баба умная и хозяйственная, и сноха попалась смирная и работящая. Жить бы да жить Ивану с семьей. Только нерабочих ртов во дворе и было, что один старик-отец больной (от удушья седьмой год на печи лежал). Всего было вдоволь у Ивана — 3 лошади с жеребенком, корова с подтелком, 15 овец. Бабы обували, обшивали мужиков и в поле работали; мужики крестьянствовали. Хлеба своего за новину переходило. Овсом подати и нужду всю справляли. Жить бы да жить Ивану с детьми. Да двор об двор жил с ним сосед Гаврило Хромой — Гордея Иванова сын. И завелась с ним у Ивана вражда.
Пока старик Гордей жив был и Ивана отец хозяйствовал, жили мужики по-соседски. Понадобится сито бабам или ушат, понадобится мужикам веретье или колесо сменить до времени, посылают из одного двора в другой и по-соседски помогают друг дружке. Забежит теленок на гумно — сгонят и только скажут: не пускай, мол, у нас ворох не убран. А того, чтобы прятать да запирать на гумне или в сарае или клепать друг на дружку, того и в заводе не было.
Так жили при стариках. А стали хозяйствовать молодые — пошло другое.
Затеялось всё из пустого.
Занеслась у Ивановой снохи рано курочка. Стала молодайка собирать к Святой яйца. Что ни день, то идет за яичком под сарай в тележный ящик. Только спугнули, видно, ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу и там снесла. Слышит молодайка, кудахтает курочка, — думает: теперь недосуг, убраться надо в избе под праздник; ужотко зайду возьму. Пошла вечером под сарай к тележному ящику — нет яичка. Стала молодайка спрашивать свекровь, деверя, — не брали ли. Нет, говорят, не брали; а Тараска, деверь меньшой, говорит: твоя хохлатка на дворе у соседа снесла, там кудахтала и оттуда прилетела. Посмотрела молодайка на свою хохлатку, сидит рядом с петухом на перемете, уж глаза завела, спать собралась. И спросила бы у ней, где снесла, да не ответит, и пошла молодайка к соседям. Встречает ее старуха.
— Чего тебе, молодка, надо?
— Да что, — говорит, — баушка, моя курочка к вам нынче перелетала, не снесла ли она яичка где?
— И видом не видали. У нас свои, Бог дал, давно несутся. Мы своих собрали, а нам чужих не надо. Мы, деушка, по чужим дворам яйца собирать не ходим.
Обидно стало молодайке, сказала слово лишнее, соседка еще два; и стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять, помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова в раз выговорить. Да и слова-то все дурные. Ты такая, ты сякая, да ты воровка, шлюха, ты и старика свекра мором моришь, ты беспоставочная.
— А ты побирушка, сито мое продрала! Да и коромысло-то у тебя наше, — давай коромысло!
Ухватились за коромысло, воду пролили, платки сорвали, стали драться. Подъехал с поля Гаврило, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном, свалились в кучу. Иван мужик здоровый был, раскидал всех. Гавриле клок бороды выдрал. Сбежался народ, насилу розняли.
С того началось.
Завернул Гаврило свой клок бороды в грамотку и поехал в волостное судиться.
— Я, — говорит, — не затем ее растил, бороду-то, чтобы мне ее конопатый Ванька драл.
А жена его соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда.
Уговаривал их с печи старик еще с первого дня, да не послушали молодые. Говорил он им:
— Пустое вы, ребята, делаете и из пустого дело заводите. Ведь подумайте, все дело у вас из-за яйца завязалось. Подняли ребятишки яичко, ну и Бог с ним; в одном яйце корысти нисколько. У Бога про всех хватит. Ну, дурное слово сказала, а ты его поправь, научи, как лучше сказать. Ну, подрались — грешные люди. Бывает и это. Ну, подите, попроститесь, да крышка всему. А на зло пойдете — вам хуже будет.
Не послушали молодые старика, думали, что всё это старик не к делу говорит, а только по-стариковски брюзжит.
Не покорился Иван соседу.
Я, — говорит, — ему бороды не рвал, он ее сам себе выщипал, а его сын мне пельки оборвал и всю рубаху на мне. Вот она.
И поехал Иван судиться. Судились они и у мирового и у волостного. Пока судились, пропал у Гаврилы из телеги шкворень. Поклепали Гавриловы бабы этим шкворнем Иванова сына:
— Мы, — говорят, — видели, как он ночью мимо окна к телеге подходил, а кума сказывала, он в кабак заезжал, там кабашнику шкворнем набивался.
Опять стали судиться. А дома что ни день, то брань, а то и драка. И ребята бранятся, у старших научаются, и бабы на речке сойдутся, не столько вальками бьют, сколько языками стрекочут, и всё на зло.
Сначала клепали мужики друг на дружку, а потом и вправду, чуть что плохо лежит, стали и таскать. И так и баб и ребят приучили. И стало житье их всё хуже и хуже. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым и на сходках, и в волостном, и у мирового, так что и судьям всем надокучили; то Гаврило Ивана под штраф подведет или в холодную, то Иван Гаврилу. И что больше они друг дружке пакостили, то больше злились. Собаки схватятся: что больше дерутся, то больше остервеняются. Собаку сзади бьют, а она думает, что это ее та кусает, и еще пуще зарится. Так и эти мужики: поедут судиться, их накажут, того либо другого, штрафом или арестом, и за всё это у них друг на дружку сердце разгорается. «Погоди ж, мол, я тебе всё это выворочу». И шло так у них дело 6 годов. Только старик на печи всё одно говорил. Начнет, бывало, усовещивать:
— Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все счеты, дело не упускайте, а на людей не злобьтесь, лучше будет. А что больше злобитесь, то хуже.
Не слушают старика.
Зашло дело на седьмом году о том, что на свадьбе стала сноха Иванова Гаврилу при народе срамить, стала его уличать, что он с лошадьми попался. Был Гаврило пьяный, не сдержал своего сердца, ударил бабу и зашиб так, что она неделю лежала, а баба тяжелая была. Обрадовался Иван, поехал с прошением к следователю. Теперь, думает, развяжусь я с соседом, не миновать ему острога или Сибири. Да опять не вышло Иваново дело. Не принял следователь прошенья; освидетельствовали бабу; баба встала и знаков нет. Поехал Иван к мировому, и тот переслал дело в волостное. Стал Иван хлопотать в волости, писарю со старшиной полведра сладкой пропоил и выхлопотал, что присудили высечь Гавриле спину. Прочли Гавриле на суде решенье.
Читает писарь: «Суд постановил: наказать крестьянина Гаврилу Гордеева 20-ю ударами розог при волостном правлении». Слушает и Иван решенье и глядит на Гаврилу: что от него теперь будет? Выслушал Гаврило, побелел как полотенце, повернулся, вышел в сени. Вышел за ним Иван, хотел к лошади, да услыхал, — говорит Гаврило:
— Ладно, — говорит, — он мою спину высечет, загорится она у меня, да и у него как бы больнее чего не загорелось.
Услыхал эти слова Иван, тотчас вернулся к судьям.
— Судьи праведные! Он меня спалить грозит. Прислушайте, при свидетелях сказал.
Позвали Гаврилу.
— Правда, ты говорил?
— Я ничего не говорил. Секите, коли ваша власть есть. Видно, мне одному за мою правду страдать, а ему всё можно.
Хотел еще что-то сказать Гаврило, да затряслись у него и губы и щеки. И отвернулся к стенке. Испугались даже судьи, глядя на Гаврилу. Как бы, думают, он и впрямь чего худого над соседом или над собой не сделал.
И стал старичок-судья говорить:
— А вот что, братцы: сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврило, разве хорошо сделал — тяжелую бабу ударил? Ведь хорошо, Бог помиловал, а то какой бы грех сделал. Разве хорошо? Ты повинись да поклонись ему. А он простит. Мы это решение перепишем.
Услыхал это писарь и говорит:
— Это нельзя, потому что на основании 117-й ст. миролюбивое соглашение не состоялось, а состоялось решение суда, и решение должно войти в силу.
Но судья не послушал писаря.
— Будет, — говорит, — язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: Бога помнить надо, а помириться Бог велел.
И стал судья опять уговаривать мужиков, да не уговорил. Не стал его Гаврило слушать.
— Мне, — говорит, — без году пятьдесят, у меня сын женатый, и бит я отродясь не был, а теперь меня конопатый Ванька под розги привел, да я же ему поклонись! Ну, да будет... Попомнит меня и Ванька!
Задрожал опять голос у Гаврилы. Не мог больше говорить. Повернулся и вышел.
От волости до двора 10 верст было, и вернулся Иван домой поздно. Уж бабы вышли скотину встречать. Отпрёг он лошадь, убрался и вошел в избу. В избе никого не было. Ребята с поля не ворочались, а бабы скотину встречали. Вошел Иван, сел на лавку и задумался. Вспомнил он, как Гавриле решенье объявили и как он побелел и к стене повернулся. И защемило ему сердце. Примерил он к себе, кабы его высечь присудили. И жалко ему стало Гаврилы. И слышит он, закашлялся старик на печи, поворочался, спустил ноги и полез с печи. Сполз старик, протащился до лавки и сел. Уморился до лавки доползть, кашлял, кашлял, старик, откашлялся, оперся на стол и говорит:
— Что ж? присудили?
Иван говорит:
— 20 розг присудили.
Помотал головой старик.
— Худо, говорит, Иван, ты делаешь. Ох, худо! Не ему, себе худо делаешь. Ну, выпорят ему спину, тебе-то полегчает, что ли?
— Вперед не будет, — сказал Иван.
— Чего не будет-то? Чем он хуже тебя делает?
— Как, чего он мне сделал? — заговорил Иван. — Он бабу бы до смерти убил, да он и теперь сжечь грозится. Что ж ему кланяться за это?
Воздохнул старик и говорит:
— По всему ты, Иван, вольному свету ходишь и ездишь, а я на печи который год лежу, ты и думаешь, что ты всё видишь, а я ничего не вижу. Нет, малый, тебе ничего не видно; тебе злоба глаза замстила. Чужие-то грехи перед собой, а свои за спиной. Что сказал: он худо делает! Кабы он один худо делал, зла бы не было. Разве зло промеж людьми от одного заводится? Зло промеж двоих. Его плохоту тебе видно, а свою не видать. Кабы он один был зол, а ты бы хорош, зла бы не было. Бороду-то ему кто выдрал? Копну-то испольную кто поднял? По судам-то кто его волочил? А все на него воротишь. Сам плохо живешь, оттого и худо. Не так я, брат, жил и не тому вас учил. Мы с стариком, с отцом его, разве так жили? Мы жили как? — по-суседски. У него мука дошла, придет баба: — дядя Фрол, муки надо! — Иди, мол, молодка, в амбар, насыпай сколько надо. —У него некого с лошадьми послать, — ступай, Ванятка, сведи его лошадей. — А у меня чего нехватка, иду к нему. — Дядя Гордей, того-то, того-то надо. — Бери, дядя Фрол! —Так у нас шло. И вам житье легкое было. А теперь что? Вот намедни солдат про Плевну сказывал. Что ж, у вас теперь война хуже Плевны этой. Разве это житье? А грех-то! Ты мужик, ты хозяин в дому. С тебя спросится. Ты чему своих баб да ребят учишь? Собачиться. Намеднись Тараска и тот, сопляк, тетку Арину костит по-матери, а мать на него смеется. Разве это добро? Ведь с тебя спросится! Ты об душе-то подумай. Разве так надо? Ты мне слово — я два, ты мне плюху — я тебе две. Нет, малый, Христос по земле ходил, не тому нас, дураков, учил. Тебе слово, а ты смолчи, — его самого совесть обличит. Вот как Он нас, Батюшка, учил. Тебе плюху, а ты под другую подвернись: на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послухает. Так-то Он нам приказывал, а не гордыбачить. Что ж молчишь? Так ли я говорю?
Молчит Иван — слушает.
Закашлялся старик, насилу отплевался, опять стал говорить:
— Ты думаешь, Христос-то нас худому учил? Ведь всё дли нас же, для добра. Ты об земном житье-то своем подумай: что тебе лучше али хуже стало с тех пор, как эта Плевна у вас завелась? Ты посчитай-ка, что ты провел добра на суды, что ты проездил, да прохарчил? У тебя сыновья-то какие орлы поднялись, тебе бы жить да жить, да в гору идти, а у тебя достаток убывать стал. А отчего? Всё оттого. От гордости от твоей. Тебе надо с ребятами в поле ехать да самому рассеять, а тебя враг к судье али к стракулисту какому гонит. Не во-время вспашешь, не во-время посеешь, она, матушка, и не родит. Овес-то отчего ныне не родился? Ты когда сеял? Из города приехал. А что высудил? Себе на шею. Эх, малый, ты свое дело помни: ворочай с ребятами на пашне да в дому, а обидел тебя кто, так ты по Божьи прости, и по делу-то вольготнее тебе будет, и на душе-то легость у тебя всегда будет.
Молчит Иван.
— Ты вот что, Ваня! Послушай ты меня, старика. Поди ты, запряги чалаго, поезжай ты тем же следом в Правление, прикрой ты там все дела и поди ты на утро к Гавриле, попростись ты с ним по-божески, да к себе позови, завтра же праздник (дело было под Рождество Богородицы), поставь самоварчик, полштоф возьми и развяжи ты все грехи, чтоб и вперед их не было, и бабам и детям закажи.
Воздохнул и Иван, думает «правду старик говорит», и отошло у него вовсе сердце. Только не знает, как дело это сделать, как помириться теперь.
И начал опять старик, точно угадал.
— Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь в начале, а разгорится — не захватишь.
Хотел еще что-то сказать старик, да не договорил: пришли бабы в избу, защекотали, как сороки. До них уж все вести дошли: и как Гаврилу присудили розгами высечь, и как он сжечь грозился. Всё узнали и своего приплели, и уж с Гавриловыми бабами на выгоне опять побраниться успели. Стали рассказывать, как им Гаврилова сноха грозилась производителем. Производитель, мол, Гаврилову руку тянет. Он теперь всё дело перевернет, а учитель, мол, уж другое прошенье к самому царю на Ивана писал, и в прошении все дела прописаны: и об шкворне, и об огороде, и половина усадьбы теперь к ним перейдет. Послушал их речи Иван, и застыло у него опять сердце, и раздумал мириться с Гаврилой.
У хозяина во дворе всегда дела много. Не стал с бабами говорить Иван, а встал и пошел из избы, пошел на гумно и в сарай. Пока убрался там да вернулся во двор, уже и солнышко зашло; подъехали и ребята с поля: они яровое под зиму надвоем пахали. Встретил их Иван, порасспросил про работу, подсобил убраться, отложил хомут разорванный починить, хотел еще убрать жерди под сарай, да уж вовсе смерклось. Оставил Иван жерди до завтра, а подкинул скотине корму, отворил ворота, выпустил Тараску с лошадьми на улицу ехать в ночное и опять запер ворота, заложил подворотню. «Теперь поужинать да и спать», подумал Иван, захватил хомут рваный и пошел в избу. И забыл он к тому времени и про Гаврилу, и про то, что̀ отец говорил. Только взялся за кольцо, входит в сени, слышит — из-за плетня ругается на кого-то сосед хриплым голосом. «На кой его дьявола! — кричит на кого-то Гаврило. — Убить его стоит!» Так и всплыло у Ивана от этих слов всё прежнее зло на соседа. Постоял он, послушал, покуда Гаврило ругался. Затих Гаврило, пошел и Иван в избу. Вошел он в избу, в избе засветили огонь; молодайка в углу сидит за пряхой, старуха ужинать собирает, старший сын оборки вьет на лапти, второй у стола сидит с книжкой, Тараска в ночное убирается.
В избе всё хорошо, весело, кабы не зазноба эта — сосед лихой.
Вошел Иван сердитый, сбросил кошку с лавки и баб разбранил, что у них лохань не на месте. И скучно стало Ивану; сел он, нахмурился и стал хомут чинить, и не идут у пего из головы Гавриловы слова, как он на суде погрозился и как сейчас прокричал хриплым голосом про кого-то: «убить его стоит!».
Собрала старуха Тараске ужинать; поел он, надел шубенку, кафтан, подпоясался, взял хлеба и пошел на улицу к лошадям. Хотел его старший брат проводить, да Иван сам встал и вышел на крыльцо. На дворе уж вовсе темно, черно стало, наволокло и поднялся ветер. Сошел Иван с крыльца, подсадил сынишку, пугнул за ним жеребенка и постоял, посмотрел, послушал, как поехал Тараска вниз по деревне, как съехался с другими ребятами и как все они выехали из слуха вон. Постоял, постоял Иван у ворот, и не выходят у него из головы Гавриловы слова: «как бы у тебя больнее не загорелось».
«И себя, — думает Иван, — не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет где с задов, сунет огонь, да и был таков; сожжет, злодей, и да и прав останется. Вот кабы накрыть его, уж не ушел бы!» И так запала эта Ивану думка в голову, что не пошел он назад на крыльцо, а прямо сошел на улицу и за ворота, за угол. «Дай обойду двор. Кто его знает». И пошел Иван тихой ступней вдоль ворот.
Только зашел он за угол, поглядел вдоль плетня, и покажись ему, что на том углу что-то мотнулось, как будто высунулось и опять спряталось за угол. Остановился Иван и притих, — слушает и смотрит: всё тихо, только ветер листочки на лозине треплет и по соломе шуршит. То было темно, хоть глаз выткни, а то пригляделись глаза в темноте: и видит Иван весь угол, и соху и застреху. Постоял он, посмотрел: «нет никого».
«Видно, померещилось, — подумал Иван, — а всё-таки обойду», и пошел крадучись вдоль сарая. Ступает Иван тихо, в лаптях, так что и сам своих шагов не слышит. Дошел до угла — глядь, на том конце что-то блеснуло у сохи и опять скрылось. Так и ударило Ивана в сердце, и остановился он.
Только остановился он, на том же месте вспыхнуло ярче, и явственно видно — сидит на корточках к нему спиной человек в шапке и соломы пучок в руках разжигает. Забилось у Ивана сердце в груди, как птица, и напружился он весь и зашагал большими шагами. Сам под собой ног не слышит. «Ну, — думает, — теперь не уйдет, на месте захвачу!»
Не дошел Иван еще двух прогалков, как вдруг засветилось ярко-ярко, да уж не на том месте и не маленький огонек, а полымем вспыхнула солома под застрехой и на крышу несет, и Гаврило стоит, и всего его видно.
Как ястреб на жаворонка бросился Иван на Хромого. «Скручу, — думает, — не уйдет теперь!» Да услыхал, видно, Хромой шаги, оглянулся, и, откуда прыть взялась, заковылял, как заяц, вдоль сарая.
— Не уйдешь! — закричал Иван и налетел на него.
Только он хотел ухватить его за шиворот, вывернулся у него из-под рук Гаврило, поймал его Иван за полу. Пола оборвалась, и упал Иван. Вскочил Иван: «караул! держи!» и побежал опять.
Пока он поднимался, Гаврило уже был у своего двора, но и тут Иван настиг его. И только хотел сцапать, как вдруг оглоушило его что-то по голове, как камнем ударило по темени: это Гаврило у двора поднял дубовый кол и, когда Иван подбегал к нему, со всего маху ударил его в голову.
Очумел Иван, посыпались у него искры из глаз, потом потемнело, и зашатался он. Когда он опомнился, Гаврилы не было; было светло, как днем, и со стороны его двора, как машина шла, гудело и трещало что-то. Иван повернулся и увидал, что задний сарай его полыхал весь, боковой сарай захватило, и огонь, и дым, и оскретки соломы с дымом гнало на избу.
— Что ж это, братцы! — вскрикнул Иван, поднял руки и хлопнул ими себя по ляжкам. — Ведь мне бы только выдернуть из застрехи да затоптать! Что ж это, братцы! — повторил он.
Хотел закричать — дух захватило, голоса не было. Хотел бежать — ноги не двигались, одна за другую цеплялась. Пошел шагом — зашатался, опять дух захватило. Постоял, отдышался, опять пошел. Покуда он обошел сарай и дошел до пожара, боковой сарай весь полыхал, захватило уже и угол избы и ворота, и из избы валил огонь и ходу во двор не было. Народу сбежалось много, но делать нечего было. Соседи вытаскивали свое и сгоняли с дворов свою скотину. После Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу. Снесло половину деревни.
У Ивана только вытащили старика да сами повыскочили в чем были, а то все осталось; кроме лошадей в ночном, вся скотина сгорела, куры погорели на насестях, телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в закромах, всё сгорело.
У Гаврилы скотину выгнали и кое-что повытаскали.
Горело долго, всю ночь. Иван стоял около своего двора, смотрел и только всё приговаривал: «Что ж это, братцы! только бы выхватить да затоптать». Но когда завалился потолок в избе, он полез в самый жар, ухватил обгорелое бревно и потащил его из огня. Бабы увидали его и стали звать назад, но он вытащил бревно и полез за другим, да пошатнулся и упал на огонь. Тогда сын полез за ним и вытащил его. Опалил себе Иван и бороду и волосы, прожег платье и испортил руку, и ничего не чуял. «Это он с горя одурел», говорил народ. Стал пожар утихать, а Иван всё стоял и только приговаривал: «Братцы, что ж это! только бы выхватить». К утру прислал за Иваном староста сына.
— Дядя Иван, твой родитель помирает, велел тебя звать проститься.
Забыл Иван и про отца и не понял, что̀ ему говорят.
— Какой, — говорит, — родитель? Кого звать?
— Велел тебя звать — проститься, он у нас в избе помирает. Пойдем, дядя Иван, — сказал старостин сын и потянул его за руку. Иван пошел за Старостиным сыном.
Старика, когда выносили, окинуло соломой с огнем и обожгло. Его снесли к старосте на дальнюю слободу. Слобода эта не сгорела.
Когда Иван пришел к отцу, в избе была только одна старушка старостина и ребята на печке. Все были на пожаре. Старик лежал на лавке с свечкой в руке и косился на дверь. Когда сын вошел, он зашевелился. Старуха подошла к нему и сказала, что пришел сын. Он велел позвать его ближе. Иван подошел, и тогда старик заговорил:
— Что, Ванятка, — сказал он, — говорил я тебе. Кто сжег деревню?
— Он, батюшка, — сказал Иван, — он, я и застал его. При мне он и огонь в крышу сунул. Мне бы только выхватить клок соломы с огнем да затоптать, и ничего бы не было.
— Иван, — сказал старик. — Моя смерть пришла, и ты помирать будешь. Чей грех?
Иван уставился на отца и молчал, ничего не мог выговорить.
— Перед Богом говори: чей грех? Что я тебе говорил?
Тут только очнулся Иван и всё понял. И засопел он носом и сказал:
— Мой, батюшка! — И пал на колени перед отцом, заплакал и сказал: — Прости меня, батюшка, виноват я перед тобой и перед Богом.
Старик подвигал руками, перехватил в левую руку свечку и потащил правую ко лбу, хотел перекреститься, да не дотащил и остановился.
— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! — сказал он и скосил глаза опять на сына.
— Ванька! а Ванька!
— Что, батюшка?
— Что ж надо делать теперь?
Иван всё плакал.
— Не знаю, батюшка, — сказал он. — Как теперь и жить, батюшка?
Закрыл глаза старик, помулявил губами, как будто с силами собирался, и опять открыл глаза и сказал:
— Проживете. С Богом жить будете — проживете.
Помолчал еще старик, ухмыльнулся и сказал:
— Смотри ж, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грех покрой, Бог два простит.
И взял старик свечку в обе руки, сложил их под сердцем, вздохнул, потянулся и помер.
Иван не сказал на Гаврилу, — и никто и не узнал, от чего был пожар.
И сошло у Ивана сердце на Гаврилу, и дивился Гаврило Ивану, что Иван на него никому не сказал. Сначала боялся его Гаврило, а потом и привык. Перестали ссориться мужики, перестали и семейные. Пока строились, жили обе семьи в одном дворе, а когда отстроилась деревня и дворы разместили шире, Иван с Гаврилой остались опять соседями, в одном гнезде.
И жили Иван с Гаврилой по-соседски, так же, как жили старики. И помнит Иван Щербаков наказ старика и Божье указанье, что тушить огонь надо в начале.
И если ему кто худое сделает, норовит не другому за то выместить, а норовит, как дело поправить; а если ему кто худое слово скажет, норовит не то что еще злее ответить, а как бы того научить, чтобы не говорить худого; и так и баб и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков и стал жить лучше прежнего.
ВРАЖЬЕ ЛЕПКО, А БОЖЬЕ КРЕПКО.
Жил в старинные времена добрый хозяин. Всего у него было много, и много рабов служило ему. И рабы хвалились господином своим. Они говорили: «Нет под небом господина лучше нашего. Он нас и кормит и одевает хорошо, и работу дает по силам, никого словом не оскорбит и ни на кого зла не держит; не так как другие господа своих рабов хуже скотов мучают, и за вину и без вины казнят, и доброго слова не скажут. Наш — нам добра хочет, и добро делает, и доброе говорит нам. Нам лучшего житья не нужно».
Так хвалились рабы господином своим. И вот досадно стало дьяволу, что живут хорошо и по любви рабы с господином своим. И завладел дьявол одним из рабов господина этого, Алебом. Завладев им, велел ему соблазнять других рабов. И когда отдыхали все рабы и хвалили господина своего, поднял голос Алеб и сказал:
— Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дьяволу, и дьявол добр станет. Мы нашему господину хорошо служим, во всем угождаем. Только задумает он что, мы то и делаем, мысли его угадываем. Как же ему с нами добрым не быть? А перестаньте-ка угождать да сделайте ему худо, и он такой же как и все будет, и за зло отплатит злом хуже, чем самые злые господа.
И стали другие рабы спорить с Алебом. И спорили и побились об заклад. Взялся Алеб рассердить доброго господина. Взялся с тем уговором, что если он не рассердит, то решается своей праздничной одежи, а если рассердит, то обещали ему каждый отдать свою праздничную одежу и, кроме того, обещались защитить его от господина, — если закуют его в железо или в темницу посадят, то выпустить его. Побились об заклад, и на другое утро обещал Алеб рассердить хозяина.
Служил Алеб у хозяина в овчарне, ходил за племенными дорогими баранами. И вот, на утро, когда пришел добрый господин с гостями в овчарню и стал им показывать своих любимых дорогих баранов, мигнул дьяволов работник товарищам:
— Смотрите, сейчас рассержу хозяина.
Собрались все рабы, смотрят в двери и через ограду, а дьявол взлез на дерево и смотрит оттуда во двор, как будет ему служить его работник. Походил хозяин по двору, показал гостям овец и ягнят и захотел показать лучшего своего барана.
— Хороши, — говорит, — и другие бараны, а вон тот, что с крутыми рогами, тому цены нет, он для меня глаза дороже.
Шарахаются от народа по двору овцы и бараны и не могут рассмотреть гости дорогого барана. Только остановится этот баран, так дьяволов работник, как будто ненароком, пугнет овец, и опять все смешаются. Не могут разобрать гости, который бесценный баран. Вот наскучило это хозяину. Он и говорит:
— Алеб, друг любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшего барана с крутыми рогами и подержи его.
И только сказал это хозяин, бросился Алеб как лев в середину баранов и ухватил бесценного барана за волну. Ухватил за волну и тотчас перехватил одною рукой за заднюю левую ногу, поднял ее и прямо на глазах хозяина рванул ногу кверху, и хрустнула она, как лутошка. Сломал Алеб дорогому барану ногу ниже колена. Заблеял баран и упал на передние колена. Перехватил Алеб за правую ногу, а левая вывернулась и повисла как плеть. Ахнули и гости и рабы все, и зарадовался дьявол, когда увидел, как умно сделал его дело Алеб. Стал чернее ночи хозяин, нахмурился, опустил голову и не сказал ни слова. Молчали гости и рабы... Ждали, что будет. Помолчал хозяин, потом отряхнулся, будто с себя скинуть что хочет, поднял голову и уставился в небо. Недолго смотрел он, и морщины разошлись на лице, и он улыбнулся. Он поглядел на Алеба, и сказал:
— О, Алеб, Алеб! твой хозяин велел тебе меня рассердить. Да мой хозяин сильнее твоего: и ты не рассердил меня, а рассержу же я твоего хозяина. Ты боялся, что я накажу тебя, и ты хотел быть вольным, Алеб, так знай же, что не будет тебе от меня наказания; а хотел ты быть вольным, так вот при гостях моих отпускаю тебя на волю. Ступай на все четыре стороны, возьми свою праздничную одежду.
И пошел добрый господин с гостями своими домой. А дьявол заскрежетал зубами, свалился с дерева и провалился сквозь землю.
ДЕВЧОНКИ УМНЕЕ СТАРИКОВ
Святая была ранняя. Только на санях бросили ездить. На дворах снег лежал, и по деревне ручьи текли. Натекла промежду двух дворов в проулке из-под навоза лужа большая. И собрались к этой луже две девчонки из разных дворов — одна поменьше, другая постарше. Обеих девчонок матери в новые сарафаны одели. На маленькой — синий, а на большенькой желтый с разводами. Обеих красными платками повязали. Вышли девочки после обедни к луже, показали друг дружке свои наряды и стали играть. И захотелось им побрызгаться в воде. Полезла было маленькая в башмачках в лужу, а старшенькая и говорит:
— Не ходи, Малаша, — мать заругается. Дай я разуюсь, и ты разуйся.
Разулись девчонки, подобрались и пошли по луже друг дружке навстречу. Вошла Малашка по щиколку и говорит:
— Глубоко, Акулюшка, — я боюсь.
— Ничего, — говорит, — глубже не будет. Иди прямо на меня.
Стали сходиться. Акулька и говорит:
— Ты, Малаша, смотри не брызжи, а потихонечку.
Только сказала, а Малашка бултых ногой по воде, — прямо на Акулькин сарафан брызнуло. Сарафан забрызгало, и на нос и в глаза попало. Увидала Акулька на сарафане пятна, раздосадовалась на Малашку, разругалась, побежала за ней, хотела побить. Испугалась Малашка, видит, что беду наделала, выскочила из лужи, побежала домой. Шла мимо Акулькина мать, увидала — на дочке сарафан забрызган и рубаха запачкана.
— Где ты, подлая, изгваздалась?
— Меня Малашка нарочно забрызгала.
Схватила Акулькина мать Малашку, ударила ее по затылку. Завыла Малашка на всю улицу. Вышла Малашкина мать.
— За что бьешь мою? — стала соседку бранить. Слово за слово, разругались бабы. Повыскочили мужики, собралась на улице куча большая. Все кричат, никто друг друга не слушает. Бранились, бранились, один толкнул другого, совсем было завязалась драка, да вступилась старуха, Акулькина бабка. Вышла в середину мужиков, стала уговаривать:
— Что вы, родные. Такие ли дни? Надо радоваться, а вы такой грех затеяли.
Не слушают старуху, чуть самое с ног не сбили. И не уговорила бы их старуха, кабы не Акулька с Малашкой. Пока бабы перекорялись, затерла себе Акулька сарафанчик, вышла опять на проулок к луже. Подняла камешек и стала у лужи землю ковырять, чтобы на улицу воду спустить. Пока она ковыряла, подошла и Малашка, стала ей подсоблять, тоже щепкой канаву разводить. Мужики только драться начали, а у девчат по канавке вода прошла на улицу и в ручей. Пустили девчата в воду щепочку. Понесло щепочку на улицу, прямо на то место, где старуха мужиков разнимала. Бегут девчонки — одна с одного боку, другая с другого боку ручья.
— Держи, Малаша, держи! — кричит Акулька. Малаша тоже что-то сказать хочет, да не выговорит от смеха.
Бегут так девчата, на щепку смеются, как она по ручью ныряет. И вбежали прямо в середку мужиков. Увидала их старуха и говорит мужикам:
— Побойтесь вы Бога! Вы, мужики, из-за этих самых девчат драться связались, а они давно всё забыли — опять по любви вместе, сердечные, играют. Умней они вас!
Посмотрели мужики на девчат, и стыдно им стало. А потом засмеялись сами на себя мужики и разошлись по дворам.
«Аще не будете как дети, не войдете в царствие Божие».
ЗЕРНО С КУРИНОЕ ЯЙЦО.
Нашли раз ребята в овраге штучку с куриное яйцо с дорожкой посередине и похоже на зерно. Увидал у ребят штучку проезжий, купил за пятак, повез в город, продал царю за редкость.
Позвал царь мудрецов, велел им узнать, что за штука такая — яйцо или зерно? Думали, думали мудрецы — не могли ответа дать. Лежала эта штучка на окне, влетела курица, стала клевать, проклевала дыру; все и увидали, что — зерно. Пришли мудрецы, сказали царю: «Это — зерно ржаное».
Удивился царь. Велел мудрецам узнать, где и когда это зерно родилось. Думали, думали мудрецы, искали в книгах, — ничего не нашли. Пришли к царю, говорят:
«Не можем дать ответа. В книгах наших ничего про это не написано; надо у мужиков спросить, не слыхал ли кто от стариков, когда и где такое зерно сеяли.
Послал царь, велел к себе старого старика, мужика, привести. Разыскали старика старого, привели к царю. Пришел старик, зеленый, беззубый, насилу вошел на двух костылях.
Показал ему царь зерно, да не видит уж старик; кое-как половину разглядел, половину руками ощупал.
Стал царь его спрашивать:
— Не знаешь ли, дедушка, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?
Глух был старик, насилу-насилу расслушал, насилу-насилу понял. Стал ответ держать:
— Нет, — говорит, — на своем поле хлеба такого севать не севал, и жинать не жинал, и покупать не покупывал.
Когда покупали хлеб, всё такое ж зерно мелкое было. А надо, — говорит, — у моего батюшки спросить: может, он слыхал, где такое зерно рожалось.
Послал царь за отцом старика, велел к себе привести. Нашли и отца старикова, привели к царю. Пришел старик старый на одном костыле. Стал ему царь зерно показывать. Старик еще видит глазами, хорошо разглядел. Стал царь его спрашивать:
— Не знаешь ли, старичок, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?
Хоть и крепонек на ухо был старик, а расслушал лучше сына.
— Нет, — говорит, — на своем поле такого зерна севать не севал и жинать не жинал. А покупать не покупывал, потому что на моем веку денег еще и в заводе не было. Все своим хлебом кормились, а по нужде — друг с дружкой делились. Не знаю я, где такое зерно родилось. Хоть и крупнее теперешнего и умолотнее наше зерно было, а такого видать не видал. Слыхал я от батюшки, — в его время хлеб лучше против нашего раживался, и умолотнее и крупней был. Его спросить надо.
Послал царь за отцом стариковым. Нашли и деда, привели к царю. Вошел старик к царю без костылей; вошел легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду. Поглядел дед, повертел.
— Давно, — говорит, — не видал я старинного хлебушка.
Откусил дед зерна, пожевал крупинку.
— Оно самое, — говорит.
— Скажи же мне, дедушка, где и когда такое зерно родилось? На своем поле не севал ли ты такой хлеб или на твоем веку где у людей не покупывал ли?
И сказал старик:
— Хлеб такой на моем веку везде раживался. Этим хлебом, — говорит, — я век свой кормился и людей кормил. Это зерно и сеял, это и жал, это и молотил.
И спросил царь:
— Скажи же мне, дедушка, покупал ли ты где такое зерно, или сам на своем поле сеял?
Усмехнулся старик.
— В мое время, — говорит, — и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать, а про деньги и не знали: хлеба у всех своего вволю было.
И спросил царь:
— Так скажи же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твое поле было?
И сказал дед:
— Мое поле было — земля Божья: где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли.
— Скажи же, — говорит царь, — мне еще два дела: одно дело — отчего прежде такое зерно рожалось, а нынче не родится? А другое дело — отчего твой внук шел на двух костылях, сын твой пришел на одном костыле, а ты вот пришел и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная? Отчего, скажи, дедушка, эти два дела сталися?
И сказал старик:
— Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить, — на чужие стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-Божьи; своим владали, чужим не корыстовались.
МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО.
I.
Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.
Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.
— Не променяю я, — говорит, — своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.
Стала старшая сестра говорить:
— Сытость-то какая, — со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.
— А что ж, — говорит меньшая, — наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городý все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый, — глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет всё прахом. Разве не бывает?
Слушал Пахом — хозяин на печи, что бабы балакают.
— Правда это, — говорит, — истинная. Как наш брат с измальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!
Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.
А чорт за печкой сидел, всё слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и чорт не возьмет.
«Ладно, — думает, — поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».
II.
Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней 120 десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут, — за всё штраф.
Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала, — хоть и жалко корму, да страху нет.
Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, — думают, — достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дороже заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни 20 десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало Пахому: «раскупят, — думает, — всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.
— Люди покупают, надо, — говорит, — и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.
Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.
Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, 15 десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал 15 десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.
И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть, — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.
III.
Живет так Пахом, радуется. Всё бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, всё не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, всё не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «нельзя же и спускать, этак они всё вытравят. Надо поучить».
Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом, — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то под ряд злодей все счистил. Обозлился Пахом: — «Ах, — думает, — вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, — думает, — как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улик нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался. «Вы, — говорит, — воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров». Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.
И прошел в то время слух, что идет парод на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти не зачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то всё теснота».
Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились, — откуда, мол, Бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает: «Поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по 10 десятин на душу. А земля такая, — говорит, — что посеяли ржи, так солома лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик, — говорит, — совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы».
Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведенье всё заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому всё путем вызнать надо».
Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст 400 прошел. Дошел до места. Всё так точно. Живут мужики просторно, по 10 десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!
Разузнал всё Пахом, вернулся к осени домой, стал всё распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.
IV
Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на 5 душ надельной земли 50 десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.
Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой, — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть, не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села: верст за 15 возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. «То ли дело, — думает Пахом, — коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Всё бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.
Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая землица есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить и не на чем сеять. А то купил на 3-й год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, — думает, — никому бы не кланялся, и греха бы не было».
И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика 500 десятин, да разорился он и продает за дешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за 1500 руб., половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч 5 десятин. И стало всего 1000 рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец. «Только, — говорит, — стариков ублаготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на 100, да цыбик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по 20 коп. за десятину взял». Показывает купчую. «Земля, — говорит, — по речке, и степь вся ковыльная». Стал расспрашивать Пахом, как и что. «Земли, — говорит купец, — там не обойдешь и в год: всё башкирская. А народ несмышленый, как бараны. Можно почти даром взять». — «Ну, — думает Пахом, — что ж мне за мои 1000 руб. 500 десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за 1000 рублей чем завладаю!»
V.
Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цыбик, подарков, вина, — всё, как купец сказал. Ехали, ехали, верст 500 отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Всё так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, всё лето празднуют. Народ совсем темный и по-русски не знают, а ласковый.
Только увидали Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил.
Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.
— Велят тебе сказать, — говорит переводчик, — что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?
— Полюбилась мне, — говорит Пахом, — больше всего у вас земля. У нас, говорит, в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.
Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:
«Велят, — говорит, — они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет»
Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:
— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.
VI.
Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик: «Это старшина самый». Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю 5 фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.
— Что ж, говорит, можно. Бери, где полюбится. Земли много.
«Как же я возьму, сколько хочу, — думает Пахом. — Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».
— Благодарим вас, — говорит, — на добром слове. Земли ведь у вас много; а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь всё-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе Бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.
— Правда твоя, — говорит старшина, — закрепить можно.
Стал Пахом говорить:
Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже».
Всё понял старшина.
— Это всё можно, — говорит. — У нас и писарь есть, и в город поедем, и все печати приложим.
— А цена какая будет? — говорит Пахом.
— Цена у нас одна: 1000 руб. за день.
Не понял Пахом.
— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?
— Мы этого, — говорит, — не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню 1000 рублей.
Удивился Пахом.
— Да ведь это, — говорит, — в день обойти, земли много будет.
Засмеялся старшина.
— Вся твоя! — говорит. — Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.
— А как же, — говорит Пахом, — отметить, где я пройду?
— А мы станем на место, где ты облюбуешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, всё твое.
Обрадовался Пахом. Порешили наране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.
VII.
Лег Пахом на пуховики и не спится ему, всё про землю думает. «Отхвачу, — думает, — Палестину большую. Верст 50 обойду в день-то. День-то нынче что год; в 50 верстах земли-то что̀ будет. Какую похуже — продам или мужиков пущу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».
Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец намеднишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «ты давно ли тут?» а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. — «Чего не приснится», — думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинает. «Надо, — думает, — будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.
— Пора, — говорит, — на степь ехать, отмерять.
Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.
— Коли ехать, так ехать, — говорит, — пора.
VIII.
Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.
— Вот, — говорит, — вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.
Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка — так разнотравье, трава по груди.
Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.
— Вот, — говорит, — метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, всё твое будет.
Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять, — везде хорошо. Думает — всё одно: пойду на восход солнца. Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает — ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче. Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.
Пошел Пахом не тихо, не скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шагу прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.
Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст 5 прошел. Согреваться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко, — уж время об завтраке.
«Одна упряжка прошла, — думает Пахом. — А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно и народ, как мураши, на нем чернеется и чуть блестит что-то.
«Ну, — думает Пахом, — в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.
Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, — думает, — отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.
Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь — лощинка подошла сырая; жаль бросать. Думает, «лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лощинку, выкопал ямку за лощиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст 15 до них будет. «Ну, — думает Пахом, — длинны стороны взял, надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места всё те же верст 15. «Нет, — думает, — хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.
IX.
Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя, — не поспеешь дойти до заката. Солнце не ждет, всё спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не поспеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.
Идет так Пахом, трудно ему, а всё прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — всё еще далеко; побежал рысью. Бросил за поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, — думает, — позарился я, всё дело погубил, не добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются. а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются Жутко стало Пахому: думает, «как бы не помереть с натуги».
Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, — думает, — пробежал, а теперь остановиться, — дураком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло; большое, красное, кровяное стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, — думает, — много, да приведет ли Бог на ней жить. Ох, погубил я себя, — думает, — не добегу».
Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краюшком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насилу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся, — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, — думает, — мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают всё башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажет, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.
— Ай, молодец! — закричал старшина. — Много земли завладел!
Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.
Пощелкали языками башкирцы, пожалели.
Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.
КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК.
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое. — И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лук. XXIII, 42, 43).
Жил на свете человек 70 лет, и прожил он всю жизнь в грехах. И заболел этот человек и не каялся. И когда пришла смерть, в последний час заплакал он и сказал: «Господи! как разбойнику на кресте, прости мне!» Только успел сказать — вышла душа. И возлюбила душа грешника Бога, и поверила в милость Его, и пришла к дверям рая.
И стал стучаться грешник и проситься в царство небесное.
И услыхал он голос из-за двери:
— Какой человек стучится в двери райские? и какие дела совершил человек этот в жизни своей?
И отвечал голос обличителя, и перечислил все грешные дела человека этого и не назвал добрых дел никаких.
И отвечал голос из-за двери:
— Не могут грешники войти в царство небесное. Отойди отсюда.
И сказал человек:
— Господи! голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не знаю.
И отвечал голос:
— Я — Петр апостол.
И сказал грешник:
— Пожалей меня, Петр апостол, вспомни слабость человеческую и милость Божию. Не ты ли был ученик Христов, не ты ли из самих уст Его слышал учение Его и видел пример жизни Его? А вспомни, когда Он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели, и три раза Он застал тебя спящим. Так же и я.
— А вспомни еще, как обещал Ему Самому до смерти не отречься от него и как ты три раза отрекся от Него, когда повели Его к Каиафе. Так же и я.
— И вспомни еще, как запел петух и ты вышел вон и заплакал горько. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.
И затих голос за дверьми райскими.
И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное.
И послышался из-за дверей другой голос и сказал:
— Кто человек этот? и как жил он на свете?
И отвечал голос обличителя, и опять повторил все худые дела грешника и не назвал добрых дел никаких.
И отвечал голос из-за двери:
— Отойди отсюда: не могут такие грешники жить с нами вместе в раю.
И сказал грешник:
— Господи, голос твой слышу, но лица твоего не вижу и имени твоего не знаю.
И сказал ему голос:
— Я — царь и пророк Давид.
И не отчаялся грешник, не отошел от двери рая и стал говорить:
— Пожалей меня, царь Давид, и вспомни слабость человеческую и милость Божию. Бог любил тебя и возвеличил пред людьми. Всё было у тебя — и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, а увидел ты с крыши жену бедного человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия и убил его самого мечом амонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого. То же делал и я.
— И вспомни потом, как ты покаялся и говорил: «Я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе своем». Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.
И затих голос за дверьми.
И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное. И послышался из-за дверей третий голос и сказал:
— Кто человек этот? и как прожил он на свете?
И отвечал голос обличителя, и в третий раз перечислил худые дела человека и не назвал добрых.
И отвечал голос из-за двери:
— Отойди отсюда: не могут грешники войти в царство небесное.
И отвечал грешник:
— Голос твой слышу, но лица не вижу и имени твоего не знаю.
И отвечал голос:
— Я — Иоанн Богослов, любимый ученик Христа.
И обрадовался грешник и сказал:
— Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят меня за то, что они знают слабость человеческую и милость Божию. А ты впустишь меня потому, что в тебе любви много. Не ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что Бог есть любовь и что кто не любит, тот не знает Бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: «Братья, любите друг друга!» Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в царство небесное.
И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и впустил его в царство небесное.
————
ДВА СТАРИКА.
Иоан. IV, 19. — Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу.
22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
I.
Собрались два старика Богу молиться в старый Иерусалим. Один был богатый мужик, звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек Елисей Бодров.
Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий и твердый. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья у него была большая: два сына и внук женатый, и все жили вместе. Из себя он был мужик здоровый, бородастый и прямой, и на седьмом десятке только стала седина в бороде пробивать. Елисей был старичок ни богатый, ни бедный, хаживал прежде по плотничной работе, а под старость стал дома жить и водил пчел. Один сын в добычу ходил, другой — дома. Человек был Елисей добродушный и веселый. Пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был смирный, с домашними и с соседями жил дружно.
Из себя Елисей был мужичок невысокий, черноватенький, с курчавой бородкой и, по своему святому — Елисею пророку, с лысиной во всю голову.
Давно пообещались старики и сговорились вместе идти, да всё Тарасычу недосуг было: не перемежались у него дела. Только одно кончается, другое затевается: то внука женит, то из солдатства сына меньшого поджидает, а то избу затеял новую класть.
Сошлись раз старики праздником, сели на бревнах.
— Что ж, — говорит Елисей, — когда оброк отбывать пойдем? Поморщился Ефим.
— Да погодить, — говорит, — надо, год нынче мне трудный вышел. Затеял я эту избу класть, думал, что-нибудь на сотню накину, а она уж в третью лезет. И то всё не довел. Видно, уж до лета. На лето, коли Бог даст, беспременно пойдем.
— На мой разум, — говорит Елисей, — откладывать нечего, идти надо нынче. Самое время — весна.
— Время-то время, да дело расчато, как его бросить?
— Разве у тебя некому? Сын дела поделает.
— Как поделает-то! Большак-то у меня не надежен — зашибает.
— Помрем, кум, будут жить и без нас. Надо и сыну поучиться.
— Так-то так, да всё хочется при своем глазе дело свершить.
— Эх, милый человек! Дел всех никогда не перевершишь. ВОТ намеднись у меня бабы к празднику моют, убираются. И то надо и другое, всех дел не захватят. Старшая сноха, баба умная, и говорит: «Спасибо, — говорит, — праздник приходит, нас не дожидается, а то, — говорит, — сколько б ни делали, всего бы не переделали».
Задумался Тарасыч.
— Денег, — говорит, — много извел я в эту постройку; а в поход тоже не с пустыми руками идти. Деньги немалые — 100 рублей.
Засмеялся Елисей.
— Не греши, — говорит, — кум. Твой достаток против моего в 10 раз, а ты про деньги толкуешь. Только скажи, когда выходить — у меня и нет, да будут.
Ухмыльнулся и Тарасыч.
— Вишь богач какой объявился, — говорит, — где ж возьмешь-то?
— Да дома поскребу — наберу сколько-нибудь; а чего не хватит — ульев с десяток с выставки соседу отдам. Давно уж просит.
— Роевщина хорошая будет, тужить будешь.
— Тужить?! Нет, кум! В жизнь ни о чем, кроме о грехах, не тужил. Дороже души ничего нет.
— Оно так, да всё неладно, как по дому неуправка.
— А как у нас по душе-то неуправка будет, тогда хуже. А обреклись — пойдем! Право, пойдем.
II.
И уговорил Елисей товарища. Подумал, подумал Ефим, на утро приходит к Елисею.
— Что ж, пойдем, — говорит, — правду ты говоришь. В смерти да в животе Бог волен. Пока живы да силы есть, идти надо.
Через недельку собрались старики.
У Тарасыча были деньги дома. Взял он себе 100 рублей на дорогу, 200 рублей старухе оставил.
Собрался и Елисей; продал соседу 10 ульев с выставки, и приплод, сколько будет от 10 колодок, тоже соседу. Взял за все 70 рублей. Остальные 30 рублей по дому под метелочку у всех обобрал. Старуха свои последние отдала, на похоронки берегла; сноха свои дала.
Приказал Ефим Тарасыч все дела старшему сыну: и где сколько покосов взять, и куда навоз вывезти, и как избу выделать и покрыть. Всякое дело обдумал — всё приказал. А Елисей только наказал старухе, чтоб от проданных ульев молодых особо сажать и соседу без обмана отдать, а про домашние дела и говорить не стал: само дело, мол, покажет, что и как делать надо. Сами хозяева, для себя сделаете как лучше.
Собрались старики. Напекли домашних лепешек, пошили сумки, отрезали онуч новых, обули бахилки новые, взяли запасных лаптей и пошли. Проводили домашние их за околицу, распрощались, и пошли старики в путь-дорогу.
Вышел Елисей с веселым духом и как отошел от деревни, так все дела свои забыл. Только и думки у него, как бы дорогой товарищу угодить, как бы кому грубого слова не сказать, как бы в мире и любви до места дойти и домой вернуться. Идет Елисей дорогой и всё сам про себя либо молитву шепчет, либо жития, какие знает, на память твердит. А сойдется на пути с человеком или на ночлег придет, со всяким норовит как бы поласковее обойтись да по-Божьи слово сказать. Идет — радуется. Одного дела не мог сделать Елисей. Хотел бросить табак нюхать и тавлинку дома оставил, да скучно стало. Дорогой дал ему человек. И нет-нет, отстанет от товарища, чтоб его в грех не вводить, и понюхает.
Идет и Ефим Тарасыч хорошо, твердо, худого не делает и пустого не говорит, да нет у него легости на душе. Не выходит у него из головы забота про домашнее. Всё поминает, что дома делается. Не забыл ли чего сыну приказать и так ли сын делает? Увидит по дороге — картофель садят или навоз везут, и думает: так ли по приказу его сын делает. Так бы, кажется, вернулся и всё бы показал и сам сделал.
III.
Шли пять недель старики, домашние лапти избили, уж новые покупать стали и пришли в хохлатчину. От дома шли, за ночлег и за обед платили, а пришли к хохлам, стали их на перебой к себе люди зазывать. И пустят, и покормят, и денег не берут, а еще на дорогу в сумки им хлеба, а то и лепешек накладут. Прошли так вольно старики сот семь; прошли еще губернию и пришли в неурожайное место. Пускать пускали и денег за ночлег не брали, а кормить перестали. И хлеба не везде давали, другой раз и за деньги не добьются. Прошлый год, рассказывал народ, не родилось ничего. Которые богаты были, разорились, всё распродали; которые средственно жили — на-нет сошли; а бедняки — так или уехали совсем, или по-миру ходят, или дома кое-как перебиваются. Зимой мякину или лебеду ели.
Ночевали раз старики в местечке, купили хлеба фунтов 15, переночевали и вышли до зорьки, чтоб подальше до жару уйти. Прошли верст 10 и дошли до речки, сели, зачерпнули воды в чашку, помочили хлебца, поели и переобулись. Посидели, отдохнули. Достал Елисей рожок. Покачал на него головой Ефим Тарасыч.
— Как, — говорит, — такую пакость не бросить!
Махнул рукой Елисей.
— Пересилил, — говорит, — меня грех, что сделаешь!
Поднялись, пошли дальше. Прошли еще верст десяток. Пришли в большое село, прошли всё насквозь. И уж жарко стало. Уморился Елисей, захотелось ему и отдохнуть и напиться да не останавливается Тарасыч. Тарасыч в ходьбе крепче был, и трудненько было Елисею за ним тянуться.
— Напиться бы, — говорит.
— Что ж, напейся. Я не хочу.
Остановился Елисей.
— Ты, — говорит, — не жди, я только забегу вон в хатку, напьюсь. Живой рукой догоню.
— Ладно, — говорит. — И пошел Ефим Тарасыч один вперед по дороге, а Елисей повернул к хатке.
Подошел Елисей к хатке. Хатка небольшая, мазаная; низ черный, верх белый, да облупилась уж глина, давно, видно, не мазана, и крыша с одного бока раскрыта. Ход в хатку со двора. Вошел Елисей на двор; видит — у завалинки человек лежит безбородый, худой, рубаха в портки — по-хохлацки. Человек, видно, лег в холодок, да солнце вышло прямо на него. А он лежит и не спит. Окликнул его Елисей, спросил напиться — не отозвался человек. «Либо хворый, либо неласковый», подумал Елисей и подошел к двери. Слышит — в хате дитя плачет. Постучал Елисей кольцом. «Хозяева!» Не откликаются. Постучал еще посошком в дверь. «Крещеные!» Не шевелятся. «Рабы Божии!» Не отзываются. Хотел Елисей уж и прочь идти, да слышит — из-за двери ровно охает кто-то. «Уж не беда ли какая-нибудь с людьми? Поглядеть надо!» И пошел Елисей в хату.
IV.
Повернул Елисей кольцо — не заперто. Отложил дверь, прошел через сенцы. Дверь в хату отперта. Налево печь; прямо передний угол; в углу божница, стол; за столом — лавка; на лавке в одной рубахе старуха простоволосая сидит, голову на стол положила, а подле ней мальчишка худой, как восковой весь, а брюхо толстое, старуху за рукав дергает, а сам ревмя-ревет, чего-то просит. Вошел Елисей в хату. В хате дух тяжелый. Смотрит — за печью на кровати женщина лежит. Лежит ничком и не глядит, только хрипит и ногу то вытянет, то подтянет. И швыряет ее с боку на бок, и от нее-то дух тяжкий, — видно под себя ходит и убрать ее некому. Подняла голову старуха, увидала человека.
— Чого, — говорит, — тобі треба? чого треба? Нема, чоловіче, нічого.
Понял Елисей, что̀ она говорит, подошел к ней.
— Я, — говорит, — раба Божия, напиться зашел.
— Нема, кажу, нема. Нема чого й взяти. Іди собі.
Стал Елисей спрашивать. — Что ж, и здорового у вас али никого нет женщину убрать?
— Та нема нікого; чоловік на дворі помира, а ми туточки.
Замолчал было мальчик — чужого увидал, да как заговорила старуха, опять ухватил ее за рукав: «Хліба, бабусю! хліба» — и опять заплакал.
Только хотел спросить Елисей старуху, ввалился мужик в хату, прошел по стенке и хотел на лавку сесть, да не дошел и повалился в угол у порога. И не стал подыматься, стал говорить. По одному слову отрывает, скажет — отдышится, другое скажет.
— I болість, — говорит, — напала, голодні. Ось з голоду помирають! — показал мужик головой на мальчика и заплакал.
Встряхнул Елисей сумку за плечами, выпростал руки, скинул сумку наземь, потом поднял на лавку и стал развязывать. Развязал, достал хлеб, ножик, отрезал ломоть, подал мужику. Не взял мужик, а показал на мальчика и на девочку, — им, мол, дай. Подал Елисей мальчику. Почуял мальчик хлеб, потянулся, ухватил ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть ушел. Вылезла из-за печки еще девочка, уставилась на хлеб. Подал и ей Елисей. Отрезал еще кусок и старухе дал. Взяла и старуха, стала жевать.
— Воды бы, — говорит, — принести, уста запеклись. Хотела, говорит, я — вчера ли, сегодня, уж и не помню — принести, упала, не дошла, и ведро там осталось, коли не взял кто.
Спросил Елисей, где колодезь у них. Растолковала старуха. Пошел Елисей, нашел ведро, принес воды, напоил людей. Поели ребята еще хлеба с водой, и старуха поела, а мужик не стал есть. «Не принимает, — говорит, — душа». Баба — та вовсе не поднималась и в себя не приходила, только металась на кровати. Пошел Елисей на село в лавку, купил пшена, соли, муки, масла. Разыскал топоришко, нарубил дров, стал печку топить. Стала ему девочка помогать. Сварил Елисей похлебку и кашу, накормил людей.
V.
Поел мужик немножко, и старуха поела, а девочка с малышком и чашку всю вылизали и завалились обнявшись спать.
Стали мужик с старухой рассказывать, как всё это с ними сталось.
— Жили мы, говорят, и допрежь того небогато, а тут не родилось ничего, стали с осени проедать, что было. Проели всё — стали у соседей и добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые бы и рады дать, да нечего. Да и просить-то совестно стало: всем должны — и деньгами, и мукой, и хлебом. Искал, — говорит мужик, — я себе работы — работы нет. Народ везде из-за корму в работу набивается. День поработаешь, да два так ходишь — работы ищешь. Стали старуха с девчонкой ходить в даль побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Всё-таки кормились кое-как, думали, — пробьемся так до новины. Да с весны совсем подавать перестали, а тут и болезнь напала. Пришло совсем плохо. День едим, а два нет. Стали траву есть. Да с травы ли, али так, напала на бабу болезнь. Слегла баба, и у меня, — говорит мужик, — силы нет. И поправиться не с чего.
— Одна я, — говорит старуха, — билась, да из сил выбилась без еды и ослабла. Ослабла и девчонка, да и заробела. Посылали ее к соседям — не пошла. Забилась в угол и нейдет. Заходила соседка позавчера, да увидала, что голодные да больные, повернулась да и ушла. У ней у самой муж ушел, а малых детей кормить нечем. Так вот и лежали — смерти ждали.
Отслушал их речи Елисей да и раздумал в тот же день идти догонять товарища и заночевал тут. На утро встал Елисей, взялся по дому за работу, как будто сам он и хозяин. Замесил с старухой хлеба, истопил печку. Пошел с девчонкой по соседям добывать, что нужно. Чего ни хватится — ничего нет, всё проедено: ни по хозяйству, ни из одежи. И стал Елисей припасать то, что нужно: что сам сделает, а что купит. Пробыл так Елисей один день, пробыл другой, пробыл и третий. Справился малышок, ходить стал по лавке, к Елисею ластится. А девочка совсем повеселела, во всех делах помогает. Все за Елисеем бегает: «діду! дідусю!» Поднялась и старуха, к соседочке прошла. Стал и мужик по стенке ходить. Лежала только баба, да и та на третий день очнулась и стала есть просить. «Ну, — думает Елисей, — не чаял я столько времени прогулять, теперь пойду».
VI.
На четвертый день подошли розговены, и думает Елисей: «дай уж разговеюсь с людьми, куплю им кое-чего для праздника, а на вечер и пойду». Пошел Елисей опять на село, купил молока, муки белой, сала. Наварили, напекли они, с старухой, а на утро сходил Елисей к обедне, пришел, разговелся с людьми. Встала в этот день и баба, стала бродить. А мужик побрился, чистую рубаху надел — старуха выстирала, — пошел на село к богатому мужику милости просить. Заложены были богатому мужику и покос и пашня, — так пошел просить, не отдаст ли покоса и пашни до новины. Вернулся к вечеру хозяин скучный и заплакал. Не помиловал богатый мужик, говорит: «принеси деньги».
Задумался опять Елисей. «Как им, — думает, — теперь жить? Люди косить пойдут, им нечего: покос заложен. Поспеет рожь — люди убирать примутся (да и родилась же она хорошо, матушка!), а им и приждать нечего: продана у них десятина ихняя богатому мужику. Уйду я, они опять так же собьются». И разбился Елисей мыслями и не пошел с вечера — отложил до утра. Пошел спать на двор. Помолился, лег и не может заснуть: и идти-то надо — уж и так и денег и времени много провел, и людей жалко. «Всех, видно, не оделишь. Хотел им водицы принести да хлебца по ломтю подать, а она вишь куда хватила. Теперь уж — покос да пашню выкупи. А пашню выкупи, — корову ребятам купи да лошадь мужику снопы возить. Видно, запутлялся ты, брат Елисей Кузьмич. Разъякорился и толков не найдешь!» Поднялся Елисей, взял кафтан из-под головы, развернул, достал рожок, понюхал, думал мысли прочистить, ан нет: думал, думал, ничего не придумал. И идти надо и людей жалко. А как быть не знает. Свернул кафтан под голову и опять лег. Лежал, лежал, уж и петухи пропели, и совсем засыпать стал. Вдруг ровно разбудил его кто. Видит он, будто одет он совсем, и с сумкой и с посохом, и надо ему в ворота пройти, а отложены ворота, только чтоб пролезть одному. И идет он в ворота и зацепил с одной стороны сумкой; хотел отцепить, зацепился с другой стороны онучей, и онуча развязалась. Стал отцеплять, ан зацепился не за плетень, а это девчонка держит, кричит: «діду, дідусю, хліба!» Поглядел на ногу, а за онучу малышок держит, из окна старуха и мужик глядят. Проснулся Елисей, заговорил с собой в голос. «Выкуплю, — говорит, — завтра пашню и покос, и лошадь куплю и муки до новины, и корову ребятам куплю. А то пойдешь за морем Христа искать, а в самом себе потеряешь. Надо справить людей!» И заснул Елисей до утра. Проснулся Елисей рано. Пошел к богатому мужику — рожь выкупил, отдал деньги и за покос. Купил косу, — и та продана была, — принес домой. Послал мужика косить, а сам пошел по мужикам: отыскал у кабачника продажную лошадь с телегой. Сторговался, купил, купил и муки мешок, на телегу положил и пошел корову покупать. Идет Елисей и нагоняет двух хохлушек. Идут бабы, промеж себя балакают. И слышит Елисей, что говорят бабы по-своему, а разбирает, что про него говорят.
— Бач, оце його значала не пізнали, така думка: простий чоловік. Зайшов, кажуть, напиться, та і там і зажив. Чого, чого не накупав він iм. Сама бачила, як свого дні у шинкаря коняку з возом купив. Hi мабуть таки э люди на світі. Треба піти подивиться.
Услыхал это Елисей, понял, что его хвалят, и не пошел корову покупать. Вернулся к кабачнику, отдал деньги за лошадь. Запрёг и поехал с мукой к хате. Подъехал к воротам, остановился и слез с телеги. Увидали хозяева лошадь — подивились. И думается им, что для них он лошадь купил, да не смеют сказать. Вышел хозяин, отворил ворота.
— Откуда, — говорит, — конь у тебя, дедушка?
— А купил, — говорит. — Дешево попалась. Накоси, мол, в ящик травки ей на ночь положить. Да и мешок сними.
Отпрёг хозяин лошадь, снес мешок в амбар, накосил беремя травы, положил в ящик. Легли спать. Елисей лег на улице и туда с вечера свою сумку вынес. Заснул весь народ. Поднялся Елисей, увязал сумку, обулся, одел кафтан и пошел в путь за Ефимом.
VII.
Отошел Елисей верст 5. Стало светать. Сел он под дерево, развязал сумку, стал считать. Сосчитал, осталось денег 17 р. 20 копеек. «Ну, — думает, — с этим за море не переедешь! А Христовым именем собирать — как бы греха больше не было. Кум Ефим и один дойдет, за меня свечку поставит. А на мне, видно, оброк до смерти останется. Спасибо, Хозяин милостивый — потерпит».
Поднялся Елисей, встряхнул сумой за плечами и пошел назад. Только село то обошел кругом, чтоб его люди не видали. И домой скоро дошел Елисей. Туда шел — трудно казалось, через силу другой раз тянулся за Ефимом; а назад пошел, так ему Бог дал, что идет и устали не знает. Идет играючи, посошком помахивает, по 70 верст в день уходит.
Пришел Елисей домой. Уж с поля убрались. Обрадовались домашние своему старику, стали расспрашивать: как и что, отчего от товарища отстал, отчего не дошел, домой вернулся? Не стал рассказывать Елисей.
— Да не привел, — говорит, — Бог; растерял дорогой деньги и отстал от товарища. Так и не пошел. Простите ради Христа!
И отдал старухе остальные деньги. Расспросил Елисей про домашние дела: всё хорошо, все дела переделали, упущенья в хозяйстве нет, и живут все в мире и согласии.
Услыхали тем же днем и Ефимовы, что вернулся Елисей, пришли спрашивать про своего старика. И им то же сказал Елисей.
— Ваш, — говорит, — старик здорово пошел, разошлись мы, — говорит, — за три дня до Петрова дни; хотел я было догонять, да тут такие дела подошли: растерял я деньги и не с чем стало идти, так и вернулся.
Подивился народ: как так человек умный да так глупо сделал, — пошел и не дошел, только деньги провел? Подивились и забыли. И Елисей забыл. Взялся за работу по дому: заготовил с сыном дров на зиму, обмолотил с бабами хлеб, прикрыл сараи, убрал пчел, отдал 10 колодок пчел с приплодом соседу. Хотела его старуха утаить, сколько от проданных колодок отроилось, да Елисей сам знал, какие холостые, какие роились, и соседу вместо десяти семнадцать отдал. Убрался Елисей, услал сына на заработки, а сам засел на зиму лапти плести и колодки долбить.
VIII.
Весь тот день, как остался Елисей в хате у больных людей, ждал Ефим товарища. Отошел он недалеко и сел. Ждал, ждал, соснул, проснулся, еще посидел — нет товарища. Все глаза проглядел. Уж солнце за дерево зашло, — нет Елисея. «Уж не прошел ли, — думает, — мимо меня, или не проехал ли (подвез кто), не приметил меня, пока я спал. Да нельзя же не видать ему. В степи далеко видно. Пойти назад, — думает — а он вперед уйдет. Расстрянемся с ним, еще того хуже. Пойду вперед, на ночлеге сойдемся». Пришел в деревню, попросил десятского, чтобы если придет такой старичок, отвести его в ту же хату. Не пришел на ночлег Елисей. Пошел дальше Ефим, спрашивал всех: не видали ли старичка лысенького? Никто не видал. Подивился Ефим и пошел один. «Сойдемся, — думает, — где-нибудь в Одессе и на корабле», и перестал думать.
Сошелся дорогой с странником. Странник в скуфье, в подряснике и с длинными волосами, был и на Афоне и в другой раз идет в Иерусалим. Сошлись на ночлеге, разговорились и пошли вместе.
Дошли до Одессы хорошо. Трое суток прождали корабля. Богомольцев много дожидалось. Были с разных сторон. Опять порасспросил Ефим про Елисея — никто не видал.
Выправил Ефим билет заграничный — 5 рублей стало. Отдал 40 целковых за проезд туда и обратно, закупил хлеба, селедок на дорогу. Погрузили корабль, перевезли богомольцев, сел и Тарасыч с странником. Подняли якоря, отчалили, поплыли морем. День хорошо плыли; к вечеру поднялся ветер, пошел дождь, стало качать и корабль заливать. Взметался народ, стали бабы голосить, и из мужчин, которые послабее, стали по кораблю бегать, места искать. Нашел и на Ефима страх, только виду не показал: как где сел с прихода па полу, рядом с тамбовскими стариками, так и сидел всю ночь и день другой весь; только свои сумки держали и ничего не говорили. Затихло на третий день. На пятый день пристали к Царьграду. Которые странники высаживались на берег, ходили смотреть храм Софии-Премудрости, где теперь турки владеют; Тарасыч не высаживался, на корабле просидел. Только булки белой купил. Простояли сутки, опять поплыли морем. Останавливались еще у Смирны города, у другого города Александрии и доплыли благополучно до Яфы города. В Яфе высадка всем богомольцам: 70 верст пешеходу до Иерусалима. Тоже при высадке набрался страху народ: корабль высокий и с корабля вниз на лодки народ кидают, а лодку качает, того и гляди не угодит в лодку, а мимо; человек двух замочило, а высадились все благополучно. Высадились, пошли пеши; на третий день к обеду дошли до Иерусалима. Стали за городом, на Русском подворье, билеты прописали, пообедали, пошли с странником по святыням. К самому гробу Господню еще впуску не было. Пошли в патриарший монастырь, собрали туда всех поклонников, посадили женский пол и мужской пол особо. Велели разуться и сесть кругом. Вышел монах с полотенцем и стал всем ноги умывать; умоет, утрет и поцелует, и так всех обошел. Ефиму ноги обтер и поцеловал. Отстояли вечерню, заутреню, помолились, свечи поставили и подали поминанья за родителей. Тут и покормили и вино подносили. На утро пошли в келью Марии Египетской, где она спасалась. Поставили свечи, молебен отслужили. Оттуда в Авраамов монастырь ходили. Видели Савеков сад — место, где Авраам сына заколоть хотел Богу. Потом ходили на то место, где Христос явился Марии Магдалине, и в церковь Якова, брата Господня. Все места показывал странник и везде сказывал, сколько где денег подавать надо. К обеду вернулись на подворье, поели. И только стали укладываться спать, взахался странник, стал свою одежу перебирать — шарить.
Вытащили, — говорит, — у меня портмонет с деньгами, 23 рубля, — говорит, — было: две десятирублевые и три мелочью.
Потужил, потужил странник, делать нечего — легли спать.
IX.
Лег Ефим спать, и напало на него искушенье. «Не вытаскивали, — думает, — у странника денег; у него, думается, их не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал, да и у меня рубль взял».
Подумает так Ефим и начнет сам себя укорять: «Что, — говорит, — мне человека судить, грешу я. Не стану думать». Только забудется, опять станет поминать, как странник на деньги приметлив и как он непохоже говорит, что у него портмонет вытащили. «И не было, — думает, — у него денег. Один отвод».
На утро встали и пошли к ранней обедне в большой храм Воскресенья — к гробу Господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет.
Пришли к храму. Народу — странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сириян — собралось много. Пришел Ефим в Святые ворота с народом. Повел их монах. Провел их мимо стражи турецкой к тому месту, где снят с креста Спаситель и помазан и где 9 подсвечников больших горят. Всё показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял; там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась; потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями; потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на Него терновый венец; потом — к столбу, к которому привязывали Христа, когда били Его. Потом видел Ефим камень с двумя дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать, да заторопился народ: заспешили все к самой пещере гроба Господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере.
Хотел он отбиться от странника — всё в мыслях грешит он на странника — да не отстает от него странник, с ним вместе и к обедне ко гробу Господню пошел. Хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад продора нет. Стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях: первое думает — обманывает его странник; второе думает — коли не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было.
X.
Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед, в часовню, где самый гроб и над гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит, что за чудо! Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех, видит, стоит старичок в кафтане сермяжном, блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова. «Похож, — думает, — на Елисея. Да нельзя же ему быть! Нельзя ему прежде меня поспеть. Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было упредить. А на нашем корабле не было. Я всех богомольцев видел».
Только подумал так Ефим, стал молиться старичок и поклонился три раза: раз наперед Богу, а потом миру православному на обе стороны. И как повернул голову старичок на правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он, Бодров, и есть — и борода черноватая, курчавая, и проседь на щеках, и брови, и глаза, и нос, и всё обличье его. Самый он, Елисей Бодров.
Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел.
— Ай да Бодров, — думает, — куда наперед пролез! Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе найду его, своего странника в скуфье брошу и с ним стану ходить, авось и он меня проведет наперед.
И всё смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошли обедни, зашатался народ, пошли прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили? Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор, ходил-ходил, искал-искал Елисея тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видел: которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье, — не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил. Пропал, и рубля не отдал. Остался Ефим один.
На другой день пошел опять Ефим к гробу Господню с тамбовским стариком, на корабле с ним ехал. Хотел пролезть наперед, да опять отдавили его, и стал он у столба и молится. Поглядел наперед, — опять под лампадами у самого гроба Господня на переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря, и блестит лысина во всю голову. «Ну, — думает Ефим, — теперь уж не упущу его». Полез продираться наперед. Продрался — нет Елисея. Видно, ушел. И на третий день опять у гроба Господня смотрит — в самом святом месте стоит Елисей на самом на виду, руки развел и глядит кверху, точно видит что над собой. И светится его лысина во всю голову. «Ну, — думает Ефим, — теперь уж не упущу его, пойду к выходу стану. Там уж не разминемся». Вышел Ефим, стоял-стоял, полдён простоял: весь народ прошел — нет Елисея.
Пробыл шесть недель Ефим в Иерусалиме и побывал везде: и в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане, и на новую рубаху печать у гроба Господня наложил, чтобы похорониться в ней, и воды из Иордана в стклянку взял, и земли и свечей с благодатным огнем взял, и в восьми местах поминанья записал, извел все деньги, только бы домой дойти. И пошел Ефим назад к дому. Дошел до Яфы, сел на корабль, приплыл в Одессу и пошел пешеходом домой.
XI.
Едет Ефим один тем же путем. Стал к дому приближаться, опять напала на него забота, как без него дома живут. «В год, — думает, — воды много утечет. Дом целый век собираешь, а разорить дом недолго. Как-то без него сын дела повел, как весна вскрылась, как скотина перезимовала, так ли избу выделали?» Дошел Ефим до того места, где он запрошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где запрошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут. Родилось хорошо в поле. Поправился народ и прежнее горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где запрошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из-за хатки девочка в белой рубахе.
— Дід! дідко! до нас заходи.
Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка, ухватила за полу, тащит к хате, а сама смеется.
Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком, тоже манит:
— Заходи, мол, дедушка, поужинать — переночуешь.
Зашел Ефим. «Кстати, — думает, — про Елисея спрошу: никак в эту самую хатку он тогда и напиться заходил».
Вошел Ефим, сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол. Молока достала, вареников, каши — поставила на стол. Поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головой женщина.
— Нам, — говорит, — нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы, Бога забыли, и наказал нас Бог так, что все только смерти ждали. Дошли летось до того, что все лежали — и есть нечего и больны. И помереть бы нам, да наслал нам Бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться, да увидал нас, пожалел, да и остался с нами. И поил, и кормил, и на ноги поставил, и землю выкупил, и лошадь с телегой купил, у нас кинул.
Вошла в хату старуха, перебила речь женщины.
— И сами мы не знаем, — говорит, — человек ли был или ангел Божий. Всех-то любил, всех-то жалел, и ушел — не сказался, и молить за кого Бога — не знаем. Как теперь вижу: лежу я, смерти жду, смотрю — вошел старичок, немудрененький, так лысенький, воды напиться. Еще я подумала, грешная: что шляются? А он вон что сделал! Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал.
Вступилась и девочка.
— Нет, — говорит, — бабушка, он прежде сюда посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал.
И стали они спорить и все его слова и дела поминать: и где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал.
На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади, тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил.
— Не приди он к нам, — говорит, — мы бы все в грехах померли. Помирали мы в отчаянии, на Бога и на людей роптали. А он нас и на ноги поставил, и через него мы и Бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его Христос! Прежде как скоты жили, он нас людьми сделал.
Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли.
Лежит Ефим и не спит, и не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме три раза в переднем месте.
«Так вот он где, — думает, — упередил меня! Мои труды приняты, нет ли, а его-то принял Господь».
На утро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим — в путь-дорогу.
XII.
Ровно год проходил Ефим. На весну вернулся домой.
Пришел он домой к вечеру. Сына дома не было: в кабаке был. Пришел сын выпивши, стал его Ефим расспрашивать. По всему увидал, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно, дела упустил. Стал его отец щунять. Стал сын грубиянить.
— Ты бы, — говорит, — сам поворочал, а то ты ушел ходить да еще деньги с собой унес все, а с меня спрашиваешь.
Рассерчал старик, побил сына.
На утро вышел Ефим Тарасыч к старосте о сыне поговорить, идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке, здоровается:
— Здорово, кум, — говорит; — здорово ли, касатик, сходил?
Остановился Ефим Тарасыч.
— Слава Богу, — говорит, — сходил; твоего старика потерял, да, слышу, он домой вернулся.
И заговорила старуха — охотница была покалякать.
— Вернулся, — говорит, — кормилец, давно вернулся. Вскоре после Успенья никак. Уж и рады же мы были, что его Бог принес! Скучно нам без него. Работа уж от него какая, — года его ушли. А всё голова, и нам веселей. Уж и парень-то как радовался! Без него, — говорит, — как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный, любим мы его, уж как жалеем.
— Что ж, дома, что ль, он теперь?
— Дома, родной, на пчельнике, рои огребает. Хороша, — баит, — роевщина. Такую Бог дал силу пчеле, что старик и не запомнит. Не по грехам, — баит, — Бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет.
Пошел Ефим через сени, через двор на пчельник к Елисею. Вошел на пчельник, смотрит — стоит Елисей без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой, руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба Господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки в венец свились, вьются, а не жалят его. Остановился Ефим.
Окликнула старуха Елисеева мужа.
— Кум, — говорит, — пришел!
Оглянулся Елисей, обрадовался, пошел куму навстречу, полегонечку пчел из бороды выбирает.
— Здорово, кум, здорово, милый человек... Хорошо сходил?
— Ноги сходили, и водицы тебе с Иордана реки принес. Заходи, возьми, да принял ли Господь труды...
— Ну и слава Богу, спаси Христос.
Помолчал Ефим.
— Ногами был, да душой-то был ли, али другой кто...
— Божье дело, кум, Божье дело.
— Заходил тоже я на обратном в хату, где ты отстал...
Испугался Елисей, заторопился.
— Божье дело, кум, Божье дело. Что ж, заходи, что ли, в избу — медку принесу.
И замял Елисей речь, заговорил про домашнее.
Воздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. II понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк — любовью и добрыми делами.
————
ТРИ СТАРЦА.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него (Матф. VI, 7, 8).
Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы — которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками — беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок: ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.
— Не стесняйтесь, братцы, — сказал архиерей. — Я тоже послушать подошел, что̀ ты, добрый человек, рассказываешь.
— Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал, — сказал один купец посмелее.
— Что про старцев? — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. — Расскажи и мне, я послушаю. Что̀ ты показывал?
— Да вот островок маячит, — сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. — На этом самом островке и старцы живут, спасаются.
— Где же островок? — спросил архиерей.
— Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска, виднеется.
Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки.
— Не вижу, — говорит. — Так какие же тут старцы на острове живут?
— Божьи люди, — ответил крестьянин. — Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел.
И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой и как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку, и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли и еще два; покормили и обсушили его и помогли лодку починить.
— Какие же они из себя? — спросил архиерей.
— Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам всё улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул как ушат, не успел я и подсобить ему, — тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и нагой весь, только рогожкой опоясан.
— Что ж они говорили с тобой? — спросил архиерей.
— Всё больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся, — и затих большой. Только сказал древний «помилуй нас», и улыбнулся.
Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам.
— Вот теперь вовсе видно стало, — сказал купец. — Вот извольте посмотреть, ваше преосвященство, — сказал он, показывая.
Архиерей стал смотреть. И точно увидал черную полоску — островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме, подошел к кормчему.
— Какой это островок, — говорит, — тут виднеется?
— А так, безыменный. Их много тут.
— Что, правда, — говорят, — тут старцы спасаются?
— Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки, — говорят, — видали. Да тоже, бывает, и зря болтают.
— Я желаю пристать к острову — повидать старцев, сказал архиерей. — Как это сделать?
— Кораблем подойти нельзя, — сказал кормчий. На лодке можно, да надо старшого спросить.
Вызвали старшого.
— Хотелось бы мне посмотреть этих старцев, — сказал архиерей. — Нельзя ли свезти меня?
Стал старшой отговаривать. — Можно-то можно, да много времени проведем и, осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские.
— Я желаю, — сказал архиерей. — Я заплачу за труды, свезите меня.
Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно, — говорит, — вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят».
Посмотрел архиерей в трубу, навел, куда надо; точно, стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький; стоят на берегу, за руки держатся.
— Подошел старшой к архиерею. — Здесь, ваше преосвященство, остановить[ся] кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим.
Сейчас распустили тросо, кинули якорь, спустили парус — дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли как камень кинуть; видят — стоят три старца: высокий — нагой, рогожкой опоясан, пониже — в кафтане рваном и древненький сгорбленный — в ряске старенькой; стоят все трое, за руки держатся.
Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей.
Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей:
— Слышал я, — говорит, — что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу-Богу молитесь, а я здесь, по милости Божьей, недостойный раб Христов, Его паству пасти призван; так хотел и вас, рабов Божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать.
Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают.
— Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите, — сказал архиерей.
Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец и сказал: Не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, себя кормим.
— Как же вы Богу молитесь? — спросил архиерей.
И древний старец сказал: Молимся мы так: трое Вас, трое нас, помилуй нас.
И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу и все трое сказали: «Трое Вас, трое нас, помилуй нас!»
Усмехнулся архиерей и сказал:
Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божии, вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить Ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться ему.
И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл Себя людям: растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и сказал:
— Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной.
И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», повторил и другой: «Отче наш», повторил и третий: «Отче наш». — «Иже еси на небесех». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал; не выговорил и высокий, нагой старец: ему усы рот заросли — не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древний беззубый старец.
Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала.
И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и еще раз сказать ее, и еще повторить, и другие прочли всю молитву.
Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю.
И плыл к кораблю архиерей, и всё слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце: стоят на берегу, на том же месте, три старца — один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль, и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и сел там, и всё смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок скрылся, одно море играло на месячном свете.
Улеглись богомольцы спать, и затихло всё на палубе. Но не хотелось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как радовались они тому, что научились молитве, и благодарил Бога за то, что привел Он его помочь Божьим старцам, научить их слову Божию.
Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся. И рябит у него в глазах — то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном: птица ли, чайка или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей. «Лодка, — думает, — на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус непохоже. А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать архиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему:
— Погляди, — говорит, — что это?
— Что это, братец? Что это? — спрашивает архиерей, а уж сам видит — бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю приближаются.
Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громким голосом:
— Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут! — Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: бегут старцы, рука с рукой держатся — крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают.
Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос:
— Забыли, раб Божий, забыли твое ученье! Пока твердили — помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило — забыли, всё рассыпалось. Ничего не помним, научи опять.
Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал:
— Доходна до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас грешных!
И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сиянье с той стороны, куда ушли старцы.
СВЕЧКА.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб sa зуб. А я говорю вамъ: не противься злому (Мф. V, 38, 39).
Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и Бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было.
Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине. Земли было много, и земля была добрая; и воды, и луга, и леса, всего бы всем достало — и барину и мужикам, да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины.
Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный — жена и две дочери замужем — и нажил уж он денег: жить бы да жить ему без греха, да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод, всех — и баб и мужиков — поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Прознал приказчик, что ходили мужики жаловаться, и стал им за то вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди: стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. И спутался весь народ, и обозлился приказчик.
Дальше да больше, и дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка, хоронятся, кто куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик и еще пуще злился за то, что боятся его. И битьем и работой донимал народ, и много от него муки приняли мужики.
Бывало, что и изводили таких злодеев; и про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее и говорит: «Долго ли нам терпеть злодея нашего? Пропадать заодно — такого убить не грех!»
Собрались раз мужики в лесу до Святой: лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать.
— Как нам, — говорят, — теперь жить? Изведет он нас до корня. Замучил работой: ни дня, ни ночи ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть что не по нем, придерется, порет. Семен от его поронья помер. Анисима в колодках замучал. Чего ж еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать, — только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку, и концы в воду. Только уговор: всем стоять заодно, не выдавать!
Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарки взял.
Поговорили так мужики, и приехал на вечер приказчик. Приехал верхом, сейчас придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку.
— Я, — говорит, — не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, а то всех запорю!
Стал добираться, в чьем ряду липа. Показали на Сидора. Исколотил приказчик Сидору всё лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой.
Сошлись опять вечером мужики, и стал говорить Василий:
— Эх, народ! Не люди, а воробьи. «Постоим, постоим», а пришло дело, все под застреху. Так-то воробьи против ястреба собирались: «не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!»
А как налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил какого ему надо, поволок. Выскочили воробьи: «чивик, чивик!» — не досчитываются одного. «Кого нет? Ваньки. Э, туда ему и дорога. Он того и стоит». Так-то и вы. Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы бы сгрудились, да и покончили. А то: «не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» а как налетел, — так и в кусты.
Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на Страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на Святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам и собрались они на Страстной у Василья на задворке и опять стали толковать.
— Коли он Бога забыл, — говорят, — и такие дела делать хочет, надо и вправду его убить. Пропадать заодно!
Пришел к ним и Петр Михеев. Смирный был мужик Петр Михеев и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит:
— Грех, вы братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает — перед ним худое. Терпеть, братцы, надо.
Рассердился на эти речи Василий.
— Заладил, — говорит, — одно: грех человека убить. Известно — грех, да какого, — говорит, — человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и Бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи. Не убить его — грех больше будет. Что он людей перепортит! А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут. А слюни-то распусти, он всех перепортит. Пустое ты, Михеич, толкуешь. Что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник все работать пойдем? Ты сам не пойдешь!
И заговорил Михеич.
— Отчего не пойти? — говорит. — Пошлют, и пахать поеду. Не себе. А Бог узнает, чей грех, только нам бы Его не забыть. Я, — говорит, — братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от Бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить, душу себе окровянить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится.
Так и не договорились мужики: разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровы речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть.
Отпраздновали мужики первый день, воскресенье. На вечер приходит староста с земским с барского двора и, сказывают — Михаил Семеныч, приказчик, велел назавтра наряжать мужиков, всем пахать под овес. Обошел староста с земским деревню, повестил всем назавтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а ослушаться не смеют, на утро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет, — мужики пашут.
Проснулся Михаил Семеныч, приказчик, не рано, пошел по хозяйству; убрались, нарядились домашние — жена, дочь вдовая (к празднику приехала); запрег им работник тележку, съездили к обедне, вернулись; поставила работница самовар, пришел и Михаил Семеныч, стали чай пить. Напился Михаил Семеныч чаю, закурил трубку, позвал старосту.
— Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту?
— Поставил, Михаил Семеныч.
— Что, все выехали?
— Все выехали, я их сам расставлял.
— Расставить-то расставил, да пашут ли? Поезжай посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сохи выпахали, да чтоб пахали хорошо! Если огрех найду, я на праздник не посмотрю!
— Слушаю-с.
И пошел было староста, да Михаил Семеныч вернул его. Вернул его Михаил Семеныч, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как. Помялся, помялся, да и говорит:
— Да вот что, послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня. Кто ругает и что говорит — всё мне расскажи. Я их, разбойников, знаю, не любо им работать, только бы на боку лежать, лодырничать. Жрать да праздновать — это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты и отслушай от них речи, кто что̀ скажет, всё мне передай. Мне это знать надо. Ступай да смотри всё расскажи, ничего не утаивай.
Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле.
Услыхала приказчица мужнины речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была женщина смирная, и сердце в ней было доброе. Где могла, усмиряла мужа и застаивала перед ним мужиков.
Пришла она к мужу и стала просить.
— Друг ты мой, Мишенька, — говорит, — для великого дня, праздника Господня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков!
Не принял Михаил Семеныч жениных речей, только засмеялся на нее.
— Али, давно, — говорит, — по тебе плетка не гуляла, что ты больно смела стала, — не в свое дело вяжешься?
— Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков!
— То-то, —говорит, — я и говорю: видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет. Смотри!
Рассердился Семеныч, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать.
Поел Михаил Семеныч студню, пирога, щей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать
Сидит Михаил Семеныч с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, поклонился и стал докладывать, чтò на поле видел.
— Ну что, пашут? Допашут урок?
— Уж больше половины вспахали.
— Огрехов нет?
— Не видал, хорошо пашут, боятся.
— А что, разборка земли хороша?
— Разборка земли мягкая, как мак рассыпается.
Помолчал приказчик.
— Ну, а что про меня говорят, — ругают?
Замялся было староста, да велел Михаил Семеныч всю правду говорить.
— Всё говори, ты не свои слова, а ихние говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь их, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости.
Пошла кухарка, поднесла старосте. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. «Всё одно, — думает, — не моя вина, что не хвалят его; скажу правду, коли он велит». И осмелился староста и стал говорить:
— Ропщат, Михаил Семеныч, ропщат.
— Да что говорят? Сказывай.
— Одно говорят: он Богу не верует.
Засмеялся приказчик.
— Это, — говорит, — кто сказал?
— Да все говорят. Говорят, он, мол, нечистому покорился.
Смеется приказчик.
— Это, — говорит, — хорошо. Да ты порознь расскажи, чтò кто говорит. Васька чтò говорит?
Не хотелось старосте сказывать на своих, да с Василием у них давно вражда шла.
— Василий, — говорит, — пуще всех ругает.
— Да чтò говорит-то? Ты сказывай.
— Да и сказать страшно. Не миновать, — говорит, — ему беспокаянной смерти.
— Ай, молодец — говорит. — Чтò ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки не доходят? Ладно, — говорит, — Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, а Тишка — собака тоже, я чай?
— Да все худо говорят.
— Да чтò говорят-то?
— Да повторять-то гнусно.
— Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать.
— Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла.
Обрадовался Михаил Семеныч, захохотал даже.
— Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка?
— Да никто доброго не сказал, все ругают, все грозятся.
— Ну, а Петрушка Михеев чтò? чтò он говорит? Тоже, говняк, ругается, я чай?
— Нет, Михайло Семеныч, Петра не ругается.
— Чтò ж он?
— Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик! Подивился я на него, Михаил Семеныч!
— А чтò?
— Да чтò он сделал! И все мужики дивятся.
— Да чтò сделал-то?
— Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятине у Туркина верха пашет. Стал я подъезжать к нему, слышу — поет кто-то, выводит тонко, хорошо так, а на сохе промеж обжей что-то светится.
— Ну?
— Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю — свечка восковая 5-тикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает и отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, всё свечка горит, не тухнет!
— А сказал чтò?
— Да ничего не сказал. Только увидал меня, похристосовался и запел опять.
— Чтò же говорил ты с ним?
— Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться: вон, говорят, Михеич ввек греха не отмолит, что он на Святой пахал.
— Чтò ж он сказал?
— Да он только сказал: «на земле мир, в человецех благоволение!» опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет.
Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался.
Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес, лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воз со снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать; не дал ей ответа. Только и сказал:
— Победил он меня! Дошло теперь и до меня!
Стала его жена уговаривать:
— Да ты поезжай, отпусти их. Авось, ничего! Какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так оробел?
— Пропал я, — говорит, — победил он меня.
Крикнула на него жена:
— Заладил одно: «победил, победил». Поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать.
Привели лошадь, и уговорила приказчица мужа ехать в поле отпустить мужиков.
Сел Михаил Семеныч на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидал народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды.
Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтоб ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться, да испугалась лошадь свиньи, шарахнулась в частокол, а человек был грузный, не попал на седло, а перевалился пузом на частокол. Один был только в частоколе кол, завостренный сверху, да и повыше других. И попади он пузом прямо на этот кол. И пропорол себе брюхо, свалился наземь.
Приехали мужики с пахоты; фыркают, нейдут лошади в ворота. Поглядели мужики — лежит навзничь Михаил Семеныч, руки раскинул, и глаза остановились, и нутро всё на землю вытекло! и кровь лужей стоит, — земля не впитала.
Испугались мужики, повели лошадей задами, один Петр Михеич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер, закрыл ему глаза, запрёг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому.
Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк.
И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила Божия.
————
СТРАДАНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. (Матф. XXVII, 26.)
Воины Пилата бьют Христа, и больно смотреть на страдания Его. Еще больнее думать, что страдания эти не кончаются. Мы так же, как и воины, и еще хуже, истязуем Его. Воины не знали, кто Он и откуда и что принес людям. Но мы знаем, кто Он, знаем, откуда Он, знаем, что Он принес нам спасение, и так же и еще злее истязуем Его. Что ни день, что ни час, мы подбавляем страданиям Его, того, который пришел спасти нас. Всё, что мы сделаем другому человеку, мы сделаем Ему. Когда мы отталкиваем от себя нищего и голодного, когда мы пользуемся нуждой его, когда мы гордимся перед братом своим и отделяемся от него и презираем его, мы больнее воинов Пилата истязуем того Христа, который велел нам быть едиными с Ним. Когда мы нарушаем закон супружеский и ввергаем в разврат создание божеское, женщину, и потом ее же считаем не за человека, а за тварь, мы больнее воинов Пилата истязуем Спасителя нашего, того, который сказал, что человек [да] не разъединяет того, что Бог соединил, и что да будет муж и жена плоть едина. Когда мы насилуем людей и вымещаем на них злом за зло, когда мы мучаем людей и проливаем кровь человеческую, разве мы не истязуем Господа нашего, того, который сказал нам — не противиться злому, отдавать рубаху тому, кто тянет с тебя кафтан, прощать брата своего не семь раз, а семь раз семьдесят? Не воины Пилата, а мы терзаем Христа, и до тех пор не перестанет Он страдать за нас, пока мы не исполним заповеди Его — любить друг друга, как Он возлюбил нас.
————
СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ: СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ И НЕМОЙ СЕСТРЕ МАЛАНЬЕ, И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ И ТРЕХ ЧЕРТЕНЯТАХ.
I.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, и дочь Маланья-векоуха, немая. Пошел Семен-воин на войну, царю служить, Тарас-брюхан пошел в город к купцу, торговать, а Иван-дурак с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семен-воин чин большой и вотчину и женился на барской дочери. Жалованье большое было и вотчина большая, а всё концы с концами не сводил: чтò муж соберет, всё жена-барыня рукавом растрясет; всё денег нет. И приехал Семен-воин в вотчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит:
— Не с чего взять; нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сохи, ни бороны; надо всего завести— тогда доходы будут.
И пошел Семен-воин к отцу:
— Ты, — говорит, — батюшка, богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, я в свою вотчину переведу.
— Старик и говорит:
— Ты мне в дом ничего не подавал, за что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет.
А Семен говорит:
— Да ведь — он дурак, а она — векоуха немая; чего им надо?
Старик и говорит:
— Как Иван скажет.
А Иван говорит:
— Ну что ж, пускай берет.
Взял Семен-воин часть из дома, перевел в свою вотчину, опять уехал к царю служить.
Нажил и Тарас-брюхан денег много, — женился на купчихе, да всё ему мало было, приехал к отцу и говорит:
— Отдели мне мою часть.
Не хотел старик и Тарасу давать часть.
— Ты, — говорит, — нам ничего не подавал, а чтò в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя.
А Тарас говорит:
— На что ему, он дурак; жениться ему нельзя, никто не пойдет, а девке немой тоже ничего не нужно. Давай, говорит, Иван, мне хлеба половинную часть; я снасти брать не буду, а из скотины только жеребца сивого возьму, — тебе он пахать не годится».
Засмеялся Иван.
— Ну что ж, — говорит, — я пойду обротаю.
Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой старой попрежнему крестьянствовать — отца с матерью кормить.
II.
Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И кликнул он трех чертенят.
— Вот видите, — говорит, — три брата живут: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак. Надо бы им всем перессориться, а они мирно живут: друг с дружкой хлеб-соль водят. Дурак мне все дела испортил. Подите вы втроем, возьмитесь за троих и смутите их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать?
— Можем, — говорят.
— Как же вы делать будете?
— А так, — говорят, — сделаем: разорим их сперва, чтоб им жрать нечего было, а потом собьем в одну кучу, они и передерутся.
— Ну, ладно, — говорит, — я вижу, —вы дело знаете; ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкуру спущу.
Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело браться; спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать, и порешили на том, что жеребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жеребий чертенята и назначили срок, опять когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти.
Пришел срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок — от Семена-воина.
— Мое дело, — говорит, — ладится. Завтра, — говорит, — мой Семен домой к отцу придет.
Стали его товарищи спрашивать:
— Как ты, — говорят, — сделал?
— А я, — говорит, — первым делом храбрость такую на Семена навел, что он обещал своему царю весь свет завоевать, и сделал царь Семена начальником, послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать. А я в ту же ночь в Семеновом войске весь порох подмочил и пошел к индейскому царю из соломы солдат наделал видимо-невидимо. Увидали Семеновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят, — заробели. Велел Семен воин палить: пушки, ружья не выходят. Испугались Семеновы солдаты и побежали, как бараны. И побил их индейский царь. Осрамился Семен-воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дела осталось, из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь, так сказывайте, кому из двух помогать приходить?
Стал и другой чертенок, от Тараса, рассказывать про свои дела:
— Мне, — говорит, — помогать не нужно. Мое дело тоже на лад пошло, больше недели не проживет Тарас. Я, — говорит, — первым делом отростил ему брюхо и навел на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась, что, чтò ни увидит, всё ему купить хочется. Накупил он всего видимо-невидимо на все свои деньги и всё еще покупает. Теперь уж стал на заемные покупать. Уж много на шею набрал и запутался так, что не распутается. Через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его навоз сделаю, — не расплатится и придет к отцу.
Стали спрашивать и третьего чертенка, от Ивана.
— А твое дело как?
— Да что, — говорит, — мое дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошел на его пашню, сбил землю, как камень, чтоб он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сохой, начал драть. Кряхтит от живота, а сам всё пашет. Изломал я ему одну соху, — поехал дурак домой, переладил другую, подвои новые подвязал и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники держать, не удержишь никак, — налегает на соху, а сошники вострые; изрезал мне руки все. Почти всё допахал, одна только полоска осталась. Приходите, — говорит, — братцы, помогать, а то, как мы его одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется, да крестьянствовать будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет.
Пообещал чертенок от Семена-воина назавтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята.
III.
Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад — ровно за корень зацепило что-то — волочет. А это чертенок ногами вокруг рассохи заплел, — держит. «Что за чудо! — думает Иван. — Корней тут не было, а корень». Запустил Иван руку в борозду, ощупал — мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, а на корне что-то шевелится. Глядь — чертенок живой.
— Ишь ты, — говорит, — пакость какая»!
Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его, да запищал чертенок:
— Не бей ты меня, — говорит, — а я тебе, чтò хочешь, сделаю.
— Что ж ты мне сделаешь?
— Скажи только, чего хочешь.
Почесался Иван.
— Брюхо, — говорит, — болит у меня — поправить можешь?
— Могу, — говорит.
— Ну, лечи.
Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-тройчатку, подал Ивану.
— Вот, — говорит, — кто ни проглотит один корешок, всякая боль пройдет.
Взял Иван, разорвал корешки, проглотил один. Сейчас живот прошел.
Запросился опять чертенок.
— Пусти, — говорит, — теперь меня, я в землю проскочу — больше ходить не буду.
— Ну что ж, — говорит, — Бог с тобой!
И как только сказал Иван про Бога, — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул соху и поехал домой. Отпрёг, пришел в избу, а старший брат, Семен-воин, сидит с женой — ужинают. Отняли у него вотчину, — насилу из тюрьмы ушел и прибежал к отцу жить.
Увидал Семен Ивана.
— Я, — говорит, — к тебе жить приехал; корми нас с женой, пока место новое выйдет.
— Ну что ж, — говорит, — живите.
Только хотел Иван на лавку сесть, — не понравился барыне дух от Ивана. Она и говорит мужу:
— Не могу я, — говорит, — с вонючим мужиком вместе ужинать.
Семен-воин и говорит:
— Моя барыня говорит: от тебя дух не хорош, — ты бы в сенях поел.
— Ну что ж, — говорит. — Мне и так в ночное пора — кобылу кормить.
Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное.
IV.
Отделался в эту ночь чертенок от Семена-воина и пришел по уговору Иванова чертенка искать — ему помогать дурака донимать. Пришел на пашню; поискал, поискал товарища, — нет нигде, только дыру нашел. «Ну, — думает, — видно с товарищем беда случилась, надо на его место становиться. Пашня допахана, — надо будет дурака на покосе донимать».
Пошел чертенок в луга, напустил на Иванов покос паводок; затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошел луга косить. Пришел Иван, стал косить; махнет раз, махнет другой — затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван.
— Нет, — говорит, — пойду домой, отбой принесу да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу.
Услыхал чертенок — задумался.
— Калян, — говорит, — дурак этот, не проймешь его. Надо на другие штуки подниматься.
Пришел Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертенок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосил покос, — осталась одна делянка в болоте. Залез чертенок в болото, думает себе:
— Хоть лапы перережу, а не дам выкосить.
Зашел Иван в болото; трава — смотреть —не густая, а не проворотить косы. Рассердился Иван, начал во всю мочь махать; стал чертенок подаваться — не поспевает отскакивать; видит —дело плохо, забился в куст. Размахнулся Иван, шаркнул по кусту, отхватил чертенку половину хвоста. Докосил Иван покос, велел девке грести, а сам пошел рожь косить.
Вышел с крюком, а кургузый чертенок уж там, перепутал рожь так, что на крюк нейдет. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать — выжал всю рожь.
— Ну, теперь, — говорит, — надо за овес браться.
Услыхал кургузый чертенок, думает: «На ржи не донял, так на овсе дойму, дай только утрà дождаться». Прибежал чертенок утром на овсяное поле, а овес уже скошен: Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Рассердился чертенок.
— Изрезал, — говорит, — меня и замучил дурак. И на войне такой беды не видал! Не спит проклятый, за ним не поспеешь! Пойду, — говорит, — теперь в копны, прогною ему всё.
И пошел чертенок в ржаную копну, залез между снопами — стал гноить: согрел их и сам согрелся и задремал.
А Иван запрёг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать на воз. Скинул два снопа, сунул, — прямо чертенку в зад; поднял — глядь: на вилах чертенок живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет.
— Ишь ты, — говорит, — пакость какая! Ты опять тут?
— Я, — говорит, — другой, то мой брат был. А я, — говорит, — у твоего брата Семена был.
— Ну, — говорит, — какой ты там ни будь, и тебе то же будет! — Хотел его об грядку пришибить, да стал его просить чертенок.
— Отпусти, — говорит, — больше не буду, а я тебе чтò хочешь сделаю.
— Да что ты сделать можешь?
— А я, — говорит, — могу из чего хочешь солдат наделать.
— Да на что их?
— А на что, говорит, хочешь их поверни; они всё могут.
— Песни играть могут?
— Могут.
— Ну что ж, — говорит, — сделай.
И сказал чертенок:
— Возьми ты, вот, сноп ржаной, тряхни его о землю гузом и скажи только: велит мой холоп, чтоб был не сноп, а сколько в тебе соломинок, столько бы солдат.
Взял Иван сноп, тряхнул оземь и сказал, как велел чертенок. И расскочился сноп, и сделались солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван.
— Ишь ты, — говорит, — как ловко! Это, — говорит, — хорошо, —девок веселить.
— Ну, — говорит чертенок, — пусти же теперь.
— Нет, — говорит, — это я старновки делать буду, а то даром зерно пропадает. Научи, как опять в сноп поворотить. Я его обмолочу.
Чертенок и говорит:
— Скажи: сколько солдат, столько соломинок. Велит мой холоп, будь опять сноп!
Сказал так Иван, и стал опять сноп.
И стал опять проситься чертенок.
— Пусти, — говорит, — теперь.
— Ну что ж!
Зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдернул с вил.
— С Богом, —говорит. — И только сказал про Бога, — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.
Приехал Иван домой, а дома и другой брат, Тарас, с женой сидят — ужинают. Не расчелся Тарас-брюхан, убежал от долгов и пришел к отцу. Увидал Ивана.
— Ну, — говорит, — Иван, пока я расторгуюсь, корми нас с женой.
— Ну что ж, — говорит, — живите.
Снял Иван кафтан, сел к столу.
А купчиха говорит:
— Я, — говорит, — с дураком кушать не могу: от него, — говорит, — пòтом воняет.
Тарас-брюхан и говорит:
— От тебя, — говорит, — Иван, дух не хорош, — поди, в сенях поешь.
— Ну что ж, — говорит.
Взял хлеба, ушел на двор.
— Мне, — говорит, — кстати в ночное пора — кобылу кормить.
V.
Отделался в эту ночь и от Тараса чертенок — пришел по уговору товарищам помогать — Ивана-дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарищей — нет никого, только дыру нашел. Пошел на луга — в болоте хвост нашел, а на ржаном жниве и другую дыру нашел. «Ну, — думает, — видно, над товарищами беда случилась, надо на их место становиться, за дурака приниматься».
Пошел чертенок Ивана искать. А Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит.
Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить.
Прибежал чертенок в лес, залез в сучья, стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтоб на чистое место упало, стал валить — дурòм пошло дерево, повалилось куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рочаг, начал отворачивать — насилу свалил дерево. Стал Иван рубить другое — опять то же. Бился, бился, насилу выпростал. Взялся за третье — опять то же. Думал Иван хлыстов полсотни срубить, и десятка не срубил, а уж ночь на дворе. И замучался Иван. Валит от него пар, как туман по лесу пошел, а он всё не бросает. Подрубил он еще дерево, и заломило ему спину, так что мочи не стало; воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертенок, что затих Иван, обрадовался. «Ну, — думает, — выбился из сил — бросит; отдохну теперь и я». Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся да как тяпнет с другой с стороны, сразу затрещало дерево — грохнулось. Не спопашился чертенок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертенка за лапу. Стал Иван очищать — глядь: чертенок живой. Удивился Иван.
— Ишь ты, — говорит, — пакость какая! Ты опять тут?
— Я, — говорит, — другой. Я у твоего брата Тараса был.
— Ну, какой бы ты ни был, а тебе то же будет!
Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился чертенок.
— Не бей, — говорит, — меня, я тебе что хочешь сделаю.
— Да что ж ты сделать можешь?
— А я, — говорит, — могу тебе денег сколько хочешь наделать.
— Ну что ж, — говорит, — наделай!
И научил его чертенок.
— Возьми ты, — говорит, — листу дубового с этого дуба и потри в руках. Наземь золото падать будет.
Взял Иван листьев, потер — посыпалось золото.
— Это, — говорит, — хорошо, когда на гулянках с ребятами играть.
— Пусти же, — говорит чертенок.
— Ну что ж! — Взял Иван рочаг, выпростал чертенка. — Бог с тобой! — говорит. — И как только сказал про Бога, — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.
VI.
Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пива наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости.
— Не видали мы, — говорят, — мужицкого гулянья.
Угостил Иван мужиков, баб и сам выпил — захмелел и пошел на улицу в хороводы. Подошел Иван к хороводам, велел бабам себя величать.
— Я, — говорит, — вам того дам, чего вы в жизнь не видали. — Посмеялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорят:
— Ну, что ж, давай.
— Сейчас, — говорит, — принесу. — Ухватил севалку, побежал в лес. Смеются бабы: «то-то дурак!» И забыли про него. Глядь: бежит Иван назад, несет севалку полну чего-то.
— Оделять, что ли?
— Оделяй.
Захватил Иван горсть золота — кинул бабам. Батюшки! Бросились бабы подбирать; выскочили мужики, друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеется Иван.
— Ах, вы дурачки, — говорит, — зачем вы бабушку задавили. Вы полегче, а я вам еще дам. — Стал еще швырять. Сбежался народ — расшвырял Иван всю севалку. Стали просить еще. А Иван говорит:
— Вся. Другой раз еще дам. Теперь давайте плясать, играйте песни.
Заиграли бабы песни.
— Не хороши, — говорит, — ваши песни.
— Какие же, — говорят, — лучше?
— А я, — говорит, — вот вам покажу сейчас.
Пошел на гумно, выдернул сноп, обил его, поставил на гузо, стукнул.
— Ну, — говорит, — сделай холоп, чтоб был не сноп, а каждая соломинка — солдат.
Расскочился сноп, стали солдаты; заиграли барабаны, трубы. Велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу. Удивился народ. Поиграли солдаты песни, и увел их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить, и сделал опять солдат снопом, бросил на одонье. Пришел домой и лег спать в закуту.
VII.
Узнал на утро про эти дела старший брат Семен-воин, приходит к Ивану.
— Открой ты мне, — говорит, — откуда ты солдат приводил и куда увел?
— А на что, — говорит, — тебе?
— Как на что? С солдатами всё сделать можно. Можно себе царство добыть.
Удивился Иван.
— Ну? Что ж ты, — говорит, — давно не сказал? Я тебе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали.
Повел Иван брата на гумно и говорит:
— Смотри же, я их делать буду, а ты их уводи, а то коли их кормить, так они в один день всю деревню слопают.
Обещал Семен-воин увести солдат, и начал Иван их делать. Стукнет по току снопом — рота; стукнет другим — другая; наделал их столько, что всё поле захватили.
— Что ж, будет, что ли?
Обрадовался Семен и говорит:
— Будет. Спасибо, Иван.
— То-то, — говорит. — Коли тебе еще надо, ты приходи, я еще наделаю. Соломы нынче много.
Сейчас распорядился Семен-воин войском, собрал их как следует и пошел воевать.
Только ушел Семен-воин, приходит Тарас-брюхан, — тоже узнал про вчерашнее дело, стал брата просить:
— Открой мне, откуда ты золотые деньги берешь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал.
Удивился Иван.
— Ну! Ты бы давно, — говорит, — мне сказал. Я тебе сколько хочешь натру.
Обрадовался брат:
— Дай мне хоть севалки три.
— Ну что ж, — говорит, — пойдем в лес, а то лошадь запряги, — не унесешь.
Поехали в лес; стал Иван с дуба листья натирать. Насыпал кучу большую.
— Будет, что ли?
Обрадовался Тарас.
— Пока будет, — говорит. — Спасибо, Иван.
— То-то, — говорит. — Коли тебе еще надо, приходи, я натру еще, — листу много осталось.
Набрал Тарас-брюхан денег воз целый и уехал торговать.
Уехали оба брата. И стал Семен воевать, а Тарас торговать. И завоевал себе Семен-воин царство, а Тарас-брюхан наторговал денег кучу большую.
Сошлись братья вместе и открылись друг другу: откуда у Семена солдаты, а у Тараса деньги.
Семен-воин и говорит брату:
— Я, — говорит, — царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка — солдат кормить.
А Тарас-брюхан говорит:
— А я, — говорит, — нажил денег бугор большой, только одно, — говорит, — горе — караулить денег некому.
Семен-воин и говорит:
— Пойдем, — говорит, — к брату Ивану, —я велю ему еще солдат наделать — тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтоб было чем солдат кормить.
И поехали они к Ивану. Приезжают к Ивану. Семен и говорит:
— Мне мало, братец, моих солдат, сделай мне, — говорит, — еще солдат, хоть копны две переделай.
Замотал головой Иван. — Даром, — говорит, — не стану больше тебе солдат делать.
— Да как же, — говорит, — ты обещал?
— Обещал, — говорит, — да не стану больше.
— Да отчего ж, ты, дурак, не станешь?
— А оттого, что твои солдаты человека до смерти убили. Я намедни пашу у дороги: вижу, баба по дороге гроб везет, а сама воет. Я спросил: «Кто помер?» Она говорит: «Мужа Семеновы солдаты на войне убили». Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше.
Так и уперся, не стал больше делать солдат.
Стал и Тарас-брюхан просить Ивана-дурака, чтоб он ему еще золотых денег наделал.
Замотал головой Иван.
— Даром, — говорит, — не стану больше тереть.
— Да как же ты, — говорит, — обещал?
— Обещал, — говорит, — да не стану больше.
— Да отчего же ты, дурак, не станешь?
— А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли.
— Как отняли?
— Так отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: «А ваша корова где?» —Говорят: «Тараса-брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, нам теперь хлебать нечего». Я думал, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял. Не дам больше!
И уперся дурак, не дал больше. Так и уехали братья.
Уехали братья и стали судить, как им своему горю помочь. Семен и говорит:
— Давай вот что сделаем. Ты мне денег дай — солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам — твои деньги караулить.
Согласился Тарас. Поделились братья, и стали оба царями и оба богаты.
VIII.
А Иван дома жил, отца с матерью кормил, с немой девкой в поле работал.
Только случилось раз, заболела у Ивана собака дворная старая, опаршивела, стала издыхать. Пожалел ее Иван — взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей. А шапка продралась, и выпал с хлебом один корешок. Слопала его с хлебом собака старая. И только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала — здорова стала.
Увидали отец с матерью, удивились.
— Чем ты, — говорят, — собаку вылечил?
А Иван и говорит:
— У меня два корешка были — от всякой боли лечат, так она и слопала один.
И случилось в это время, что заболела у царя дочь, и повестил царь по всем городам и селам — кто вылечит ее, того он наградит, и если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне.
Позвали отец с матерью Ивана и говорят ему:
— Слышал ты, чтò царь повещает? Ты сказывал, что у тебя корешок есть, поезжай, вылечи царскую дочь. Ты навек счастье получишь.
— Ну что ж, — говорит.
И собрался Иван ехать. Одели его, выходит Иван на крыльцо, видит — стоит побирушка косорукая.
— Слышала я, — говорит, — что ты лечишь? Вылечи мне руку, а то и обуться сама не могу.
Иван и говорит:
— Ну что ж!
Достал корешок, дал побирушке, велел проглотить. Проглотила побирушка и выздоровела, сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью Ивана к царю провожать, услыхали, что Иван последний корешок отдал и нечем царскую дочь лечить, стали его отец с матерью ругать.
— Побирушку, — говорят, — пожалел, а царскую дочь не жалеешь!
Жалко стало Ивану и царскую дочь. Запрёг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать.
— Да куда же ты, дурак?
— Царскую дочь лечить.
— Да ведь тебе лечить нечем?
— Ну что ж, — говорит, — и погнал лошадь.
Приехал на царский двор и только ступил на крыльцо, выздоровела царская дочь.
Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его, нарядил.
— Будь, — говорит, — ты мне зятем.
— Ну что ж, — говорит.
И женился Иван на царевне. А царь вскоре помер. И стал Иван царем. Так стали царями все три брата.
IX.
Жили три брата — царствовали.
Хорошо жил старший брат Семен-воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с 10 дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас посылает этих солдат и делает всё, как ему вздумается. И стали его все бояться.
И житье ему было хорошее. Что только задумает и на что̀ только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут и приведут всё, что ему нужно.
Хорошо жил и Тарас-брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги и с души, и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок. И что ни вздумает, всё у него есть. За денежки к нему всего несут и работать идут, потому что всякому деньги нужны.
Не плохо жил и Иван-дурак. Как только похоронил тестя, снял он всё царское платье — жене отдал в сундук спрятать, — опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу.
— Скучно, — говорит, — мне: брюхо расти стало, и еды и сна нет.
Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать.
Ему и говорят:
— Да ведь ты царь!
— Ну что ж, — говорит, — и царю жрать надо.
Пришел к нему министр, — говорит:
— У нас, — говорит, — денег нет жалованье платить.
— Ну что ж, — говорит, — нет, так и не плати.
— Да они, — говорит, — служить не станут.
— Ну что ж, — говорит, — пускай, — говорит, — не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили.
Пришли к Ивану судиться. Один говорит:
— Он у меня деньги украл.
А Иван говорит:
— Ну что ж! значит, ему нужно.
Узнали все, что Иван — дурак. Жена ему и говорит:
— Про тебя говорят, что ты дурак.
— Ну что ж, — говорит.
Подумала, подумала жена Иванова, а она тоже дура была.
— Что же мне, — говорит, — против мужа идти? Куда иголка, туда и нитка.
Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться. Научилась работать, стала мужу подсоблять.
И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили — работали, сами кормились и людей добрых кормили.
X.
Ждал, ждал старый дьявол вестей от чертенят о том, как они трех братьев разорили, — нет вестей никаких. Пошел сам проведать; искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. «Ну, — думает, — видно, не осилили, — надо самому приниматься».
Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут-царствуют. Обидно показалось старому дьяволу.
— Ну, — говорит, — возьмусь-ка я сам за дело.
Пошел он прежде всего к Семену-царю. Пошел он не в своем виде, а оборотился воеводой, — приехал к Семену-царю.
— Слышал я, — говорит, — что ты, Семен-царь, воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить.
Стал его расспрашивать Семен-царь, видит: человек умный, — взял на службу.
Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать.
— Первое дело, надо, — говорит, — больше солдат собрать, а то, — говорит, — у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо, — говорит, — всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска впятеро против прежнего будет. Второе дело — надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли — всё сожжет.
Послушался Семен-царь воеводы нового, велел всех под ряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел; наделал ружей, пушек новых и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен-царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек; сразу перекалечил, пережег половину войска. Испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал. Обрадовался Семен-царь.
— Теперь, — говорит, — я индейского царя завоюю.
А индейский царь услыхал про Семена-царя и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал, и стало у него войска еще больше, чем у Семена-царя, а ружья и пушки все от Семена-царя перенял, да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать.
Пошел Семен-царь войной на индейского царя, думал, как и прежнего, повоевать, да — резала коса, да нарезалась.
Не допустил царь индейский Семенова войска до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов, бомбы посыпать; разбежалось всё войско Семеново и остался Семен-царь один. Забрал индейский царь Семеново царство, а Семен-воин убежал куда глаза глядят.
Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу-царю. Оборотился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведенье заводить, стал денежки выпускать. Стал купец за всякую вещь дорого платить, и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подати подавать стали.
Обрадовался Тарас-царь. «Спасибо, — думает, — купцу, теперь у меня денег еще прибавится, житье мое еще лучше станет». И стал Тарас-царь новые затеи затевать, зачал себе новый дворец строить. Повестил народу, чтоб везли ему лес, камень и шли работать, назначил за всё цены высокие. Думал Тарас-царь, что попрежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень к купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас-царь цену, а купец еще накинул. У Тараса-царя денег много, а у купца еще больше, и перебил купец царскую цену. Стал дворец царский; не строится. Затеян был у Тараса-царя сад. Пришла осень. Повещает Тарас-царь, чтоб народ шел к нему сад сажать, — не выходит никто, весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас-царь мехов собольих купить на шубу новую. Посылает покупать, приходит посол, говорит:
— Нету соболей, — все меха у купца, он дороже дал и из соболей ковер сделал.
Понадобилось Тарасу-царю себе жеребцов купить. Послал покупать, приходят послы: все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а всё делают купцу, а ему только купцовы деньги несут, за подати отдают.
И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать; только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стесненье стало. Стали от него и повара, и кучера, и слуги к купцу отходить. Стало уж и еды недоставать. Пошлет на базар купить что — ничего нет: всё купец перекупил, а ему только денежки за подати несут.
Рассердился Тарас-царь и выслал купца за границу. А купец на самой на границе сел — всё то же делает: всё так же за купцовы денежки от царя тащат всё к купцу. Совсем плохо царю стало, по целым дням не ест, да еще слух прошел, что купец хвалится, что он у царя и жену его купить хочет. Заробел царь Тарас и не знает, как быть.
Приезжает к нему Семен-воин и говорит:
— Поддержи, — говорит, — меня, — меня индейский царь повоевал.
А Тарасу-царю самому уж узлом к гузну дошло.
— Я, — говорит, — сам два дни не ел.
XI.
Обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Оборотился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завел.
— Царю, — говорит, — не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу.
Отслушал его Иван.
— Ну что ж, — говорит, — заведи, да песни их научи играть половчее, я это люблю.
Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лбы брить — каждому штоф водки и красная шапка будет.
Посмеялись дураки.
— Вино, — говорят, — у нас вольное, мы сами курим, а шапки нам бабы какие хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с мохрами.
Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану.
— Нейдут, — говорит, — твои дураки охотой, — надо их сило̀м пригонять.
— Ну что ж, — говорит, — пригоняй сило̀м.
И повестил старый дьявол, чтоб шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти предаст.
Пришли дураки к воеводе и говорят:
— Говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст, а не сказываешь, что с нами в солдатстве будет. Сказывают, и солдат до смерти убивают.
— Да, не без того.
Услыхали это дураки, уперлись.
— Не пойдем, — говорят. — Уж лучше пускай дома смерти предадут. Ее и так не миновать.
— Дураки вы, дураки! — говорит старый дьявол. — Солдата еще убьют ли, нет ли, а не пойдешь — Иван-царь наверно смерти предаст.
Задумались дураки, пошли к царю Ивану-дураку спрашивать:
— Проявился, — говорят, — воевода, велит нам всем в солдаты идти. «Коли пойдете, — говорит, — в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван наверно смерти предаст». Правда ли это?
Засмеялся Иван.
— Как же, — говорит, — я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму.
— Так мы, — говорят, — не пойдем.
— Ну что ж, — говорит, — не ходите.
Пошли дураки к воеводе и отказались в солдаты идти.
Видит старый дьявол — не берет его дело; пошел к тараканскому царю, подделался.
— Пойдем, — говорит, — войной, завоюем Ивана-царя. У него только денег нет, а хлеба и скота и всякого добра много.
Пошел тараканский царь войною. Собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить.
Пришли к Ивану и говорят:
— На нас тараканский царь войной идет.
— Ну что ж, — говорит, — пускай идет.
Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нет войска. Ждать-пождать — не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню — выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину; дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню — всё тоже. Походили солдаты день, походили другой — везде всё то же; — всё отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить.
— Коли вам, сердешные, — говорят, — на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить.
Походили, походили солдаты, видят — нет войска; a всё народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, и зовет к себе жить.
Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю.
— Не можем мы, — говорят, — воевать, отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что — как кисель резать. Не можем больше тут воевать.
Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить.
— Не послушаете, — говорит, — моего приказа, всех, — говорит, — вас расказню.
Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Всё не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.
— За что, — говорят, — вы нас обижаете? Зачем, — говорят, — вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите.
Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и всё войско разбежалось.
XII.
Так и ушел старый дьявол — не пронял Ивана солдатами.
Оборотился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить: хотел его, так же как Тараса-брюхана, деньгами пронять.
— Я, — говорит, — хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я, — говорит, — у вас дом построю и заведенье заведу.
— Ну что ж, — говорят, — живи.
Переночевал господин чистый и на утро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит:
— Живете вы, — говорит, — все, как свиньи, — хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне, — говорит, — дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить.
И показал им золото. Удивились дураки: у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото.
— Хороши, — говорят, — штучки.
И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает: «Пошло мое дело на лад! Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом со всем». Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало и не стали больше брать. А у господина чистого еще хоромы наполовину не отстроены и хлеба и скотины еще не запасено на год, и повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет.
Нейдет никто работать и не несут ничего. Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет, а то нет никого, — и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне — себе на обед купить. Сунулся в один двор, дает золотой за курицу, — не берет хозяйка.
— У меня, — говорит, — много и так.
Сунулся к бобылке. — селедку купить, дает золотой.
— Не нужно мне, — говорит, — милый человек, у меня, — говорит, — детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла.
Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег:
— Мне не нужно, — говорит. — Нешто ради Христа, — говорит, — так погоди, я велю бабе отрезать.
Заплевал даже дьявол, убежал от мужика. Не то, что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово — хуже ножа.
Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят:
— Что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми.
А у дьявола нет ничего кроме денег, работать не охота; а ради Христа нельзя ему взять. Рассердился старый дьявол.
— Чего, — говорит, — вам еще нужно, когда я вам деньги даю? Вы за золото всего купите и всякого работника наймете.
Не слушают его дураки.
— Нет, — говорят, — нам не нужно: с нас платы и податей никаких нейдет, — куда же нам деньги?
Лег не ужинавши спать старый дьявол.
Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают:
— Что нам делать? Проявился у нас господин чистый: есть, пить любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет и Христа ради не просит и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер с голода.
Отслушал Иван.
— Ну что ж, — говорит, — кормить надо. Пускай по дворам, как пастух, ходит.
Нечего делать, стал старый дьявол по дворам ходить.
Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее. Не работамши придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодырей по рукам узнавать: у кого мозоли на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает. Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей, и руки чистые, гладкие, и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола.
А Иванова жена ему и говорит:
— Не взыщи, господин чистый, золовка у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот, дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется.
Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить:
— Дурацкий, — говорит, — у тебя закон в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают?
А Иван говорит:
— Где нам, дуракам, знать, мы всё норовим больше руками да горбом.
— Это оттого, что вы дураки. А я, — говорит, — научу вас, как головой работать; тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками.
Удивился Иван.
— Ну, — говорит, — не даром нас дураками зовут!
И стал старый дьявол говорить:
— Только не легко, — говорит, — и головой работать. Вы вот мне есть не даете оттого, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой во сто раз труднее работать. Другой раз и голова трещит.
Задумался Иван.
— Зачем же ты, — говорит, — сердешный, так себя мучаешь? Разве легко, как голова затрещит? Ты бы уж лучше легкую делал работу — руками да горбом.
А дьявол говорит:
— Затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучал, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу.
Подивился Иван.
— Научи, — говорит, — а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить.
И обещался дьявол научить.
И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, — чтоб приходили учиться.
Была в Ивановом царстве каланча высокая построена, и на нее лестница прямая, а наверху вышка. И свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть.
Стал господин на каланчу и начал оттуда говорить. А дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как не работамши прожить можно.
Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам.
Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой, — всё говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебца ему на каланчу принесть. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке, — всё говорил. А народ подойдет, посмотрит-посмотрит и разойдется. Спрашивает и Иван:
— Ну, что господин, начал ли головой работать?
— Нет еще, — говорят, — всё еще лопочет.
Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть; пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню.
— Пойдем, — говорит, — смотреть: говорят, господин зачинает головой работать.
Подивился Иван:
— Ну? — говорит.
Завернул лошадь, пошел к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой, — все ступеньки пересчитал.
— Ну, — говорит Иван, — правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то что мозоли, от такой работы желваки на голове будут.
Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти посмотреть, много ли он работал, вдруг расступилась земля, и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван.
— Ишь ты, — говорит, — пакость какая! Это опять он! Должно, батька тем, — здоровый какой!
Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет скажет: «Корми нас». — «Ну что ж, — говорит, — живите — у нас всего много».
Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки.
К КАРТИНЕ ГЕ. (ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ).
Вверху картины.
Иоанн. XIII.
1. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
2. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
3. Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
4. Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался;
5. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
6. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
7. Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
8. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих во-век. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
9. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
10. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
11. Ибо знал Он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты.
12. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
14. И так если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
15. Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам.
16. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
17. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
18. Не о всех вас говорю: Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на Меня пяту свою (Псал. 40, 10).
19. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, меня принимает; а принимающий Меня принимает пославшего Меня.
21. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
22. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
23. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
24. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
25. Он припадши к груди Иисуса, сказал Ему: Господи, кто это.
26. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
27. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
28. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или, чтобы дал что-нибудь нищим.
31. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем.
32. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
33. Дети, не долго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти; так и вам говорю теперь.
34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
35. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Внизу картины.
Иисус сказал: «Вы слышали, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю, любите врагов ваших...»
На последней же вечере Иисус делом явил это.
Омыв ноги 12-ти ученикам Своим, Он сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал».
Что же сделал Иисус, и в чем тот пример, который Он дал ученикам Своим?
Когда после вечери Иисус стал омывать ноги ученикам и Симон Петр хотел воспротивиться, Иисус сказал ему: «Что Я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после. Вы чисты, но не все».
Ни Симон Петр, ни другие ученики не понимали тогда, к чему Он говорил это. Один Иуда Искариот понимал то, что делал Иисус, когда, стоя перед ним на коленях, Он омывал ноги его.
Омыв ноги предателю Своему, Иисус встал, надел одежду и, опять возлегши, сказал: «Знаете ли вы, что Я сделал вам? Вы называете Меня учителем и правильно говорите, ибо Я точно то».
Но они, не зная того, что Иуда был предатель, не понимали того, что Он делал и чему учил их.
Тогда, возмутившись духом, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст Меня».
И опять не поняли они ни того, что Он сделал, ни того, что говорил им. Они только озирались друг на друга, отыскивая того, о ком Он сказал.
В то время любимый ученик Иисуса лежал у груди Его. Симон же Петр, поднявшись, сделал любимому ученику знак, чтобы он спросил Учителя, о ком Он сказал.
И любимый ученик, припав к груди Иисуса, спросил Его.
Но Иисус не ответил прямо, зная, что если бы Он назвал врага Своего, ученики возмутились бы и захотели бы покарать предателя.
Желая не погубить, а спасти Иуду, Иисус, вместо ответа протянул руку Свою, взял кусок хлеба и тихо сказал: «Тот, кому, обмакнув, подам кусок этот». И, подав кусок Иуде, сказал: «Что делаешь, делай скорее».
Ученики, услыхав это, подумали, что Иисус посылает Иуду в город купить то, что нужно к празднику.
Но Иуда понял, что Иисус спасает его от гнева учеников, и тотчас же встал.
Это самое изображено на картине.
Любимый ученик Иоанн один знает, кто предатель.
Он вскочил с места и уставился на Иуду. Он не понимает, не верит тому, чтобы человек живой мог ненавидеть Того, кто так любил его: ему и жалко несчастного и страшно за него. Симон Петр по взгляду Иоанна догадывается и озирается то на Иоанна, то на Иисуса, то на предателя, и в пылком сердце его загорается гнев и желание защитить любимого Учителя.
Иуда встал, поднял одежду, накидывает ее на себя и ступил первый шаг, но глаза его не могут покинуть лица опечаленного Учителя. Еще есть время. Он может повергнуться и пасть к ногам Его, каясь в грехе своем. Но дьявол уже овладел сердцем его.
«Не покоряйся! — говорит он ему. — Не поддавайся слабости, не подвергайся укорам гордых учеников. Они глядят на тебя и только этого ждут, чтобы унизить тебя. Иди».
Иисус лежит, облокотившись на руку, не смотрит, но видит всё и знает то, что делается в сердце Иуды, и ждет, страдая за него: Ему жалко сына погибели. Иисус Своими руками накормил, Своими руками умыл ноги врагу Своему, спас его от кары людской, до конца любовью вызывал его к покаянию и простил его. И всё-таки он не вернулся к Нему.
И Иисус скорбит о нем и о всех тех, которые нейдут к нему.
Иуда вышел и скрылся в темноте ночи.
Едва затворилась дверь, как все ученики узнали, кто предатель. Они волнуются и негодуют. Петр хочет бежать за ним. Но Иисус поднимает голову и говорит: «Дети, недолго Мне быть с вами... Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. По тому и узнают, что вы Мои ученики, если будете любить друг друга». И тогда только уразумел Симон Петр и другие 10, что сделал Иисус. Тогда только поняли они, что, всею жизнью Своей показывая им пример любви к ближним, Он теперь дал пример им — любви к врагу: Он до последней минуты любил, жалел Иуду, врага Своего, призывал его к Себе и, несмотря на нераскаянность его, всё-таки спас его от гнева учеников.
КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ВЫКУПАЛ.
Выехал бедный мужик пахать, не завтракамши, и взял с собой из дома краюшку хлеба. Перевернул мужик соху, отвязал сволока, положил под куст; тут же положил краюшку хлеба и накрыл кафтаном. Уморилась лошадь и проголодался мужик. Воткнул мужик соху, отпрёг лошадь, пустил ее кормиться, а сам пошел к кафтану пообедать. Поднял мужик кафтан — нет краюшки; поискал, поискал, повертел кафтан, потрёс — нет краюшки. Удивился мужик. «Чудное дело, — думает. — Не видал никого, а унес кто-то краюшку». А это чертенок, пока мужик пахал, утащил краюшку и сел за кустом послушать, как будет мужик ругаться, и его, чорта, поминать.
Потужил мужик.
— Ну, да, — говорит, — не умру с голоду! Видно, тому нужно было, кто ее унес. Пускай ест на здоровье!
И пошел мужик к колодцу, напился воды, отдохнул, поймал лошадь, запрёг и стал опять пахать.
Смутился чертенок, что не навел мужика на грех, и пошел сказаться нàбoльшeмy чорту. Явился к нàбольшему и рассказал, как он у мужика краюшку унес, а мужик заместо того, чтобы выругаться, сказал: «на здоровье!» Рассердился нàбольший дьявол.
— «Коли, — говорит, — мужик в этом деле верхà над тобою взял, ты сам в этом виноват: не умел. Если, — говорит, — мужики, а за ними и бабы такую повадку возьмут, нам уж нè при чем и жить станет. Нельзя этого дела так оставить! Ступай, — говорит, — опять к мужику, заслужи эту краюшку. Если ты в три года сроку не возьмешь верха̀ над мужиком, я тебя в святой воде выкупаю!
Испугался чертенок, побежал на землю, стал придумывать, как свою вину заслужить. Думал, думал и придумал. Обернулся чертенок добрым человеком и пошел к бедному мужику в работники. И научил он мужика в сухое лето посеять хлеб в болоте. Послушался мужик работника, посеял в болоте.
У других мужиков всё солнцем сожгло, а у бедного мужика вырос хлеб густой, высокий, колосистый. Прокормился мужик до нови, и осталось еще много хлеба. На лето научил работник мужика посеять хлеб на горах. И выпало дождливое лето.
У людей хлеб повалялся, попрел и зерна не налило, а у мужика на горах обломный хлеб уродился. Осталось у мужика еще больше лишнего хлеба.. И не знает мужик, что с ним делать.
И научил работник мужика затереть хлеб и вино курить. Накурил мужик вина, стал сам пить и других поить. Пришел чертенок к нàбольшему и стал хвалиться, что заслужил краюшку. Пошел нàбольший посмотреть.
Пришел к мужику, видит — созвал мужик богачей, вином их угощает. Подносит хозяйка вино гостям. Только стала обходить, зацепилась за стол, пролила стакан. Рассердился мужик, разбранил жену:
— Ишь, — говорит, — чортова дура! разве это помои, что ты, косолапая, такое добро на земь льешь?
Толконул чертенок нàбoльшeгo локтем: Примечай, — говорит, — как он теперь не пожалеет краюшки.
Разбранил хозяин жену, стал сам подносить. Приходит с работы бедный мужик, незваный; поздоровался, присел, видит — люди вино пьют; захотелось и ему с устали винца выпить. Сидел-сидел, глотал-глотал слюни, — не поднес ему хозяин; только про себя пробормотал: «Разве на всех вас вина напасешься!»
Понравилось и это нàбольшему чорту. А чертенок хвалится — «Погоди, то ли еще будет».
Выпили богатые мужики, выпил и хозяин. Стали они все друг к дружке подольщаться, друг дружку хвалить и масляные облыжные речи говорить.
Послушал, послушал нàбoльший, — похвалил и за это. — Коли, —говорит, — от этого питья так лисить будут да друг дружку обманывать, они у нас все в руках будут. — Погоди, — говорит чертенок, — что дальше будет; дай они по другому стаканчику выпьют. Теперь они, как лисицы, друг перед дружкой хвостами виляют, друг дружку обмануть хотят, а погляди, сейчас как волки злые сделаются.
Выпили мужики по другому стаканчику, стала у них речь погромче и погрубее. Вместо масляных речей стали они ругаться, стали друг на дружку обозляться, сцепились драться, исколупали друг дружке носы. Ввязался в драку и хозяин, избили и его.
Поглядел нàбольший, и понравилось ему и это. Это, — говорит, — хорошо.
А чертенок говорит: «Погоди, то ли еще будет! Дай они выпьют по третьему. Теперь они как волки остервенились, а дай срок, по третьему выпьют, сейчас как свиньи сделаются».
Выпили мужики по третьему. Рассолодели совсем. Бормочат, кричат, сами не знают чтó, и друг дружку не слушают. Пошли расходиться — кто порознь, кто по-двое, кто по-трое — повалялись все по улицам. Вышел провожать гостей хозяин, упал носом в лужу, измазался весь, лежит как боров, хрюкает.
Еще пуще понравилось это нàбольшему.
«Ну, — говорит, — хорошо питье ты выдумал, заслужил краюшку. Скажи ж ты мне, говорит, как ты это питье сделал? Не иначе ты сделал, как напустил туда сперва лисьей крови: от нее-то мужик хитрый как лисица сделался. А потом — волчьей крови: от нее-то он обозлился как волк. А под конец подпустил ты, видно, свиной крови: от нее-то он свиньей стал».
— Нет, — говорит чертенок, — я не так сделал. Я ему всего только и сделал, что хлеба лишнего зародил. Она, эта кровь звериная, всегда в нем живет, да ей ходу нет, когда хлеба с нужду рожается. Тогда он и последней краюшки не жалел, а как стали лишки от хлеба оставаться, стал он придумывать, как бы себя потешить. И научил я его потехе — вино пить. А как стал он Божий дар в вино курить для своей потехи, поднялась в нем и лисья, и волчья, и свиная кровь. Теперь только бы вино пил, всегда зверем будет.
Похвалил нàбольший чертенка, простил его за краюшку хлеба и у себя в старших поставил.
КРЕСТНИК.
Вы слышали, чтò сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противься злому. (Матф. V, 38, 39).
Мне отмщение, Я воздам. (РИМЛ. XII, 19).
I.
Родился у бедного мужика сын. Обрадовался мужик, пошел к соседу звать в кумовья. Отказался сосед: не охота к бедному мужику в кумовья идти. Пошел бедный мужик к другому, и тот отказался.
Всю деревню исходил, нейдет никто в кумовья. Пошел мужик в иную деревню. И попадается ему навстречу прохожий человек. Остановился прохожий человек.
— Здравствуй, — говорит, — мужичок; куда Бог несет?
— Дал мне, — говорит мужик, — Господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души; а по бедности моей никто в нашей деревне в кумовья нейдет. Иду кума искать.
И говорит прохожий человек:
— Возьми меня в кумовья.
Обрадовался мужик, поблагодарил прохожего человека и говорит:
— Кого же в кумы звать?
— А в кумы, — говорит прохожий человек, — позови купеческую дочь. Поди в город, на площади каменный дом с лавками, у входа в дом проси купца, чтоб отпустил дочь в крестные матери.
Усумнился мужик.
— Как мне, — говорит, — нареченный кум, к купцу-богачу идти? Побрезгает он мной, не отпустит дочь.
— Не твоя печаль. Ступай — проси. К завтраму, к утру, изготовься, — приду крестить.
Воротился бедный мужик домой, поехал в город к купцу. Поставил лошадь на дворе. Выходит сам купец.
— Чего надо? — говорит.
— Да вот, господин купец: дал мне Господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти дочь свою в крестные.
— А когда у тебя крестины?
— Завтра утром.
— Ну, хорошо, ступай с Богом, завтра к обедне приедет.
На другой день приехала кума, пришел и кум, окрестили младенца. Только окрестили младенца, вышел кум, и не узнали, кто он; и не видали с тех пор.
II.
Стал младенец возрастать на радость родителям: и силен, и работящ, и умен, и смирен. Стал мальчик десяти годов. Отдали его родители грамоте учиться. Чему другие пять лет учатся, в один год выучился мальчик. И нечего ему учить стало.
Пришла Святая неделя. Сходил мальчик к крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает:
— Батюшка и матушка, где живет мой крестный? Я бы к нему пошел, похристосовался.
И говорит ему отец:
— Не знаем мы, сынок любезный, где твой крестный живет. Мы сами о том тужим. Не видали его с тех пор, как он тебя окрестил. И не слыхали про него, и не знаем, где живет, не знаем, и жив ли он.
Поклонился сын отцу, матери.
— Отпусти меня, — говорит, — батюшка с матушкой, моего крестного искать. Хочу его найти, с ним похристосоваться.
Отпустили сына отец с матерью. И пошел мальчик искать своего крестного.
III.
Вышел мальчик из дому и пошел путем-дорогой. Прошел половину дня, встречается ему прохожий человек.
Остановился прохожий.
— Здравствуй, — говорит, — мальчик, куда Бог несет?
И сказал мальчик:
— Ходил я, — говорит, — к матушке крестной христосоваться, пришел домой, спросил у родителей: где живет мой крестный? хотел с ним похристосоваться. Сказали мне родители: не знаем мы, сынок, где живет твой крестный. С тех пор как окрестили тебя, ушел он от нас, и ничего мы про него не знаем и не знаем, жив ли он. И захотелось мне повидать своего крестнаго; так вот иду искать его.
И сказал прохожий человек:
— Я твой крестный.
Обрадовался мальчик, похристосовался с крестным.
— Куда ж ты, — говорит, — батюшка крестный, теперь путь держишь? Если в нашу сторону, так приходи в наш дом, а если к себе домой, так я с тобой пойду.
И сказал крестный:
— Недосуг мне теперь в твой дом идти: мне по деревням дело есть. А к себе домой я на завтра буду. Тогда приходи ко мне.
— Как же я тебя, батюшка, найду?
— А вот иди всё на восход солнца, всё прямо, придешь в лес, увидишь среди леса — полянка. Сядь на этой полянке, отдохни и гляди, что там будет. Выйдешь из лесу, увидишь сад, а в саду палаты с золотой крышей. Это мой дом. Подойди к воротам. Я тебя сам там встречу.
Сказал так крестный и пропал из глаз крестника.
IV.
Шел мальчик, как велел ему крестный. Шел, шел, приходит в лес. Вышел на полянку и видит, среди полянки сосна, а на сосне укреплена на суку веревка, а на веревке привешен чурбан дубовый, пуда в три. А под чурбаном корыто с медом. Только подумал мальчик, зачем тут мед поставлен и чурбан привешен, затрещало в лесу, и видит, идут медведи: впереди медведица, за ней пестун годовалый и позади еще трое медвежат маленьких. Потянула медведица в себя носом и пошла прямо к корыту, а медвежата за ней. Сунула медведица морду в мед, позвала медвежат, подскочили медвежата, припали к корыту.
Откачнулся чурбан недалеко, вернулся назад, толкнул медвежат. Увидала это медведица, оттолкнула чурбан лапой. Откачнулся подальше чурбан, опять назад пришел, ударил в середину медвежат — кого по спине, кого по голове. Заревели медвежата, отскочили прочь. Рявкнула медведица, ухватила обеими лапами чурбан над головой, махнула его от себя прочь. Улетел высоко чурбан, подскочил пестун к корыту, уткнул морду в мед, чавкает, стали и другие подходить. Не успели подойти, прилетел чурбан назад, ударил пестуна по голове, убил его до смерти. Заревела пуще прежнего медведица, как схватит чурбан да пустит его изо всех сил вверх, — взлетел чурбан выше сука, даже веревка ослабла. Подошла медведица к корыту, и все медвежата за ней. Летел, летел чурбан кверху, остановился, пошел книзу. Что ниже, то шибче расходится. Разошелся шибко, налетел на медведицу, как чебурахнет ее по башке, — перевернулась медведица, подергала ногами и издохла. Разбежались медвежата.
V.
Подивился мальчик и пошел дальше. Приходит к большому саду, а в саду высокие палаты с золотой крышей. И у ворот стоит крестный, улыбается. Поздоровался с сыном крестным, ввел его в ворота и повел по саду. И во сне не снилось мальчику такой красоты и радости, какая в этом саду была.
Ввел крестный мальчика в палаты. Палаты еще лучше. Провел крестный мальчика по всем горницам: одна другой лучше, одна другой веселее, и привел его к запечатанной двери.
— Видишь ли, — говорит, — эту дверь? Замка на ней нет, только печати. Отворить ее можно, да не велю я тебе. Живи ты и гуляй, где хочешь и как хочешь; всеми радостями радуйся, только один тебе заказ: в эту дверь не входи. А если и войдешь, так попомни, что ты в лесу видел.
Сказал это крестный и ушел. Остался крестник один и стал жить. И так ему весело и радостно было, что думалось ему, что прожил он тут только три часа, а прожил он тут тридцать лет. И как прошло тридцать лет, подошел крестник к запечатанной двери и подумал: «Отчего не велел мне крестный входить в эту горницу? Дай пойду посмотрю, что там такое?»
Толконул дверь, отскочили печати, отворилась дверь. Вошел крестник и видит — палаты больше всех и лучше всех, и в середине палат стоит золотой престол. Походил, походил крестник по палатам и подошел к престолу, вошел по ступеням и сел. Сел и видит — у престола жезл стоит. Взял крестник в руки жезл. Только что взял в руки жезл, вдруг отвалились все четыре стены в палатах. Поглядел кругом себя крестник и видит весь мир и всё, чтò в миру люди делают. Посмотрел прямо — видит море, корабли плавают. Посмотрел вправо — видит чужие, не христианские народы живут. Посмотрел в левую сторону — христианские да не русские живут. Посмотрел в четвертую сторону — наши русские живут. «Дай, — говорит, — посмотрю, что у нас дома делается, хорошо ли у нас хлеб родился?» Посмотрел на поле на свое, видит, крестцы стоят. Стал он считать крестцы, много ли хлеба, и видит, едет на поле телега и сидит в ней мужик. Думал крестник, что родитель его едет ночью снопы поднимать. Смотрит: это Василий Кудряшов, вор, едет. Подъехал к копнам, стал накладывать. Досадно стало крестнику. Закричал он: «Батюшка, снопы с поля крадут!»
Проснулся отец в ночном. «Приснилось мне, — говорит, — что снопы крадут: дай поеду посмотрю». Сел на лошадь — поехал.
Приезжает на поле, увидал Василия, скричал мужиков. Избили Василия. Связали, повели в острог.
Поглядел еще крестник на город, где его крестная жила. Видит, замужем она за купцом. И лежит она, спит, а муж ее встал, идет к любовнице. Закричал крестник купчихе: «Вставай, твой муж худыми делами занялся».
Вскочила крестная, оделась, разыскала, где ее муж, иссрамила, избила любовницу и мужа от себя прогнала.
Поглядел еще крестник на свою мать и видит, лежит она в избе, и влез в избу разбойник и стал сундук ломать.
Проснулась мать, закричала. Увидал разбойник, схватил топор, замахнулся на мать, хочет ее убить.
Не сдержался крестник, как пустит жезлом в разбойника, прямо в висок ему попал, убил на месте.
VI.
Только убил крестник разбойника, опять затворились стены, стали опять палаты, как были.
Отворилась дверь, входит крестный. Подошел крестный к сыну своему, взял его за руку, свел с престола и говорит:
— Не послушал ты моего приказания: одно худое дело сделал — отворил запрещенную дверь; другое худое дело сделал — на престол взошел и в руки мой жезл взял; третье худое дело сделал — много зла на свете прибавил. Коли бы ты еще час посидел, ты бы половину людей перепортил.
И ввел крестный опять крестника на престол, взял в руки жезл. И опять отвалились стены, и всё видно стало.
И сказал крестный:
— Смотри теперь, что ты своему отцу сделал: Василий теперь год в остроге просидел, всем злодействам научился и остервенел совсем. Смотри, вон он у отца твоего двух лошадей угнал и, видишь, ему уж и двор запаливает. Вот что ты своему отцу сделал.
Только увидал крестник, что загорелся отцов двор, закрыл от него это крестный, велел смотреть в другую сторону.
— Вот, — говорит, — муж твоей крестной уж год теперь, как бросил жену, с другими на стороне гуляет, а она с горя пить стала, а любовница его прежняя совсем пропала. Вот что ты с своей крестной сделал.
Закрыл и это крестный, показал на его дом. И увидал он свою мать: плачет она о своих грехах, кается, говорит: «лучше бы меня тогда разбойник убил, — не наделала бы я столько грехов».
— Вот что ты своей матери сделал.
Закрыл и это крестный и показал вниз. И увидал крестник разбойника: держат разбойника два стража перед темницей. И сказал ему крестный: — Этот человек девять душ загубил. Ему бы надо самому свои грехи выкупать, а ты его убил, все грехи его на себя снял. Теперь тебе за все его грехи отвечать. Вот что ты сам себе сделал. Медведица раз чурбан толконула — медвежат потревожила; другой раз толконула — пестуна убила, а третий раз толконула — сама себя погубила. То же и ты сделал. Даю тебе теперь сроку на тридцать лет. Иди в мир выкупай разбойниковы грехи. Если не выкупишь, тебе на его место идти.
И сказал крестник:
— Как же мне его грехи выкупить?
И сказал крестный:
— Когда в мире столько же зла изведешь, сколько завел, тогда и свои и разбойниковы грехи выкупишь.
И спросил крестник:
— Как же в мире зло изводить?
Сказал крестный:
— Иди ты прямо на восход солнца, придет поле, на поле люди. Примечай, что люди делают, и научи их тому, что знаешь. Потом иди дальше, примечай то, что увидишь; придешь на четвертый день к лесу, в лесу келья, в келье старец живет, расскажи ему все, что было. Он тебя научит. Когда всё сделаешь, что тебе старец велит, тогда свои и разбойниковы грехи выкупишь.
Сказал так крестный и выпустил крестника за ворота.
VII.
Пошел крестник. Идет и думает: «Как мне на свете зло изводить? Изводят на свете зло тем, что злых людей в ссылки ссылают, в тюрьмы сажают и казнями казнят. Как же мне делать, чтобы зло изводить, а на себя чужих грехов не снимать?» Думал, думал крестник, не мог придумать.
Шел, шел, приходит к полю. На поле хлеб вырос — хороший, густой, и жать пора. Видит крестник, зашла в этот хлеб телушка, и увидали люди, посели верхами, гоняют по хлебу телушку из стороны в сторону. Только хочет телушка из хлеба выскочить, наедет другой, испугается телушка, опять в хлеб; опять за ней скачут по хлебу. А на дороге стоит баба, плачет: «загоняют они, — говорит, — мою телушку».
И стал крестник говорить мужикам:
— Зачем вы так делаете? Вы выезжайте все вон из хлеба. Пусть хозяйка свою телушку покличет.
Послушались люди. Подошла баба к краю, начала кликать: «тпрюси, тпрюси, буреночка, тпрюси, тпрюси!...» Насторожила телушка уши, послушала, послушала, побежала к бабе, прямо ей под подол мордой, — чуть с ног не сбила. И мужики рады, и баба рада, и телушка рада.
Пошел крестник дальше и думает: «Вижу я теперь, что зло от зла умножается. Чтò больше гоняют люди зло, то больше зла разводят. Нельзя, значит, зло злом изводить. А чем его изводить — не знаю. Хорошо, как телушка хозяйку послушала, а то как не послушает, как ее вызвать?»
Думал, думал крестник, ничего не придумал, пошел дальше.
VIII.
Шел, шел, приходит к деревне. Попросился в крайней избе ночевать. Пустила хозяйка. В избе никого нет, только одна хозяйка моет.
Вошел крестник, влез на печку и стал глядеть, чтò хозяйка делает; видит — вымыла хозяйка избу, стала стол мыть. Вымыла стол, стала вытирать грязным ручником. Станет в одну сторону стирать — не вытирается стол. От грязного ручника полосами грязь по столу. Станет в другую сторону стирать — одни полосы сотрет, другие сделает. Станет опять вдоль вытирать — опять то же. Пачкает грязным ручником; одну грязь сотрет, другую налепит. Поглядел, поглядел крестник, говорит:
— Что ж ты это, хозяюшка, делаешь?
— Разве не видишь, говорит: к празднику мою. Да вот никак стол не домою, всё грязно, измучилась совсем.
— Да ты бы, — говорит, — ручник выполоскала, а тогда б стирала.
Сделала так хозяйка, живо вымыла стол.
— Спасибо, — говорит, — что научил.
На утро распрощался крестник с хозяйкой, пошел дальше. Шел, шел, пришел в лес. Видит — гнут мужики ободья. Подошел крестник, видит — кружатся мужики, а обод не загибается.
Поглядел крестник, видит — кружится у мужиков стуло, нет в нем державы. Посмотрел крестник и говорит:
— Что это вы, братцы, делаете?
— Да вот ободья гнем. И два раза парили, измучились совсем, — не загибаются.
— Да вы, братцы, стуло-то укрепите, а то вы с ним вместе кружитесь.
Послушались мужики, укрепили стуло, пошло у них дело на лад.
Переночевал у них крестник, пошел дальше. Весь день и ночь шел, перед зарей подошел к гуртовщикам, прилег он около них. И видит: уставили гуртовщики скотину и разводят огонь. Взяли сухих веток, зажгли, не дали разгореться, наложили на огонь сырого хворосту. Зашипел хворост, затух огонь. Взяли гуртовщики еще суши, зажгли, опять навалили хворосту сырого, — опять затушили. Долго бились, не разожгли огня.
И сказал крестник:
— Вы не спешите хворост накладывать, а прежде разожгите хорошенько огонь. Когда жарко разгорится, тогда уж накладывайте.
Сделали так гуртовщики; разожгли сильно, наложили хворост. Занялся хворост, разгорелся костер. Побыл с ними крестник и пошел дальше. Думал, думал крестник, к чему он эти три дела видел, — не мог понять.
IX.
Шел, шел крестник, прошел день. Приходит в лес, в лесу — келья. Подходит крестник к келье, стучится. Спрашивает из кельи голос:
— Кто там?
— Грешник великий, иду чужие грехи выкупать.
Вышел старец и спрашивает:
— Какие такие чужие грехи на тебе?
Рассказал ему всё крестник: и про отца крестного, и про медведицу с медвежатами, и про престол в запечатанной палате, и про то, что ему крестный велел, и про то, как он на поле мужиков видел, как они весь хлеб стоптали и как телушка к хозяйке сама вышла.
— Понял я, — говорит, — что нельзя зло злом изводить, а не могу понять, как его изводить надо. Научи меня.
И сказал старец:
— А скажи мне, что ты еще по дороге видел?
Рассказал ему крестник про бабу, как она мыла и про мужиков, как они ободья гнули, и про пастухов, как они огонь разводили.
Выслушал старец, вернулся в келью, вынес топоришко щербатый.
— Пойдем, — говорит.
Отошел старец на поприще от кельи, показал на дерево.
— Руби, — говорит.
Срубил крестник, упало дерево.
— Руби теперь на-трое.
Разрубил крестник на-трое. Зашел опять в келью старец, принес огня.
— Сожги, — говорит, — эти три чурака.
Развел крестник огонь, сжег три чурака, остались три головешки.
— Зарой в землю наполовину. Вот так.
Зарыл крестник.
— Видишь, под горой река, носи оттуда воду во рту, поливай. Эту головешку поливай так, как ты бабу учил. Эту поливай, как ты ободчиков научил. А эту поливай, как ты пастухов научил. Когда прорастут все три и из головешек три яблони вырастут, тогда узнаешь, как в людях зло изводить, тогда и грехи выкупишь.
Сказал это старец и ушел в свою келью. Думал, думал крестник, не мог понять, что ему сказал старец. А стал делать, как ему велено.
X.
Пошел крестник к реке, набрал полон рот воды, вылил на головешку, пошел еще и еще: сто раз сходил, пока землю около одной головешки смочил. Потом еще: полил и другие две. Уморился крестник, захотелось ему есть. Пошел в келью у старца пищи попросить. Отворил дверь, а старец мертвый на лавочке лежит. Осмотрелся крестник, нашел сухариков, поел; нашел и заступ и стал старцу могилку копать. Ночью воду носил, поливал, а днем могилу копал. Только выкопал могилу, хотел хоронить, пришли из деревни люди, старцу пищи принесли.
Узнали люди, что старец помер и благословил крестника на свое место. Похоронили люди старца, оставили крестнику хлеба; обещались принести еще и ушли.
И остался крестник на старцевом месте жить. Живет крестник, кормится тем, что ему люди носят, и повеленное дело делает — во рту из реки воду носит, головешки поливает.
Прожил так крестник год, и стало к нему много людей ходить. Прошла про него слава, что живет в лесу святой человек, спасается, ртом из-под горы воду носит, горелые пни поливает. Стало к нему много народу ходить. Стали и богатые купцы ездить, ему подарки возить. Не брал ничего себе крестник, кроме нужды, а что ему давали, то другим бедным раздавал.
И стал так жить крестник: половину дня воду во рту носит, головешки поливает, а другую половину отдыхает и народ принимает.
И стал думать крестник, что так ему велено жить, этим самым зло изводить и грехи выкупать.
Прожил так крестник и другой год, ни одного дня не пропустил, чтобы не полить, а все не проросла ни одна головешка.
Сидит он раз в келье, слышит — едет мимо него человек верхом и песни поет. Вышел крестник, посмотрел что за человек. Видит — человек сильный, молодой. Одежда на нем хорошая, и лошадь и седло под ним дорогие.
Остановил его крестник и спросил, что он за человек и куда едет.
Остановился человек.
— Я, — говорит, — разбойник, езжу по дорогам, людей убиваю: что больше людей убью, то веселей песни пою.
Ужаснулся крестник, думает: «Как в таком человеке зло извести? Хорошо мне тем говорить, которые ко мне ходят, сами каются. А этот злом хвалится». Ничего не сказал крестник, пошел прочь да подумал: «Как теперь быть, повадится этот разбойник здесь ездить, напугает он народ, перестанут ко мне люди ходить. И им пользы не будет, да и мне тогда как жить будет?»
И остановился крестник. И стал разбойнику говорить:
— Сюда, — говорит, — ко мне люди ходят не злом хвалиться, а каяться и грехи отмаливать. Покайся и ты, если Бога боишься; а не хочешь каяться, так уезжай отсюда и не приезжай никогда, меня не смущай и народ от меня не отпугивай. А если не послушаешь, покарает тебя Бог.
Засмеялся разбойник.
— Не боюсь, — говорит, — я Бога и тебя не послушаю. Ты мне не хозяин. Ты, — говорит, — своим богомольством кормишься, а я разбоем кормлюсь. Всем кормиться надо. Ты баб, что к тебе ходят, учи, а меня учить нечего. А за то, что ты мне про Бога помянул, я завтра лишних двух людей убью. И тебя бы нынче убил, да не хочется рук марать. А впредь не попадайся.
Погрозил так разбойник и уехал. И не проезжал больше разбойник, и жил крестник попрежнему спокойно. Прожил так крестник восемь лет и скучно ему стало.
XI.
Полил раз ночью крестник свои головешки, пришел в келью отдохнуть и сидит, глядит на тропочку, скоро ли народ придет. И не пришел в этот день ни один человек. Просидел крестник один до вечера, и скучно ему стало, и раздумался он о своей жизни. Вспомнил он, как разбойник его укорил за то, что он своим богомольством кормится. И оглянулся крестник на свою жизнь. «Не так, — думает, — я живу, как мне старец велел. Старец мне епитимию наложил, а я из нее хлеб да славу людскую сделал. И так соблазнился на нее, что скучно мне, когда ко мне народ не ходит. А когда ходит народ, то я только и радуюсь тому, как они мою святость прославляют. Не так жить надо. Запутался я славой людскою. Прежних грехов не выкупил, а новые нажил. Уйду я в лес, в другое место, чтоб меня народ не нашел. Стану один жить так, чтобы старые грехи выкупать, а новых не наживать».
Подумал так крестник и взял мешочек сухарей и заступ и пошел прочь от кельи к оврагу, чтобы в глухом месте себе земляночку выкопать — от людей укрыться.
Идет крестник с мешочком и с заступом, наезжает на него разбойник. Испугался крестник, хотел бежать, да догнал его разбойник.
— Куда идешь? — говорит.
Рассказал ему крестник, что хочет он от народа уйти в такое место, чтобы никто к нему не ходил. Удивился разбойник.
— Чем же ты, — говорит, — теперь кормиться будешь, когда к тебе люди ходить не будут?
И не подумал об этом прежде крестник, а как спросил его разбойник, вспомнил он и про пищу.
— А чем Бог даст, — говорит.
Ничего не сказал разбойник, поехал дальше.
«Что ж, — думает крестник, — я ему ничего про его жизнь не сказал! Может, он теперь покается. Нынче он как будто помягче и не грозится убить». И прокричал крестник вслед разбойнику:
— А все ж тебе покаяться надо. От Бога не уйдешь.
Повернул лошадь разбойник. Выхватил нож из-за пояса, замахнулся на крестника. Испугался крестник, убежал в лес.
Не стал его догонять разбойник, только сказал:
— Два раза простил тебя, старик, в третий не попадайся — убью!
Сказал так и уехал. Пошел вечером крестник головешки поливать, глядь — одна ростки пустила. Яблонька из нее растет.
XII.
Скрылся от людей крестник и стал один жить. Вышли у него сухари. «Ну, — думает, — теперь корешков поищу». Только пошел искать, видит — на суку мешочек с сухарями висит. Взял его крестник и стал кормиться.
Только вышли сухари, опять другой мешочек на том же суку нашел. И жил так крестник. Только одно у него горе было — разбойника боялся. Как заслышит разбойника, так спрячется, думает: «Убьет он меня, так и не успеешь грехов выкупить».
Прожил так еще десять лет. Яблонька одна росла, а две головешки, как были головешками, так и оставались.
Встал раз рано крестник, пошел свое дело исполнять, смочил землю у головешек, уморился и присел отдохнуть. Сидит, отдыхает и думает: «Согрешил я — стал смерти бояться. Захочет Бог, так и смертью грехи выкуплю». Только подумал так, вдруг слышит — едет разбойник, ругается. Услыхал крестник и думает: «Кроме Бога ни худого, ни доброго ни от кого мне не будет», и пошел к разбойнику навстречу. Видит, едет разбойник не один, а везет за собой на седле человека. А у человека и руки и рот завязаны. Молчит человек, а разбойник на него ругается. Подошел крестник к разбойнику, стал пред лошадью.
— Куда ты, — говорит, — этого человека везешь?
— А везу в лес. Это купцов сын. Не сказывает он, где отцовские деньги спрятаны. Буду я его до тех пор пороть, пока он скажет.
И хотел разбойник проехать. Да не пустил крестник, схватил лошадь за узду.
— Отпусти, — говорит, — этого человека.
Рассердился разбойник на крестника, замахнулся на него.
— Иль, — говорит, — и тебе того же хочется? Я тебе обещал, что убью. Пусти.
Не испугался крестник.
— Не пущу, — говорит. — Не боюсь я тебя, я только Бога боюсь. А Бог не велит пускать. Отпусти человека.
Нахмурился разбойник, выхватил нож, перерезал веревки, пустил купцова сына.
— Убирайтесь, — говорит, — вы оба, не попадайтесь в другой раз.
Соскочил купцов сын, побежал. Хотел разбойник проехать, да остановил его еще крестник; стал ему еще говорить, чтобы бросил он свою дурную жизнь. Постоял разбойник, выслушал всё, ничего не сказал и уехал.
На утро пошел крестник поливать головешки. Глядь, и другая проросла, — тоже яблонька растет.
XIII.
Прошло еще десять лет. Сидит раз крестник, ничего ему не хочется, ничего не боится, и радуется в нем сердце. И думает себе крестник: «Какая людям от Бога благодать! А мучают они себя понапрасну. Жить бы да жить им в радости». И вспомнил он про всё зло людское, как они себя мучают. И жалко ему стало людей. «Напрасно, — думает, — я так живу; пойти надо сказать людям, что я знаю».
Только подумал он и слышит — едет разбойник. Пропустил он его и думает: «С этим что и говорить, не поймет».
Подумал сперва так, а потом передумал, вышел на дорогу. Едет разбойник пасмурный, в землю смотрит. Поглядел на него крестник, и жалко ему стало, подбежал к нему, ухватил его за колено.
— Брат милый, — говорит, — пожалей свою душу! Ведь в тебе дух Божий. Мучаешься ты, и других мучаешь, и еще хуже мучаться будешь. А Бог тебя как любит, какую тебе благодать припас! Не губи ты себя, братец. Перемени свою жизнь.
Нахмурился разбойник, отвернулся. — Отстань, — говорит.
Обхватил крестник еще крепче разбойника за колено и слезами заплакал.
Поднял глаза разбойник на крестника. Смотрел, смотрел, слез с лошади и пал перед крестником на колена.
— Победил, — говорит, — ты меня, старик. Двадцать лет я с тобой боролся. Осилил ты меня. Не властен я теперь над собой. Делай со мной, что хочешь. Когда ты меня, — говорит, — в первый раз уговаривал, я только больше озлился.
А задумался я, — говорит, — над твоими речами только тогда, когда ты от людей уходил и узнал, что тебе самому от людей ничего не нужно.
И вспомнил крестник, что тогда только баба стол вымыла, когда ручник выполоскала: перестал он о себе заботиться, очистил сердце и стал другие сердца очищать.
И сказал разбойник:
— А повернулось во мне сердце тогда, когда ты смерти не побоялся.
И вспомнил крестник, что тогда только ободчики ободья 10 загибать стали, когда стуло утвердили: перестал он смерти бояться, утвердил свою жизнь в Боге и покорилось непокорное сердце.
И сказал разбойник.
— А растаяло во мне вовсе сердце, только когда ты пожалел меня и заплакал передо мною.
Обрадовался крестник, повел с собой разбойника к тому месту, где головешки были. Подошли они, а из последней головешки тоже яблоня выросла. И вспомнил крестник, что тогда загорелись сырые дрова у пастухов, когда разжегся большой огонь. Разгорелось в нем сердце и разожгло другое.
И обрадовался крестник тому, что он теперь грехи выкупил.
Сказал это всё разбойнику и помер. Похоронил его разбойник, стал жить, как велел ему крестник, и так людей учить.
————
РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН.
Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит, кличет его кто-то сзади. Оглянулся Емельян, видит — стоит красавица-девица и говорит ему:
— Что ты, Емельян, не женишься?
— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.
И говорит девица:
— Возьми меня замуж!
Полюбилась Емельяну девица.
— Я, — говорит, — с радостью, да где мы жить будем?
— Есть, — говорит девица, — о чем думать! Только бы побольше работать, да поменьше спать, — а то везде и одеты, и сыты будем.
— Ну, что ж, — говорит, — ладно. Женимся. Куда ж пойдем?
— Пойдем в город.
Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.
Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: «где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:
— Кто, — говорит, — ты?
— Мужика Емельяна жена, — говорит.
— Зачем ты, — говорит, — такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.
— Благодарю, — говорит, — на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.
Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, всё думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:
— Возьми ты, — говорят, — Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.
Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.
Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:
— Что ж, — говорит, — иди. День работай, а ночью ко мне приходи.
Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:
— Что ж ты один пришел, без жены?
— Что ж мне, — говорит, — ее водить: у нее дом есть.
Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял всё кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.
Пришел Емельян домой. А дома у него всё выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, тчет, мужа ждет. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.
— Да что, — говорит, — плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.
— А ты, — говорит, — не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Всё во-время поспеет.
Лег спать Емельян. На утро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь, к вечеру всё готово, засветло пришел домой ночевать.
Стали еще и еще набавлять работу Емельяну, и всё к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу, — что ни зададут, — всё делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:
— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а всё ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучать, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?
Стали царские слуги оправдываться.
— Мы, — говорят, — всеми силами старались его сперва черной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали: у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, всё делает. Не иначе, как либо в нем самом, либо в жене его — колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.
Послал царь за Емельяном.
— Ну, — говорит, — вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтрему к вечеру готово было. Построишь, — я тебя награжу, а не построишь, — казню.
Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, — думает, — пришел мой конец теперь». Пришел домой к жене и говорит:
— Ну, — говорит, — собирайся, жена: бежать надо, куда попало, а то ни за что пропадем.
— Что ж, — говорит, — так заробел, что бежать хочешь?
— Как же, — говорит, — не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозится голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.
Не приняла жена этих речей.
— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.
— Да как же слушаться, когда не по силам?
— И... батюшка! не тужи, поужинай, да ложись: на утро вставай пораньше, всё успеешь.
Лег Емельян спать. Разбудила его жена.
— Ступай, — говорит, — скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.
Пошел Емельян в город, приходит, — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру всё исправил.
Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.
Опять призывает царь своих слуг:
— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала — говорит — и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню.
И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.
— Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было всё по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.
Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.
— Что, — говорит жена, — опечалился, или еще новое что царь заказал?
Рассказал ей Емельян.
— Надо, — говорит, — бежать.
А жена говорит:
— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.
— Да как слушаться-то?
— И... — говорит, — батюшка, — ни о чем не тужи. Поужинай, да спать ложись. А вставай пораньше, всё будет к поре.
Лег Емельян спать. По утру разбудила его жена.
— Иди, — говорит, — ко дворцу, всё готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сравняй.
Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал равнять.
Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом равняет. Ужаснулся царь; и не рад он и реке, и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?
Призвал слуг своих, стал с ними думать.
— Придумайте, — говорит, — мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.
Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:
— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда, — не знай куда, и принеси того, — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно и жену его взять.
Обрадовался царь.
— Это, — говорит, — вы умно придумали.
Послал царь за Емельяном и сказал ему:
— Поди туда, — не знай куда, принеси того, — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову.
Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.
— Ну, — говорит, — на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.
Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу: — Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только не надолго. Если всё сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.
Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенце.
— Вот это, — говорит, — ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.
Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. Постоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:
— Не знаете ли, братцы, где идти туда, — не знай куда, и как принести того, — не знай чего.
Услыхали это солдаты и удивились.
— Кто, — говорят, — тебя послал искать?
— Царь, — говорит.
Мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда, не знай куда, да не можем дойти, и ищем того, — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.
Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него.
— Чего пришел?
Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда, — не знай куда, принести того, — не знай чего.
Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:
— Дошло, видно, время. Ну, ладно, — говорит, — садись сынок, поешь.
Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:
— Вот, тебе, — говорит, — клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.
— Как же я, бабушка, его узнаю?
— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, чтò надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо», да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.
Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил, — привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, — слышит отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын:
— Рано еще, — говорит, — успею.
Слышит, — мать с печки говорит:
— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.
Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, чтò то такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.
Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.
— Барабан, — говорят.
— А что же он, — пустой?
— Пустой, — говорят.
Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.
Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда, — не знай куда, принес того, — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра придти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.
— Я, — говорит, — нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.
Вышел царь.
— Где, — говорит, — ты был?
Он сказал.
— Не там, — говорит. — А что принес?
Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.
— Не то, — говорит.
— А не то, — говорит, — так разбить ее надо, и чорт с ней.
Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось всё войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.
— Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и оскретки в реку бросить.
Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку, — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом.
И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить, поживать, добро наживать, а худо — проживать.
СТАТЬИ
О ПЕРЕПИСИ В МОСКВЕ.
Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастие людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук.
Особенность в том, что социологические исследования не производятся учеными по своим кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а двумя тысячами людей из общества. Другая особенность та, что исследования других наук производятся не над живыми людьми, а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель всякой другой науки есть только знание, а здесь благо людей. Туманные пятна можно исследовать одному, а для исследования Москвы нужно 2000 людей. Цель исследования туманных пятен только та, чтобы узнать все про туманные пятна; цель исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам всё равно — исследуют их или нет, и они ждали и еще долго готовы ждать; но жителям Москвы не всё равно, особенно тем несчастным, которые «оставляют самый интересный предмет науки социологии.
Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормицы человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия и после небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и проходит дальше.
И так будут ходить 2000 молодых людей. Это нехорошо.
Наука делает свое дело, и обществу, призванному в лице 2000 молодых людей содействовать науке, надо делать свое. Статистик, делающий вывод из цифр, может быть равнодушным к людям, но мы, счетчики, видящие этих людей и не имеющие никаких научных увлечений, не можем относиться к ним не по-человечески. Наука делает свое дело и для своих целей в далеком будущем делает дело полезное и нужное для нас. Для людей науки возможно спокойно сказать, что в 1882 году столько-то нищих, столько-то проституток, столько-то детей без призору. Она может это сказать спокойно и с гордостью, потому что знает, что утверждение этого факта ведет к тому, что уясняются законы социологии, а уяснение законов ведет к тому, что общества учреждаются лучше. Но что же если мы, люди не науки, скажем: вы погибаете в разврате, вы умираете с голоду, вы чахнете и убиваете друг друга — так вы этим не огорчайтесь; когда вы все погибнете и еще сотни тысяч таких же, как вы, тогда, может быть, наука устроит всё прекрасно. Для людей науки перепись имеет свой интерес; для нас она имеет свое, совсем другое значение. Для общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится всё общество и каждый из нас.
Цифры и выводы будут зеркало. Можно не читать их, как можно отвернуться от зеркала. Можно мельком взглянуть в цифры и в зеркало, можно поглядеться и близко. Походить по переписи, как делают теперь тысячи людей, это — близко поглядеться в зеркало.
Что такое для нас, москвичей, не людей науки, совершающаяся перепись? Это две вещи. Во-первых, то, что мы наверно узнаем, что среди нас, среди десятков тысяч, проживающих десятки тысяч, живут десятки тысяч людей без хлеба, одежи и приюта; во-вторых, то, что наши братья, сыновья будут ходить смотреть это и спокойно заносить по графам, сколько умирающих с голода и холода.
И то и другое очень дурно.
Все кричат о шаткости нашего общественного строя, об исключительном положении, о революционном настроении. Где корень всего? На что указывают революционеры? — На нищету, неравномерность распределения богатств. На что указывают консерваторы? — На упадок нравственных основ. Если справедливо мнение революционеров, что же надо сделать? — Уменьшить нищету и неравномерность богатств. Как это сделать? — Богатым поделиться с бедными. Если справедливо мнение консерваторов, что всё зло от упадка нравственных основ, то что может быть безнравственнее и развратительнее, как сознательно равнодушное созерцание людских несчастий с одною целью записывать их? Что ж надо сделать? Надо к переписи присоединить дело любовного общения богатых, досужных и просвещенных — с нищими, задавленными и темными.
Наука делает свое дело, давайте и мы сделаем свое. Сделаем вот что. Во-первых, мы все, занятые переписью, руководители, счетчики, уясним себе хорошенько то, что мы делаем, уясним себе хорошенько то, над чем и для чего мы делаем исследования. Над людьми, и для того, чтобы люди были счастливы. Как бы кто ни смотрел на жизнь, всякий согласен, что важнее ничего нет человеческой жизни, и дела нет более важного, как устранить препятствия для развития этой жизни, помочь ей.
В Евангелии с поразительной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для всех выражена та мысль, что отношения людей к нищете, страданиям людским есть корень, основа всего.
«Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил», то есть сделал дело для того, что важнее всего в мире.
Как ни смотри человек на вещи, всякий знает, что это важнее всего в мире.
И это надо не забывать и не позволять никаким другим соображениям заслонять от нас важнейшее дело нашей жизни. Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук; что если бы был вопрос в том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, — пропадай вся перепись, только бы накормить старуху! Длиннее, труднее будет перепись, но в бедных кварталах мы не можем проходить людей, только переписывая их, не заботясь о них и не пытаясь, по мере сил и нравственной чуткости нашей, помочь им. Это во-первых. Во-вторых, вот что надо сделать: мы все, не принимающие участия в переписи, давайте не сердиться на то, что нас тревожат; поймемте, что эта перепись очень полезна для нас; что если это не лечение, то это, по крайней мере, попытка исследования болезни, за которую нам надо быть благодарными и по случаю которой нам надо хоть немножко постараться оздоровить себя. Давайте мы все, переписываемые, постараемся воспользоваться тем единственным случаем в 10 лет немножко пообчиститься; давайте не противодействовать, а помогать переписи, и помогать ей именно в том смысле, чтобы она не имела один жестокий характер обследования безнадежного больного, а имела характер лечения и выздоровления. Ведь случай единственный: 80 человек энергичных, образованных людей, имея под рукой 2000 человек таких же молодых людей, обходят всю Москву и не оставят ни одного человека в Москве, не войдя с ним в личные сношения. Все язвы общества, язвы нищеты, разврата, невежества — все будут обнажены. Что ж, неужели успокоиться на этом? Счетчики пройдут по Москве, безразлично занесут в списки с жиру бесящихся, довольных и спокойных, погибающих и погибших, и завеса закроется. Счетчики — наши братья, сыновья-юноши увидят всё это, скажут: «да, очень безобразна наша жизнь и неизлечима» и с этим сознанием будут вместе с нами продолжать жить, ожидая исправления зла от той или другой внешней силы. А погибшие будут продолжать умирать в погибели, а погибающие будут продолжать погибать. Нет, давайте лучше поймем, что у науки свое дело, а у нас, по случаю переписи, свое дело, и не дадим закрыться поднятой завесе, а воспользуемся случаем, чтобы устранить величайшее зло разобщения между нами и нищими и установить общение и дело исправления зла, несчастий, нищеты и невежества и еще большего нашего несчастия — равнодушия и бесцельности нашей жизни.
Я слышу уже привычное замечание: «всё это очень хорошо, всё это громкие фразы; но вы скажите, что и как делать!» Прежде чем сказать, что делать, необходимо еще сказать, чего не делать. Прежде всего, для того чтобы из этой деятельности общества вышло дело, необходимо, по-моему, чтобы не составлялось никакого общества, чтобы не было никакой гласности, не было собирания денег балами, базарами и театрами, чтобы не было публикаций: князь А. пожертвовал 1000 р., а почетный гражданин Б. 3000; не было бы никакого собрания, никакой отчетности и никакого писания, — главное, никакого писания, чтобы не было и тени какого-нибудь учреждения, ни правительственного, ни филантропического.
Делать же, по-моему, теперь, сейчас, вот что. Первое: всем тем, которые согласны со мной, пойти к руководителям, спросить у них в участке беднейшие кварталы, беднейшие помещения и вместе с счетчиками 23, 24 и 25 числа ходить по этим кварталам, входя в сношения с живущими в них, и удержать эти сношения с людьми, нуждающимися в помощи, и работать для них.
Второе: руководителям и счетчикам обращать внимание на жителей, требующих помощи, и работать для них самим и указывать их тем, которые захотят работать на них. Но у меня спросят: что значит работать на людей? Отвечу: делать добро людям. Не давать деньги, а делать добро людям. Под словами «делать добро» понимается обыкновенно — давать деньги. Но, по моему понятию, делать добро и давать деньги — есть не только не одно и то же, но две вещи совсем разные и, большей частью, противоположные. Деньги сами по себе зло. И потому кто дает деньги, тот дает зло. Заблуждение это, что давать деньги — значит делать добро, произошло оттого, что, большей частью, когда человек делает добро, то он освобождается от зла и в том числе и от денег. И потому давать деньги есть только признак того, что человек начинает избавляться от зла. Делать добро — значит делать то, что хорошо для человека. А чтобы узнать, что хорошо для человека, надо стать с ним в человеческие, т. е. дружеские отношения. И потому, чтобы делать добро, не деньги нужны, а нужна прежде всего способность хоть на время отречься от условности нашей жизни; нужно не бояться запачкать сапоги и платье, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговориться с ним по душе так, чтобы он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь на самого себя. А чтобы это было, нужно, чтобы человек находил бы смысл жизни вне себя. Вот что нужно, чтобы было добро, и вот что трудно найти.
Когда мне пришла мысль о помощи при переписи, я поговорил кое с кем из богатых об этом, и я видел, как рады были богатые случаю так прилично избавиться от своих денег, этих чужих грехов, которые они берегут у себя на сердце. «Возьмите, пожалуйста, говорили мне, 300 рублей, 500 рублей, но я сам или сама не могу итти в эти трущобы». Не в деньгах недостаток. Вспомните евангельского Закхея, начальника мытарей. Вспомните, как он, оттого что был мал ростом, влез на дерево смотреть Христа, и когда Христос объявил, что идет к нему, как он, поняв только одно, что учитель не хвалит богатство, кубарем соскочил с дерева, побежал домой и устроил угощение. И как только вошел Христос, так первым делом Закхей объявил, что половину имения даст нищим, а кого обидел, тому вчетверо отдаст. И вспомните, как мы все, читая Евангелие, низко ценим этого Закхея, невольно с презрением смотрим на эту половину имения и четверное вознаграждение. И чувство наше право. Закхей, по рассуждению, казалось бы, сделал огромное дело. Но чувство наше право. Он еще не начинал делать добро. Он только начал немного очищаться от зла. Так и сказал ему Христос. Он сказал ему только: ныне пришло спасение дому сему.
Что если бы московские Закхеи сделали то же, что он? Ведь собрался бы не один миллиард. Ну и что же бы было? — Ничего. Еще бы больше греха, если бы вздумали раздавать эти деньги бедным. Денег не нужно. Нужна деятельность самоотверженная, нужны люди, которые хотели бы делать добро, отдавая не чужие грехи — деньги, а свой труд, себя, свою жизнь. Где ж эти люди? А вот они, по Москве ходят. Это — самые счетчики-студенты. Я видел, как они записывают свои карточки. Он пишет в ночлежном доме на нарах у больного. «Чем болен?» — «Воспой». И студент не морщится и пишет. И это он делает для какой-то сомнительной науки. Что же бы он сделал, если бы он делал это для несомненного своего личного добра и добра всех людей?
Как детям в веселом духе хочется хохотать, они не умеют придумать, чему бы хохотать, и хохочут без всякого предлога, потому что им весело, так эта милая молодежь жертвует собой. Она еще не успела придумать, за что бы им жертвовать собой, а жертвует своим вниманием, трудом, жизнью, затем, чтобы записать карточку, из которой еще выйдет или не выйдет что-нибудь. Что же бы было, если бы было такое дело, которое того стоило? Есть и было и всегда будет это дело, и одно дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой, для того чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней.
Перепись выводит перед глазами нас, достаточных и так называемых просвещенных людей, всю ту нищету и задавленность, которая таится во всех углах Москвы. 2000 людей из нашего брата, стоящих на высшей ступени лестницы, станут лицом к лицу с тысячами людей, стоящих на низшей ступени общества. Не упустим случая этого общения. Через этих 2000 людей сохраним это общение и употребим его на то, чтобы избавиться самим от бесцельности и безобразия нашей жизни и избавить обделенных от тех бед и несчастий, которые чутким людям из нас не дают спокойно радоваться нашим радостям.
Я предлагаю вот что: 1) всем нам, руководителям и счетчикам, к делу переписи присоединить дело помощи — работы для добра тех людей, по нашему понятию требующих помощи, которые встретятся нам; 2) всем нам, руководителям и счетчикам, не по назначению комитета думы, а по назначению своего сердца остаться на своих местах, т. е. в отношениях к жителям, нуждающимся в помощи, и по окончании дела переписи продолжать дело помощи. Если я сумел высказать хоть немного то, что я чувствую, то я уверен, что только невозможность заставит руководителей и счетчиков бросить это дело и что на место отставших от этого дела явятся другие; 3) всем тем жителям Москвы, чувствующим себя способными работать для нуждающихся, присоединиться к участкам и, по указаниям счетчиков и руководителей, начать деятельность теперь же и потом продолжать ее; 4) всем тем, которые по старости, слабости или другим причинам не могут сами работать среди нуждающихся, поручать работу своим близким, молодым, сильным, охочим. (Добро не есть давание денег, оно есть любовное отношение людей. Оно одно нужно.)
Что бы ни вышло из этого, всё будет лучше того, что теперь.
Пусть будет самое последнее дело, что мы, счетчики и руководители, раздадим сотню двугривенных тем, которые не ели, — и это будет не мало, не столько потому, что не евшие поедят, сколько потому, что счетчики и руководители отнесутся по-человечески к сотне бедных людей. Как счесть, какие последствия произойдут в общенравственном балансе оттого, что вместо чувства досады, злобы, зависти, которые мы возбудим, пересчитывая голодных, мы возбудим сто раз доброе чувство, которое отразится на другом, на третьем и бесконечной волной пойдет разливаться между людьми. И это много! Пусть будет только то, что те из 2000 счетчиков, которые не понимали этого прежде, поймут, что, ходя среди нищеты, нельзя говорить: это очень интересно; что человеку несчастие другого человека должно отзываться не одним интересом; и это будет хорошо.
Пусть будет то, что будет подана помощь всем тем несчастным, которых не так много, как я думал прежде, в Москве, которым можно помочь легко почти одними деньгами. Пусть будет то, что те рабочие, зашедшие в Москву и проевшие с себя одежу и не могущие вернуться в деревню, будут отправлены домой, что сироты заброшенные будут призрены, что ослабевшие старики и старухи нищие, живущие на милосердие товарищей нищих, будут избавлены от полуголодной смерти. (А это очень возможно. Таких не очень много.) И это будет уж очень, очень много. Но почему не думать и не надеяться, что будет сделано и еще и еще больше? Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится всё зло, но будет сознание его и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем.
Что бы ни сделано было, всё будет много. Но почему же не надеяться, что будет сделано всё? Почему не надеяться, что мы сделаем то, что в Москве не будет ни одного раздетого, ни одного голодного, ни одного проданного за деньги человеческого существа, ни одного несчастного, задавленного судьбой человека, который бы не знал, что у него есть братская помощь? Не то удивительно, чтобы этого не было, а то удивительно, что это есть рядом с нашим излишком досуга и богатств и что мы можем жить спокойно, зная, что это есть. Забудемте про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и сердцу, и не может быть, если мы живые люди. Почему не надеяться, что мы поймем, что нет у нас ни одной обязанности, не говоря уже личной, для себя, ни семейной, ни общественной, ни государственной, ни научной, которая бы была важнее этой? Почему же не думать, что мы наконец поймем это? Разве только потому, что делать это было бы слишком большое счастие. Почему не думать, что когда-да-нибудь люди проснутся и поймут, что всё остальное есть соблазн, а это одно — дело жизни. И почему же это «когда-то» не будет теперь и в Москве? Почему не надеяться, что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен; это значит, что клеточки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: она вытесняет мертвые, запирает живой преградой зараженные, сообщает жизнь отживавшим, и тело воскресает и живет полной жизнью.
Отчего же не думать и не надеяться, что клеточки нашего общества оживут и оживят организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его.
Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому, когда 1000 человек раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек помочь им, и у него сердце обольется кровью, и он с отчаянием и злобой на людей убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек еще тысяча человек с желанием помочь, и дело окажется легким и радостным. Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, —не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!
**** ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай неимущему; и у кого есть пища, делай то же.
(Луки III, 10, 11.)Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло.
Если же око твое будет худо, то всё тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, чтò вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники; и потому что Отец ваш небесный знаетъ, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и это всё приложится вам. (Мтф. 19—25, 31—34.)
Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие.
(Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25.)I.
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских.
Нищие эти — не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая пли пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вамп, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но всё-таки не понял их положения.
Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:
— За что?
Городовой ответил мне:
— За прошение милостыни.
— Разве это запрещено?
— Стало быть, запрещено, — ответил городовой.
Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.
Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:
— За что взяли этого мужика?
Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:
— Вам какое дело? — Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: — начальство велит забирать таких; стало быть, надо.
Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:
— Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?
Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:
— Начальство велит — значит, так надо, — и вновь занялся своей книжкой.
Я сошел на крыльцо к извозчику.
— Ну, что? взяли? — спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.
— Взяли, — отвечал я.
Извозчик покачал головой.
— Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? — спросил я.
— Кто их знает! — сказал извозчик.
— Как же это, — сказал я, — нищий Христов, а его в участок ведут?
— Нынче уж это оставили, не велят, — сказал извозчик.
После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.
Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городовые. Я спросил:
— За что?
— За прошение милостыни.
Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.
Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?
Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.
Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал по улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой — мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, — калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.
Почему те работают, а эти просят?
Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. Сначала нашли работу — резать старье в дрова. Перерезали всё с товарищем у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется так вторую неделю, проел всё, что было, —ни пилы, ни колуна не на что купить. Я даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.
— Смотри же, приходи. Там работы много.
— Приду, как не прийти! Разве охота, —говорит, —побираться. Я работать могу.
Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет намерение прийти.
На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. — Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; всё это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.
II.
Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: «О! это еще ничего — всё то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую «золотую роту». Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордясь передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.
И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. «Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» говорил один голос. «Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это», говорил другой голос.
И вот в декабре месяце третьего года, в морозный и ветряный день, я пошел к этому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в четвертом. Уже идя по Солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви, людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему.
В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, всё в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось всё таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле.
После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу, и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы всё такие же люди. С правой стороны входной двери — женщины, с левой — мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого дожидались эти люди, был Лялинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял.
Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты — человек из другого мира — остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, — человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы, — говорит, — нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте Богу, — не ел два дня», сказал он робко с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. «Говорят, в четверг будет обход, — сказал он, — тогда заберут. Только бы до четверга добиться». (Острог и этап представляются для него обетованной землей.)
Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.
Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки, и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, — всё это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство — хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал всё, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом.
Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах —мужские, в нижних — женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в два этажа — наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем. Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там всё, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распоряжавшимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя и всё, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.
В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось, Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.
Я должен быть согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.
Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.
Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастия останутся такие же.
И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что всё это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.
Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье; я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакнуть этой моей глупости.
— Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, — говорили мне. — Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но... у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех... Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.
Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.
Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, — не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел всё это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти всё то же, что написал в своей статье).
Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным итти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено всё, что только можно, что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это одно действительное средство, но что это очень трудно.
Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.
Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, всё-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.
Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя.
В глубине души я продолжал чувствовать, что всё это не то, что из этого ничего не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.
IV.
Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом, или Ржановская крепость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же принадлежат Зиминым. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок.
Желание мое было исполнено.
Получив распоряжение Думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость.
Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; по виду этого дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость.
Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборванные и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной.
— Вишь, — сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, — только баловаться! Такие же ржановцы, как отцы, будут.
Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и остановился.
— Что ругаешься? — закричал он на старуху. — Сама ржановская козюлиха!
Я спросил у мальчика:
— А вы тут живете?
— Да, и она тут. Она голенищи украла! — крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше.
Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками (в одной была связка с одним маленьким калачем и баранками), шел по середине улицы белый, как лунь, старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.
— Я вас, чертенята, у! — крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар.
Старик этот на Арбате поражает своею старостью, слабостью и нищетой. Здесь это был веселый работник, возвращающийся с дневного труда.
Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя весь дом и ворота, скрылся в двери трактира.
На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей: трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это — самая Ржанова крепость. Всё здесь серо, грязно, вонюче — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел всё строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево от меня, наверху, на деревянной галлерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галлереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.
— Не уйдешь! — проговорил он смеясь.
— Вишь, косоглазый чорт! — начала женщина, очевидно польщенная этим преследованием, но увидала меня и злобно крикнула: — кого надо?
Так как мне никого не надо было, я смутился и ушел. Удивительного тут ничего не было; но случай этот, после того что я видел с той стороны двора ругающуюся старуху, веселого старика и катавшихся мальчишек, вдруг совершенно с новой стороны показал мне то дело, которое я затевал. А затевал я облагодетельствовать этих людей с помощью московских богачей. Я понял тут в первый раз, что у всех тех несчастных, которых я хотел благодетельствовать, кроме того времени, когда они, страдая от холода и голода, ждут впуска в дом, есть еще время, которое они на что-нибудь да употребляют, есть еще 24 часа каждые сутки, есть еще целая жизнь, о которой я прежде не думал. Я понял здесь в первый раз, что все эти люди, кроме желания укрыться от холода и насытиться, должны еще жить как-нибудь те 24 часа каждые сутки, которые им приходится прожить так же, как и всяким другим. Я понял, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, как ни странно это сказать, в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с таким же прошедшим, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, — такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его.
V.
В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, пришел к ним часов в 12. Я не мог придти раньше, потому что встал в 10, потом пил кофе и курил, ожидая пищеварения. Я пришел в 12 часов к воротам Ржановского дома. Городовой указал мне трактир с Берегового проезда, в который счетчики велели приходить всем, кто будет их спрашивать. Я вошел в трактир. Трактир очень темный, вонючий и грязный. Прямо стойка, налево комнатка со столами, покрытыми грязными салфетками, направо большая комната с колоннами и такие же столики у окон и по стенам. Кое-где у столов за чаем мужчины, оборванные и прилично одетые, как рабочие или мелкие торговцы, и несколько женщин. Трактир очень грязный; но сейчас видно, что трактир торгует хорошо. Деловитое выражение лица приказчика за стойкой и расторопная готовность молодцов. Не успел я войти, как уже один половой готовился снять пальто и подать, что прикажут. Видно, что заведена привычка спешной и отчетливой работы. Я спросил про счетчиков.
— Ваня! — крикнул маленький, по-немецки одетый человек, что-то устанавливающий в шкафу за стойкой.
Это был хозяин трактира, калужский мужик Иван Федотыч, снимающий и половину квартир Зиминских домов и сдающий их жильцам. Подлежал половой, мальчик лет 18, худой, горбоносый, с желтым цветом лица.
— Проводи барина к счетчикам; они в большой корпус, над колодцем, пошли.
Мальчик бросил салфетку и надел пальто сверх белой рубахи и белых штанов и картуз большой с козырьком и, быстро семеня белыми ногами, повел меня чрез задние двери с блоком. В сальной, вонючей кухне и сенях мы встретили старуху, которая бережно несла куда-то очень вонючую требуху в тряпке. Из сеней мы спустились на покатый двор, весь застроенный деревянными, на каменных нижних этажах, постройками. Вонь на всем дворе была очень сильная. (Центром этой вони был нужник, около которого всегда, сколько раз я ни проходил мимо него, торопились люди. Нужник не был сам местом испражнения, но он служил указанием того места, около которого принято было обычаем испражняться. Проходя по двору, нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело становилось, когда входил в едкую атмосферу отделяющегося от него зловония.)
Мальчик, оберегая свои белые панталоны, осторожно провел меня мимо этого места по замерзшим и незамерзшим нечистотам и направился к одной из построек. Проходившие по двору и по галлереям люди все останавливались посмотреть на меня. Очевидно, чисто одетый человек был в этих местах в диковинку.
Мальчик спросил одну женщину, не видала ли она, где счетчики, и человека три сразу отвечали на его вопрос; одни говорили: над колодцем, а другие говорили, что были, но вышли и пошли к Никите Ивановичу. Старик в одной рубахе, оправляющийся около нужника, сказал, что в 30-м номере. Мальчик решил, что это сведение самое вероятное, и повел меня в 30-й номер, под навес подвального этажа, в мрак и вонь, другую, чем та, которая была на дворе. Мы сошли вниз и пошли по земляному полу темного коридора. Когда мы проходили по коридору, одна дверь порывисто отворилась, и из нее высунулся пьяный старик в рубахе, вероятно не из мужиков. Человека этого с пронзительным визгом гнала и толкала прачка засученными мыльными руками. Ваня, мой провожатый, отстранил пьяного и сделал ему выговор.
— Не годится скандальничать так, — сказал он. — Еще офицер!
И мы пришли к двери 30-го номера. Ваня потянул ее. Дверь, чмокнув, отлипла, отворилась, и на нас пахнуло мыльными парами, едким запахом дурной еды и табаку, и мы вошли в совершенный мрак. Окна были на противоположной стороне, а тут шли дощатые коридоры направо и налево и дверки под разными углами в комнаты, неровно забранные крашеным водяной белой краской тесом. В темной комнате, налево, виднелась стирающая в корыте женщина. Из одной дверки направо выглядывала старушка. В другую отворенную дверь виден был обросший краснорожий мужик в лаптях, сидевший на нарах; он держал руки на коленях, помахивая ногами, обутыми в лапти, и мрачно смотрел на них.
В конце коридора была дверка, ведшая в ту комнатку, где были счетчики. Это была комнатка хозяйки всего 30-го номера; она снимала весь номер от Ивана Федотыча и сдавала его уже жильцам и ночлежникам. В этой крошечной ее комнатке, под фольговым образом, сидел студент-счетчик с карточками и, точно следователь, допрашивал мужчину в рубахе и жилете. Это был приятель хозяйки, за нее отвечавший на вопросы. Тут же была хозяйка, старая женщина, и двое любопытных из жильцов. Когда я вошел, то комната стала уже совершенно полна. Я протискался к столу. Мы поздоровались с студентом, и он продолжал свой опрос. А я стал оглядывать и опрашивать жителей этой квартиры для моей цели.
Оказалось, что в этой первой квартире я не нашел ни одного человека, на которого могла бы излиться моя благотворительность. Хозяйка, несмотря на поразившую меня после тех палат, в которых я живу, бедность, малость и грязь квартиры, жила достаточно сравнительно даже с городскими бедными жителями; в сравнении же с деревенской бедностью, которую я знал твердо, она жила роскошно. У ней была пуховая постель, стеганое одеяло, самовар, шуба, шкаф с посудой. Такой же достаточный вид имел и друг хозяйки. У него были часы с цепочкой. Жильцы были беднее, но не было ни одного такого, который бы требовал немедленной помощи. Просили помощи: стиравшая белье в корыте, брошенная мужем женщина с детьми, старушка-вдова без средств к жизни, как она сказала, и тот мужик в лаптях, который сказал мне, что он не ел нынче. Но по расспросам оказалось, что все эти лица не особенно нуждаются и что для того чтобы помочь им, надо с ними хорошенько познакомиться.
Когда я предложил женщине, брошенной мужем, поместить детей в приют, она смешалась, задумалась, очень благодарила, но, очевидно, не желала этого; она желала бы лучше денежное пособие. Старшая девочка помогает ей в стирке, а средняя няньчит мальчика. Старушка очень просилась в богадельню, но, оглядев ее угол, я увидал, что старушка не бедствует. У нее был сундучок с имуществом, был чайник с жестяным носком, две чашки и коробочки от монпансье с чаем и сахаром. Она вязала чулки и перчатки и получала месячное пособие от благотворительницы. Мужик же, очевидно, нуждался не столько в еде, сколько в похмелье, и всё, что ему бы дали, пошло бы в кабак. Так что в этой квартире не было таких, какими, я полагал, переполнен весь дом, таких, которых бы я мог осчастливить, дав им денег. А были бедные, как мне показалось, сомнительные. Я записал старушку, женщину с детьми и мужика и решил, что надо будет заняться и ими, но после того, как я займусь теми особенно несчастными, которых я ожидал встретить в этом доме. Я решил, что в помощи, которую мы будем подавать, нужна очередь: сначала самым несчастным, а потом уже этим. Но в следующей и следующей квартире было то же самое, всё такие, которых надо было подробнее исследовать, прежде чем помогать им. Несчастных же, таких, которым выдать деньги и они из несчастных сделались бы счастливыми, таких не было. Как ни совестно это мне сказать, я начал испытывать разочарование в том, что я не находил в этих домах ничего похожего на то, чего я ожидал. Я ожидал найти здесь особенных людей, но когда я обошел все квартиры, я убедился, что жители этих домов совсем не особенные люди, а точь в точь такие же люди, как и те, среди которых я жил. Точно так же как и среди нас, точно так же и между ними были более или менее хорошие, были более или менее дурные, были более или менее счастливые, были более или менее несчастные. Несчастные были точно такие же несчастные, как и несчастные среди нас, то есть такие несчастные, несчастие которых не во внешних условиях, а в них самих, несчастие такое, которое нельзя поправить какой бы то ни было бумажкой.
VI.
Жители этих домов составляют низшее городское население, такое, которого в Москве, вероятно, больше ста тысяч. Тут, в этом доме, есть представители этого населения всякого рода; тут маленькие хозяева и мастера, сапожники, щеточники, столяры, токари, башмачники, портные, кузнецы; тут извозчики, сами по себе живущие барышники и торговки, прачки, старьевщики, ростовщики, поденные и люди без определенных занятий, и тут же нищие и распутные женщины.
Здесь много тех самых людей, которых я видел у входа в Ляпинский дом, но эти люди разбросаны здесь между рабочим народом. Да и кроме того, тех я видел в самое их несчастное время, когда проедено и пропито всё, и они, холодные, голодные, гоняемые из трактиров, ждут, как манны небесной, впуска в бесплатный ночлежный дом и оттуда в обетованный острог для отправления на место жительства; здесь же я видел этих среди большинства рабочих и в то время, когда этим или другим средством приобретены 3 или 5 копеек на ночлег и иногда рубли для пищи и питья.
И, как ни странно это сказать, я не испытал здесь не только ничего похожего на то чувство, которое я испытал в Ляпинском доме, но, напротив, во время первого обхода, и я и студенты, мы испытывали чувство почти приятное. Да и зачем я говорю: «почти приятное»? Это неправда; чувство, вызванное общением с этими людьми, как ни странно это сказать, было прямо очень приятное чувство.
Первое впечатление было то, что большинство живущих здесь всё рабочие люди и очень добрые люди.
Большую половину жителей мы заставали за работой: прачек над корытами, столяров за верстаками, сапожников на своих стульях. Тесные квартиры были полны народом, и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочим потом, у сапожника кожей, у столяра стружками, слышалась часто песня и виднелись засученные мускулистые руки, быстро и ловко делавшие привычные движения. Встречали нас везде весело и ласково. Почти везде наше вторжение в обыденную жизнь этих людей не только не вызывало тех амбиций, желания показать свою важность и отбрить, которое появление счетчиков производило в большинстве квартир зажиточных людей, не только не вызывало этого, но, напротив, на все вопросы наши отвечали, как следовало, не приписывая им никакого особенного значения. Вопросы наши только служили для них поводом повеселиться и подшутить о том, как кого в счет класть, кого за двоих и где двоих за одного, и т. п.
Многих мы заставали за обедом или чаем и всякий раз, на привет наш: «хлеб да соль» или «чай да сахар», они отвечали: «просим милости» и даже сторонились, давая нам место. Вместо того притона постоянно переменяющегося населения, которое мы думали найти здесь, оказалось, что в этом доме было много квартир, в которых живут подолгу. Один столяр с рабочими и сапожник с мастерами живут по десяти лет. У сапожника было очень грязно и тесно, но народ весь за работой был очень веселый. Я попытался поговорить с одним из рабочих, желая выпытать от него бедственность его положения, задолжания хозяину, но рабочий не понял меня и с самой хорошей стороны отозвался о хозяине и о своей жизни.
На одной квартире жили старичок со старушкой. Они торгуют яблоками. Комнатка их тепла, чиста и полна добром. На полу постланы соломенные щиты (плетенки); они берут их в яблочном складе. Сундуки, шкаф, самовар, посуда. В углу образов много, теплятся две лампады; на стене завешаны простыней крытые шубы. Старушка с звездообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно, сама радуется на свое тихое, благообразное житье.
Иван Федотыч, хозяин трактира и квартир, пришел из трактира и ходил с нами. Он ласково шутил со многими хозяевами квартир, называя всех по имени и отчеству, и делал нам их краткие характеристики. Все были люди как люди — Мартыны Семеновичи, Петры Петровичи, Марьи Ивановны — люди, не считавшие себя несчастными, а считавшие себя и действительно бывшие людьми, как все люди.
Мы готовились увидать только одно ужасное. И вдруг вместо этого ужасного нам представилось не только не ужасное, но хорошее, такое, которое невольно вызывало наше уважение. И этих хороших людей было так много, что оборванные, погибшие, праздные люди, которые изредка попадались среди них, не нарушали главного впечатления.
Студентам это было не так поразительно, как мне. Они просто шли исполнять дело полезное, как они думали, для науки и между тем делали свои случайные наблюдения; но я был благотворитель — я шел с тем, чтобы помочь несчастным, погибшим, развращенным людям, которых я предполагал встретить в этом доме. И вдруг вместо несчастных, погибших, развращенных я видел большинство трудящихся, спокойных, довольных, веселых, ласковых и очень хороших людей.
Особенно живо почувствовалось это мною, когда я встречал в этих квартирах ту самую вопиющую нужду, которой я собирался помогать.
Когда я встречал эту нужду, я всегда находил, что она уже была покрыта, уже была подана та помощь, которую я хотел подать. Помощь эта была подана прежде меня и подана кем же? Теми самыми несчастными, развращенными созданиями, которых я собирался спасать, и подана так, как я бы не мог подать.
В одном подвале лежал одинокий старик, больной тифом. У старика никого не было. Женщина-вдова с девочкой, чужая ему, но соседка по углу, ходила за ним и поила его чаем и покупала на свои деньги лекарства. В другой квартире лежала женщина в родильной горячке. Женщина, жившая распутством, качала ребенка, делала ему соску и два дня не выходила на свой промысел и должность. Девочка, оставшаяся сиротой, была взята в семью портного, у которого своих было трое. Так что оставались те несчастные, праздные люди, чиновники, писаря, лакеи без мест, нищие, пьяницы, распутные женщины, дети, которым нельзя было помочь сразу деньгами, но которых надо было узнать хорошенько, обдумать и пристроить. Я искал просто несчастных, несчастных от бедности, таких, которым можно помочь, поделившись с ними нашим избытком, и, как мне казалось, по какой-то особенной неудаче, таких не попадалось, а всё попадались такие несчастные, которым надо посвятить много времени и заботы.
VII.
Несчастные, которых я записывал, сами собой разделились в моем представлении на три отдела, именно: люди, потерявшие свое прежнее выгодное положение и ожидающие возвращения к нему (такие люди были и из низшего и из высшего сословия); потом распутные женщины, которых очень много в этих домах, и третий отдел — дети. Больше всех я нашел и записал людей первого разряда, людей, потерявших прежнее выгодное положение и желающих возвратиться к нему. Людей таких, особенно из господского, чиновничьего мира, очень много в этих домах. Почти во всех квартирах, в которые мы входили с хозяином, Иваном Федотычем, он говорил нам: «тут можно не записывать самим квартирной карты; тут есть человек, который всё это может, если только он нынче не выпивши».
И Иван Федотыч вызывал по имени и отчеству этого человека, который и был всегда один из этих падших людей высшего состояния. На вызовы Ивана Федотыча где-нибудь из темного угла вылезал бывший богатый дворянин или чиновник, большею частью пьяный и всегда раздетый. Если он не был пьян, он всегда охотно брался за предлагаемое ему дело, значительно кивал головой, хмурил брови, вставлял свои замечания с учеными терминами и с осторожной нежностью держал в трясущихся грязных руках чистенькую печатную карту на красной бумаге и с гордостью и презрением оглядывался на своих сожителей, как бы торжествуя теперь перед ними, столько раз унижавшими его, свое превосходство образования. Он, видимо, радовался общению с тем миром, в котором печатаются карты на красной бумаге, с тем миром, в котором он сам был когда-то. Почти всегда на мои расспросы о его жизни человек этот не только охотно, но с увлечением начинал рассказывать затверженную, как молитву, историю про те несчастия, которым он подвергся и, главное, про то прежнее свое положение, в котором он по своему воспитанию должен бы был находиться.
Таких людей очень много разбросано по всех углам Ржановского дома. Одна же из квартир сплошь занята одними ими, мужчинами и женщинами. Когда мы еще подходили к ним, Иван Федотыч сказал нам: «ну, вот теперь дворянская». Квартира была вся полна: почти все, человек сорок, были дома. Более падших, несчастных и старых, обрюзгших, и молодых, бледных, растерянных лиц не было во всем доме. Я поговорил с некоторыми из них. Почти всё одна и та же история, только в разных степенях развития. Каждый из них был богат; или отец, или брат, или дядя его были или теперь еще богаты или отец его или сам он имели прекрасное место. Потом случилось несчастие, в котором виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вот он потерял всё и должен погибать в этой несвойственной, ненавистной ему обстановке — во вшах, оборванный, с пьяницами и развратниками, питаясь печенкой и хлебом и протягивая руку. Все мысли, желания, воспоминания этих людей обращены только к прошедшему. Настоящее представляется им чем-то неестественным, отвратительным и незаслуживающим внимания. У каждого из них нет настоящего. Есть только воспоминания прошедшего и ожидания будущего, которые могут всякую минуту осуществиться и для осуществления которых нужно очень малого, но этого-то малого нет, негде взять, и вот погибает напрасно жизнь — у одного первый год, у другого пятый, у третьего тридцатый. Одним нужно вот только одеться прилично, чтобы явиться к известному лицу, расположенному к нему; другому только одеться, расплатиться и доехать до Орла; третьему нужно выкупить только заложенное и хоть маленькие средства для продолжения процесса, который должен решиться в его пользу, и тогда всё будет опять хорошо. Они все говорят, что им нужно только что-то внешнее для того, чтобы снова стать в то положение, которое они считают для себя естественным и счастливым.
Если бы я не был отуманен своей гордостью добродетели, мне стоило бы только немножко вглядеться в их молодые и старые, большей частью слабые, чувственные, но добрые лица, чтобы понять, что несчастие их непоправимо внешними средствами, что они ни в каком положении не могут быть счастливы, если взгляд их на жизнь останется тот же, что они не какие-нибудь особенные люди, а люди, которыми мы окружены со всех сторон, какие мы сами. Я помню, что мне особенно тяжело было общение с этого рода несчастными. Теперь я понимаю, отчего это было: я в них, как в зеркале, видел самого себя. Если б я вдумался в свою жизнь и в жизнь людей нашего круга, я бы увидел, что между теми и другими нет существенной разницы.
Если те, которые вокруг меня живут теперь на больших квартирах и в своих домах на Сивцевом Вражке и на Дмитровке, а не в Ржановском доме, едят и пьют еще сладко, а не одну печенку и селедку с хлебом, то это не мешает им быть точно такими же несчастными. Точно так же они недовольны своим положением, жалеют о прошедшем и желают лучшего, и то лучшее положение, которого они желают, точно такое же, как и то, которого желают жители Ржановского дома, т. е. такое, при котором можно меньше трудиться и больше пользоваться трудами других. Разница только в степени и времени. Если б я вдумался тогда, я бы понял это; но я не вдумывался, а спрашивал этих людей и записывал их, предполагая, узнав подробности из разных условий и нужд, помочь им после. Я не понимал того, что помочь такому человеку можно только тем, чтоб переменить его миросозерцание. А чтобы переменить миросозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее миросозерцание и жить сообразно с ним, а у меня было такое же, как у них, и я жил сообразно с тем миросозерцанием, которое должно быть изменено для того, чтобы люди эти перестали быть несчастными.
Я не видел того, что люди эти несчастны не потому, что у них нет, так сказать, питательной пищи, а потому, что их желудок испортился и что они уж требуют не питательной, а раздражающей аппетит пищи, я не видел того, что, для того чтобы помочь им, надо им дать не пищу, а надо вылечить их испорченные желудки. Хоть этим я забегаю вперед, но скажу здесь, что из всех этих людей, которых я записал, я действительно не помог никому, несмотря на то, что для некоторых из них было сделано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло бы поднять их. Из них мне особенно известны три человека. Все три после многократных подъемов и падений теперь точно в таком же положении, в каком они были три года тому назад.
VIII.
Второй разряд несчастных, которым я тоже надеялся помочь после, были распутные женщины; таких женщин в Ржановском доме очень много всяких сортов — от молодых и похожих на женщин, до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий. Надежда эта на помощь этим женщинам, которую я сначала и не имел в виду, возникла во мне после следующего случая.
Это было в середине нашего обхода. У нас уже выработалась некоторая механическая сноровка обращения.
Входя в новое помещение, мы тотчас же спрашивали хозяина квартиры; один из нас садился, очищая себе какое-нибудь место для записывания, а другой ходил по углам и отдельно спрашивал каждого человека по углам квартиры и передавал эти сведения записывающему.
Войдя в одну из квартир подвального этажа, студент пошел отыскивать хозяина, а я стал опрашивать всех, бывших в квартире. Квартира расположена так: в середине квадратной в 6 аршин комнаты — печка. От печки идут звездой четыре перегородки, образующие четыре каморки. В первой, проходной каморке с четырьмя койками было два человека — старик и женщина. Прямо после этой — длинненькая каморка, в ней хозяин, молодой, в серую суконную поддевку одетый, благообразный, очень бледный мещанин. Налево от первого угла третья каморка, там один спящий, вероятно, пьяный мужчина и женщина в розовой блузе, распущенной спереди и стянутой сзади. Четвертая каморка за перегородкой, в нее ход из каморки хозяина.
Студент прошел в каморку хозяина, а я остановился во входной каморке и расспросил старика и женщину. Старик был мастеровой, печатник, теперь не имеет средств к жизни. Женщина — жена повара. Я прошел в третью каморку и спросил у женщины в блузе про спящего человека. Она сказала, что это гость. Я спросил женщину, кто она. Она сказала, что московская крестьянка.
— Чем занимаетесь?
Она засмеялась, не отвечая мне.
— Чем кормитесь? — повторил я, думая, что она не поняла вопроса.
— В трактире сижу, — сказала она.
Я не понял и вновь спросил:
— Чем вы живете?
Она не отвечала и смеялась. Из четвертой каморки, в которой мы еще не были, тоже засмеялись женские голоса. Мещанин, хозяин, вышел из своей каморки и подошел к нам. Он, очевидно, слышал мои вопросы и ответы женщины. Он строго посмотрел на женщину и обратился ко мне:
— Проститутка, — сказал он, очевидно довольный тем, что он знает это слово, употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его. И, сказав это, с чуть заметной почтительной улыбкой удовольствия, обращенной ко мне, он обратился к женщине. И как только он обратился к ней, так всё лицо его изменилось. Особенной презрительной скороговоркой, как говорят с собакой, не глядя на нее, он сказал ей:
— Что болтать зря: «в трактире сижу!» В трактире сидишь, значит, и говори дело, проститутка, — еще раз повторил он это слово. — Себе имени не знает, тоже...
Тон этот оскорбил меня.
— Нам ее срамить не приходится, — сказал я. — Кабы мы все по-божьи жили, и их бы не было.
— Да, уж это такое дело, — сказал хозяин, неестественно улыбаясь.
— Так нам их не укорять, а жалеть надо. Разве они виноваты?
Не помню, как я именно сказал, но помню, что меня возмутил презрительный тон этого молодого хозяина квартиры, полной женщинами, которых он называл проститутками, и мне жалко стало этой женщины, и я выразил и то и другое. Только что я сказал это, как из той каморки, из которой слышался смех, заскрипели доски кроватей, и над перегородкой, не доходившей до потолка, поднялась одна спутанная женская курчавая голова с маленькими запухшими глазами и глянцовито-красным лицом, а вслед за ней другая и еще третья. Они, видно, встали на свои кровати и все три вытянули шеи и, сдерживая дыхание, с напряженным вниманием, молча смотрели на нас.
Произошло смущенное молчание. Студент, улыбавшийся перед этим, стал серьезен; хозяин смутился и опустил глаза. Женщины все не переводили дыхания, смотрели на меня и ждали. Я был смущен более всех. Я никак не ожидал, чтобы случайно брошенное слово произвело такое действие. Точно поле смерти, усыпанное мертвыми костями, дрогнуло бы от прикосновения духа, а мертвые кости бы зашевелились. Я сказал необдуманное слово любви и сожаления, и слово это подействовало на всех так, как будто все только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Они все смотрели на меня и ждали, что будет дальше. Они ждали, чтоб я сказал те слова и сделал те дела, от которых кости бы эти стали сближаться, обростать плотью и оживляться. Но я чувствовал, что у меня нет таких слов, нет таких дел, которыми бы я мог продолжать начатое; я чувствовал в глубине души, что я солгал, что мне дальше говорить нечего, и я стал записывать в карточки имена и звания всех лиц в этой квартире. Этот случай навел меня на мысль о том, что можно помочь и этим несчастным. Мне тогда в моем самообольщении казалось, что это очень легко. Я говорил себе: вот мы запишем и этих женщин, и после мы (кто такие эти мы, я не отдавал себе отчета), когда всё запишем, займемся этим. Я воображал, что мы, те самые, которые приводили и приводим этих женщин в это состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и сейчас же поправим всё это. А между тем, хоть вспомнив только мой разговор с той распутной женщиной, которая качала ребенка больной родильницы, я бы мог понять всё безумие такого предположения.
Когда мы увидали эту женщину с ребенком, мы думали, что это ее ребенок. Она на вопрос, кто она, прямо сказала, что она девка. Она не сказала: проститутка. Только мещанин, хозяин квартиры, употребил это страшное слово. Предположение о том, что у нее есть ребенок, дало мне мысль вывести ее из ее положения. Я спросил:
— Это ребенок ваш?
— Нет, это вот той женщины.
— Отчего же вы его качаете?
— Да просила; она умирает.
Хотя предположение мое оказалось несправедливым, я продолжал говорить с нею в том же духе. Я стал расспрашивать ее, кто она и как попала в такое положение. Она охотно и очень просто рассказала мне свою историю. Она московская мещанка, дочь фабричного. Она осталась сиротой, ее взяла тетка. От тетки и пошла ходить по трактирам. Тетка теперь умерла. Когда я ее спросил, не хочет ли она переменить жизнь, вопрос мой, очевидно, нисколько даже не заинтересовал ее. Как же может интересовать человека предложение чего-нибудь совершенно невозможного? Она усмехнулась и сказала:
— Да кто ж меня возьмет с желтым билетом?
— Ну да если бы найти место в кухарки или куда? — сказал я.
Мне пришла эта мысль потому, что она женщина сильная, русая, с добрым и глуповатым, круглым лицом. Такие бывают кухарки. Мои слова, очевидно, ей не понравились. Она повторила:
— Кухарки? Да я не умею хлебы-то печь, — сказала она и засмеялась. Она сказала, что не умеет, но я видел по выражению ее лица, что она и не хочет быть кухаркой, что она считает положение и звание кухарки низкими.
Женщина эта, самым простым образом пожертвовавшая, как евангельская вдова, всем, что у ней было, для больной, вместе с тем, так же как и другие ее товарки, считает положение рабочего человека низким и достойным презрения. Она воспиталась так, чтобы жить не работая, а тою жизнью, которая считается для нее естественной ее окружающими. В этом ее несчастие. И этим несчастием она попала и удерживается в своем положении. Это привело ее сидеть в трактире. Кто же из нас — мужчин или женщин — будет исправлять ее от этого ее ложного взгляда на жизнь? Где среди нас те люди, которые убеждены в том, что всякая трудовая жизнь уважительнее праздной, — убеждены в этом и живут сообразно этому убеждению и сообразно этому убеждению ценят и уважают людей? Если б я подумал об этом, я бы мог понять, что ни я и никто из тех, кого я знаю, не может лечить от этой болезни.
Я бы мог понять, что эти высунувшиеся из-за перегородки, изумленные и умиленные головы выражали только изумление от высказанного к ним сочувствия, но никак не надежду на исправление их от безнравственности. Они не видят безнравственности своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за что их так презирают, им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства среди точно таких же женщин, которые, они знают очень хорошо, всегда были и есть, которые необходимы в обществе — так необходимы, что существуют правительственные чиновники, заботящиеся об их правильном существовании. Кроме того, они знают, что они имеют власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины. Они видят, что положение их в обществе, несмотря на то, что всегда их ругают, признается и женщинами, и мужчинами, и начальством, и потому не могут даже понять, в чем им раскаиваться и в чем им исправляться. В один из обходов студент рассказал мне, что в одной из квартир есть женщина, торгующая своей 13-тилетней дочерью. Желая спасти эту девочку, я нарочно пошел в эту квартиру. Мать и дочь живут в большой бедности. Мать маленькая, черненькая, лет сорока, проститутка, не только безобразная, но неприятно безобразная. Дочь такая же неприятная. На все мои окольные вопросы об их жизни мать недоверчиво и враждебно, коротко отвечала мне, очевидно чувствуя во мне врага, имеющего злые намерения; дочь ничего не отвечала, не взглянув на мать, и, очевидно, вполне доверялась матери. Жалости сердечной они не возбудили во мне, скорее отвращение. Но я решил, что надо спасти дочь — заинтересовать дам, сочувствующих жалкому положению этих женщин, и прислать сюда. Но если бы я подумал о всем том длинном прошлом матери, о том, как она родила, выкормила и воспитала эту дочь в своем положении, наверное, уже без малейшей помощи от людей и с тяжелыми жертвами, если бы я подумал о том взгляде на жизнь, который образовался у этой женщины, я бы понял, что в поступке матери нет решительно ничего дурного и безнравственного: она делала и делает для дочери всё, что может, т. е. то, что она считает лучшим для себя. Отнять насильно можно эту дочь от матери, но убедить мать, что она делает дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если уж спасать, то спасать надо было эту женщину-мать и гораздо прежде, спасать от того взгляда на жизнь, одобряемого всеми, при котором женщина может жить без брака, т. е. без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности. Если бы я подумал об этом, то я бы понял, что большинство тех дам, которых я хотел прислать сюда для спасения этой девочки, не только сами живут без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности, но и сознательно воспитывают своих девочек для этой самой жизни: одна мать ведет дочь в трактир, другая — ко двору или на балы. Но у той и у другой матери миросозерцание одно и то же, именно — что женщина должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и жалеть. Так как же наши дамы будут исправлять эту женщину и ее дочь?
IX.
Еще чуднее было мое отношение к детям. Я в роли благодетеля обращал внимание и на детей, желая спасать погибающие в этом вертепе разврата невинные существа, и записывал их, чтобы заняться ими после.
Из числа детей особенно поразил меня 12-тилетний мальчик Сережа. Этого умного, бойкого мальчика, жившего у сапожника и оставшегося без приюта, потому что хозяин его попал в острог, я пожалел от души и хотел сделать ему доброе.
Расскажу теперь, чем кончилось мое благотворение ему, потому что история с этим мальчиком лучше всего показывает мое ложное положение в роли благодетеля. Я взял мальчика к себе и поместил его на кухне. Нельзя же было вшивого мальчика из вертепа разврата взять к своим детям. Я и за то, что он стеснял не меня, а нашу прислугу на кухне, и за то, что кормил его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдал ему какие-то обноски надеть, считал себя очень добрым и хорошим. Мальчик пробыл с неделю. В эту неделю я раза два, проходя мимо него, сказал ему несколько слов и во время прогулки зашел к знакомому сапожнику, предлагая ему мальчика в ученики. Один мужик, гостивший у меня, звал его в деревню, в работники, в семью; мальчик отказался и через неделю исчез. Я пошел в Ржанов дом справиться о нем. Он вернулся туда, и в то время, как я приходил, его дома не было. Он второй день уже ходил на Пресненские пруды, где нанимался по 30 копеек в день в процессию каких-то дикарей, в костюмах водивших слона. Там представлялось что-то для публики. Я заходил и другой раз, но он, очевидно, избегал меня. Если бы я вдумался тогда в жизнь этого мальчика и в свою, я бы понял, что мальчик испорчен тем, что он узнал возможность веселой жизни без труда, что он отвык работать. И я, чтобы облагодетельствовать и исправить его, взял его в свой дом, где он видел что же? Моих детей и старше его, и моложе, и ровесников, которые никогда ничего для себя не только не работали, но всеми средствами доставляли работу другим: пачкали, портили всё вокруг себя, объедались жирным, вкусным и сладким, били посуду, проливали и бросали собакам такую пищу, которая для этого мальчика представлялась лакомством. Если я из вертепа взял его и привел в хорошее место, то он и должен был усвоить те взгляды, которые существуют на жизнь в хорошем месте; и по этим взглядам он понял, что в хорошем месте надо так жить, чтобы ничего не работать, а есть, пить сладко и жить весело. Правда, он не знал того, что дети мои несут тяжелые труды для изучения исключений латинской и греческой грамматики и не мог бы понять цели этих трудов. Но нельзя не видеть, что если бы он понял это, то воздействие на него примера моих детей было бы еще сильнее. Он понял бы тогда, что мои дети воспитываются так, чтобы, ничего не работая теперь, быть в состоянии и впредь, пользуясь своим дипломом, работать как можно меньше и пользоваться благами жизни как можно больше. Он и понял это и не пошел к мужику убирать скотину и есть с ним картошки с квасом, а пошел в зоологический сад в костюме дикого водить слона за 30 копеек.
Я мог бы понять, как нелепо было мне, воспитывающему своих детей в полнейшей праздности и роскоши, исправлять других людей и их детей, погибающих от праздности в называемом мною вертепом Ржановом доме, где однако три четверти людей работают для себя и для других. Но я ничего не понимал этого.
Детей в самом жалком положении было очень много в Ржановом доме: были дети и проституток, были сироты, были дети, носимые нищими по улицам. Все они были очень жалки. Но опыт мой с Сережей показал мне, что я, живя своей жизнью, не в состоянии помочь им. В то время как Сережа жил у нас, я заметил за собой старание скрыть от него нашу жизнь, в особенности жизнь наших детей. Я чувствовал, что все мои старания направить его на хорошую, трудовую жизнь уничтожались примерами жизни нашей и наших детей. Взять ребенка от проститутки, от нищей, очень легко. Очень легко, имея деньги, вымыть, вычистить его и одеть в чистое платье, откормить его и даже научить разным наукам, но научить его зарабатывать свой хлеб нам, не зарабатывающим свой хлеб, а делающим обратное, не только трудно, но невозможно, потому что мы и примером своим и даже теми материальными, ничего не стоящими нам улучшениями его жизни учим его противному. Щенка можно взять, выхолить, накормить и научить носить поноску и радоваться на него; но человека недостаточно выхолить, выкормить и научить по-гречески: надо научить человека жить, то есть меньше брать от других, а больше давать; а мы не можем не научить его делать обратное, возьмем ли мы его в свой дом или в учрежденный для этого приют.
X.
Того чувства сострадания к людям и отвращения к себе, которое я испытал в Ляпинском доме, я уже не испытывал; я весь был переполнен желанием исполнить затеянное мною дело — делать добро тем людям, которых я здесь встречу. И — странное дело! — казалось бы, делать добро — давать деньги нуждающимся — очень хорошее дело и должно располагать к любви к людям, выходило же наоборот: это дело вызывало во мне недоброжелательность и осуждение людей. В первый же обход вечером произошла сцена совершенно такая же, как и в Ляпинском доме, но сцена эта не произвела на меня того же впечатления, как в Ляпинском доме, а вызвала совсем другое чувство.
Началось это с того, что в одной из квартир я нашел именно такого несчастного, которому нужна была немедленная помощь. Я нашел голодную, не евшую два дня женщину.
Это было так: в одной очень большой, почти пустой ночлежной квартире я спросил у одной старушки, есть ли очень бедные здесь, такие, которым есть нечего. Старушка подумала и назвала мне двоих, а потом как будто вспомнила.
— Да вот, никак, здесь лежит, — сказала она, вглядываясь в одну из занятых коек, — так эта, я чай, и точно не ела.
— Неужели? Да кто она?
— Была распутная, теперь никто не берет, так и не откуда взять. Хозяйка жалела всё, а теперь согнать хочет... Агафья, а Агафья! — окликнула старуха.
Мы подошли, и на койке поднялось что-то. Это была полуседая, растрепанная, худая, как скелет, женщина в одной грязной, разорванной рубахе, с особенно блестящими и остановившимися глазами. Она смотрела остановившимися глазами мимо нас, ловила худой рукой за собой кофту, чтобы прикрыть открывшуюся из-за разорванной грязной рубахи костлявую грудь, и как бы взлаивала:
— Чего? Чего?
Я спросил ее, как она живет. Она долго не понимала и сказала:
— Я сама не знаю, гонят.
Я спросил ее, — совестно, рука не пишет, — я спросил ее, правда ли, что она не ела. Она той же лихорадочной скороговоркой сказала, всё не глядя на меня:
— Вчерась не ела и нынче не ела.
Вид этой женщины тронул меня, но совсем не так, как это было в Ляпинском доме: там мне от жалости к этим людям тотчас же стало стыдно за себя, здесь же я обрадовался тому, что нашел, наконец, то, чего искал, — голодного человека. Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это. Старушка, увидав это, попросила у меня тоже денег. Мне так было приятно давать, что я уже не разбирая, нужно или не нужно давать, дал и старушке. Старушка проводила меня за дверь, и стоявшие в коридоре люди слышали, как она благодарила меня. Вероятно, вопросы, которые я делал о бедности, возбудили ожидания, и за нами ходили некоторые. В коридоре еще у меня стали просить денег. Были из просящих очередные пьяницы, которые возбуждали во мне неприятное чувство; но я, раз дав старушке, не имел права отказывать и этим, и я стал давать. Пока я давал, подошли еще и еще.
И во всех квартирах произошло волнение. На лестницах и на галереях появились люди, следившие за мной. Когда я вышел на двор, с одной из лестниц быстро сбегал мальчик, проталкивая народ. Он не видал меня и быстро проговорил: «Агашке рублевку дал». Сбежав вниз, мальчик присоединился к толпе, шедшей за мной. Я вышел на улицу; разного рода люди шли за мной и просили денег. Я роздал, чтò было мелочью, и зашел в открытую лавочку, прося торговца разменять мне 10 рублей. И тут сделалось то же, что в Ляпинском доме. Тут произошла страшная путаница. Старухи, дворяне, мужики, дети жались у лавочки, протягивая руки; я давал и некоторых расспрашивал об их жизни и записывал в свою записную книжку. Торговец, заворотив внутрь меховые углы воротника своей шубы, сидел как истукан, изредка взглядывал на толпу и опять устремлял глаза мимо.
В Ляпинском доме меня ужаснула нищета и унижение людей, и я почувствовал себя в этом виноватым, почувствовал желание и возможность быть лучше. Теперь же точно такая же сцена произвела на меня совсем другое: я испытывал, во-первых, недоброжелательное чувство ко многим из тех, которые осаждали меня, и, во-вторых, беспокойство о том, что думают обо мне лавочники и дворники.
Вернувшись домой в этот день, мне было нехорошо на душе. Я чувствовал, что то, что я делал, было глупо. Но, как всегда бывает вследствие путаницы внутренней, я много говорил про затеянное дело, как будто нисколько не сомневался в его успехе.
На другой день я пошел один к тем из записанных мною лиц, которые мне показались жалче всех и которым легче, мне показалось, помочь. Как я говорил уже, никому из этих лиц я не помог. Помогать им оказалось труднее, чем я думал. И потому ли, что я не умел или нельзя, я только подразнил этих людей и никому существенно не помог. Я несколько раз до окончательного обхода был в Ржановом доме, и всякий раз происходило одно и то же: меня осаждала толпа просящих людей, в массе которых я совершенно терялся. Я чувствовал невозможность что-нибудь сделать, потому что их было слишком много, и потому чувствовал недоброжелательность к ним за то, что их так много; но, кроме этого, и каждый из них порознь не располагал к себе. Я чувствовал, что каждый из них говорит мне неправду или не всю правду и видит во мне только кошель, из которого можно вытянуть деньги. И очень часто мне казалось, что те самые деньги, которые он вымогает от меня, не улучшат, а ухудшат его положение. Чем чаще я ходил в эти дома, чем в большее общение входил с тамошними людьми, тем очевиднее мне становилось невозможным что-нибудь сделать, но я всё не отставал от своей затеи до последнего ночного обхода переписи.
Мне особенно совестно вспомнить этот последний обход. То я ходил один, а тут мы пошли 20 человек вместе. В 7 часов стали ко мне собираться все те, которые хотели участвовать в этом последнем ночном обходе. Это были почти всё незнакомые: студенты, один офицер и два моих светских знакомых, которые, сказав обычное «c’est très intéressant!»1 просили меня принять их в число счетчиков.
Светские знакомые мои оделись особенно, в какие-то охотничьи курточки и высокие дорожные сапоги, в костюм, в котором они ездили в дорогу, на охоту и который, по их мнению, подходил к поездке в ночлежный дом. Они взяли с собой особенные записные книжки и необыкновенные карандаши. Они находились в том особенно возбужденном состоянии, в котором собираются на охоту, на дуэль или на войну. На них яснее видна была глупость и фальшь нашего положения, но и все мы остальные были в таком же фальшивом положении. Перед отъездом произошло между нами совещание, в роде военного совета, о том, как, с чего начинать, как разделиться и т. п. Совещание было совершенно такое же, как в советах, собраниях и комитетах, т. е. каждый говорил не потому, что ему нужно было что-нибудь сказать или узнать, а потому, что каждый выдумывал, чтò бы и ему сказать, чтобы не отстать от других. Но в числе этих разговоров никто не упоминал о благотворительности, о которой я всем столько раз говорил. Как мне ни совестно было, я почувствовал, что мне необходимо опять напомнить о благотворительности, т. е. о том, чтобы во время обхода замечать и записывать всех тех, находящихся в бедственном положении, которых мы найдем во время этого обхода. И всегда мне было совестно говорить про это, но тут, среди нашего возбужденного приготовления к походу, я насилу мог это выговорить. Все выслушали меня, как мне показалось, с грустью, и при этом все согласились на словах, но видно было, что все знали, что из этого ничего не выйдет, и все опять тотчас же начали говорить о другом. Продолжалось это до тех пор, пока пришло время ехать, и мы поехали.
Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и не верили нам и, очевидно, готовы были на всё, как травленный зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли. Со мною были два светских человека и два студента. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах; и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет.
Мне было очень больно. В Ляпинском доме я был как человек, который случайно увидал страшную язву на теле другого человека. Ему жалко другого, ему совестно за то, что он прежде не пожалел его, и он еще может надеяться помочь больному, но теперь я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил его язву, развередил ее и должен сознаться перед собой, что всё это он сделал напрасно, что лекарство его не годится.
XI.
Это посещение нанесло последний удар моему самообольщению, мне стало несомненно, что затеянное мною не только глупо, но и гадко.
Но, несмотря на то, что я знал это, мне казалось, что я не мог тотчас же бросить всё дело; мне казалось, что я обязан продолжать еще это занятие, во-первых, потому, что я своей статьей, своими посещениями и обещаниями вызвал ожидание бедных; во-вторых, потому, что я тоже своей статьей, разговорами вызвал сочувствие благотворителей, из которых многие обещали мне содействие и личными трудами и деньгами. И я ожидал обращения к себе и тех и других с тем, чтобы, как я мог и умею, ответить на это.
Со стороны обращения ко мне нуждающихся произошло следующее: писем и обращений ко мне я получил более сотни; обращения эти были все от богатых бедных, если можно так выразиться. К некоторым из них я ходил, некоторых оставлял без ответа. Нигде я ничего не успел сделать. Все обращения ко мне были от лиц, находившихся когда-то в положении привилегированном (я называю так то положение, при котором люди больше получают от других, чем дают), потерявших его и вновь желающих занять его. Одному необходимо было 200 рублей, чтоб поддержать падающую торговлю и окончить начатое воспитание детей, другому фотографическое заведение, третьему — чтоб заплатить долги, выкупить приличное платье, четвертому нужно было фортепьяно, чтобы усовершенствоваться и уроками кормить свою семью. Большинство же, не определяя нужного количества денег, просило просто помочь, но когда приходилось вникать в то, что требовалось, то оказывалось, что потребности равномерно возрастали по мере помощи, и не было и не могло быть удовлетворения. Я повторяю, — очень может быть, что это произошло оттого, что я не умел; но я никому не помог, несмотря на то, что иногда старался сделать это.
Со стороны же содействия мне благотворителей произошло очень для меня странное и неожиданное. Изо всех тех лиц, которые обещали мне денежное содействие и даже определяли число рублей, ни один не передал мне для раздачи бедным ни одного рубля. По тем обещаниям, которые мне были даны, я мог рассчитывать тысячи на три рублей, и из всех этих людей ни один не вспомнил прежних разговоров и не дал мне ни одной копейки. Дали только студенты те деньги, которые причитались им за работу по переписи, кажется, 12 рублей. Так что вся моя затея, долженствовавшая выразиться в десятках тысяч рублей, пожертвованных богатыми людьми, в сотнях и тысячах людей, которые должны были быть спасены от нищеты и разврата, свелась на то, что я наобум роздал несколько десятков рублей тем людям, которые выпросили их у меня, и что у меня осталось на руках 12 рублей, пожертвованные студентами, и 25 рублей, присланные мне Думой за работу распорядителя, которые я решительно не знал, кому отдать.
Всё дело кончилось. И вот перед отъездом в деревню, в воскресенье под масляницу, я пошел в Ржанов дом утром, чтобы перед отъездом из Москвы освободиться от этих 37 рублей и раздать их бедным. Я обошел знакомых в квартирах и там нашел только одного больного человека, которому дал 5 рублей, кажется. Больше же там давать было некому. Разумеется, многие стали просить меня. Но я, как не знал их сначала, так не знал их и теперь, и решил, что я посоветуюсь с Иваном Федотычем, хозяином трактира, кому дать оставшиеся 32 рубля. Был первый день масляницы. Все были нарядны, все сыты и многие уже пьяны. На дворе, у угла дома, стоял в оборванном зипуне и лаптях старик-ветошник, бодрый еще, и, перебирая в корзине свою добычу, выкидывал по кучкам кожу, железо и другое и заливался прекрасным, сильным голосом веселою песнью. Я разговорился с ним. Ему 70 лет, он одинокий, кормится своим ремеслом ветошника и не только не жалуется, но говорит, что и сыт и пьян. Я спросил у него об особенно нуждающихся; он рассердился и прямо сказал, что никого нет нуждающихся, кроме пьяниц и лежебоков, но, узнав мою цель, попросил у меня пятачок на выпивку и побежал в трактир. Я тоже пошел в трактир к Ивану Федотычу, чтобы ему поручить раздать оставшиеся у меня деньги. Трактир был полон; нарядные пьяные девки сновали из двери в дверь; все столы были заняты; пьяных уже было много, и в маленькой комнатке играла гармония и плясали двое. Иван Федотыч велел из уважения ко мне прекратить пляску и подсел ко мне, к свободному столику. Я сказал ему, что, так как он знает своих жильцов, — не укажет ли он мне самых нуждающихся, что вот мне поручили раздать немного денег, так не укажет ли он? Добродушный Иван Федотыч (покойник, он умер через год после этого), хотя и был занят торговлей, отвлекся от нее на время, чтобы услужить мне. Он задумался и, очевидно, пришел в недоумение. Один пожилой половой слышал нас и вступил в совещание.
Они стали перебирать лиц, из которых и я знал некоторых, и всё не могли согласиться.
— Парамоновна, — предлагал половой.
— Да, так. Бывают и не емши. Да ведь загуливают.
— Ну, что ж? Всё-таки.
— Ну, Спиридону Ивановичу — дети. Это так.
Но Иван Федотыч и к Спиридону Ивановичу прибавил сомнение.
— Акулина, да она получает! Ну, вот нешто слепому.
На это уж я возразил. Я видел его сейчас. Это был слепой 80-ти лет, без роду и племени. Казалось бы, какое положение может быть тяжелее, а я сейчас видел его, он лежал на пуховиках высокой кровати, пьяный, и, не видя меня, страшным басом ругал самыми скверными словами свою относительно молодую сожительницу. Еще они назвали безрукого мальчика с матерью. Я видел, что Иван Федотыч очень затрудняется, именно по добросовестности, потому что знает, что теперь, что ни дадут, всё пойдет к нему же в трактир. Но мне надо было отделаться от моих 32 рублей, я настаивал и кое-как, именно с грехом пополам, мы распределили их и отдали. Те, которые получили их, были одеты большей частью хорошо, и ходить за ними не далеко было, — они были тут же, в трактире. Безрукий мальчик пришел в сапогах со складками, в красной рубахе и жилете.
Этим закончилась вся моя благотворительная деятельность, и я уехал в деревню, раздраженный на других, как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупо. Благотворительность моя сошла на-нет и совсем прекратилась, но ход мыслей и чувств, который она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа пошла с удвоенной силой.
XII.
Что же такое было?
Я жил в деревне и там имел отношения с деревенскими бедными. Не из смирения, которое паче гордости, но для того, чтобы сказать правду, которая необходима для понимания всего хода моих мыслей и чувств, говорю, что в деревне я делал очень мало для бедных, но требования, предъявляемые мне, были так скромны, что и это малое приносило пользу людям и образовывало вокруг меня атмосферу любви и единения с людьми, среди которой возможно было успокаивать грызущее чувство сознания незаконности своей жизни. Переехав в город, я надеялся жить точно так же. Но здесь я встретился с нуждою совсем другого свойства. Нужда городская была и менее правдива, и более требовательна, и более жестока, чем нужда деревенская. Главное же, ее было в одном месте так много, что она произвела на меня ужасное впечатление. Испытанное мною в Ляпинском доме впечатление в первую минуту заставило меня почувствовать безобразие моей жизни. Чувство это было искренно и очень сильно. Но, несмотря на искренность и силу его, я в первое время был настолько слаб, что испугался того переворота своей жизни, к которому призывало это чувство, и пошел на сделки. Я поверил тому, что мне говорили все, и тому, что говорят все с тех пор, что свет стоит, о том, что в богатстве и роскоши нет ничего дурного, что оно от Бога дано, что можно, продолжая жить богато, помогать нуждающимся. Я поверил этому и захотел это делать. И написал статью, в которой призывал всех богатых людей к помощи. Богатые люди все признали себя нравственно обязанными согласиться со мною, но, очевидно, или не желали или не могли ничего ни делать, ни давать для бедных. Я стал ходить по бедным и увидал то, чего я никак не ожидал. С одной стороны, я увидал в этих вертепах, как я называл их, людей таких, каким немыслимо было мне помогать, потому что они были рабочие люди, привыкшие к труду и лишениям и потому стоящие гораздо тверже меня в жизни; с другой стороны, я увидал несчастных, которым я не мог помогать, потому что они были точно такие же, как я. Большинство несчастных, которых я увидал, были несчастные только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлеб, т. е. их несчастие было в том, что они были такие же, как и я.
Таких же несчастных, которым можно было бы сейчас же помочь, больных, холодных, голодных, я никого не нашел, кроме одной голодной Агафьи. И я убедился, что при моем отдалении от жизни тех людей, которым я хотел помогать, найти таких несчастных было почти невозможно, потому что всякая истинная нужда всегда уже была покрыта теми же самыми людьми, среди которых живут эти несчастные, и, главное, я убедился в том, что деньгами не мог изменить той несчастной жизни, которую ведут эти люди. Я убедился во всем этом, но из ложного стыда бросить начатое, из-за самообольщения своей добродетелью я довольно долго продолжал это дело; продолжал его до тех пор, пока оно само сошло бы на нет, так что я насилу-насилу, кое-как отделался с помощью Ивана Федотыча в трактире Ржанова дома от тех 37 рублей, которые я считал не своими.
Конечно, я бы мог продолжать это дело и сделать из него подобие благотворительности; я бы мог, приставая к тем, которые обещали мне деньги, заставить их отдать им мне; мог бы собрать еще, мог бы раздавать эти деньги и утешаться своей добродетелью, но я видел, с одной стороны, что мы, богатые люди, и не хотим, да и не можем уделять бедным часть своего избытка (так много у нас своих нужд), что и давать деньги некому, если точно желать добра, а не желать только раздавать деньги кому попало, как я и сделал это в Ржановом трактире. И я бросил всё дело и с отчаянием в сердце уехал в деревню.
В деревне я хотел написать статью обо всем том, что я испытал, и рассказать, почему не удалось мое предприятие; мне хотелось и оправдаться в тех упреках, которые мне делали за мою статью о переписи, хотелось обличить и общество в его равнодушии, и хотелось высказать те причины, по которым зарождается эта городская бедность, и ту необходимость противодействия ей, и те средства, которые я для этого вижу.
Я тогда же начал статью, и мне казалось, что я скажу в ней очень много важного. Но сколько я ни бился над ней, несмотря и на обилие материала, несмотря на излишек его, от раздражения, под влиянием которого я писал, и оттого, что я не выжил всего того, что нужно было, чтобы правдиво отнестись к этому делу, и, главное, оттого, что я ясно и просто не сознавал причину всего этого, причину очень простую, коренившуюся во мне, я не мог справиться с статьей и так и не кончил ее до нынешнего года.
В области нравственной происходит одно удивительное, слишком мало замечаемое явление.
Если я расскажу человеку, не знавшему этого, то, что мне известно из геологии, астрономии, истории, физики, математики, человек этот получит совершенно новые сведения, и никогда не скажет мне: «Да что ж тут нового? Это всякий знает, и я давно знаю». Но сообщите человеку самую высокую, самым ясным, сжатым образом, так, как она никогда не выражалась, выраженную нравственную истину, — всякий обыкновенный человек, особенно такой, который не интересуется нравственными вопросами, или тем более такой, которому эта нравственная истина, высказываемая вами, не по шерсти, непременно скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и известно и сказано». Ему действительно кажется, что это давно и именно так сказано. Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как важно, драгоценно и каким длинным трудом достигается уяснение, упрощение нравственной истины — переход ее из туманного, неопределенного сознаваемого предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений в твердое и определенное выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков.
Мы все привыкли думать, что нравственное учение есть самая пошлая и скучная вещь, в которой не может быть ничего нового и интересного; а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями, — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины.
Помню, шел я раз в Москве по улице и впереди себя вижу, вышел человек, внимательно посмотрел на камни тротуара, потом выбрал один камень, присел над ним и стал его (как мне показалось) скоблить или тереть с величайшим напряжением и усилием. «Что такое он делает с этим тротуаром?» подумал я. Подойдя вплоть, я увидал, чтò делал этот человек; это был молодец из мясной лавки; он точил свой нож о камни тротуара. Он вовсе не думал о камнях, рассматривая их, и еще менее думал о них, делая свое дело, — он точил свой нож. Ему нужно было выточить свой нож для того, чтоб резать мясо; мне показалось, что он делает какое-то дело над камнями тротуара. Точно так же только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества. Это уяснение незаметно точно так же, как незаметно различие тупого ножа от острого. Нож — всё нож, и для того, кому не нужно ничего резать этим ножом, незаметно различие тупого от острого. Для того же, кто понял, что вся жизнь его зависит от более или менее тупого или острого ножа, для того важно всякое увострение его, и тот знает, что конца нет этому увострению, и что нож только тогда нож, когда он острый, когда он режет то, что нужно резать.
Это случилось со мной, когда я начал писать статью. Мне казалось, что я всё знаю, всё понимаю относительно тех вопросов, которые вызвали во мне впечатления Ляпинского дома и переписи; но когда я попробовал сознать и изложить их, оказалось, что нож не режет, что нужно точить его. И только теперь, через три года, я почувствовал, что нож мой отточен настолько, что я могу разрезать то, что хочу. Узнал я нового очень мало. Все мысли мои те же, но они были тупее, все разлетались и не сходились к одному; не было в них жала, всё не свелось к одному, к самому простому и ясному решению, как оно свелось теперь.
XIII.
Я помню, что во всё время моего неудачного опыта помощи несчастным городским жителям я сам представлялся себе человеком, который бы желал вытащить другого из болота, а сам стоял на такой же трясине. Всякое мое усилие заставляло меня чувствовать непрочность той почвы, на которой я стоял. Я чувствовал, что я сам в болоте; но это сознание не заставило меня тогда посмотреть ближе под себя, чтобы узнать, на чем я стою; я всё искал внешнего средства помочь вне меня находящемуся злу.
Я чувствовал тогда, что моя жизнь дурна и что так жить нельзя. Но из того, что моя жизнь дурна и так нельзя жить, я не вывел тот самый простой и ясный вывод, что надо улучшить свою жизнь и жить лучше, а сделал тот странный вывод, что для того, чтобы мне было жить хорошо, надо исправить жизнь других; и я стал исправлять жизнь других. Я жил в городе и хотел исправить жизнь людей, живущих в городе, но скоро убедился, что я этого никак не могу сделать; и я стал вдумываться в свойства городской жизни и городской бедности.
Что же такое городская жизнь и городская бедность? «Отчего, живя в городе, я не мог помочь городским бедным?» спрашивал я себя. И я ответил себе, что я не мог сделать для них ничего, во-первых, оттого, что здесь их было слишком много в одном месте; во-вторых, потому, что все эти бедные были совсем не такие, как деревенские. Отчего же их здесь много и в чем же состоит их особенность от деревенских бедных? Ответ был один на оба эти вопроса. Много их тут потому, что здесь собираются около богатых все те люди, которым нечем кормиться в деревне, и особенность их в том, что это всё люди, пришедшие из деревни кормиться в город (если есть городские бедные, такие, которые родились здесь, и такие, которых отцы и деды родились здесь, то эти отцы и деды пришли сюда тоже, чтобы кормиться).
Что же такое значит: кормиться в городе? В словах «кормиться в городе» есть что-то странное, похожее на шутку, когда вдумаешься в смысл их. Как, из деревни, т. е. из тех мест, где и леса, и луга, и хлеб, и скот, где всё богатство земли, из этих мест люди приходят кормиться в то место, где нет ни дерев, ни травы, ни земли даже, а только один камень и пыль? Что же значат эти слова: «кормиться в городе», которые так постоянно употребляются и теми, которые кормятся, и теми, которые кормят, как что-то вполне ясное и понятное?
Вспоминаю все сотни и тысячи людей городских, — и хорошо живущих, и бедствующих, — с которыми я говорил о том, зачем они пришли сюда, и все без исключения говорят, что они пришли сюда из деревни кормиться, что Москва не сеет, не жнет, а богато живет, что в Москве всего много и что потому только в Москве можно добыть те деньги, которые им нужны в деревне на хлеб, на избу, на лошадь, на предметы первой необходимости. Но ведь в деревне источник всяческого богатства, там только есть настоящее богатство: и хлеб, и лес, и лошади, и всё. Зачем же итти в город, чтобы добыть то, что̀ есть в деревне? И зачем, главное, увозить из деревни в город то, что нужно деревенским жителям — муку, овес, лошадей, скотину?
Сотни раз я разговаривал про это с крестьянами, живущими в городе, и из разговоров моих с ними и из наблюдений мне уяснилось то, что скопление деревенских жителей по городам отчасти необходимо потому, что они не могут иначе прокормиться, отчасти произвольно, и что в город их привлекают городские соблазны. Справедливо то, что положение крестьянина таково, что для удовлетворения требований, предъявленных к нему в деревне, ему нельзя иначе справиться, как продав тот хлеб, ту скотину, которые, он знает, ему будут необходимы, и он волей-неволей принужден итти в город, чтобы выручить там назад свой хлеб. Но справедливо и то, что сравнительно легче добываемые деньги и роскошь жизни в городе привлекают его туда, и, под видом кормиться в городе, он идет туда для того, чтобы работать легче, а есть лучше, пить чай три раза, щеголять и даже пьянствовать и распутничать. Причина того и другого одна: переход богатств производителей в руки непроизводителей и скопление их в городах. И действительно: пришла осень, все богатства собраны в деревне. И тотчас же заявляются требования податей, солдатчины, оброков; тотчас же выставляются соблазны водки, свадеб, праздников, мелких торговцев, разъезжающих по деревням, и всякие другие, и, не тем, так другим путем богатства эти в самых разнообразных видах: овец, телят, коров, лошадей, свиней, кур, яиц, масла, пеньки, льна, ржи, овса, гречихи, гороха, семени конопляного и льняного, переходят в руки чужих людей и перевозятся в города, а из городов к столицам. Деревенский житель вынужден отдать всё это для удовлетворения заявленных к нему требований и соблазнов и, отдав свои богатства, остается с нехваткой, и ему надо идти туда, куда свезены его богатства, и там он отчасти старается выручить деньги, необходимые ему на его первые потребности в деревне, отчасти сам, увлекаясь соблазнами города, пользуется вместе с другими собранными богатствами.
Везде по всей России, да, я думаю, и не в одной России, а во всем мире происходит одно и то же. Богатства сельских производителей переходят в руки торговцов, землевладельцев, чиновников, фабрикантов, и люди, получившие эти богатства, хотят пользоваться ими. Пользоваться же вполне этими богатствами они могут только в городе. В деревне, во-первых, трудно найти, по раскинутости жителей, удовлетворение всех потребностей богатых людей, нет всякого рода мастерских, лавок, банков, трактиров, театров и всякого рода общественных увеселений. Во-вторых, одно из главных удовольствий, доставляемых богатством, — тщеславие, желание уловить и перещеголять других, опять по раскинутости населения, с трудом может быть удовлетворяемо в деревне. В деревне мало ценителей роскоши, некого удивлять. Какие бы деревенский житель ни завел себе украшения жилища, картины, бронзы, какие бы ни завел экипажи, туалеты, — мужики не знают во всем этом толку. И, в-третьих, роскошь даже неприятна и опасна в деревне для человека, имеющего совесть и страх. Неловко и жутко в деревне делать ванны из молока или выкармливать им щенят, тогда как рядом у детей молока нет; неловко и жутко строить павильоны и сады среди людей, живущих в обваленных навозом избах, которые топить нечем. В деревне некому держать в порядке глупых мужиков, которые по своему необразованию могут расстроить всё это.
И поэтому богатые люди скопляются вместе и пристраиваются к таким же богатым людям с одинаковыми потребностями в городе, где удовлетворение всяких роскошных вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией. Коренные такие жители в городах это государственные чиновники; около них уже пристроились всякого рода мастера и промышленники, к ним присоединяются и богачи. Там богатому человеку стоит только вздумать, и всё у него будет. Там богатому человеку приятнее жить еще и потому, что там он может удовлетворить тщеславию, есть с кем поравняться роскошью, есть кого удивить, есть кого затмить. Главное же, богатому человеку уже потому лучше в городе, что прежде ему неловко и жутко было за его роскошь в деревне, теперь же, напротив, ему неловко становится не жить роскошно, не жить так, как все сверстные ему люди вокруг него. То, что казалось страшным и неловким в деревне, здесь ему кажется, что так и должно быть. Богатые люди собираются в городе и там, под охраной власти, спокойно потребляют всё то, что привезено сюда из деревни. Деревенскому же жителю отчасти необходимо итти туда, где происходит этот неперестающий праздник богачей и потребляется то, что взято у него с тем, чтобы кормиться от тех крох, которые спадут со стола богатых, отчасти же, глядя на беспечную, роскошную и всеми одобряемую и охраняемую жизнь богачей, и самому желательно устроить свою жизнь так, чтобы меньше работать и больше пользоваться трудами других.
И вот и он тянется в город и пристраивается около богачей, всякими средствами стараясь выманить у них назад то, что ему необходимо, и подчиняясь всем тем условиям, в которые поставят его богачи. Он содействует удовлетворению всех их прихотей; он служит богачу и в бане, и в трактире, и извозчиком, и проституткой, и делает ему экипажи, и игрушки, и моды, и понемногу научается у богатого жить так же, как и он, не трудом, а разными уловками, выманивая у других собранные ими богатства, — и развращается и погибает. И вот это-то развращенное городским богатством население и есть та городская бедность, которой я хотел и не мог помочь.
И в самом деле, надо только вдуматься в положение этих деревенских жителей, приходящих в город для того, чтобы заработать на хлеб или на подати, когда они видят повсюду вокруг себя безумно швыряемые тысячи и самым легким способом добываемые сотни, тогда как они сами тяжелым трудом должны вырабатывать копейки, чтобы удивляться, как остаются из этих людей еще рабочие люди, а не все они берутся за более легкую добычу денег: торговлю, прасольничество, нищенство, разврат, мошенничество, грабеж даже. Ведь это мы, участники той неперестающей оргии, происходящей в городах, можем так привыкнуть к своей жизни, что нам кажется очень натуральным жить одному в пяти огромных комнатах, отапливаемых количеством березовых дров, достаточным для варения пищи и согревания 20 семей, ездить за полверсты на двух рысаках с двумя людьми, обивать паркетный пол ковром и тратить, не говорю уж на бал, 5, 10 тысяч, но на елку 25 и т. п. Но человек, которому необходимо 10 рублей на хлеб для семьи или у которого отбирают последнюю овцу за 7 рублей податей и который не может сбить этих 7 рублей тяжелым трудом, человек этот не может привыкнуть к этому. Мы думаем, что всё это кажется естественным бедным людям; есть даже такие наивные люди, которые серьезно говорят, что бедные очень благодарны нам за то, что мы кормим их этою роскошью. Но бедные люди не лишаются человеческого рассудка оттого, что они бедные, и рассуждают точь в точь так же, как и мы. Как нам, при известии о том, что вот такой-то человек проиграл, промотал 10, 20 тысяч, приходит первая мысль о том, какой глупый и дрянной человек тот, который промотал без пользы такие деньги, и как я мог хорошо бы употребить эти деньги на постройку, которая мне давно нужна, на улучшение хозяйства и т. п., точно так же рассуждают и бедные, видя перед собой безумно швыряемые богатства, и тем настоятельнее рассуждают так, что деньги эти им нужны не на фантазии, а на удовлетворение насущных потребностей, которых часто они лишены. Мы очень заблуждаемся, думая, что бедные могут рассуждать так и равнодушно смотреть на окружающую их роскошь.
Никогда они не признавали и не признают того, чтобы было справедливо одним людям постоянно праздничать, а другим постоянно постничать и работать, а они сначала удивляются и оскорбляются этим, потом приглядываются к этому и, видя, что эти порядки признаются законными, стараются сами освободиться от работы и принять участие в празднике. Одним удается, и они становятся такими же вечно пирующими, другие понемногу подбираются к этому положению, третьи обрываются, не достигнув цели, и, потеряв привычку работать, наполняют непотребные и ночлежные дома.
Третьего года мы взяли из деревни крестьянского малого в буфетные мужики. Он что-то не поладил с лакеем, его разочли; он поступил к купцу, угодил хозяевам и теперь ходит в жилете с цепочкой и щегольских сапогах. На его место взяли другого мужика, женатого; он спился и потерял деньги; взяли третьего — он запил и, пропив с себя всё, долго бедствовал в ночлежном доме. Старик-повар спился в городе и заболел. В прошлом году лакей, пивший прежде запоем и в деревне державшийся без вина 5 лет, в Москве, живя без жены, поддерживавшей его, запил и испортил всю свою жизнь. Молодой мальчик из нашей деревни живет в буфетных мужиках у моего брата. Дед его, старик слепой, пришел ко мне в бытность мою в деревне и просил меня усовестить этого внука, чтоб он выслал 10 рублей денег на подати, без которых придется продать корову. «Всё говорит: одеться надо прилично, —сказал старик. Ну, сшил сапоги и буде; а то что ж он, часы, что ли, завести хочет?» сказал дед, словами этими выразив самое безумное предположение, которое только можно сделать. Предположение, действительно, безумное, если знать, что старик весь пост ел без масла, и что у старика пропадают нарезанные дрова, потому что нечем доплатить 1 руб. 20 коп.; но оказалось, что безумная шутка старика была действительность. Малый пришел ко мне в черном тонком пальто, в сапогах, за которые он заплатил 8 рублей. На днях он взял у брата 10 рублей и извел на сапоги. И дети мои, которые знают мальчика с детства, сообщили мне, что действительно он считает необходимым завести часы. Он очень добрый мальчик; но он считает, что ему будут смеяться, пока у него не будет часов. И часы нужно. Нынешний год горничная, девушка 18 лет, вошла у нас в доме в связь с кучером. Ее разочли. Старушка-няня, с которой я говорил об этой несчастной, напомнила мне о девушке, которую я забыл. Она также 10 лет тому назад, во время короткого пребывания нашего в Москве, вошла в связь с лакеем. Ее тоже разочли, и она кончила в распутном доме и умерла, не дожив до 20 лет, в больнице от сифилиса. Стоит только оглянуться вокруг себя, чтобы ужаснуться перед той заразой, которую, не говоря уже о фабриках и заводах, служащих нашей же роскоши, мы прямо, непосредственно своею роскошною жизнью в городе разносим между теми самыми людьми, которым мы потом хотим помогать.
И вот, вникнув в свойства городской бедности, которой я не мог помочь, я увидал, что причина ее первая та, что я отбираю необходимое у деревенских жителей и привожу всё это в город.
Вторая же причина та, что здесь, в городе, пользуясь тем, что я собрал в деревне, я своею безумною роскошью соблазняю и развращаю тех деревенских жителей, которые приходят сюда за мной, чтоб как-нибудь вернуть то, что у них отобрано в деревне.
XIV.
Совершенно с другой стороны я пришел к тому же заключению. Вспоминая все мои отношения к городским бедным за это время, я увидал, что одна из причин, по которой я не мог помогать городским бедным, была и та, что бедные были неискренни, неправдивы со мной. Они все смотрели на меня не как на человека, а как на средство. Сблизиться с ними я не мог, может быть, думал я, не умел; но без правдивости невозможна была помощь. Как помочь человеку, который не говорит всего своего положения? Я сначала упрекал в этом их (это так естественно — упрекать другого), но одно слово замечательного человека, именно Сютаева, гостившего у меня в то время, разъяснило мне дело и показало мне, в чем была причина моей неудачи. Я помню, что и тогда слово, сказанное Сютаевым, сильно поразило меня; но всё значение его я понял только впоследствии. Это было в самый разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил всё: как мы будем следить за всей нуждой в Москве, как мы будем призревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он приписывает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял; я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем, черной дубки, тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.
— Да всё пустое дело, — сказал он.
— Отчего?
— Да вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет, — с убеждением повторил он.
— Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?
— Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 копеек. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его; а это что же ты дал? Только, значит, «отвяжись».
— Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами и делом. И работу найти.
— Да ничего этому народу так не сделаете.
— Так как же, им так и умирать с голода и холода?
— Зачем же умирать? Да много ли их тут?
— Как, много ли их? — сказал я, думая, что он так легко смотрит на это потому, что не знает, какое огромное количество этих людей.
— Да ты знаешь ли? — сказал я. — Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?
Он улыбнулся.
— Двадцать тысяч! А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?
— Ну так что же?
— Что ж? — и глаза его заблестели, и он оживился. — Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню; я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе; он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то эта ваша община совсем пустая.
Простое слово это поразило меня, я не мог не сознать его правоту. Мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, всё-таки, может быть, полезно и то, чтò я начал; но чем дальше я вел это дело, чем больше я сходился с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово и тем большее оно получало для меня значение.
В самом деле, я приду в дорогой шубе или приеду на своей лошади, или увидит мою двухтысячную квартиру тот, которому нужны сапоги; увидит хотя только то, что я сейчас, не жалея их, дал 5 рублей только потому, что мне так вздумалось; ведь он знает, что если я даю так рубли, то это только потому, что я набрал их так много, что у меня их много лишних, которые я не только никому не давал, но которые я легко отбирал от других. Что же он может видеть во мне другого, как не одного из тех людей, которые завладели тем, что должно бы принадлежать ему? И какое другое чувство он может иметь ко мне, как не желание выворотить у меня как можно больше этих отобранных у него и у других рублей? Я хочу сблизиться с ним и жалуюсь, что он не откровенен; да ведь я боюсь сесть к нему на кровать, чтобы не набраться вшей, не заразиться, и боюсь пустить его к себе в комнату, а он голый, приходя ко мне, ждет, еще хорошо, что в передней, а то и в сенях. И я говорю, что он виноват в том, что я не могу сблизиться с ним, что он не откровенен.
Пусть попытается самый жестокий человек объедаться обедом из 5 блюд среди людей, которые мало ели или едят один черный хлеб. Ни у одного недостанет духу есть и видеть, как облизываются вокруг него голодные. Стало быть, для того чтобы есть сладко среди недоедающих, первая необходимость спрятаться от них и есть это так, чтобы они не видали. Это самое и это первое, что мы делаем.
И я проще взглянул на нашу жизнь и увидал, что сближение с бедными не случайно трудно нам, но что умышленно мы устраиваем свою жизнь так, чтобы это сближение было трудно.
Мало того, со стороны посмотрев на нашу жизнь, на жизнь богатых, я увидал, что всё то, что считается благом в этой жизни, состоит в том или, по крайней мере, неразрывно связано с тем, чтобы как можно дальше отделить себя от бедных. В самом деле, все стремления нашей богатой жизни, начиная с пищи, одежды, жилья, нашей чистоты и до нашего образования, — всё имеет главною целью отличение себя от бедных. И на это-то отличение, отделение себя непроходимыми стенами от бедных тратится, мало сказать,0,9 нашего богатства.
Первое, что делает разбогатевший человек, — он перестает есть из одной чашки, он устраивает приборы и отделяет себя от кухни и прислуги. Он сытно кормит и прислугу, чтобы у нее не текли слюни на его сладкую еду, и ест один; а так как есть одному скучно, он придумывает, что может, чтобы улучшить пищу, украсить стол; и самый способ принятия пищи (обеды) делается уж у него делом тщеславия, гордости, и принятие пищи делается у него средством отделения себя от других людей. Богатому уже немыслимо пригласить за стол бедного человека. Надо уметь вести даму к столу, кланяться, сидеть, есть, полоскать рот, и только богатые умеют всё это.
То же происходит и с одеждой. Если бы богатый человек носил обыкновенное платье, только прикрывающее тело от холода — полушубки, шубы, валеные и кожаные сапоги, поддевки, штаны, рубахи, ему бы очень мало было нужно, и он не мог бы, заведя две шубы, не отдать одну тому, у кого нет ни одной; но богатый человек начинает с того, что шьет себе такую одежду, которая вся состоит из отдельных частей и годится только для отдельных случаев и потому не годится для бедного. У него фраки, жилеты, пиджаки, лаковые сапоги, ротонды, башмаки с французскими каблуками, платья, ради моды изрезанные на мелкие куски, охотничьи, дорожные куртки и т. п., которые могут иметь употребление только в отдаленном от бедности быту. И одежда становится тоже средством отделения себя от бедных. Является мода, именно то, что отделяет богатых от бедных.
То же, и еще яснее, в жилье. Чтобы жить одному в 10 комнатах, надо, чтоб этого не видали те, которые живут десятеро в одной. Чем богаче человек, тем труднее добраться до него, тем больше швейцаров между ним и небогатыми людьми, тем невозможнее провести по коврам и посадить на атласные кресла бедного человека.
То же с способом передвижения. Мужику, едущему в телеге или на розвальнях, надо быть очень жестоким, чтобы не подвезти пешехода, — и место, и возможность на это есть. Но чем богаче экипаж, тем дальше он от возможности посадить кого бы то ни было. Даже прямо говорят, что самые щеголеватые экипажи — эгоистки.
То же со всем образом жизни, который выражается словом чистота.
Чистота! Кто не знает людей, в особенности женщин, которые ставят себе эту чистоту в высокую добродетель, и кто не знает выдумок этой чистоты, не имеющих никаких пределов, когда она добывается чужим трудом? Кто из разбогатевших людей не испытывал на себе, с каким трудом он старательно приучал себя к этой чистоте, подтверждающей только пословицу: белые ручки чужие труды любят? Нынче чистота в том, чтобы менять рубашку каждый день, завтра менять два раза в день. Нынче мыть каждый день шею и руки, завтра — ноги, еще завтра — каждый день всё тело, да еще особенными притираниями. Нынче скатерть на два дня, завтра каждый день и две в день. Нынче чтобы руки у лакея были чисты, завтра чтобы он был в перчатках и в чистых перчатках подавал бы письмо на чистом подносе. И нет пределов этой никому и ни для чего ненужной чистоты, как только для того, чтобы отделить себя от других и сделать невозможным общение с ними, когда чистота эта добывается чужими трудами.
Мало того, когда я вникнул в это, я убедился, что и то, что называется вообще образованием, есть то же самое. Язык не обманет; он называет тем настоящим именем то, что люди под этим именем разумеют. Образованием называет народ: модное платье, политичный разговор, чистые руки, известного рода чистоту. Про такого человека говорят в отличие от других, что он человек образованный. В кругу немного повыше образованием называют то же, что и народ, но к условиям образования прибавляют еще игру на фортепиано, знание по-французски, письмо по-русски без орфографических ошибок и еще большую внешнюю чистоту. В кругу еще повыше образованием называют всё это с прибавкой еще английского языка и диплома из высшего учебного заведения и еще большую чистоту. Но образование и то, и другое, и третье по существу своему одно и то же. Образование — это те формы и знания, которые должны отличать человека от других. И цель его та же, как и чистоты: отделить себя от толпы бедных для того, чтобы они, голодные и холодные, не видали, как мы празднуем. Но спрятаться нельзя, и они видят.
И вот я убедился, что причина невозможности нам, богатым, помочь бедным городским была еще и в невозможности сблизиться с ними, а что невозможность сближения с ними мы делаем сами всей своей жизнью, всем употреблением наших богатств. Я убедился, что между нами, богатыми и бедными стоит воздвигнутая нами же стена чистоты и образования, сложившаяся из нашего богатства, и чтобы быть в состоянии помогать бедным, нам надо прежде всего разрушить эту стену, сделать то, чтобы было возможно применение способа Сютаева — по себе разобрать бедных.
И с другой стороны я пришел к тому же самому, к чему привел меня ход рассуждения о причинах городской бедности: причина была наше богатство.
XV.
Я стал разбирать дело еще с третьей, с чисто личной стороны. В числе явлений, особенно поразивших меня во время этой моей благотворительной деятельности, было еще одно, очень странное, которому я долго не мог найти объяснения. Это было вот что: всякий раз, как мне случалось на улице или дома давать бедному, не разговаривая с ним, какую-нибудь мелкую монету, я видел или мне казалось, что я видел, удовольствие и благодарность на лице бедного, и сам я испытывал при этой форме благотворительности приятное чувство. Я видел, что я сделал то, чего желал и ожидал от меня человек. Но если я останавливался с бедным и с участием расспрашивал его о его прежней и теперешней жизни, более или менее входил в подробности его жизни, я чувствовал, что нельзя уже дать 3 или 20 копеек, и я начинал перебирать в кошельке деньги, сомневаясь, сколько дать, давал всегда больше и всегда видел, что бедный уходит от меня недовольный. Если же я входил в еще большее общение с бедным, то еще больше увеличивалось мое сомнение о том, сколько дать, и, сколько бы я ни давал, бедный становился еще мрачнее и недовольнее. Как общее правило, выходило всегда так, что если я давал после сближения с бедным три рубля и больше, то почти всегда я видел мрачность, недовольство, злобу даже на лице бедного, и случалось, что, взяв десять рублей, он уходил, не сказав даже спасибо, так, как будто я обидел его. И при этом мне всегда бывало неловко, совестно, и я всегда чувствовал себя виноватым. Если же я неделями, месяцами, годами следил за бедным, и помогал ему, и высказывал ему свои взгляды, и сближался с ним, то отношения с ним становились мукой, и я видел, что бедный презирает меня. И я чувствовал, что он прав.
Если я иду по улице, а он, стоя на этой улице, просит у меня в числе других прохожих и проезжих три копейки, и я даю их ему, то я для него прохожий, и добрый, хороший прохожий, такой, который дает ту нитку, из которой составляется рубашка голому; он больше нитки ничего не ждет, и если я даю ее, он искренно благословляет меня. Но если я остановился с ним, поговорил с ним, как с человеком, показал ему, что я хочу быть больше, чем прохожий, если, как это часто случалось, он поплакал, рассказывая мне свое горе, то он видит во мне уже не прохожего, а то, что я хочу, чтобы он видел: доброго человека. Если же я добрый человек, то доброта моя не может остановиться ни на двугривенном, ни на 10 рублях ни на 100 рублях. Положим, я дал ему много, я оправил его, одел, поставил на ноги, так что он мог жить без чужой помощи; но по чему бы то ни было, по несчастию или по его слабости, порочности, у него опять нет и того пальто, и того белья, и тех денег, которые я дал ему, он опять голоден и холоден, и он опять пришел ко мне, — почему я откажу ему? И если он 20 раз пропил всё, что вы ему дали, и он опять холоден и голоден, если вы добрый человек, вы не можете не дать ему еще, не можете никогда перестать давать ему, если у вас больше, чем у него. А если вы попятились, то вы этим самым показали, что всё, что вы ни делали, вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому, что перед людьми, перед ним хотели показаться добрым человеком.
И вот тут-то, с такими людьми, с которыми мне приходилось пятиться, переставать давать и этим отрекаться от добра, я испытывал мучительный стыд.
Что такое был этот стыд? Стыд этот испытывал я в Ляпинском доме, и прежде, и после в деревне, когда мне приходилось давать деньги или другое что бедным, и в моих похождениях по городским бедным.
Один недавно бывший со мною случай стыда живо напомнил мне и привел меня к разъяснению причины того стыда, который я испытывал при давании денег бедным.
Это было в деревне. Мне нужно было двадцать копеек, чтобы подать страннику; я послал сына, чтобы занять у кого-нибудь; он принес страннику двугривенный и сказал мне, что он занял у повара. Через несколько дней опять пришли странники, и мне опять понадобился двугривенный; у меня был рубль; я вспомнил, что должен был повару, пошел в кухню, надеясь, что у повара найдется еще мелочь. Я сказал: «Я у вас брал двугривенный, так вот рубль». Я еще не договорил, как повар вызвал из другой комнаты жену. «Параша, возьми», сказал он. Я, полагая, что она поняла, что мне нужно, отдал ей рубль. Надо сказать, что повар жил у нас с неделю, и жену его я видал, но никогда не говорил с ней. Только я хотел сказать ей, чтобы она дала мне мелочи, как она быстро нагнулась к моей руке и хотела поцеловать ее, очевидно, полагая, что я ей даю рубль. Я что-то пробормотал и вышел из кухни. Мне стало стыдно, мучительно стыдно, как давно не было. Меня корчило, я чувствовал, что делал гримасы, и я стонал от стыда, выбегая из кухни. Этот ничем незаслуженный, как мне казалось, и неожиданный стыд поразил меня особенно потому, что я давно уже так не стыдился, и потому, что я, как старый человек, как мне казалось, жил так, что не заслуживал такого стыда. Меня это очень поразило. Я рассказал это домашним, рассказал знакомым, и все согласились, что и они испытали бы то же. И я стал думать: отчего же это мне было стыдно? Ответ на это мне дал случай, бывший со мною прежде в Москве.
Я вдумался в этот случай, и мне объяснился этот стыд, испытанный мною с поваровой женой, и все те ощущения стыда, которые я испытывал во время моей московской благотворительности и который испытываю теперь постоянно, когда мне приходится давать людям что-нибудь, кроме той маленькой милостыни нищим и странникам, которую я привык давать и считаю делом не благотворительности, а благопристойности — учтивости. Если человек просит у вас огня, надо зажечь ему спичку, если есть. Если человек просит 3 или 20 копеек или даже несколько рублей, надо дать их, если есть. Это дело учтивости, а не благотворительности.
Случай был такой: я говорил уже о двух мужиках, с которыми я третьего года пилил дрова. Один раз вечером в субботу, сумерками, я пошел с ними вместе в город. Они шли к хозяину получать плату. Подходя к Дорогомиловскому мосту, мы встретили старика. Он попросил милостыни, и я дал ему 20 копеек. Я дал и подумал о том, как моя милостыня должна хорошо подействовать на Семена, с которым мы говаривали о божественном. Семен, тот владимирский мужик, у которого была в Москве жена и двое детей, остановился, тоже заворотив полу кафтана и достал кошель и из кошелька, поискав в нем, достал три копейки, дал их старику и спросил две копейки сдачи.
Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и пошел, оставив старику три копейки. Я знал всё имущественное положение Семена. У него не было дома и не было никакой собственности. Денег он сбил по тот день, в который он подал 3 копейки, 6 рублей 50 копеек. Стало быть, 6 рублей 50 копеек было всё его сбережение. Мое сбережение равнялось приблизительно 600-м тысячам. У меня были жена и дети, у Семена были жена и дети. Он был моложе меня, и детей у него было меньше; но дети у него были малые, у меня же уж было двое в возрасте работников, так что наше положение, кроме сбережения, было равное; пожалуй, даже мое несколько выгоднее. Он дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек; он дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что Семен, мне надо было дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи и, если бы не было сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почем печенка на Смоленском. Я тогда же подумал об этом; но только долго после того я был в состоянии сделать из этого случая тот вывод, который неизбежно из него вытекает. Вывод этот так необыкновенен и странен кажется, что, несмотря на его математическую несомненность, нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Все кажется, что тут должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нет. Есть только страшная тьма заблуждений, в которой мы живем.
Этот-то вывод, когда я пришел к нему и признал его несомненность, объяснил мне мой стыд перед женой повара и перед всеми бедными, которым я давал и даю деньги.
В самом деле, что же такое те деньги, которые я даю бедным и которые поварова жена думала, что я даю ей? В большей части случаев это такая доля моих денег, которую невозможно даже выразить цифрой для Семена и для поваровой жены, — это большею частью одна миллионная или около того. Я даю так мало, что давание мною денег не есть и не может быть для меня лишением; оно есть только потеха, которой я забавляюсь как и когда мне вздумается. И так и поняла меня поварова жена. Если я даю приходящему с улицы рубль или 20 копеек, то отчего же мне не дать и ей рубль? Для поваровой жены такое раздавание денег есть то же, что швыряние господами пряников в народ; это забава людей, имеющих много дурашных денег. Мне стыдно было оттого, что ошибка поваровой жены прямо показала мне тот взгляд, который она и все небогатые люди должны иметь на меня: «швыряет дурашные, т. е. не трудовые, деньги».
В самом деле, какие мои деньги и откуда завелись они у меня? Часть их я собрал за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, чтобы отдать мне их. Другая часть моих денег — это деньги, которые я получил за мои сочинения, за книги. Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что их покупают, и деньги, которые за них я получаю, — дурно добытые деньги; но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги. И вот я набрал много таких денег, и что же я делаю с ними? Я привожу эти деньги в город и отдаю их бедным только тогда, когда они будут исполнять мои прихоти и придут сюда в город чистить для меня тротуары, лампы, сапоги, работать для меня на фабриках. И за эти деньги я выторговываю у них всё, что могу, т. е. стараюсь как можно меньше дать им и как можно больше получить от них. И вдруг я совершенно неожиданно начинаю так, просто задаром, давать эти самые деньги этим же бедным — не всем, но тем, кому мне вздумается. Как же не ожидать каждому бедному, что, может, и на него выпадет нынче счастье быть одним их тех, с которыми я забавляюсь, раздавая мои дурашные деньги? Так и смотрят на меня все, так посмотрела и поварова жена.
И я до такой степени заблудился, что это отбирание у бедных одной рукой тысячей, а другой швыряние копеек тем, кому вздумается, я называл добром. Не мудрено, что мне было стыдно.
Да, прежде чем делать добро, мне надо самому стать вне зла, в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя — зло. Я дам 100 тысяч и всё не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро, хоть то, что сделала проститутка, ухаживая три дня за больною и ее ребенком. А мне казалось это так мало! И я смел думать о добре! То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, — это одно была правда.
XVI.
Трудно мне было дойти до этого сознания; но когда я дошел до него, я ужаснулся тому заблуждению, в котором я жил. Я стоял по уши в грязи и других хотел вытаскивать из этой грязи.
В самом деле, чего я хочу? Я хочу сделать добро другим, хочу сделать так, чтобы люди не были холодны и голодны, чтобы люди могли жить так, как это свойственно людям.
Я хочу этого и вижу, что вследствие насилий, вымогательств и различных уловок, в которых я принимаю участие, отбирается у трудящихся необходимое, и нетрудящиеся люди, к которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей.
Я вижу, что пользование это чужим трудом распределяется так, что чем хитрее и сложнее уловка, которую употребляет сам человек или употреблял тот, от кого он получил наследство, тем больше он пользуется трудами других людей и тем меньше сам прилагает труда.
Сначала идут Штиглицы, Дервизы, Морозовы, Демидовы, Юсуповы, потом крупные банкиры, купцы, землевладельцы, чиновники. Потом средние банкиры, купцы, чиновники, землевладельцы, к которым принадлежу и я. Потом низшие — вовсе мелкие торговцы, кабатчики, ростовщики, становые, урядники, учителя, дьячки, приказчики; потом дворники, лакеи, кучера, водовозы, извозчики, разносчики и под конец уже рабочий народ — фабричные и крестьяне, число которых относится к первым, как 10: 1. Я вижу, что жизнь девяти десятых рабочего народа по своему существу требует напряжения и труда, как и всякая естественная жизнь, но что вследствие уловок, отбирающих у этих людей необходимое и ставящих их в тяжелые условия, жизнь эта с каждым годом становится труднее и полнее лишений; жизнь же наша, не рабочих людей, благодаря содействию наук и искусств, направленных на эту цель, становится с каждым годом избыточнее, привлекательнее и обеспеченнее. Я вижу, что в наше время жизнь рабочего человека, и в особенности жизнь стариков, женщин и детей рабочего населения, прямо гибнет от усиленной, несоответственной питанию работы, и что жизнь эта не обеспечена даже в своих первых потребностях, и что рядом с этим жизнь нерабочего сословия, к которому я принадлежу, с каждым годом всё более и более переполняется избытком и роскошью, и делается всё более и более обеспеченною, и дошла, наконец, в своих счастливцах, к которым принадлежу и я, до такой степени обеспеченности, о которой в старину мечтали только в волшебных сказках, — до состояния владельца кошелька с неразменным рублем, т. е. такого положения, при котором человек не только освобождается совершенно от закона труда для поддержания жизни, но и получает возможность пользоваться без труда всеми благами жизни и передавать своим детям или кому вздумается этот кошелек с неразменным рублем. Я вижу, что произведения труда людей всё более и более переходят от массы трудового народа к нетрудовому, что пирамида общественного здания как бы перестраивается так, что камни основания переходят в вершину, и быстрота этого перехода увеличивается в какой-то геометрической прогрессии. Я вижу, что происходит подобное тому, что произошло бы в муравейной куче, если бы общество муравьев потеряло чувство общего закона, если бы одни муравьи из основания кучи стали бы перетаскивать произведения труда на верх кучи и всё суживали бы основание и расширяли вершину и тем заставили бы и остальных муравьев перебираться из основания на вершину. Я вижу, что перед людьми вместо идеала трудовой жизни возник идеал кошелька с неразменным рублем. Богатые, и я в том числе, разными уловками мы устраиваем себе этот неразменный рубль и для пользования им переезжаем в город, в то место, где ничего не производится и всё поглощается. Бедный трудовой человек, обобранный для того, чтобы у богатого был этот неразменный рубль, стремится за ним в город и там тоже борется за уловки или устраивает себе такое положение, при котором он может, мало работая, многим пользоваться, тем самым еще более отягощая положение трудового народа, или, не достигнув этого положения, погибает и попадает в то с необычайной быстротой увеличивающееся число холодных и голодных золоторотцев.
Я принадлежу к разряду тех людей, которые разными уловками отбирают от трудящегося народа необходимое и которые устроили себе этими уловками волшебный неразменный рубль, соблазняющий этих же несчастных. Я хочу помогать людям, и потому ясно, что прежде всего я должен, с одной стороны, не обирать их, как я это делаю, с другой стороны — не соблазнять их. А то я самыми сложными, и хитрыми, и злыми, веками накопившимися уловками устроил себе положение владельца неразменного рубля, т. е. такое, при котором я могу, никогда ничего не работая, заставлять работать на себя сотни и тысячи людей, что я и делаю; и я воображаю себе, что я жалею людей и хочу помогать им. Я сижу на шее у человека, задавил его и требую, чтобы он вез меня, и, не слезая о него, уверяю себя и других, что я очень жалею и хочу облегчить его положение всеми возможными средствами, но только не тем, чтобы слезть с него.
Ведь это так просто. Если я хочу помогать бедным, т. е. сделать бедных не бедными, я не должен производить этих самых бедных. А то я даю по своему выбору бедным, сбившимся с пути жизни, рубли, десятки, сотни; а на эти самые рубли я отбираю тысячи у людей, не сбившихся еще с пути, и этим делаю их бедными и их же еще развращаю.
Это очень просто; но мне было ужасно трудно понять это вполне без всяких сделок и оговорок, которые оправдывали бы мое положение; но стоило мне признать свою вину, и всё, что прежде казалось странно, сложно, неясно, неразрешимо, всё стало совершенно понятно и просто. Главное же — путь моей жизни, вытекавший из этого объяснения, вместо прежнего запутанного и неразрешимого и мучительного, стал прост, ясен и приятен.
Кто такой я, тот, который хочет помогать людям? Я хочу помогать людям, и я, встав в 12 часов после винта с 4-мя свечами, расслабленный, изнеженный, требующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помогать — кому же? Людям, которые встают в пять, спят на досках, питаются капустой с хлебом, умеют пахать, косить, насадить топор, тесать, запрягать, шить, — людям, которые и силой, и выдержкой, и искусством, и воздержностью в сто раз сильнее меня, и я им прихожу помогать! Что же, кроме стыда, я и мог испытывать, входя в общение с этими людьми? Самый слабый из них — пьяница, житель Ржанова дома, тот, которого они называют лентяем, во сто раз трудолюбивее меня; его баланс, так сказать, т. е. отношение того, что он берет от людей, и того, что дает им, стоит в тысячу раз выгоднее, чем мой баланс, если я сочту, то чтò я беру от людей и чтò даю им.
И этим-то людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет ни одного. Я весь расслабленный, ни на что негодный паразит, который может только существовать при самых исключительных условиях, который может существовать только тогда, когда тысячи людей будут трудиться на поддержание этой никому ненужной жизни. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его.
Я всю свою жизнь провожу так: ем, говорю и слушаю; ем, пишу или читаю, т. е. опять говорю и слушаю; ем, играю, ем, опять говорю и слушаю, ем и опять ложусь спать, и так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать. И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей, кучер, прачка; не говорю уже о тех работах людей, которые нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочие имели те орудия и предметы, которыми и над которыми они для меня работают: топоры, бочки, щетки, посуду, мебель, стекла, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину. И все эти люди тяжело работают целый день и каждый день для того, чтобы я мог говорить, есть и спать. И я-то, этот убогий человек, вообразил себе, что я могу помогать другим и тем самым людям, которые кормят меня.
Удивительно не то, что я не помог никому и почувствовал стыд, но удивительно то, что могла мне придти такая нелепая мысль. Та женщина, которая служила больному старику, та помогла ему; та хозяйка, которая отрезала ломоть от своего выработанного от земли хлеба, та помогла нищему; Семен, давший три выработанные копейки, помог нищему, потому что эти три копейки представляли действительно его труд; но
Страница черновой рукописи конца XVI и начала XVII главы «Так что же нам делать?“
Размер подлинника.
я никому не служил, ни для кого не работал и хорошо знал, что деньги мои не представляют мой труд.
И я почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой, и я спросил себя: что такое деньги?
XVII.
Деньги! Что ж такое деньги?
Деньги представляют труд. Я встречал образованных людей, которые утверждали даже то, что деньги представляют труд того, кто ими владеет. Каюсь, что я прежде как-то неясно разделял такое мнение. Но мне надо было узнать основательно, что такое деньги. И, чтобы узнать это, я обратился к науке.
Наука говорит, что деньги не имеют в себе ничего несправедливого и вредного, что деньги есть естественное условие общественной жизни, необходимое: 1) для удобства обмена, 2) для установления мер ценности, 3) для сбережения и 4) для платежей.
То очевидное явление, что если у меня есть три лишних, ненужных для меня рубля в кармане, то я, свистнув, могу набрать в каждом городе цивилизованном сотню людей, готовых за эти три рубля сделать по моей воле самые тяжелые, отвратительные и унизительные дела, происходит не от денег, а от очень сложных условий экономической жизни народов.
Властвование одних людей над другими происходит не от денег, а оттого, что рабочий получает неполную стоимость своего труда. Неполную же стоимость своего труда он получает от свойств капитала, ренты и заработной платы и сложных отношений между ними и между самым производством, распределением и потреблением богатств. По-русски выходит, что люди, у которых есть деньги, могут вить веревки из тех, у кого нет денег.
Но наука говорит, что дело не в том.
Наука говорит: во всякого рода произведениях участвуют три фактора: земля, запасы труда (капитал) и труд. И вот от различных отношений между собою этих факторов производства, оттого, что два первые фактора — земля и капитал — находятся не в руках рабочих, а других лиц, от этого и вытекающих из этого весьма сложных комбинаций происходит порабощение одних людей другими.
Отчего происходит порабощение одних людей другими? Отчего происходит то денежное царство, которое поражает нас всех своею несправедливостью и жестокостью? Отчего одни люди посредством денег властвуют над другими? Наука говорит: от деления факторов производства и происходящих от того комбинаций, угнетающих рабочего. Ответ этот мне всегда казался странным не только тем, что оставляет в стороне одну часть вопроса — именно о значении при этом денег, но и тем делением факторов производства, которое свежему человеку всегда представляется искусственным и не отвечающим действительности.
Утверждается, что в каждом производстве участвуют три фактора: земля, капитал и труд, и при этом делении подразумевается, что богатства (или ценность их — деньги) естественно подразделяются между теми, кто владеет тем или другим фактором: рента —ценность земли —принадлежит землевладельцу, процент — капиталисту, а заработная плата за труд — рабочему.
Так ли это?
Во-первых, справедливо ли то, что в каждом производстве участвуют три фактора?
Вот вокруг меня, в то время как я пишу это, совершается производство сена. Из чего слагается это производство? Мне говорят: из земли, которая вырастила сено, из капитала — кос, грабель, вил, телег, нужных для уборки сена, и из труда. Но я вижу, что это неправда. Кроме земли, принимают участие в производстве сена: солнце, вода, общественное устройство, оберегавшее эти луга от потравы, знание рабочих, их умение говорить и понимать слова и еще много других факторов производства, которые почему-то не принимаются политической экономией.
Сила солнца —такой же фактор всякого производства, еще более необходимый, чем земля. Я могу себе представить положение людей, при котором (в городе, например) одни люди признают за собой право заслонять стенами или деревьями от других солнце; почему же оно не включено в факторы производства? Вода — другой, столь же необходимый, как и земля, фактор. Воздух. И я тоже могу представить себе людей, лишенных воды и чистого воздуха, потому что другие люди признают за собой право владеть исключительно водою и воздухом, необходимыми для других. Общественная безопасность — такой же необходимый фактор. Пища, одежда для рабочих —также факторы производства, как и признается это некоторыми экономистами. Образование, дающее возможность прилагать различную работу, — такой же фактор. Я бы мог наполнить целый том такими пропущенными факторами производства. Почему же выбраны три именно эти фактора производства и положены в основу науки?
Почему лучи солнца, вода, пища, знания не признаются отдельными факторами производства, а признаются таковыми только земля, орудия труда и труд? Разве только потому, что на право одних людей пользоваться лучами солнца, водою, пищею, на право говорить и слушать в редких только случаях заявляются притязания людей; на право же пользования землею и орудиями труда эти притязания постоянно заявляются в нашем обществе. Другого основания нет, и потому, во-первых, я вижу, что деление факторов производства на три только фактора совершенно произвольно и не лежит в самой сущности вещей.
Но, может быть, деление это так свойственно людям, что там, где слагаются экономические отношения, тотчас же выделяются именно эти и только эти три фактора производства?
Посмотрим, так ли это.
Смотрю ближе всего вокруг себя на русских поселенцев, которых миллион было и есть. Поселенцы приходят на землю, садятся на нее и начинают работать, и никому в голову не приходит, чтобы человек, не пользующийся землею, мог иметь какие-нибудь права на нее, и земля не заявляет никаких отдельных прав; напротив, поселенцы сознательно признают землю общим достоянием и считают справедливым, чтобы каждый косил, пахал где кто хочет и сколько осилит. Поселенцы для обработки земли, для садов, для постройки домов заводят орудия труда, и тоже никому в голову не приходит, чтобы орудия труда могли сами по себе приносить доход, и капитал тоже не заявляет никаких прав, а, напротив, поселенцы сознательно признают, что всякий рост за орудия труда, за ссужаемый хлеб, за капитал есть несправедливость. Поселенцы на вольной земле работают своими или ссуженными им без роста орудиями, каждый для себя или все вместе на общее дело, и в такой общине невозможно найти ни ренты, ни процента с капитала, ни заработной платы.
Говоря о такой общине людей, я не фантазирую, а описываю то, что происходило всегда и происходит теперь не у одних поселенцев русских, а везде, пока не нарушено чем-нибудь естественное свойство людей. Я описываю то, что представляется каждому естественным и разумным. Люди поселяются на земле и берутся каждый за свойственное ему дело, и каждый, выработав, что ему нужно для работы, работает свою работу. Если же людям удобнее работать вместе, они сходятся артелью; но ни в отдельном хозяйстве, ни в артелях факторов производства не будет раздельных, а будет труд и необходимые условия труда: солнце, которое всех греет, воздух, которым дышат люди, вода, которую пьют, земля, на которой работают, одежда на теле, пища в брюхе, кол, лопатка, соха, плуг, машина, которой работают люди, и очевидно, что ни лучи солнца, ни воздух, ни вода, ни земля, ни одежа на теле, ни кол, которым работают, ни заступ, ни плуг, ни машина, которой работают в артели, не могут никому принадлежать, кроме тех, которые пользуются лучами солнца, дышат воздухом, пьют воду, едят хлеб, закрывают свое тело и работают заступом или машиной, потому что всё это нужно только тем, которые всё это употребляют. И когда люди поступают так, мы все видим, что они поступают так, как свойственно поступать людям, т. е. разумно.
Итак, наблюдая слагающиеся экономические отношения людей, я не вижу того, чтобы разделение на три фактора производства было свойственно людям. Я вижу, напротив, что оно несвойственно людям и неразумно.
Но, может быть, разделение этих трех факторов не происходит только в первобытных обществах людей, при увеличении же населения и развитии культуры оно неизбежно, и что разделение это совершилось в европейском обществе, и мы не можем не признавать этот совершившийся факт.
Посмотрим, так ли это.
Нам говорят, что в европейском обществе деление факторов производства совершилось, т. е. что одни люди владеют землею, другие орудиями труда, а третьи лишены и земли и орудий труда. Рабочий лишен земли и орудий труда.
Мы так привыкли к этому утверждению, что нас уже не поражает странность его. Если же мы вдумаемся в это выражение, то тотчас увидим несправедливость и даже бессмысленность его. В выражении этом лежит внутреннее противоречие.
Понятие рабочего включает в себя понятие земли, на которой он живет, и орудий, которыми он работает.
Если бы он не жил на земле и не имел орудий работы, он не был бы работник. Такого рабочего, который бы был лишен земли и орудий труда, никогда не было и не может быть. Не может быть земледельца без земли, на которой он работает, и без косы, телеги, лошади; не может быть и сапожника без дома на земле, без воды, воздуха и орудий труда, которыми он работает.
Если у мужика нет земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды и шила, то это значит только то, что кто-нибудь согнал его с земли и отнял или выманил у него косу, телегу, лошадь, шило, но никак не значит то, что могут быть земледельцы без сохи и сапожники без инструмента.
Как немыслим рыбак на суше и без снастей иначе, как если кто-нибудь согнал его с воды и отнял у него снасть, так точно немыслим мужик, сапожник без земли, на которой он живет, и без орудий труда, как только в том случае, если кто-нибудь согнал его с земли и отнял у него его орудия. Могут быть такие люди, которых гонят с одного места земли на другое, и такие, у которых отнимали и отняли их орудия труда и которых заставляют насильно работать чужими орудиями труда ненужные им предметы, но это не значит, что таково свойство производства; это значит только то, что бывают случаи, когда нарушается естественное свойство производства. Если же принимать факторами производства всё то, чего может быть лишен рабочий насилием другого, то почему не считать притязания на личность раба фактором производства? Почему не считать притязаний на лучи солнца, на воздух, на воду такими же факторами?
Может появиться человек, который, выстроив стену, заслонит соседа от солнца; может появиться человек, который отведет воду реки в пруд и заразит этим воду; может появиться человек, который признает всего человека своею вещью; но ни то, ни другое, ни третье притязание, если бы даже оно приводилось в исполнение насилием, не может быть признаваемо основой деления факторов производства, и потому так же неверно принимать вымышленное право на землю и орудия труда за отдельные факторы производства, как рассматривать вымышленное право на пользование лучами солнца, воздухом, водою и личностью другого человека за отдельные факторы производства.
Могут быть люди, заявляющие право на землю и орудия труда рабочего, как были люди, заявлявшие притязания на личность рабочего, и как могут быть люди, заявляющие притязания на исключительное пользование лучами солнца, водою, воздухом; могут быть люди, сгоняющие рабочего с места на место и силою отнимающие у него произведения его труда по мере их изготовления и самые орудия этого труда и заставляющие его работать не на себя, а на хозяина, как это происходит на фабриках, — всё это может быть; но работника без земли и орудий всё-таки не может быть, точно так же, как не может быть человек вещью другого, несмотря на то, что люди очень долго утверждали это.
И как утверждение права собственности на личность другого человека не могло лишить раба его прирожденного свойства искать блага своего, а не хозяина, так и теперь утверждение права собственности на землю и на орудия труда других не может лишить работника прирожденного свойства каждого человека жить на земле и работать своими личными или общими орудиями то, что он для себя считает полезным.
Всё, что может сказать наука, рассматривая настоящее экономическое положение, это то, что существуют притязания одних людей на землю и орудия труда рабочих, вследствие которых для некоторой части этих рабочих (никак не всех) нарушаются свойственные людям условия производства, так что рабочих лишают земли и орудий труда и пригоняют к чужим орудиям труда, но никак не то, что это случайное нарушение закона производства и есть самый закон производства. Утверждая то, что деление факторов производства и есть основной закон производства, экономист делает то же, что сделал бы зоолог, который видал бы очень много чижиков в домиках, с обстриженными крылышками, и заключил бы из этого, что домик и ведрышко с водой, поднимающееся по рельсам, есть самое существенное условие жизни птиц и что жизнь птиц слагается из этих трех факторов.
Как бы много ни было чижиков в картонных домиках, с обстриженными крылышками, зоолог не может признать картонные домики естественным свойством птиц.
Как бы много ни было рабочих, сгоняемых с места на место и лишаемых и произведений и орудий своего труда, естественное свойство рабочего жить на земле и работать своими орудиями то, что ему нужно, будет всё то же. Есть притязания одних людей на землю и орудия труда рабочего, точно так же как были в древнем мире притязания одних людей на личность других; но никак не может быть разделения людей на господ и рабов, как это хотели установить в древнем мире, и никак не может быть разделения факторов производства на землю и капитал, как это хотят установить экономисты в современном обществе.
А эти-то незаконные притязания одних людей на свободу других людей наука называет естественными свойствами производства.
Вместо того чтобы взять основы свои в естественных свойствах человеческих обществ, наука взяла их в частном случае и, желая оправдать этот частный случай, признала право одного человека на землю, которою кормится другой, и на орудия труда, которыми работает другой, т. е. признала такое право, которого никогда не было и не может быть и которое в самом выражении своем носит противоречие, потому что право на землю человека, не работающего на земле, в сущности есть не что иное, как право человека пользоваться землею, которою он не пользуется; право же на орудия труда есть не что иное, как право работать орудиями, которыми он не работает.
Наука своим делением факторов производства утверждает то, что естественное состояние рабочего есть то неестественное состояние, в котором он находится; точно так же, как в древнем мире делением людей на граждан и рабов утверждали, что неестественное положение рабов есть естественное свойство человека. Это-то деление, принятое наукой только для того, чтобы оправдать существующее зло, поставленное ею в основу всех своих исследований, и сделало то, что наука тщетно пытается дать какие-нибудь объяснения существующих явлений и, отрицая самые ясные и простые ответы на представляющиеся вопросы, дает ответы, не имеющие никакого содержания.
Вопрос экономической науки в следующем: какая причина того, что одни люди, имеющие землю и капитал, могут порабощать тех людей, у которых нет земли и капитала?
Ответ, представляющийся здравому смыслу, тот, что это происходит от денег, имеющих свойство порабощать людей. Но наука отрицает это и говорит: это происходит не от свойства денег, а оттого, что одни имеют землю и капитал, а другие не имеют их. Мы спрашиваем: отчего люди, имеющие землю и капитал, порабощают неимущих? Нам отвечают: оттого, что они имеют землю и капитал.
Да ведь мы про это же самое и спрашиваем. Лишение земли и орудий труда и есть порабощение. Ведь это ответ: facit dormire quia habet virtutem dormitivam2.
Но жизнь не перестает ставить свой существенный вопрос, и даже самая наука видит его и старается ответить на него, но никак не может этого сделать, выходя из своих основ, и вертится в своем заколдованном кругу. Для того чтобы сделать это, наука должна прежде всего отказаться от своего ложного деления факторов производства, т. е. от признания последствий явлений за причину их, и должна искать сначала ближайшую, а потом и более отдаленную причину тех явлений, которые составляют предмет ее исследований.
Наука должна отвечать на вопрос: какая причина того, что одни люди лишены земли и орудий труда, а другие владеют ими? или: какая причина производит отчуждение земли и орудий труда у тех, которые обрабатывают землю и работают орудиями?
И как только наука поставит себе этот вопрос, так явятся совершенно новые соображения, перевертывающие все положения прежней quasi-науки, вертящейся в безвыходном кругу утверждений, что бедственное положение рабочего происходит оттого, что оно бедственно.
Простым людям кажется несомненным, что ближайшая причина порабощения одних людей другими — это деньги. Но наука, отрицая это, говорит, что деньги есть только орудие обмена, не имеющее ничего общего с порабощением людей.
Посмотрим, так ли это.
XVIII.
Откуда берутся деньги? При каких условиях у народа всегда бывают деньги и при каких условиях мы знаем народы, не употребляющие деньги?
Живет народец в Африке, в Австралии, как жили в старину скифы, древляне. Живет этот народец, пашет, водит скотину, сады. Мы узнаем о нем тогда, когда начинается история. История же начинается с того, что наезжают завоеватели. Завоеватели же делают всегда одно и то же; отбирают от народца всё, что только могут взять у него: скотину, хлеб, ткани, даже пленников и пленниц, и увозят с собой. Через несколько лет завоеватели приезжают опять, но народец еще не оправился от разорения и взять у него почти нечего, и завоеватели придумывают другой, лучший способ пользования силами этого народца. Способы эти очень просты и естественно приходят в голову всем людям. Первый способ — это рабство личное. Способ этот имеет неудобства распоряжения всеми рабочими силами народца и прокормление всех, и представляется естественно второй способ: оставления народца на его земле, признание этой земли своею и раздача этой земли дружине, с тем чтобы через посредство дружины пользоваться трудом народа. Но и этот способ имеет свои неудобства. Дружине неудобно распоряжаться всеми произведениями народца, и вводится третий, столь же первобытный, как и первые два способа, — способ обязательного требования с подвластных известной срочной дани.
Цель завоевателя состоит в том, чтобы взять с завоеванных как можно больше произведений их труда. Очевидно, что для того, чтобы можно было взять как можно больше завоевателю, нужно взять те предметы, которые имеют высшую ценность между людьми этого народца и вместе с тем не громоздки и удобны для хранения, — шкуры, золото. И завоеватели накладывают обыкновенно срочную дань шкурами или золотом на семью или племя и посредством этой дани самым удобным для себя способом пользуются орудиями труда народа. Шкуры и золото почти всё отобрали от народца, и потому покоренные должны продавать друг другу и завоевателю и дружине за золото всё то, что они имеют: и имущество, и труд. Это самое происходило в древности и в средние века, происходит и теперь.
В древнем мире, при частых завоеваниях одних народов другими и при отсутствии сознания человеческого равенства людей, личное рабство было самым распространенным средством порабощения одних людей другими, и на личном рабстве лежал центр тяжести этого порабощения. В средние века феодальная система, т. е. поземельная собственность, связанная с нею, и крепостное право заменяют отчасти личное рабство, и центр тяжести порабощения переносится с личности на землю; в новое время, с открытием Америки и развитием торговли и наплывом золота, принятого общим денежным знаком, денежная подать с усилением государственной власти становится главным орудием порабощения людей, и на ней зиждутся все экономические отношения людей.
В литературном сборнике есть статья профессора Янжула, описывающая недавнюю историю островов Фиджи. Если бы я старался придумать самую резкую иллюстрацию того, каким образом в наше время обязательное требование денег стало главным орудием порабощения одних людей другими, я бы не мог выдумать ничего более яркого и убедительного, чем эта правдивая история, основанная на документах и происходившая на-днях.
Живет на островах Южного океана, в Полинезии, народец Фиджи. Вся группа островов, говорит профессор Янжул, состоит из мелких островов, занимающих вместе приблизительно 40 000 англ. квадр. миль. Лишь половина островов обитаема населением в 150 000 туземцев и 1500 белых. Туземные жители уже довольно давно вышли из дикого состояния, выдаются своими способностями между другими туземцами Полинезии и представляют собой народ, способный к труду и развитию, что и доказали, сделавшись в короткое время хорошими земледельцами и скотоводами. Жители благоденствовали, но в 1859 году новое королевство очутилось в отчаянном положении: народу Фиджи и его представителю Какабо понадобились деньги. Деньги 45 000 долларов понадобились королевству Фиджи для уплаты контрибуции, или вознаграждения, требуемого Соединенными Американскими Штатами за насилия, будто бы нанесенные фиджианцами некоторым гражданам Американской республики. С этою целью американцы прислали эскадру, которая захватила внезапно несколько лучших островов, как залог, и угрожала даже бомбардированием и разрушением колоний, если контрибуция не будет в известный срок вручена представителям Америки. Американцы были одни из первых колонистов, которые вместе с миссионерами появились на Фиджи. Выбирая или захватывая под теми или другими предлогами лучшие куски земли на островах и устраивая там хлопчатобумажные и кофейные плантации, американцы нанимали целые толпы туземцев, связывая их незнакомыми для дикарей контрактами или действуя через особых подрядчиков или поставщиков живого товара. Столкновения между такими хозяевами-плантаторами и туземцами, на которых они смотрели как на рабов, были неминуемы, и вот некоторые-то из них и послужили поводом к американской контрибуции. Несмотря на свое благосостояние, на Фиджи почти до настоящего времени уцелели формы так называемого натурального хозяйства, имевшие место в Европе лишь в средние века: деньги между туземцами не обращались, и вся торговля имела исключительно меновой характер; товар менялся на товар, а немногие общественные и государственные сборы взимались прямо сельскими продуктами. Что было делать фиджианцам с их королем Какабо, когда американцы категорически потребовали 45 000 долларов под угрозой самых тяжелых последствий в случае их невзноса? Для фиджианцев самая эта цифра представляла нечто непостижимое, не говоря уже о деньгах, которых они никогда не видали в таких размерах. Какабо, посоветовавшись с другими вождями, решился обратиться к английской королеве и сначала стал просить ее принять острова под свой протекторат, а позднее прямо под свое подданство. Но англичане отнеслись осторожно к этой просьбе и не спешили выручить полудикого монарха из его затруднения. Вместо прямого ответа снарядили в 1860 году специальную экспедицию с целью исследования островов Фиджи, чтобы решить, стоит ли их присоединять к Британским владениям и тратить деньги на удовлетворение американских кредиторов.
Между тем американское правительство продолжало настаивать на уплате и удерживало в качестве залога в своем фактическом владении несколько лучших пунктов, а, присмотревшись к народным богатствам, прежние 45 000 долларов повысило на 90 000 и угрожало еще повысить, если Какабо не уплатит их скоро. Тогда, теснимый со всех сторон, бедный Какабо, незнакомый с европейскими способами кредитных сделок, по совету европейских колонистов начал искать денег в Мельбурне, у купцов, во что бы то ни стало и на каких угодно условиях, хотя бы пришлось уступить частным лицам всё королевство. И вот в Мельбурне, на вызов Какабо, составляется торговая компания. Эта акционерная компания, принявшая название Полинезийского общества (Polinesian company), заключила с владетелями Фиджи договор на самых выгодных для себя условиях. Принявши на себя долг американскому правительству и обязавшись уплатить его взносом в известные сроки, компания получила за это по первому уговору 100, а затем 200 тысяч акров лучшей земли по своему выбору, свободу на вечные времена от всяких налогов и пошлин для всех своих факторий, операций и колоний и исключительное право на продолжительное время заводить в Фиджи эмиссионные банки с привилегией неограниченного выпуска билетов. Со времени этого договора, заключенного окончательно в 1868 году, у фиджиан, рядом с их местным правительством с Какабо во главе, очутилась другая власть — могущественная торговая фактория с обширными земельными владениями по всем островам и решительным влиянием в управлении.
До сих пор правительство Какабо довольствовалось для своих потребностей теми материальными средствами, которые заключались в различных натуральных сборах и небольшой таможенной пошлине с привозных товаров. С заключением договора и основанием могущественной Полинезийской компании его финансовые обстоятельства изменились. Значительная часть лучших земель во владениях отошла к компании, следовательно сборы уменьшились; с другой стороны, компания, как мы знаем выговорила себе беспошлинный, свободный привоз и вывоз всяких товаров, а чрез это и доход от пошлин также упал. Туземцы, т. е.0,99 всего населения, всегда были плохими плательщиками таможенных налогов, так как ничего почти не потребляют из европейских товаров, кроме немногих тканей и металлических изделий, теперь же, чрез освобождение вместе с Полинезийской компанией наиболее состоятельных европейцев от таможенного налога, доход короля Какабо делался окончательно ничтожным, и он должен был позаботиться о его дополнении. И вот Какабо начинает совещаться со своими белыми друзьями о том, каким образом отвратить беду, и получает от них совет ввести первый прямой налог в стране и, чтобы менее утруждать себя, вероятно, в форме денежного сбора. Налог был установлен в форме всеобщей или подушной подати в размере 1 фунта стерлингов на всякого мужчину и 4 шиллингов на всякую женщину по всем островам.
Как мы уже говорили, даже до сих пор на островах Фиджи существует еще натуральное хозяйство и меновая торговля. Очень немногие туземцы владеют деньгами. Их богатство состоит исключительно из различных сырых продуктов и стад, а не в деньгах. Между тем новый налог требовал в известные периоды времени во что бы то ни стало денег, для семейного туземца весьма значительных в общей сложности. До сих пор туземец не привык ни к каким индивидуальным тягостям в пользу правительства, кроме личных повинностей; все сборы, какие случались, уплачивались общиной или деревней, к которой он принадлежал, и с общих полей, с которых получает он свой главный доход. Ему оставался один исход: искать денег у белых колонистов, т. е. обратиться или к торговцу или к плантатору. Первому он должен был продать свой продукт по какой угодно цене, так как сборщик податей требовал деньги к известному определенному сроку, или даже занять денег под будущий продукт, чем, конечно, торговец пользовался, чтобы брать безбожные проценты; или же он должен был обратиться к плантатору и продать ему свой труд, т. е. поступить в рабочие. Но заработная плата оказалась на о. Фиджи, вследствие, вероятно, единовременного большого предложения, очень низкою, не более, согласно показанию настоящей администрации, одного шиллинга в неделю для взрослого мужчины, или 2 фунтов 12 шиллингов в год, и, следовательно, лишь для того, чтобы получить деньги, необходимые только для уплаты за самого себя, не говоря о семействе, фиджианец должен бросить свой дом, семью, собственные земли и хозяйство и, переселившись часто далеко, на другой остров, закабалить себя плантатору по крайней мере на полгода, чтобы выручить 1 фунт стерлингов, необходимый для уплаты нового налога; для уплаты же налога за все семейство он должен был искать других средств. Понятен результат такого порядка: с полутораста тысяч подданных Какабо собирал всего 6 тысяч фунтов стерлингов. И вот начинается усиленное вымогательство податей, дотоле незнакомое, и ряд принудительных мер. Местная администрация, прежде неподкупная, весьма скоро стакнулась с белыми плантаторами, которые начали вертеть страною. За неплатеж фиджианцы притягиваются к суду и приговариваются, кроме судебных издержек, к заключению в тюрьму на сроки не менее как на полгода. Роль этой тюрьмы играют плантации первого белого, который пожелает внести налог и судебные издержки за приговоренного. Таким образом белые получают в изобилии дешевый труд в каком угодно количестве. Первоначально дозволялась эта принудительная отдача на работы сроком на полгода, но затем подкупленные судьи находили возможность назначать на работы даже на восемнадцать месяцев и потом свой приговор возобновлять вновь. Весьма быстро, в несколько лет, картина экономического положения жителей Фиджи совершенно изменилась. Целые цветущие зажиточные округа наполовину обезлюдели и крайне обеднели. Всё мужское население, кроме стариков и слабосильных, работало на стороне, у белых плантаторов, чтобы добыть деньги, нужные для уплаты налога или по приговору суда. Женщины в Фиджи почти не несут никаких земледельческих работ, а потому в отсутствие мужчин хозяйства были запущены или совсем брошены. В несколько лет половина населения Фиджи превратилась в рабов белых колонистов. Чтобы облегчить свое положение, фиджианцы опять обратились к Англии. Появилось новое прошение, покрытое множеством подписей именитейших лиц и вождей, о принятии их в английское подданство и было вручено британскому консулу. К этому времени Англия, благодаря своим ученым экспедициям, успела не только изучить, но даже измерить острова и должным образом оценить природные богатства этого прекрасного уголка земного шара. По всем этим причинам переговоры на этот раз увенчались полным успехом, и в 1874 году, к большому неудовольствию американских плантаторов, Англия официально вступила во владение островами Фиджи, присоединивши их к своим колониям. Какабо умер, и его наследникам назначена маленькая пенсия. Управление островов было поручено сэру Робинзону, губернатору Южного Валлиса.
В первый год своего присоединения к Англии Фиджи не имело своего управления, а находилось под влиянием сэра Робинзона, который назначил сюда администратора. Принимая в свои руки острова, английское правительство должно было разрешить трудную задачу — удовлетворить разнообразным ожиданиям, на него возлагаемым. Туземцы, конечно, прежде всего рассчитывали на уничтожение ненавистного для них подушного налога, белые же колонисты (частью американцы) относились к британскому владычеству с недоверием, частью же (английского происхождения) рассчитывали на всякие блага — признание, например, своего владычества над туземцами, освящение своих прав на земельные захваты и т. д. Английское управление оказалось однако вполне на высоте своей задачи, и первым его действием было уничтожение навсегда подушного налога, создававшего рабство туземцев для выгод немногих колонистов. Но тут сэру Робинзону представлялась тотчас же трудная дилемма. Необходимо было уничтожить подушный налог, спасаясь от которого, фиджианцы обратились к английскому правительству, а вместе с тем, по правилу английской колониальной политики, колонии должны содержать себя сами, т. е. находить свои собственные средства на удовлетворение расходов по управлению. Между тем с уничтожением подушного налога все доходы на Фиджи (с таможенных пошлин) не превышали 6 тысяч фунтов, тогда как расходы по управлению требовали по меньшей мере 70 000 фунтов в год. И вот Робинзон, уничтожив денежный налог, придумывает labour tax, т. е. барщину, на которую должны были ходить фиджианцы; но барщина не выручила 70 000 фунтов, нужных для корма Робинзона и его помощников. И дело не пошло до назначения нового губернатора Гордона, который, для того чтобы достать с жителей деньги, нужные на содержание его и его чиновников, догадался не требовать денег до тех пор, пока деньги в нужном количестве не распространятся на островах, а отбирать у туземцев их произведения и самому продавать их.
Трагический эпизод этот из жизни фиджианцев есть самое ясное и лучшее указание того, что есть деньги и в чем их значение. Тут выразилось всё: и первое основное условие порабощения — пушка, угроза, убийство и захваты земли, и главное средство — деньги, которые заменили все другие.
То, что в историческом очерке экономического развития народов надо прослеживать в продолжение веков, тут, когда уже все формы денежного насилия выработались вполне, сконцентрировано в одном десятилетии. Драма начинается с того, что американское правительство посылает корабли с заряженными пушками к берегам островов, жителей которых оно хочет поработить. Предлог этой угрозы — денежный, но начало драмы с пушек, направленных на всех жителей: жен, детей, стариков, да и мужчин ни в чем даже невиноватых, — явление, теперь же повторяющееся в Америке, в Китае, в Средней Азии. Это начало драмы: кошелек или жизнь, повторенное в истории всех завоеваний всех народов; 45 000, а потом 90 000 долларов или побоище. Но 90 тысяч нет. Они у американцев. И вот начинается второй акт драмы: надо отсрочить побоище, разменять кровавое побоище, страшное, сосредоточенное в короткий промежуток времени, на страдания менее заметные, хотя и более продолжительные. И народец со своим представителем ищет средств заменить побоище рабством денег. Он занимает деньги, и выработанные формы закрепощения людей деньгами тотчас же начинают действовать, как дисциплинированная армия, и в пять лет дело готово: люди не только лишились права пользоваться своею землею, лишились своего имущества, но и свободы; люди — рабы.
Начинается третий акт. Положение слишком тяжело, и до несчастных доходят слухи, что можно переменить хозяина и отдаться в рабство другому. (Об освобождении от рабства, наложенного деньгами, уж нет и мысли.) И народец зовет к себе другого хозяина, которому он отдается с просьбою улучшить свое положение. Англичане приходят, видят, что владение этими островами дает им возможность кормить разведшихся слишком много дармоедов, и английское правительство берет себе эти острова с жителями, но не берет их в форме рабов личных, не берет даже земли и не раздает ее своим помощникам. Эти старые приемы теперь не нужны. Нужно одно: чтобы они платили дань и дань такую, которая бы, с одной стороны, была достаточно велика, чтобы рабочие не могли выйти из рабства, и, с другой стороны, которая бы хорошо кормила множество дармоедов.
Жители должны платить 70 000 фунтов стерлингов. Это есть коренное условие, при котором Англия соглашается выручить фиджианцев от американского рабства, и это есть вместе с тем единственное, нужное для полного порабощения жителей. Но оказывается, что фиджианцы ни в каком случае не могут в теперешнем своем положении выплатить 70 000. Это требование слишком велико. Англичане на время изменяют это требование и берут часть натурой, с тем чтобы в свое время, при распространении денег, довести взимание до положенной нормы. Англия действует уже не как прежняя компания, поступки которой можно сравнить с первым приходом диких завоевателей к диким жителям, когда они хотят только одного — сорвать что можно и уйти, а Англия поступает как более дальновидный поработитель, не убивает сразу курицу с золотыми яйцами, а может и покормить, зная, что курица — несучка. Она сначала отпускает поводья для своей выгоды, чтобы после уже навеки затянуть их, чтобы привести фиджианцев в то положение денежного рабства, в котором находятся европейские и цивилизованные народы и от которого не предвидится освобождения.
Деньги — безобидное средство обмена, но только не тогда, когда они насильно взымаются, когда у берегов страны стоят заряженные пушки, направленные на жителей. Как только деньги взымаются насильно, из-под пушек, так неизбежно повторится то, что было на островах Фиджи, и повторялось и повторяется всегда и везде: у князей с древлянами и у всех правительств с их народами. Люди, имеющие власть насиловать других, будут это делать посредством насильственного требования такого количества денег, которое заставит людей насилуемых сделаться рабами насильников. И кроме того, всегда произойдет то, что произошло и у англичан с фиджианцами, а именно то, что насильники в своем требовании денег всегда скорее перейдут тот предел, до которого должно быть доведено количество требуемых денег, чтобы порабощение совершилось раньше, чем не дойдут до него. Дойдут они до самого этого предела и не перейдут его только в случае нравственного чувства и своей собственной независимости от денежных требований, перейдут же его всегда, когда у них не будет нравственного чувства, и всегда, когда и будет это чувство, но они сами будут в нужде. Правительства же все всегда перейдут этот предел, во-первых, потому, что для правительства не существует нравственного чувства, а во-вторых, потому, что, как мы знаем, правительства сами находятся в крайней нужде, производимой войнами и необходимостью подачек своим пособникам. Все правительства всегда в неоплатном долгу, и они, если бы и хотели, не могут не исполнить того правила, которое выразил один русский государственный человек XVIII века, что надо стричь мужика, не давать ему обрастать. Все правительства в неоплатном долгу, и долг этот в общей сложности (не считая случайного уменьшения его в Англии и Америке) растет с каждым годом в ужасающей прогрессии. Точно так же растут бюджеты, т. е. необходимость бороться с другими насильниками и давать подачки деньгами и землями своим помощникам насилия, и потому точно так же растет поземельная плата. Не растет же заработная плата не по закону ренты, а потому, что существует с насилием взимаемая дань государственная и поземельная, имеющая целью отбирать от людей все их излишки, так чтобы они для удовлетворения этого требования должны были продавать свой труд, потому что пользование этим трудом и есть цель наложения дани. Пользование же этим трудом возможно только тогда, когда в общей массе требуется больше денег, чем могут отдать рабочие, не лишив себя пропитания. Возвышение заработной платы уничтожило бы возможность рабства, и потому, пока есть насилие, она никогда не может возвыситься. И это-то простое и понятное действие одних людей над другими экономисты называют железным законом; орудие же, которым производится это действие, они называют средством обмена.
Деньги — это безобидное средство обмена — нужны людям в их отношениях между собой. Почему же там, где нет насильственного требования денежных податей, никогда не было и не могло быть денег в их настоящем значении, а было и будет, как это было у фиджианцев, у киргизов, у африканцев, у финикийцев и вообще у людей, не платящих подати, то прямой обмен предметов на предметы, то случайные знаки ценностей: бараны, меха, шкуры, раковины. Известные, какие бы то ни было деньги получают ход между людьми только тогда, когда их насильно требуют со всех. Только тогда каждому они становятся нужны для откупа от насилия, только тогда они получают постоянную меновую ценность. И получает ценность тогда не то, что удобнее для обмена, а то, что требуется правительством. Будет требоваться золото — золото будет иметь ценность, будут требоваться бабки — бабки будут ценность. Если бы это было не так, то отчего же выпуск этого средства обмена всегда составлял и составляет прерогативу власти? Люди —фиджианцы положим — установили свое средство обмена, ну и оставьте их обмениваться, как и чем они хотят, и вы, люди, имеющие власть, т. е. средства насилия, и не вмешивайтесь в этот обмен. А то вы начеканите эти монетки, никому не позволяя чеканить такие же, а то, как у нас, только напечатаете бумажки, изобразите на них лики царей, подпишете особенной подписью, обставите подделку этих денег казнями, раздадите эти деньги своим помощникам и требуете себе в форме государственных и поземельных податей таких монеток или бумажек, с такими точно подписями, столько, что рабочий должен отдать весь свой труд, чтобы приобресть эти самые бумажки или эти самые монетки, и уверяете нас, что эти деньги нам необходимы как средство обмена.
Люди все свободны, и одни люди не угнетают других, не держат их в рабстве, а только есть деньги в обществе и железный закон, по которому рента увеличивается, а рабочая плата уменьшается до минимума! То, что половина (больше половины) русских мужиков закабаляется за подати и прямые, и косвенные, и поземельные в работы землевладельцам и фабрикантам, это совсем не значит то, что очевидно, что насилие взимания податей подушных, и косвенных, и поземельных, уплачиваемых правительству и его помощникам, землевладельцам, деньгами, заставляют рабочего быть в рабстве у тех, кто взимает деньги, а это значит, что есть деньги — средство обмена — и железный закон!
Когда крепостные люди не были свободны, я мог заставить Ваньку работать всякую работу, и если Ванька отказывался, я посылал его к становому, и становой сек ему ж... до тех пор, пока Ванька не покорялся. Притом же, если я заставлял работать Ваньку сверх силы, не давая ему земли и не давая пищи, дело доходило до начальства, и я должен был отвечать. Теперь же люди свободны, но я могу заставить Ваньку, Сидорку и Петрушку работать всякую работу, и если он откажется, то я не дам ему денег за подати, и ему будут сечь ж... до тех пор, пока он не покорится; кроме того, я могу заставить работать на себя и немца, и француза, и китайца, и индейца тем, что за непокорность его я не дам ему денег, чтобы нанять земли или купить хлеба, потому что у него нет ни земли, ни хлеба. И если я заставлю работать его без пищи, сверх сил, задушу его работой, никто мне слова не скажет; но если я сверх того почитал еще политико-экономических книг, то я могу быть твердо уверен, что все люди свободны и деньги не производят рабства.
Мужики знают давно, что рублем можно бить больнее, чем дубьем. Но только политико-экономы не хотят видеть этого.
Говорить о том, что деньги не производят порабощения — это всё равно, что было бы говорить полстолетия тому назад, что крепостное право не производит порабощения. Политико-экономы говорят, что, несмотря на то, что вследствие обладания деньгами один человек может поработить другого, деньги есть безобидное средство обмена. Почему же было не говорить полстолетия тому назад, что, несмотря на то, что крепостным правом можно поработить человека, крепостное право не есть средство порабощения, а безобидное средство взаимных услуг? Одни дают свой грубый труд, другие — заботу о физическом и умственном благосостоянии рабов и об учреждении работы. Даже так, кажется, и говорили.
XIX.
Если бы эта воображаемая наука — политическая экономия — не занималась тем же, чем занимаются все юридические науки, — апологией насилия, она не могла бы не видать того странного явления, что распределение богатств и лишение одних людей земли и капитала и порабощение одних людей другими, — всё это в зависимости от денег и что только посредством денег теперь одни люди пользуются трудом других, т. е. порабощают их.
Повторяю: человек, у которого есть деньги, может скупить весь хлеб и заморить другого голодом и за хлеб поработить его совершенно. Так и делается на наших глазах в огромных размерах.
Казалось бы, надо бы поискать связи этих явлений порабощения с деньгами, но наука с совершенной уверенностью утверждает, что деньги не имеют с порабощением людей никакой связи.
Наука говорит: деньги есть такой же товар, как и всякий другой, имеющий стоимость своего производства, только с той разницей, что этот товар избран как самое удобное для установления цен, для сбережения и для платежей средство обмена: один наделал сапог, другой напахал хлеб, третий выкормил овец, и вот, чтобы им удобнее меняться, они заводят деньги, представляющие соответствующую долю труда, и посредством их променивают подметки на баранью грудинку и десять фунтов муки.
Люди этой воображаемой науки очень любят представлять себе такое положение дел; но такого положения дел никогда в мире не было. Такое представление об обществе всё равно что представление о первобытном, неиспорченном, совершенном человеческом обществе, которое любили делать прежние философы. Но такого положения никогда не было. Во всех человеческих обществах, где были деньги, как деньги, всегда было насилие сильного и вооруженного над слабым и безоружным; а там, где было насилие, знаки ценностей — деньги, какие бы то ни было: скотина, меха, шкуры, металлы — всегда неизбежно должны были терять это значение и получать значение откупа от насилия. Деньги несомненно имеют те безобидные свойства, которые перечисляет наука, но свойства эти они имели бы в действительности только в том обществе, в котором не появилось бы насилия одного человека над другим, — в идеальном обществе; но в таком обществе и денег, как денег, общей меры ценности, и вовсе бы не было, как не было и не могло их быть во всех обществах, не подвергшихся общему государственному насилию.
Во всех же известных нам обществах, где есть деньги, они получают значение обмена только потому, что служат средством насилия. И главное значение их не в том, чтобы служить средством обмена, а в том, чтобы служить насилию. Так, где есть насилие, деньги не могут служить правильным средством обмена, потому что не могут быть мерою ценностей. Мерою ценностей они не могут быть потому, что как только в обществе один человек может отнять у другого произведение его труда, так тотчас же нарушена эта мера. Если на конную вместе выведут лошадей и коров, выкормленных хозяевами и отнятых силою у других хозяев, то очевидно, что ценность на этом базаре лошадей и коров уже не будет соответствовать труду выкармливания этих животных, и ценности всех других предметов изменятся сообразно этому изменению, и деньги не будут определять ценность этих предметов. Кроме того, если можно насилием приобрести корову, лошадь и дом, то можно тем же насилием приобрести и самые деньги и за деньги приобрести и всякие произведения. Если же и самые деньги приобретаются насилием и употребляются на покупку предметов, то деньги теряют уже совершенно всякое подобие средства обмена. Насильник, отобравший деньги и отдающий их за произведение труда, не обменивает, а только берет посредством денег всё то, что ему нужно.
Но если бы даже и существовало такое воображаемое, невозможное общество, в котором без общего государственного насилия над людьми деньги — серебро или золото — имели бы значение мер ценностей и средства обмена, то и в таком обществе деньги при появлении насилия тотчас же потеряли бы свое значение. Является в это общество насильник в виде завоевателя. Насильник этот, положим, захватит и коров, и лошадей, и дома жителей, но ему неудобно владеть этим и потому, естественно, он догадается захватить у этих людей и то, что среди них составляет всякого рода ценности и обменивается на всевозможные предметы: именно деньги. И тотчас же значение денег, как меры ценностей, перестанет иметь место в таком обществе, потому что мера ценности всяких предметов будет всегда зависеть от произвола насильника. Тот предмет, который будет более нужен насильнику и за который он будет давать больше денег, получит большую ценность и наоборот. Так что в обществе, подвергшемся насилию, деньги тотчас получают одно преобладающее значение средства насилия для насильника и удержат значение средства обмена для насилуемых только настолько и в таком отношении, которое выгодно для насильника.
Представим себе дело в малом кругу. Крепостные представляют помещику полотна, кур, баранов и поденную работу. Помещик заменяет натуральные повинности деньгами и постановляет цену на различные предметы повинностей. Тот, у кого нет полотна, хлеба, скотины, рабочих рук, может представить известное количество денег. Очевидно, что в обществе крестьян этого помещика ценность предметов будет всегда зависеть от произвола помещика. Помещик употребляет собираемые предметы, и одни ему более, а другие менее нужны, и, смотря поэтому, он назначает более или менее высокие цены на предметы. Очевидно, что только произвол или потребность помещика определяет и цены этих предметов между плательщиками. Если помещику нужен хлеб, он назначает дорогую цену за право не внести определенное количество хлеба и дешевую цену за право не внести полотна, скотину и не выставить работу: и потому те, у которых нет хлеба, будут продавать другим свою работу, полотна и скотину, чтобы купить хлеб для отдачи его помещику. Если же помещик захочет перевести все повинности на деньги, то тогда цена предметов опять не будет зависеть от их стоимости труда, а, во-первых, от количества денег, которое будет требовать помещик, и, во-вторых, от того, какие предметы, произведенные крестьянами, более нужны помещику, и потому, за какие из этих предметов он платит более и за какие менее денег. Взыскание с крестьян денег помещиком не имело бы влияния на ценности предметов между крестьянами только тогда, когда бы, во-первых, крестьяне этого помещика жили отдельно от других людей и не имели бы других отношений, кроме как между собой и своим помещиком, и, во-вторых, тогда, когда помещик употреблял бы деньги не на покупку предметов в своей деревне, а вне ее. Только при этих двух условиях ценность предметов, хотя и изменившись номинально, относительно оставалась бы правильною и деньги имели бы значение меры ценностей и обмена; но если крестьяне имеют экономические отношения с окружающими их жителями, то, во-первых, от большего или меньшего требования помещиком денег будет зависеть большая или меньшая ценность их предметов производства в отношении к соседям (если с соседей требование денег меньше, чем с них, то их произведения будут продаваться дешевле, чем произведения их соседей, и наоборот). И, во-вторых, взыскание денег помещиком с крестьян не имело бы влияния на ценность производств только тогда, когда собранные деньги помещик не употреблял бы на покупку произведений своих крестьян. Если же он употребляет деньги па покупку произведений своих крестьян, то очевидно, что самое отношение цен различных предметов между самими крестьянами будет постоянно изменяться по мере покупки помещиком того или другого предмета. Положим, что один помещик назначил очень высокий оброк, а сосед — низкий; очевидно, что в области первого помещика все предметы будут дешевле, чем в области второго, и что цены в той и другой области будут зависеть только от понижения и повышения оброков. Таково одно влияние насилия на цены. Другое влияние, вытекающее из первого, будет состоять в относительной ценности всех предметов. Положим, что один помещик любит лошадей и платит дорого за них; другой же любит полотенца и за них платит дорого. Очевидно, что во владении обоих помещиков будут дороги лошади и полотенца и цена этих предметов будет несоответственна цене коров и хлеба. Завтра же умрет любитель полотенец, и его наследник будет любить кур; очевидно, что и цена полотенец падет и возвысится цена кур.
Там, где в обществе существует насилие одного человека над другим, значение денег, как мерила ценностей, тотчас же подчиняется произволу насильника, и значение их, как средства обмена произведений труда, заменяется другим значением — самого удобного средства пользования чужим трудом. Деньги нужны насильнику не для обмена, — он возьмет, что ему нужно, и без обмена, — и не для установления мер ценностей, — он сам устанавливает их, — а только для удобства насилия, состоящего в том, что деньги сберегаются и деньгами легче всего держать в порабощении наибольшее число людей. Отобрать всю скотину для того, чтобы были всегда и лошади, и коровы, и овцы, сколько когда понадобится, неудобно потому, что их надо кормить; то же самое и с хлебом: он может испортиться; то же и с работой, с барщиной: иногда нужна тысяча работников, а иногда ни одного. Деньги, требуемые с тех, у кого их нет, дают возможность избавиться от всех этих неудобств и иметь всегда всё, что нужно, и только для этого нужны насильнику. Кроме того, деньги нужны насильнику еще и для того, чтобы его право пользования чужим трудом не ограничивалось известными людьми, а распространялось бы на всех людей, нуждающихся в деньгах. Когда не было денег, каждый помещик мог пользоваться трудом только своих крепостных; когда же они оба уговорились брать со своих крепостных деньги, которых у тех нет, они оба стали пользоваться безразлично всеми теми силами, которые есть в обоих имениях. И потому насильник находит более удобным все свои требования чужого труда заявлять деньгами, и деньги для этого только и нужны насильнику. Для насилуемого же, для того, у кого отбирается его труд, деньги не могут быть нужны ни для обмена — он обменяется и без денег, как обменивались все народы без правительств; ни для определения мер ценностей, потому что это определение делается помимо его; ни для сбережения, потому что тот, у кого отбирают произведения его труда, не может сберегать; ни для платежей, потому что для насилуемого всегда придется больше платить, чем получать, а когда и придется получать, то и тогда платежи ему будут производиться не деньгами, а товаром, — если работник прямо берет за свою работу в лавке своего хозяина, —и точно так же, если он на весь свой заработок покупает в вольных лавках предметы первой необходимости. С него требуют деньги и говорят ему, что если он не заплатит их, то ему не дадут земли, хлеба, или отнимут у него его корову, его дом и отдадут в заработки, или посадят в тюрьму. Избавиться от этого он может только тем, что продаст произведения своего труда, свою работу или работу своих детей. Продает же он произведения своего труда и самый труд свой по тем ценам, которые устанавливаются не правильным обменом, а тою властью, которая требует с него деньги. И при этих-то условиях влияния даней или податей на ценности, повторяющихся всегда и везде, у помещиков в малом кругу, а в государствах в большом кругу, при этих условиях, при которых причины изменения ценностей так же очевидны, как очевидны тому, кто смотрит за кулисы, причины, почему у куклы поднимаются и опускаются ноги, — при этих условиях говорить о том, что деньги представляют средство обмена и мерила ценностей, по меньшей мере удивительно.
XX.
Всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один человек может лишить другого жизни и, не оставляя этого угрожающего положения, заставить другого исполнять свою волю.
Безошибочно можно сказать: если есть порабощение человека, т. е. исполнение одним против своей воли, по воле другого, известных нежелательных для него поступков, то причина этого есть только насилие, имеющее в основе своей угрозу лишения жизни.
Если человек отдает весь свой труд другим, питается недостаточно, отдает малых детей в тяжелую работу, уходит от земли и посвящает всю свою жизнь ненавистному и ненужному для себя труду, как это происходит на наших глазах, в нашем мире (называемом нами образованным, потому что мы в нем живем), то наверно можно сказать, что он делает это только вследствие того, что за неисполнение всего этого ему угрожают лишением жизни. И потому в нашем образованном мире, где большинство людей при страшных лишениях исполняют ненавистные и ненужные им работы, большинство людей находится в порабощении, основанном на угрозе лишения жизни.
В чем это порабощение? И в чем угроза лишения жизни?
В древние времена способ порабощения и угроза лишения жизни были очевидны: употреблялся первобытный способ порабощения людей, состоящий в прямой угрозе убийства мечом. Вооруженный говорит безоружному: я могу убить тебя, как, ты видел, я сейчас сделал с твоим братом, но я не хочу делать этого, я милую тебя — во-первых, потому что мне неприятно убивать тебя, во-вторых, потому, что мне и тебе будет выгоднее работать на меня, чем быть убиту. Итак, делай всё, что я велю, а если откажешься, то я убью тебя; и безоружный подчинялся вооруженному и делал всё то, что приказывал вооруженный. Безоружный работал, вооруженный угрожал. Это было то личное рабство, которое первое появляется у всех народов и теперь еще встречается у первобытных народов. Этот способ порабощения людей входит первый, но с усложнением жизни способ этот видоизменяется. Способ этот при усложнении жизни представляет большие неудобства для насильника. Насильнику, чтобы пользоваться трудом слабых, необходимо их кормить и одевать, т. е. содержать их так, чтобы они были способны к работе, и этим самым ограничивается число порабощенных; кроме того, этот способ принуждает насильника беспрестанно с угрозой убийства стоять над порабощенным. И вот вырабатывается другой способ порабощения.
Пять тысяч лет тому назад, как это записано в Библии, был изобретен Иосифом Прекрасным этот новый, более удобный и широкий способ порабощения людей. Способ этот — тот же самый, который употребляют в новое время для укрощения непокорных лошадей и диких зверей в зверинцах. Способ этот — голод.
Вот как описывается это изобретение в Библии:
Бытия гл. 41, ст. 48. — И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были (плодородны) в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
49. — И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, потому что недостало счета.
53. — И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской.
54. — И наступали семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
55. — Но когда и земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопить к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: подите к Иосифу, и что он вам скажет, то делайте.
56. — И голод был во всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
57. — И из всех стран приходили покупать хлеб у Иосифа; потому что голод усилился по всей земле.
Иосиф, пользуясь правом первобытного способа порабощения людей угрозою меча, собрал хлеб в хорошие года, ожидая дурных, которые обыкновенно следуют за хорошими, что знают все люди и без сновидений фараона, и этим средством — голодом — сильнее и удобнее для фараона поработил и египтян, и всех других жителей окрестных стран. Когда же народ стал чувствовать голод, он поставил дело так, чтобы навсегда держать народ в своей власти — голодом.
В главе 47-й это описывается так:
Гл. 47, ст. 13. — И не стало хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.
14. — И собрал Иосиф всё серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.
15. И истощилось серебро в земле Египетской и в земле Ханаанской. И пришли все египтяне к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; для чего умирать нам перед тобою, потому что вышло серебро?
16. — И сказал Иосиф: отдайте скот ваш, и я дам вам хлеба за скот ваш, если вышло серебро.
17. — И приводили они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеба за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их.
18. — И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота у господина нашего; ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших.
19. — Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями вашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам жить и не умереть и чтобы не опустела земля.
20. — И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталася земля фараону.
21. — А народ переводил он в города от одного конца области Египта до другого конца.
22. — Только земли жрецов не купил он, потому что жрецам от фараонов положен был участок, и они питались своим участком земли, который дал им фараон, потому и не продали земли своей.
23. — И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам семена, и засевайте землю.
24. — Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону; а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим.
25. — И сказали они: ты спас нам жизнь, да обретем милость в глазах господина нашего и да будем рабами фараону.
26. — И поставил Иосиф закон о земле Египетской, даже до сегодня: пятую часть фараону. Одна только земля жрецов не принадлежала фараону.
Прежде фараону, чтобы пользоваться трудами людей, надо было силою заставить на себя работать; теперь же, когда запасы и земля у фараона, ему нужно только силою беречь эти запасы, и он голодом может заставить их работать на себя.
Земля вся у фараона, и запасы (отбираемая часть) всегда у него, и потому вместо того, чтобы подгонять на работу каждого отдельно мечом, стоит только силою беречь запасы, и люди порабощены уже не мечом, а голодом.
В голодный год все могут быть по воле фараона заморены голодом, а в неголодный год могут быть заморены все те, у которых от случайных невзгод нет запасов хлеба.
И устанавливается второй способ порабощения не прямо мечом, т. е. не тем, что сильный с угрозой убийства гоняет слабого на работу, но тем, что сильный, отобрав запасы и охраняя их мечом, заставляет слабого отдаваться в работу за корм.
Иосиф говорит голодным: я могу заморить вас голодом, потому что хлеб у меня, но я милую вас только с тем, чтобы вы за хлеб, который я буду вам давать, делали всё то, что я велю.
Для первого способа порабощения сильному необходимо иметь только воинов, которые бы постоянно разъезжали по жителям и под угрозой смерти приводили бы в исполнение требование сильного. Для первого способа насильнику нужно делиться только с воинами. При втором же способе, кроме воинов, необходимых насильнику для оберегания от голодных земли и запасов хлеба, ему необходимы и другого рода помощники — большие и малые Иосифы — управители и раздатчики хлеба. И насильнику приходится делиться с ними и дать Иосифу парчевую одежду, золотое кольцо и прислугу, и хлеб, и серебро его братьям и родным. Кроме того, по самой сущности дела участниками насилия при этом втором способе становятся не только распорядители и их родные, но и все те, которые имеют запасы хлеба. Как при первом способе, основанном на грубой силе, становился участником насилия всякий, имеющий оружие, так при этом способе, основанном на голоде, участвует в насилии и властвует всякий, имеющий запасы, над неимеющими их. Выгода этого способа перед первым состоит для насильника в том: 1) главное, что он уже более не обязан усилиями принуждать рабочих исполнять его волю, а рабочие сами приходят и продаются ему; 2) в том, что меньшее количество людей ускользает от его насилия; невыгоды же для насильника только в том, что он делится при этом способе с большим числом людей. Выгоды для насилуемого при этом способе в том, что насилуемые не подвергаются более грубому насилию, а предоставляются самим себе и всегда могут надеяться и иногда действительно могут при счастливых условиях перейти из насилуемых в насилующих; невыгоды же их те, что они никогда уже не могут ускользнуть от известной доли насилия. Новый способ этот порабощения входит обыкновенно в употребление вместе с старым, и сильный по мере надобности сокращает один и распространяет другой. Но и этот способ порабощения не удовлетворяет вполне желаниям сильного — как можно больше отобрать произведений труда от наибольшего числа работников и поработить как можно большее число людей — и не соответствует более усложняющимся условиям жизни, и вырабатывается еще новый способ порабощения. Новый и третий способ этот есть способ дани. Способ этот основывается, так же как и второй, на голоде, но к средству порабощения людей лишением хлеба присоединяется еще и лишение их и других необходимых потребностей. Сильный назначает с рабов такое количество денежных знаков, находящихся у него же, за которые, чтобы приобрести их, рабы обязаны продать не только запасы хлеба в большей мере, чем та пятая часть, которую назначил Иосиф, но и предметы первых потребностей: мясо, кожу, шерсть, одежды, топливо, постройки даже, и потому насильник держит всегда в своей зависимости рабов не только голодом, но и жаждой, и холодом, и всякими другими лишениями.
И устанавливается третья форма рабства —денежного, состоящего в том, что сильный говорит слабому: я с каждым из вас отдельно могу сделать всё, что хочу: могу прямо ружьем убить каждого, могу убить тем, что отниму землю, которою вы кормитесь, могу за денежные знаки, которые вы должны мне доставить, купить весь тот хлеб, которым вы кормитесь, и продать его чужим людям и всякую минуту уморить всех вас голодом, могу отобрать всё, что у вас есть: и скот, и жилища, и одежды, но мне неудобно это и неприятно, и потому я вам всем предоставляю распоряжаться вашей работой и вашими произведениями труда, как вы хотите; только подавайте мне столько-то денежных знаков, требование которых я распределяю или по головам, или по земле, на которой вы сидите, или по количеству пищи или питья вашего, или ваших одежд, или построек. Подавайте мне эти знаки, а между собой распоряжайтесь как хотите, но знайте, что я не буду защищать и отстаивать ни вдов, ни сирот, ни больных, ни старых, ни погорелых; я буду защищать только правильность обращения этих денежных знаков. Прав будет передо мной и будет отстаиваться мною только тот, кто правильно подает мне, сообразно требованию, установленное количество денежных знаков. А как они приобретены — мне всё равно.
И сильный только выдает эти знаки, как квитанции в том, что требования его исполнены.
Второй способ порабощения состоит в том, что, отбирая пятую часть урожая и составляя себе запасы хлеба, фараон, кроме личного порабощения мечом, получает вместе с своими помощниками возможность властвования над рабочими людьми во время голода и над некоторыми из них во время постигающих их невзгод. Третий способ — в том, что фараон требует с рабочих денег больше, чем стоит та часть хлеба, которую он брал у них, и получает с своими помощниками новое средство властвования над рабочими не только во время голода и случайных невзгод, но всегда. При втором способе у людей остаются запасы хлеба, помогающие им, не отдаваясь в рабство, переносить небольшие недороды и случайно выпадающие невзгоды; при третьем способе, когда требований предъявлено больше, то отбираются и запасы хлеба и всякие другие запасы предметов первой необходимости, и при малейшей невзгоде работник, не имея ни запасов хлеба, ни других запасов, которые бы он мог променять на хлеб, подвергается рабству тем, у кого есть деньги. Для первого способа насильнику нужно иметь только воинов и делиться только с ними; для второго ему нужно иметь, кроме охранителей земли и запасов хлеба, еще собирателей и приказчиков для раздачи этого хлеба; для третьего способа ему нельзя уже самому владеть всею землею, а нужно иметь, кроме воинов для сбережения земли и богатств, еще землевладельцев и собирателей дани, распределителей ее по головам или по предметам потребления, наблюдателей, таможенных служителей, распорядителей деньгами и делателей их. Организация третьего способа гораздо сложнее второго; при втором способе собирание хлеба можно отдать и на откуп, как это делалось в старину и теперь делается в Турции; при обложении же рабов податями необходима сложная администрация людей, следящих за тем, чтобы люди или их поступки, обложенные податью, не ускользали от дани. И потому при третьем способе насильнику приходится делиться еще с большим количеством людей, чем при втором способе; кроме того, по самой сущности дела участниками третьего способа становятся все те люди, той же или чужой стороны, которые имеют деньги. Выгоды этого способа для насильника перед первым и вторым состоят в следующем:
Во-первых, в том, что посредством этого способа может быть отобрано большее количество труда и более удобным способом, так как денежная подать, подобно винту, может быть легко и удобно завинчиваема до того последнего предела, при котором только не убивается золотая курица, так что не нужно дожидаться голодного года, как при Иосифе, а голодный год устроен навсегда.
Во-вторых, в том, что при этом способе насилие распространяется на всех ускользавших прежде безземельных людей, отдававших прежде только часть своего труда за хлеб, теперь же обязанных, кроме той части, которую они отдали за хлеб, отдавать еще часть этого труда за подати насильнику. Невыгода же для насильника в том, что он при этом способе делится с большим количеством людей, не только своих непосредственных помощников, но, во-первых, всех тех частных землевладельцев, которые обыкновенно появляются при этом третьем способе; во-вторых, со всеми теми людьми своего и даже чужого народа, имеющими денежные знаки, которые требуются с рабов.
Выгода для насилуемого сравнительно с вторым способом одна — в том, что он получает еще бòльшую личную независимость от насильника: он может жить где хочет, делать что хочет, сеять и не сеять хлеб, не обязан отдавать отчет в своей работе и, имея деньги, может считать себя совершенно свободным и постоянно надеяться и достигать, хоть на время, когда у него есть лишние деньги или купленная на них земля, положения не только независимого, но и насилующего. Невыгода же его та, что в общей сложности при этом третьем способе положение насилуемых становится гораздо тяжелее, и они лишаются большей части произведений своего труда, так как при этом третьем способе количество людей, пользующихся трудами других людей, становится еще больше, и потому тяжесть содержания их ложится на меньшее число.
Этот третий способ порабощения людей тоже очень старый и входит в употребление вместе с двумя прежними, не исключая их совершенно.
Все три способа порабощения людей никогда не переставали существовать. Все три способа можно сравнить с винтами, прижимающими ту доску, которая наложена на рабочих и давит их. Коренной, основной средний винт, без которого не могут держаться и другие винты, тот, который завинчивается первый и никогда не отпускается, — это винт личного рабства, порабощения одних людей другими посредством угрозы убийства мечом; второй винт, завинчивающийся уже после первого, — порабощение людей отнятием земли и запасов пищи — отнятие, поддерживаемое личной угрозой убийства; и третий винт — это порабощение людей посредством требования денежных знаков, которых у них нет, поддерживаемое тоже угрозой убийства. Все три винта завинчены, и когда туже натягивается один, тогда только слабнут другие. Для полного порабощения рабочего необходимы все три винта, все три способа порабощения, и в нашем обществе всегда употребляются все три способа порабощения, всегда завинчены все три винта.
Первый способ порабощения людей личным насилием и угрозой убийства мечом никогда не уничтожался и не уничтожится до тех пор, пока будет какое бы то ни было порабощение одних людей другими, потому что на нем зиждется всякое порабощение. Мы все очень наивно уверены, что рабство личное уничтожено в нашем цивилизованном мире, что последние остатки его уничтожены в Америке и России, а что теперь только у варваров есть рабство, а у нас его нет. Мы забываем только про маленькое обстоятельство, про те сотни миллионов постоянного войска, без которого нет ни одного государства и при уничтожении которого неизбежно рушится весь экономический строй каждого государства. А что же эти миллионы солдат, как не личные рабы тех, кто ими управляет? Разве эти люди не принуждены к исполнению всей воли своих владельцев под угрозой истязаний и смерти — угрозой, часто приводимой в исполнение. Разница только в том, что подчинение этих рабов называют не рабством, а дисциплиной, и что те были рабами от рождения до смерти, а эти более или менее короткое время так называемой их службы. Рабство личное не только не уничтожено в наших цивилизованных обществах, но с общей воинской повинностью оно усилилось в последнее время, и как оно было всегда, так и теперь остается, но только несколько изменилось. И оно не может не быть, потому что покуда будет порабощение одного человека другим, будет и это личное рабство, то, которое угрозой мечом поддерживает земельное и податное порабощение людей. Может быть, что это рабство, т. е. войско, очень нужно, как говорят, для защиты и славы отечества, но эта польза его более чем сомнительна, потому что мы видим, как оно часто при неудачных войнах служит для порабощения и посрамления отечества; но совершенно несомненна целесообразность этого рабства для поддержания земельного и податного порабощения.
Завладей ирландцы или русские мужики землями владельцев — и придут войска и возьмут их назад. Построй винный или пивоваренный завод и не плати акциза — придут солдаты и прекратят завод. Откажись платить подати — будет то же.
Второй винт — это способ порабощения людей отнятием у них земли и потому их запасов пищи. Способ порабощения этот тоже существовал и существует всегда, где люди порабощены, и как бы он ни видоизменялся, он существует везде. Иногда вся земля принадлежит государю, как в Турции, и отбирается 0,1 урожая в казну; иногда часть ее, и собирается с нее подать; иногда вся земля принадлежит малому числу лиц, и за нее взимается доля труда, как в Англии; иногда большая или меньшая часть принадлежит крупным землевладельцам, как в России, Германии и Франции. Но там, где есть порабощение, есть и присвоение земли порабощением. Винт этого порабощения людей ослабляется или притягивается по мере того, как туго натянуты другие винты; так, в России, когда порабощение личное было распространено на большинство рабочих, поземельное порабощение было излишне, но винт личного рабства в России ослаблен был только тогда, когда подтянуты были винты поземельного и податного порабощения. Приписали всех к обществам, затруднили переселение и всякое перемещение, присвоили себе или роздали земли частным людям и потом отпустили на «волю». В Англии, например, действует преимущественно порабощение поземельное, и вопрос национализации земли состоит только в том, чтобы подтянуть винт податной, чтобы ослаб винт поземельного порабощения.
Третий способ порабощения — данью, податью — точно так же существовал, и в наше время, с распространением однообразных в разных государствах денежных знаков и усилением государственной власти, получил только особенную силу. Этот способ в наше время так выработался, что он стремится уже заменить второй способ порабощения —поземельного. Это тот винт, при завинчивании которого ослабляется винт поземельный, как это очевидно на экономическом положении всей Европы. Мы на нашей памяти пережили в России два перехода рабства из одной формы в другую: когда освободили крепостных и помещикам оставляли права на большую часть земли, помещики боялись, что власть их над их рабами ускользнет от них; но опыт показал, что им нужно было только выпустить из рук старую цепь личного рабства и перехватить другую — поземельную.
У мужика не хватало хлеба, чтобы кормиться, а у помещика была земля и запасы хлеба, и потому мужик остался тем же рабом.
Следующий переход был тот, когда правительство подвинтило очень туго своими податями другой винт — податной, и большинство рабочих принуждено продаваться в рабство к помещикам и на фабрики. И новая форма рабства захватила еще туже народ, так что 0,9 русского рабочего народа работают у помещиков и фабрикантов только потому, что их принуждает к тому требование податей государственных и поземельных. Это до такой степени очевидно, что попробуй правительство год не взыскивать податей прямых, косвенных и поземельных, и станут все работы на чужих полях и фабриках.
Девять десятых русского народа нанимаются во время сбора податей и под подати.
Все три способа порабощения людей не переставали существовать и существуют и теперь; но люди склонны не замечать их, как скоро этим способам дают новые оправдания. И что странно, что именно тот самый способ, на котором в данное время всё зиждется, тот винт, который держит всё, — он-то и не замечается.
Когда в древнем мире весь экономический строй держался на личном рабстве, величайшие умы не могли видеть его. И Ксенофонту, и Платону, и Аристотелю, и римлянам казалось, что это не может быть иначе и что рабство есть неизбежное и естественное последствие войн, без которых немыслимо человечество.
Точно так же в средние века и даже до последнего времени люди не видали значения земельной собственности и вытекающего из него рабства, на котором держался весь экономический строй средних веков. И точно так же теперь никто не видит и даже не хочет видеть того, что в наше время порабощение большинства людей держится на денежных податях государственных и поземельных, собираемых правительствами с их подданных, —податях, собираемых посредством управления и войска, того самого войска и управления, которые содержатся податями.
XXI.
Не удивительно то, что сами рабы, с древнейших времен подвергаемые рабству, не сознают своего положения и считают то свое положение рабства, в котором они жили всегда, естественным условием человеческой жизни и видят облегчение в перемене формы рабства. Не удивительно и то, что рабовладельцы иногда искренно думают освобождать рабов, отпуская один винт, когда другой уже затянут туго. И те и другие привыкли к своему положению, и одни — рабы, не зная свободы, ищут только облегчения или хоть только перемены формы рабства; другие — рабовладельцы, желая скрыть свою неправду, стараются приписывать особенное значение тем новым формам рабства, которые они взамен старых налагают на людей. Но удивительно то, каким образом наука, так называемая свободная наука, может, исследуя экономические условия жизни народа, не видеть того, что составляет основу всех экономических условий. Казалось бы, дело науки — отыскивать связь явлений и общую причину ряда явлений. Политическая же экономия как раз делает обратное: она старательно скрывает связь явлений и значение их, старательно избегает ответов на самые простые и существенные вопросы; она, как ленивая, заминающаяся лошадь, идет хорошо только под горку, когда везти нечего; но как только надо везти, так сейчас же закидывается в сторону, притворяясь, что ей нужно итти куда-то в сторону, по своему делу. Как только науке представляется серьезный, существенный вопрос, так тотчас же начинаются научные рассуждения о предметах, не идущих к вопросу и имеющих одну цель — отвлечь внимание от вопроса.
Вы спрашиваете: отчего происходит то неестественное, уродливое, неразумное и не только бесполезное, но вредное для людей явление, что одни люди не могут ни есть, ни работать иначе, как по воле других людей? И наука с серьезнейшим видом отвечает: потому что одни люди распоряжаются работой и питанием других — таков закон производства.
Вы спрашиваете: что такое право собственности, на основании которого одни люди присвоивают себе землю, пищу и орудия труда других? Наука с серьезнейшим видом отвечает: это право основано на ограждении своего труда, т. е. что ограждение труда одних людей выражается захватыванием труда других людей.
Вы спрашиваете: что такое те деньги, которые везде чеканятся и печатаются правительством, т. е. властью, и которые в таких огромных количествах взыскиваются насильно с рабочих и в виде долгов государственных накладываются на будущие поколения рабочих? Вы спрашиваете: не имеют ли эти деньги, в размерах, доведенных до последнего предела возможности взыскания, как подати, не имеют ли эти деньги влияния на экономические отношения людей, платящих получателям? И наука с серьезнейшим лицом отвечает: деньги — это товар такой же, как сахар и ситцы, отличающийся от других только тем, что он удобнее для обмена. Влияния же податей на экономические условия народа нет никаких: законы производства, обмена, распределения богатств — сами по себе, а подати — сами по себе.
Вы спрашиваете: не имеет ли влияния на экономические условия то, что правительство по своей воле может возвышать и ронять цены и может, возвысив подати, закабалить всех, не имеющих земли людей в рабство? Наука с серьезнейшим лицом отвечает: нисколько! Законы производства, обмена, распределения, — это одна наука — политическая экономия, а подати и вообще хозяйство государственное — это другая наука — финансовое право.
Вы спрашиваете, наконец: то, что весь народ находится в рабстве у правительства, что правительство может по своей воле разорить всех людей, отобрать все произведения труда людей и даже оторвать самих людей от труда, забрав их в солдатское рабство; вы спрашиваете: не имеет ли это обстоятельство какого-нибудь влияния на экономические условия? На это наука даже не трудится отвечать: это дело совсем особенное, это — государственное право. Наука пресерьезно разбирает законы экономической жизни народа, все отправления и вся деятельность которого зависит от воли поработителя, признавая это влияние поработителя естественным условием жизни народа. Наука делает то же, что делал бы исследователь экономических условий жизни личных рабов разных хозяев, не принимая во внимание влияния на жизнь этих рабов воли хозяина, того, который по своему произволу заставляет их работать ту или другую работу, по своему произволу перегоняет их с места на место, по своему произволу кормит или не кормит их, убивает или оставляет жить.
Хочется думать, что это так по глупости делает наука; но стоит только вникнуть и разобрать положение науки, для того чтобы убедиться, что это происходит не от глупости, а от большого ума. Наука эта имеет очень определенную цель и достигает ее. Цель эта — поддерживать суеверие и обман в людях и тем препятствовать человечеству в его движении к истине и благу. Давно уже существовало и теперь еще существует страшное суеверие, сделавшее людям едва ли не больше вреда, чем самые ужасные религиозные суеверия. И это-то суеверие всеми своими силами и всем своим усердием поддерживает так называемая наука. Суеверие это совершенно подобно суевериям религиозным: оно состоит в утверждении того, что кроме обязанностей человека к человеку есть еще более важные обязанности к воображаемому существу. Для богословия воображаемое существо это есть Бог, а для политических наук воображаемое существо это есть государство.
Религиозное суеверие состоит в том, что жертвы, иногда человеческих жизней, приносимые воображаемому существу, необходимы, и люди могут и должны быть приводимы к ним всеми средствами, не исключая и насилия. Суеверие политическое состоит в том, что, кроме обязанностей человека к человеку, существуют более важные обязанности к воображаемому существу, и жертвы (весьма часто человеческих жизней), приносимые воображаемому существу — государству, тоже необходимы, и люди могут и должны быть приводимы к ним всевозможными средствами, не исключая и насилия.
Это-то суеверие, поддерживавшееся прежде жрецами разных религий, теперь поддерживается так называемой наукой.
Люди повергнуты в рабство самое ужасное, худшее, чем когда-либо; но наука старается уверить людей, что это необходимо и не может быть иначе.
Государство должно существовать для блага народа и исполнять свои дела: управлять народом, защищать его от врагов. Для этого государству нужны деньги и войско. Деньги должны доставлять все граждане государства. И потому все отношения людей должны быть рассматриваемы при необходимых условиях государственности.
Я хочу помогать отцу в крестьянской работе, говорит простой, неученый человек, хочу жениться, а меня берут и отсылают в Казань на 6 лет солдатом. Я выхожу из солдат, желаю пахать землю и кормить семью, но вокруг меня, на 100 верст, меня не пускают пахать без того, чтобы я не заплатил денег, которых у меня нет, тем людям, которые не умеют пахать и требуют за нее столько денег, что я должен отдавать весь свой труд им; но я всё-таки наживаю кое-что и желаю весь свой излишек отдать детям; но ко мне приходит становой и отбирает этот излишек в виде податей; я зарабатываю опять, и у меня опять отбирают всё. Вся моя экономическая деятельность, вся без остатка, находится в зависимости от государственных требований, и мне представляется, что улучшение положения моего и моих братьев должно произойти от освобождения нашего от государственных требований. Но наука говорит: ваши суждения происходят от вашего невежества. Изучите законы производства, обмена и распределения богатств и не смешивайте вопросов экономических с вопросами государственными. Явления, на которые вы указываете, не суть стеснение вашей свободы, а суть те необходимые жертвы, которые вы вместе с другими несете для своей свободы и для своего блага. Но у меня ведь взяли сына и обещаются отобрать всех моих сыновей, как только я дождусь их, — говорит опять простой человек, — насильно отняли и угнали под пули в какую-то землю, про которую мы никогда не слыхали, и для таких целей, которых мы понять не можем. Но ведь землею, которую нам не дают пахать и от недостатка которой мы мрем с голоду, владеет силою человек, которого мы никогда не видали и пользу которого мы даже понять не можем. Но подати, для удовлетворения которых становой насильно отнял корову от моих ребят, сколько я знаю, пойдут этому же становому, отобравшему у меня корову, и разным членам комиссий и министерств, которых я и не знаю и в пользу которых не верю. Каким же образом все эти насилия могут обеспечивать мою свободу и всё это зло может доставлять мне благо?
Можно заставить человека быть рабом и делать то, что он считает для себя злом, но нельзя заставить его думать, что, терпя насилие, он свободен и что то очевидное зло, которое он терпит, составляет его благо. Это кажется невозможным. А это-то и сделали в наше время с помощью науки.
Правительство, т. е. люди вооруженные и насилующие решают, чтò им нужно от тех, которых они насилуют; как англичане по отношению к фиджианцам, они решают, сколько им нужно работы с своих рабов, решают, сколько им нужно помощников для собирания этой работы, организуют своих помощников в виде солдат, в виде поземельных собственников и в виде сборщиков податей. И рабы отдают свой труд и вместе с тем верят, что они отдают его не потому, что этого хотят их хозяева, а потому, что для их свободы и для их блага необходимо служение и кровавые жертвы божеству, называемому «государство», а что кроме этого служения божеству они свободны. Они верят в это потому, что так говорили прежде религия, жрецы, а теперь говорит наука — люди ученые. Но стоит только перестать слепо верить тому, что говорят другие люди, называя себя жрецами или людьми учеными, для того чтобы нелепость такого утверждения стала очевидна. Люди, насилующие других, уверяют их, что насилие это необходимо для государства; государство же необходимо для свободы и блага людей, — выходит, что насилующие люди насилуют людей для их свободы и делают им зло для их блага.
Но люди на то и разумные существа, чтобы понимать, в чем их благо, и свободно делать его. Дела же, благость которых непонятна людям и к которым они бывают принуждаемы насилием, не могут быть для них благом, ибо благом разумное существо может считать только то, что представляется таким его разуму. Если люди по страсти или неразумию своему влекутся к злу, то всё, что могут сделать люди, не делающие этого, так это то, чтобы убеждать людей делать то, что составляет их настоящее благо. Можно убеждать людей, что благо их будет больше, если они все будут поступать в солдаты, будут лишены земли, будут отдавать весь свой труд за подати; но до тех пор, пока все люди не будут считать этого своим благом и потому делать это охотно, нельзя называть это дело общим благом людей. Единственный признак благости дела есть то, что люди свободно исполняют его. И такими делами полна жизнь людей. Десять работников заводят бондарную снасть, чтобы вместе работать, и, делая это дело, они делают несомненно общее для себя благое дело; но никак нельзя даже представить себе того, чтобы эти работники, заставив одиннадцатого человека насильно участвовать в их артели, могли утверждать, что общее их благо будет таким же и для этого одиннадцатого. То же и с господами, которые будут давать обед какому-нибудь своему другу; и так же нельзя утверждать, что для того, с кого насильно возьмут десять рублей на этот обед, обед этот был благое дело. То же и с крестьянами, которые решат выкопать для своего удобства пруд. Для тех, которые будут считать существование этого пруда большим благом, чем труд, затраченный на него, для тех копание его будет общим благом; но для того, кто считает существование этого пруда меньшим благом, чем уборка поля, в которой он опоздал, копание этого пруда не может быть благом. То же и с дорогами, которые построят люди, и с церковью, и с музеем, и со всеми самыми разнообразными общественными и государственными делами. Все эти дела могут быть благом только для тех, которые считают их благом и потому свободно и охотно исполняют их, как покупка снасти для артели, обед, который дают господа, пруд, который копают мужики. Дела же, к которым люди должны быть пригоняемы силою, именно вследствие этого насилия и перестают быть общими и благими.
Всё это так ясно и просто, что если бы люди не были так давно обманываемы, не нужно бы было и разъяснять ничего.
Положим, мы живем в деревне, и мы, все жители, решили построить мост через болото, в котором все мы топнем. Мы согласились или обещались дать с каждого двора столько-то денег, или леса, или дней. Мы согласились потому, что постройка этого моста для нас выгоднее, чем траты на него; но среди нас есть люди, для которых выгоднее не иметь моста, чем тратить на него деньги, или которые по крайней мере думают, что для них это выгоднее. Может ли принуждение этих людей к постройке моста сделать то, чтобы мост этот был для них благом? Очевидно нет, потому что люди эти, считавшие свое свободное участие в постройке этого моста невыгодным, тем более будут считать его невыгодным, когда оно станет принудительным. Положим даже, что мы все без исключения согласились строить этот мост и обещались столько-то со двора денег или работы; но случилось, что некоторые из обещавших не выставили уговоренное потому ли, что их обстоятельства в это время изменились и сделали то, что теперь им выгоднее быть без моста, чем тратить на него деньги, пли просто они раздумали строить мост, или даже они прямо рассчитывают на то, что другие и без их жертв построят мост, а они будут по нем ездить: может ли принуждение этих людей к участию в постройке моста сделать то, чтобы эти принудительные их жертвы стали бы для них благом? Очевидно нет, потому что если эти люди не исполнили обещанного по изменившимся обстоятельствам, потому что жертвы на мост стали для них тяжеле, чем отсутствие моста, то принудительные жертвы будут только большим злом. Если же отказавшиеся имели в виду воспользоваться трудами других, то и принуждение их к жертвам будет только наказанием за их умысел, и умысел их, совершенно бездоказательный, будет наказан прежде приведения его в исполнение; но ни в том, ни в другом случае принуждение к участию в нежелательном деле не может быть благом.
Так это будет, когда жертвы приняты для дела всем понятного, очевидного и несомненно полезного, как мост на болоте, чрез который все ездят. Насколько же несправедливее и безсмысленнее будет такое принуждение миллионов людей к жертвам, цель которых непонятна, неосязаема и часто несомненно вредна, как это бывает при солдатчине и податях. По науке же оказывается, что то, что всем представляется злом, есть общее благо; оказывается, что есть люди, крошечное меньшинство людей, которые одни только знают, в чем общее благо, и, несмотря на то, что все остальные люди считают злом это общее благо, меньшинство это, принуждая ко злу всех остальных людей, может считать это зло общим благом.
В этом состоит главное суеверие и главный обман, препятствующий движению человечества к истине и благу. Поддержание этого суеверия и этого обмана составляет цель политических наук вообще и в частности так называемой политической экономии. Цель ее — скрыть от людей то положение угнетения и рабства, в котором они находятся. Средство, употребляемое ею для этой цели, в том, чтобы рассматриванием насилия, обусловливающего всю экономическую жизнь порабощенных, естественным и неизбежным обмануть людей и отвести их глаза от настоящей причины их бедствий.
Рабство давно уже уничтожается. Оно уничтожилось и в Риме, и в Америке, и у нас, но уничтожились только слова, а не дело. Рабство есть освобождение себя одними от труда нужного для удовлетворения своих потребностей, посредством насилия, которое переносит этот труд на других; и там, где есть человек, не работающий не потому, что на него любовно работают другие, а где он имеет возможность не работать сам, а заставить других на себя работать, — там есть рабство. Там же, где есть, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся посредством насилия трудами тысяч людей и считающие это своим правом, и другие люди, подчиняющиеся насилию и признающие это своею обязанностью, — там есть рабство в страшных размерах.
Рабство есть. В чем же оно?
В том же, в чем оно всегда было и без чего оно не может быть: в насилии сильного и вооруженного над слабым и безоружным.
Рабство с своими основными тремя приемами личного насилия: солдатства, дани за землю, поддерживаемой солдатством, и дани, облагающей всех жителей прямыми и косвенными податями и поддерживаемой точно так же солдатством, существует точно такое же, как и прежде. Мы только не видим его потому, что каждая из трех форм рабства получила новое оправдание, заслоняющее от нас его значение. Личное насилие вооруженных против безоружных получило оправдание защиты отечества от воображаемых врагов его; в сущности же оно имеет одно старое значение: подчинение покоренных насилующим. Насилие отобрания земли у трудящихся над нею получило оправдание награды за услуги для мнимого общего блага и утверждается правом наследства; в сущности же оно то же обезземеление и порабощение людей, которое произведено было войском (властью). Последнее же, денежное — податное насилие — самое сильное и главное в настоящее время, получило самое удивительное оправдание: лишение людей их имущества, свободы, всего их блага делается во имя свободы, общего блага. В сущности же оно не что иное, как то же рабство, только безличное.
Где будет насилие, возведенное в закон, там будет и рабство. Будет ли насилие выражаться тем, что будут наезжать князья с дружинами, побивать жен и детей и спускать на дым селения, или в том, что рабовладельцы будут взимать работу или деньги за землю с рабов и в случае неуплаты будут призывать вооруженных, или что одни люди будут обкладывать других данями и будут разъезжать с оружием по селам, или министерство внутренних дел будет собирать деньги через губернаторов и становых и в случае отказа от платежа высылать военные команды — словом, покуда будет насилие, поддерживаемое штыками, не будет распределения богатства между людьми, а богатство будет всё уходить к насильникам.
Поразительной иллюстрацией истинности этого положения служит проект Джорджа о национализации земли. Джордж предлагает признать всю землю государственной собственностью и поэтому все налоги, как прямые, так и косвенные, заменить земельной рентой. То есть, чтобы всякий, пользующийся землею, платил государству стоимость ее ренты. Что же было бы? Рабство земельное было бы всё уничтожено в пределах государства, т. е. земля принадлежала бы государству: Англии — своя, Америке — своя и т. д., т. е. было бы рабство, определяемое количеством пользования землею.
Может быть, и улучшилось бы положение некоторых рабочих, (земельных); но как скоро осталось бы насильственное взимание податей за ренту, осталось бы и рабство. Земледелец, после неурожая не будучи в силах заплатить ренту, которую взыскивают с него силою, чтобы не лишиться всего, должен будет для удержания за собой земли закабалиться к тому человеку, у которого будут деньги.
Если течет ведро, то наверно есть в нем дыра. Глядя на дно ведра, нам может казаться, что вода течет из разных дыр; но сколько бы мы ни затыкали этих воображаемых дыр снаружи, вода всё будет течь. Чтобы остановить течение, надо найти то место, в которое уходит вода из ведра, и заткнуть его изнутри. То же самое и с предполагаемыми мерами для прекращения неправильного распределения богатств, для затыкания тех дыр, через которые уходит богатство от народа. Говорят: устройте корпорации рабочих, сделайте капитал общественной собственностью, сделайте землю национальной собственностью. Всё это — только затыкание снаружи тех мест, из которых нам кажется, что течет вода. Чтобы остановить утекание богатств из рук рабочих в руки нерабочих, нужно найти изнутри ту дыру, через которую происходит это утекание. Дыра эта есть насилие вооруженного над безоружным, насилие войска, посредством которого отбираются и самые люди от труда, и земля от людей, и произведения труда людей. Покуда будет один вооруженный человек с признанием за ним права убить какого бы то ни было другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатств, т. е. рабство.
XXII.
Меня всегда удивляют часто повторяемые слова: да, это так по теории, но на практике-то как? Точно как будто теория — это какие-то хорошие слова, нужные для разговора, но не для того, чтобы вся практика, т. е. вся деятельность, неизбежно основывалась на ней. Должно быть, было на свете ужасно много глупых теорий, если вошло в употребление такое удивительное рассуждение. Теория — ведь это то, чтò человек думает о предмете, а практика — это то, чтò он делает. Как же может быть, чтоб человек думал, что надо делать так, а делал бы навыворот? Если теория печения хлебов та, что их надо прежде замесить, а потом поставить, то кроме сумасшедших никто, зная теорию, не может сделать обратного. Но у нас вошло в моду говорить, что это теория, но как на практике?
В предмете, который меня занимал, подтвердилось то, что я всегда думал, — что практика неизбежно вытекает из теории, и не то что оправдывает ее, но не может быть никакая иная, что если я понял то дело, о котором думал, то я и не могу делать это дело иначе, как я его понял.
Я захотел помогать несчастным только потому, что у меня были деньги и я разделял общее суеверие о том, что деньги — представители труда или вообще что-то законное и хорошее. Но, начав давать эти деньги, я увидал, что я даю собранные мною векселя на бедных людей, делаю то, что делали многие помещики, заставляя одних крепостных служить другим. Я увидал, что всякое употребление денег: покупка ли чего, передача ли их задаром другому есть подача ко взысканию векселя на бедных или передача его другому для подачи ко взысканию на бедных же. И потому мне стала ясна та нелепость, которую я хотел делать, — помогать бедным посредством взыскания с бедных. Я увидал, что деньги сами по себе не только не добро, но очевидное зло, лишающее людей главного блага — труда и пользования этим своим трудом, и что этого-то блага я не могу никому передать, потому что сам лишен его: у меня нет труда и нет счастья пользоваться своим трудом.
Казалось бы, что особенного в этом отвлеченном рассуждении о том, что есть деньги. Но рассуждение это, сделанное мною не как рассуждение для рассуждения, а для того, чтобы разрешить вопрос моей жизни, моего страдания, было для меня ответом на вопрос: что делать?
Как только я понял, что такое богатство, что такое деньги, так мне не только ясно, но несомненно стало, чтò все другие должны делать, потому что они неизбежно будут это делать. Я понял, в сущности, только то, что я знал давным-давно: ту истину, которая передавалась людям с самых древних времен и Буддой, и Исаией, и Лаодзи, и Сократом, и особенно ясно и несомненно передана нам Иисусом Христом и предшественником его, Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель на вопрос людей: что нам делать? отвечал просто, коротко и ясно: «у кого две одежды, тот дай тому, у кого нет, и у кого есть пища, делай то же» (Луки III, 10, 11). То же и еще с большею ясностью и много раз говорил Христос. Он говорил: блаженны нищие и горе богатым. Он говорил, что нельзя служить Богу и маммону. Он запретил ученикам брать не только деньги, но две одежды. Он сказал богатому юноше, что он не может войти в царствие Божие потому, что он богат, и что легче верблюду войти в ушко иглы, чем богатому в царство Божие. Он сказал, что тот, кто не оставит всего: и дома, и детей, и полей, для того чтобы идти за Ним, тот не Его ученик. Он сказал притчу о богатом, ничего не делавшем дурного, как и наши богатые, но только хорошо одевавшемся и сладко евшем и пившем и погубившем этим только свою душу, и о нищем Лазаре, ничего не сделавшем хорошего, но спасшемся только оттого, что он был нищий.
Истина эта была мне давно известна, но ложные учения мира так хитро скрыли ее, что она сделалась для меня именно теорией в том смысле, какой любят придавать этому слову, т. е. пустыми словами. Но как скоро мне удалось разрушить в своем сознании софизмы мирского учения, так теория слилась с практикой, и действительность моей жизни и жизни всех людей стала ее неизбежным последствием.
Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнения из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом, и самой природой своей призван к служению другим людям и общей человеческой цели. Я понял, что это естественный закон человека, тот, при котором только он может исполнить свое назначение и потому быть счастлив. Я понял, что закон этот нарушался и нарушается тем, что люди насилием, как грабительницы пчелы, освобождают себя от труда, пользуются трудом других, направляя этот труд не к общей цели, а к личному удовлетворению разрастающихся похотей, и так же, как грабительницы пчелы, погибают от этого. Я понял, что несчастия людей происходят от рабства, в котором одни люди держат других людей. Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег. И, поняв значение всех трех орудий нового рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем.
Когда я был рабовладельцем, имея крепостных, и понял безнравственность этого положения, я вместе с другими людьми, понявшими то же, в то время старался избавиться от этого положения. Избавление же мое состояло в том, что я, считая его безнравственным, старался сам до тех пор, пока я не мог вполне избавиться от этого положения, как можно менее предъявлять своих прав рабовладельца, а жить и оставлять людей жить так, как будто этих прав не существовало, и вместе с тем всеми средствами внушать другим рабовладельцам незаконность и бесчеловечность их воображаемых прав. То же самое я не могу не делать относительно теперешнего рабства: как можно менее предъявлять своих прав, пока я не могу совсем отказаться от этих прав, даваемых мне земельной собственностью и деньгами, поддерживаемыми насилием солдатства, и вместе с тем всеми средствами внушать другим людям незаконность и бесчеловечность этих воображаемых прав.
Участие в рабстве со стороны рабовладельца состоит в пользовании чужим трудом, всё равно, зиждется ли рабство на моем праве на раба или на моем владении землею или деньгами. И потому если человек точно не любит рабство и не хочет быть участником в нем, то первое, что он сделает, будет то, что не будет пользоваться чужим трудом ни посредством владения землею, ни посредством службы правительству, ни посредством денег. Отказ же от всех употребительных средств пользоваться чужим трудом неизбежно приведет такого человека к необходимости, с одной стороны, умерить свои потребности, с другой стороны, делать для себя самому то, что прежде делали для него другие.
И этот такой простой вывод сразу уничтожает все те три причины невозможности помощи бедным, к которым я пришел, отыскивая причину своей неудачи.
Первая причина была скопление людей в городах и поглощение в них богатств деревни. Стоит только человеку не желать пользования чужим трудом посредством службы правительству, владения землею и деньгами и потому по силам и возможности самому удовлетворять своим потребностям, чтобы ему никогда и в голову не пришло уехать из деревни, в которой легче всего можно удовлетворять своим потребностям, в город, где всё есть произведение чужого труда, где всё надо купить; и тогда, в деревне, человек будет в состоянии помогать нуждающимся и не испытает того чувства беспомощности, которое я испытал в городе, желая помогать людям не своим, а чужим трудом.
Вторая причина была разъединение богатых с бедными. Стоит только человеку не желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами — человек будет поставлен в необходимость сам удовлетворять своим потребностям, и тотчас же невольно разрушится та стена, которая отделяла его от рабочего народа, и он сольется с ним и станет плечо в плечо с ним и получит возможность помогать ему.
Третья причина была стыд, основанный на сознании безнравственности моего обладания теми деньгами, которыми я хотел помогать людям. Стоит человеку не желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами — и у него никогда не будет тех лишних, дурашных денег, присутствие которых у меня вызывало в людях требования, которым я не мог удовлетворить, а во мне — чувство сознания своей неправоты.
XXIII.
Я увидал, что причина страданий и разврата людей та, что одни люди находятся в рабстве у других, и потому я сделал тот простой вывод, что если я хочу помогать людям, то мне прежде всего не нужно делать тех несчастий, которым я хочу помогать, т. е. не участвовать в порабощении людей. Влекло же меня к порабощению людей то, что я с детства привык не работать, а пользоваться трудами других людей и жил и живу в обществе, которое не только привыкло к этому порабощению других людей, но и оправдывает это порабощение всякими искусными и неискусными софизмами.
Я сделал следующий простой вывод: что для того, чтобы не производить разврата и страданий людей, я должен как можно меньше пользоваться работой других и как можно больше самому работать.
Я пришел длинным путем к тому неизбежному выводу, который сделан тысячелетие тому назад китайцами в изречении: если есть один праздный человек, то есть другой, умирающий с голоду.
Я пришел к тому простому и естественному выводу, что если я жалею ту замученную лошадь, на которой я еду, то первое, что я должен сделать, если я точно жалею ее, это — слезть с нее и итти своими ногами.
Ответ этот, дающий такое полное удовлетворение нравственному чувству, драл мне глаза и дерет глаза всем нам, и мы все не видим его и глядим по сторонам.
Мы, в нашем искании исцеления от наших общественных болезней, ищем со всех сторон: и в правительственных, и в антиправительственных, и в научных и в филантропических суевериях, и не видим того, что режет глаза всякому.
Мы ходим на нас в комнатах, хотим, чтобы другие выносили за нами и притворяемся, что мы очень страдаем за них, и хотим облегчить их дело, и придумываем всевозможные хитрости, только не одну, самую простую — самому выносить, если хочешь ходить в горнице.
Для того, кто точно искренно страдает страданиями окружающих его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, единственно возможное для исцеления окружающих его зол и для сознания законности своей жизни — то самое, которое дал Иоанн Креститель на вопрос его: что делать, и которое подтвердил Христос: не иметь больше одной одежды и не иметь денег, т. е. не пользоваться трудами других людей. А чтобы не пользоваться трудами других — делать своими руками всё, что можем делать.
Это так просто и ясно. Но это просто и ясно, когда и потребности просты и когда сам еще свеж и не испорчен ленью и праздностью. Я живу в деревне, лежу на печке и велю моему должнику, соседу, рубить дрова и топить печку. Очень ясно, что я ленюсь и отрываю соседа от дела, и мне станет совестно, да и скучно всё лежать, и если мускулы мои сильны и я привык работать, я пойду и сам нарублю.
Но соблазн рабства всех видов живет так давно, так много выросло на нем искусственных потребностей, так много людей на разных степенях привычек к этим потребностям переплетены друг с другом, так поколениями испорчены, изнежены люди, такие сложные соблазны и оправдания в их роскоши и праздности придуманы людьми, что человеку, находящемуся наверху лестницы праздных людей, далеко не так легко понять свой грех, как тому мужику, который заставляет соседа топить печку.
Людям, находящимся на верхней ступени этой лестницы, ужасно трудно понять то, что от них требуется. У них голова кружится от вышины той лестницы лжи, на которой они находятся, когда им представляется то место на земле, до которого они должны спуститься, чтобы начать жить не добро, но только не вполне бесчеловечно; и от этого эта простая и ясная истина кажется этим людям странной.
Для человека с десятью людьми прислуги, ливреями, кучерами, поваром, картинами, фортепианами покажется несомненно странным и даже смешным то, что есть самое простое, первое действие всякого — не говорю хорошего, а только человека, а не животного: нарубить самому дрова, которыми варится его пища и которыми он греется; вычистить самому те калоши или сапоги, которыми он неосторожно ступал в грязь; принести самому ту воду, которой он соблюдает свою чистоту, и вынести ту грязную, в которой он вымылся.
Но кроме самой отдаленности людей от истины есть еще другая причина, мешающая людям видеть обязательность для них самой простой и естественной для самих себя личной физической работы: это — сложность, переплетенность условий, выгод всех связанных между собою людей, в которой живет богатый человек.
Правда, что выгоды всех переплетены, но и без продолжительного расчета совесть каждого говорит, на чьей стороне труд и на чьей праздность. Но мало того, что это говорит совесть, это говорит яснее всего счетная, денежная книга. Чем больше кто тратит денег, тем более он заставляет других за себя работать; чем менее он тратит, тем он более работает.
Моя роскошная жизнь кормит людей. Куда пойдет мой старик-камердинер, если я отпущу его? Что же, всем самим себе делать всё нужное: и платье и рубить дрова?.. А разделение труда? А промышленность, а общественные предприятия и под конец самые страшные слова: цивилизация, наука, искусство?
XXIV.
Прошлого года, в марте, я поздно вечером возвращался домой. Заворачивая из Зубова в Хамовнический переулок, я увидел на снегу Девичьего поля черные пятна. Что-то ворочалось на месте. Я бы не обратил на это внимания, если бы не городовой, стоявший в начале переулка, который крикнул по направлению черных пятен:
— Василий! что ж не ведешь?
— Да не идет! — сказал оттуда голос, и вслед затем пятна двинулись к городовому.
Я остановился и спросил у городового:
— Что это такое?
Он сказал:
— Девчонок забрали из Ржанова дома, свели в участок, а одна отстала вот, не идет.
Дворник в тулупе вел ее. Она шла впереди, а он подталкивал ее сзади. Все — и я, и дворник, и городовой — одеты были по-зимнему, одна она была в платье. В темноте я мог разобрать только коричневое платье, платок на голове и на шее. Она была мала ростом, как бывают малы заморыши, короткие ноги и относительно широкая, нескладная фигура.
— Из-за тебя, стерва, стоим. Иди, что ли! Вот я тебя! — крикнул городовой.
Очевидно, он устал, и она уже надоела ему. Она прошла несколько шагов и опять остановилась. Старичок дворник, добродушный человек (я его знаю), дернул ее за руку.
— Вот я те остановлюсь! Иди! — притворялся он, что сердится.
Она пошатнулась и заговорила скрипящим голосом. Во всяком звуке была фальшивая нота, хрип и визг.
— Ну тебя, еще пихается! Дойду!
— Замерзнешь, — сказал дворник.
— Наша сестра не замерзнет. Я горячая.
Она хотела шутить, но слова ее звучали, как брань. У фонаря, который стоит недалеко от ворот нашего дома, она опять остановилась и прислонилась, навалилась почти на забор и что-то стала копать в своих юбках неловкими, застывшими руками. Опять они закричали на нее, но она что-то бурчала и что-то делала. Она держала в одной руке согнувшуюся дугой папироску, в другой — сернички. Я остановился сзади: мне совестно было пройти мимо нее и совестно стоять и смотреть. Однако я решился и подошел. Она плечом лежала на заборе и об забор же бесполезно чиркала серничками и бросала их. Я рассмотрел ее лицо. Она была именно заморух, но, как мне показалось, уже старая женщина: я ей дал лет 30. Грязный цвет лица, маленькие мутные, пьяные глаза, нос пуговицей, кривые, слюнявые, опущенные в углах губы и выбившаяся из-под платка короткая прядь сухих волос. Талия длинная и плоская и короткие руки и ноги. Я остановился против нее. Она посмотрела на меня и усмехнулась, как будто зная всё, что я думал.
Я почувствовал, что надо сказать ей что-нибудь. Мне хотелось показать ей, что я жалею ее.
— Родители есть у вас? — спросил я.
Она засмеялась хрипло, потом вдруг оборвала и, подняв брови, уставилась на меня.
— Есть у вас родители? — повторил я.
Она усмехнулась с таким выражением, как будто говорила: ведь выдумает же что спрашивать!
— Мать есть, — сказала она. — А тебе что?
— А сколько вам лет?
— Шестнадцатый, — сказала она, тотчас же отвечая, очевидно, на привычный вопрос.
— Ну, марш, замерзнешь с тобой, пропади ты совсем! — крикнул городовой, и она откачнулась от забора и перекачиваясь пошла вниз по Хамовническому переулку в участок, а я завернул в калитку и вошел в дом и спросил, вернулись ли мои дочери. Мне сказали, что они были на вечере, очень веселились, вернулись и уже спят.
На другой день утром я хотел пойти в участок узнать, что сделали с этой несчастной, и довольно рано собрался уж выходить, когда ко мне пришел один из тех дворян несчастных, которые, до слабости, сбились с привычной им господской жизни и то поднимаются, то опять падают. Мы с этим были знакомы три года. В эти три года этот человек уже несколько раз спускал всё, что у него было, и всё платье с себя; и с ним только что случилось такое событие, и он временно ночи проводил в Ржановом доме, на ночлежной квартире, а на день приходил ко мне. Он встретил меня на выходе и, не слушая меня, тотчас же начал рассказывать мне то, что у них в Ржановом доме случилось в эту ночь. Он начал рассказывать и не досказал до половины; он вдруг — он, старый, видавший всякие виды человек — зарыдал, захлюпал и, замолчав, отвернулся к стене. Вот что он рассказал мне. Всё то, что он рассказал мне, была совершенная правда. Я проверил его рассказ на месте и узнал еще новые подробности, которые я расскажу заодно.
В той ночлежной квартире, в нижнем этаже, в 32-м номере, в котором ночевал мой приятель, в числе разных переменяющихся ночлежников, мужчин и женщин, за 5 копеек сходящихся друг с другом, ночевала и прачка, женщина лет 30-ти, белокурая, тихая и благообразная, но болезненная. Хозяйка квартиры — любовница лодочника. Летом сожитель ее держит лодку, а зимой они живут сдачей квартиры ночлежникам: 3 копейки без подушки, 5 копеек с подушкой. Прачка несколько месяцев жила здесь и была тихая женщина, но в последнее время ее не взлюбили за то, что она кашляла и мешала жильцам спать. Особенно 80-тилетняя старуха, полусумасшедшая, тоже постоянная жиличка этой квартиры, возненавидела прачку и поедом ела ее за то, что она спать не дает и всю ночь перхает, как овца. Прачка молчала: она задолжала за квартиру и чувствовала себя виноватой, и потому ей надо было быть тихой. Она всё реже и реже могла ходить на работу — сил не хватало, и потому не могла выплачивать хозяйке. Последнюю неделю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всем, особенно старухе, тоже не выходившей, жизнь своей перхотой. Четыре дня тому назад хозяйка отказала прачке от квартиры: на ней уже набралось шесть гривен, и она не платила их, и не предвиделось надежды их получить, а койки все были заняты, и жильцы жаловались на перхоту прачки.
Когда хозяйка отказала прачке и сказала, чтобы она выходила из квартиры, коли не отдаст денег, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на двор. Прачка ушла, но через час вернулась, и у хозяйки не хватило духу выгнать ее опять. И второй, и третий день хозяйка не выгоняла ее. «Куда же я пойду?» говорила прачка. Но на третий день любовник хозяйки, человек московский и знающий порядки и обхождение, пошел за городовым. Городовой с саблей и пистолетом на красном шнурке пришел в квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прачку на улицу.
Был ясный, солнечный, неморозный мартовский день. Ручьи текли, дворники кололи лед. Сани извозчиков подпрыгивали по обледеневшему снегу и визжали по камням. Прачка пошла в гору по солнечной стороне, дошла до церкви и села, тоже на солнечной стороне, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышком мороза, прачке стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась... Куда? Домой, в тот единственный дом, в котором она жила последнее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла к воротам, завернула в них, поскользнулась, ахнула и упала.
Прошел один, прошел другой человек. «Должно, пьяная». Прошел еще человек и спотыкнулся на прачку и сказал дворнику: «Какая-то у вас пьяная в воротах валяется, чуть голову себе не проломил через нее; уберите вы ее, что ли!»
Дворник пошел. Прачка умерла.
Вот что рассказал мне мой приятель. Можно подумать, что я подобрал факты — встречу с пятнадцатилетней проституткой и историю с этой прачкой; но пусть не думают этого; это так точно было в одну ночь — не помню только какого марта 1884 года.
И вот, отслушав рассказ моего приятеля, я пошел в участок, с тем чтобы оттуда пойти в Ржанов дом узнать подробнее об этой истории прачки. Погода была прекрасная, солнечная, опять сквозь звезды ночного мороза в тени виднелась бегущая вода, а на припеке солнца, на Хамовнической площади, всё таяло, и вода бежала. От реки что-то шумело. Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи, незаметные зимой, так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много заботы. Слышались звоны колоколов, и на фоне этих сливающихся звуков слышались из казарм звуки пальбы, свист нарезных пуль и чмоканье их об мишень.
Я прошел в участок. В участке несколько вооруженных людей — городовых — проводили меня к своему начальнику. Он был также вооружен саблей и пистолетом и был занят каким-то распоряжением об ободранном, трясущемся старике, который стоял перед ним и от слабости не мог ясно выговорить того, что у него спрашивали. Окончив дело со стариком, он обратился ко мне. Я спросил о вчерашней женщине. Он сначала внимательно слушал меня, но потом улыбнулся и тому, что я не знаю порядков, для чего их водят в участок, и особенно тому, что я был удивлен ее молодостью.
— Помилуйте, да есть 12-ти лет, а 13-ти и 14-ти сплошь да рядом, — сказал он весело.
На вопрос же мой о вчерашней он объяснил мне, что их, должно быть, отправили в комитет (кажется, так).
На вопрос мой, где они ночевали, он отвечал неопределенно. Той же, о которой я говорил, он не помнил: их так много каждый день.
В Ржановом доме я в 32-м номере застал уже чтение дьячка над покойницей. Ее внесли на бывшую ее же койку, и жильцы, все голыши, собрали деньги на поминки, на гроб и на саван, а старухи убрали ее и положили. Дьячок что-то читал в темноте, женщина в салопе стояла с восковой свечкой, и с такой же свечкой стоял человек (господин, надо бы сказать) в чистом пальто с барашковым воротником, блестящих калошах и крахмаленной рубашке. Это был ее брат. Его разыскали.
Я прошел мимо покойницы в угол хозяйки и расспросил ее обо всем.
Она испугалась моих вопросов: она, очевидно, боялась, как бы ее не обвинили в чем-нибудь; но потом она разговорилась и рассказала мне всё. Проходя назад, я взглянул на покойницу. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются.
————
В тот день, как я записывал это, в Москве был большой бал.
В эту ночь я вышел из дома в 9-м часу. Живу я в местности, окруженной фабриками, и я вышел из дома после свистков фабрик, которые после недели непрестанной работы выпустили народ на свободный день.
Меня обгоняли, и я обгонял фабричных, направляющихся к кабакам и трактирам. Многие уже были пьяны, многие были с женщинами.
Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.
По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов.
На одной ближайшей фабрике делают только чулки, на другой — шелковые материи, на третьей — духи и помаду.
Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, что они определяют время: «А вот уже свисток, значит пора итти гулять»; но можно соединять с этими свистками то, что есть в действительности: то, что первый свисток, — в 5часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат итти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой.
И так проходят одна неделя за другою с перерывом праздников. И вот я вижу этих рабочих, выпущенных на один из тех праздников. Они выходят на улицу: везде трактиры, царские кабаки, девки. И они, пьяные, тащат друг друга за руку и девок, таких, как та, которую вели в участок, тащат с собой и нанимают извозчиков, и ездят, и ходят из одного трактира в другой, и ругаются, и шатаются, и говорят, сами не знают что. Я прежде видал такие шатания фабричных, и гадливо сторонился от них, и чуть не упрекал их; но с тех пор, как я слышу каждый день эти свистки и знаю их значение, я удивляюсь только тому, что не все они, мужчины, приходят в то состояние золоторотцев, которыми полна Москва, а женщины — в то положение девки, которую я встретил у моего дома.
Так я ходил, смотрел на этих фабричных, пока они возились по улицам, часов до 11. Потом движение их стало затихать. Остались кое-где пьяные, и кое-где попадались мужчины и женщины, проводимые в участки.
И вот показались со всех сторон кареты, все направляющиеся в одну сторону. На козлах кучер, иногда в тулупе; лакей-щеголь с кокардой. Сытые рысаки в попонах летят по морозу с быстротой 20 верст в час; в карете дамы, закутанные в ротонды и оберегающие цветы и прически. Всё, начиная от сбруи на лошадях, кареты, гуттаперчевых колес, сукна на кафтане кучера до чулок, башмаков, цветов, бархата, перчаток, духов, — всё это сделано теми людьми, которые частью пьяные завалились на своих нарах в спальнях, частью в ночлежных домах с проститутками, частью разведены по сибиркам. Вот мимо их во всем ихнем и на всем ихнем едут посетители бала, и им и в голову не приходит, что есть какая-нибудь связь между тем балом, на который они собираются, и этими пьяными, на которых строго кричат их кучера.
Люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 до 6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают, как прачки.
Веселье в том, что женщины и девушки, оголив груди и наложив накладные зады, приводят себя в такое неприличное состояние, в котором неиспорченная девушка или женщина ни за что в мире не захочет показаться мужчине; и в этом полуобнаженном состоянии, с выставленными голыми грудями, оголенными до плеч руками, с накладными задами и обтянутыми ляжками, при самом ярком свете, женщины и девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними под звуки одурманивающей музыки обнимаются и кружатся. Старые женщины, часто так же оголенные, как и молодые, сидят, глядят и едят и пьют то, что вкусно; мужчины старые делают то же. Не мудрено, что это делается ночью, тогда, когда весь народ спит, чтобы никто не видел этого. Но это делается не для того, чтобы скрыть; им кажется, что и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в котором губится труд мучительный тысяч людей, не только никого не обижают, но этим самым они кормят бедных людей.
Может быть, очень весело на балах. Но как это сделалось так? Ведь когда мы видим в обществе и среди нас, что есть один человек, который не ел или озяб, то нам совестно быть веселыми, и мы не можем быть веселы до тех пор, пока он не насытится и не согреется, не говоря уже о том, что нельзя себе представить людей, могущих веселиться таким весельем, которое причиняет страдания другим. Нам противно и непонятно веселье злых мальчишек, которые зажмут собаке хвост в лещетку и веселятся этим.
Так как же здесь, в этих наших весельях, на нас напала слепота, и мы не видим той лещетки, которою мы зажали хвосты тех людей, которые страдают для нашего веселья?
Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-тирублевом платье, не родилась на бале или у M-me Minangoy, а она жила и в деревне, видела мужиков, знает свою няню и горничную, у которой отцы и братья бедные, для которых выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни, — она знает это; как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом бале носила на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной? Но, положим, она могла не сделать этого соображения; но того, что бархат, и шелк, и конфекты, и цветы, и кружева, и платья не растут сами собой, а их делают люди, — ведь этого, казалось бы, она не могла не знать; казалось бы, она не могла не знать того, какие люди делают всё это, при каких условиях и зачем они делают это. Ведь она не может не знать того, что швея, которой она была так недовольна, совсем не из любви к ней делала ей это платье; поэтому не может не знать, что всё это делалось для нее из нужды, что так же, как ее платье, делались и кружева, и цветы, и бархат. Но, может быть, они так отуманены, что и этого они не соображают? Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого она уже не могла не знать. Она видела их усталые, мрачные лица. Не могла она не знать тоже того, что в эту ночь мороз доходил до 28 градусов и что кучер-старик сидел в этот мороз всю ночь на козлах. Но я знаю, что они точно не видят этого. И если они, те молодые женщины и девушки, которые из-за гипнотизации, производимой над ними балом, не видят всего этого, их нельзя осудить: они, бедняжки, делают то, что считается старшими хорошим; но старшие-то как объяснят эту свою жестокость к людям?
Старшие дадут всегда одно объяснение: «я никого не принуждаю: вещи я покупаю, людей — горничных, кучеров — я нанимаю. Покупать и нанимать — в этом нет ничего дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю. Что же тут дурного?»
На-днях я зашел к одному знакомому. Проходя первую комнату, я удивился, увидав двух женщин за столом, зная, что знакомый мой — холостяк. Худая, желтая, старообразная женщина, лет 30-ти, в накинутом платке, быстро, быстро что-то делала руками и пальцами над столом, нервно вздрагивая, точно в каком-то припадке. Наискосе сидела девочка и точно так же что-то делала, точно так же вздрагивая. Обе женщины, казалось, были одержимы пляской св. Витта. Я подошел ближе и вгляделся в то, что они делали. Они вскинули на меня глазами и так же сосредоточенно продолжали свое дело. Перед ними лежал рассыпанный табак и патроны. Они делали папироски. Женщина растирала табак в ладонях, захватывала в машинку, надевала патроны и просовывала и кидала девочке. Девочка свертывала бумажки и, всовывая, кидала и бралась за другую. Всё это делалось с такой быстротой, с таким напряжением, что нельзя описать этого. Я выразил удивление их быстроте.
— Четырнадцать лет только одно и делаю, — сказала женщина.
— Что же, трудно?
— Да, в груди болит, да и дух тяжелый.
Впрочем, ей не нужно было и говорить этого. Довольно было взглянуть на нее. Довольно было взглянуть на девочку. Она занимается этим третий год, но всякий, увидав ее за этим занятием, скажет, что это сильный организм, который уже начал разрушаться. Знакомый мой, добрый и либеральный человек, нанял этих женщин набивать папироски за 2 рубля 50 копеек за тысячу. У него есть деньги, и он дает их за работу. Что ж тут дурного? Знакомый мой встает часов в 12. Вечер, от шести до двух, проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие — курить. Он на моей памяти стал курить.
Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя в машину и всю жизнь проводят вдыхая табак и губя этим свою жизнь. У него есть деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать себе папиросы. Он дает этим женщинам деньги только под тем условием, чтобы они продолжали жить так же несчастно, как они живут, т. е. делая для него папиросы.
Я люблю чистоту и даю деньги только под тем условием, чтобы прачка вымыла ту рубашку, которую я сменяю два раза в день, и эта рубашка надорвала последние силы прачки, и она умерла.
Что ж тут дурного? Люди, покупающие и нанимающие, и без меня будут заставлять других делать бархат и конфекты и покупать их, и без меня будут нанимать делать папироски и мыть рубашки. Так отчего же мне лишать себя бархата, и конфект, и папирос, и чистых рубашек, если это уж раз заведено? Я часто, почти всегда, слышу это рассуждение. Рассуждение это — то самое, которое сделает обезумевшая толпа, разрушая что-нибудь. Это то самое рассуждение, которым руководятся собаки, когда одна из них бросилась и повалила другую, а остальные набрасываются и разрывают ее в куски. Уж начали, попортили, так отчего же и мне не попользоваться? Ну, что же будет, если я буду носить грязную рубашку и делать сам себе папироски? Разве кому-нибудь будет легче? — спрашивают люди, которым хочется оправдать себя. Если бы мы не были так далеки от истины, то на такой вопрос совестно бы было отвечать; но мы так запутались, что вопрос этот кажется нам очень естественным и потому, хоть и совестно, но надо ответить на него.
Какая разница будет, если я буду носить рубашку неделю, а не день, и делать себе сам папиросы или вовсе не курить?
Та разница, что какая-то прачка и какая-то делательница папирос будут меньше напрягать свои силы, и то, чтò я давал за мытье и делание папирос, я могу отдать той прачке или даже совсем другим прачкам и работникам, которые устали от своей работы и которые вместо того, чтобы через силу работать, будут в состоянии отдохнуть и напиться чаю. Но я на это слышал возражения. (Так совестно богатым и роскошным людям понять свое положение!) На это говорят: «Если я буду ходить в грязном белье и не курить, а отдавать эти деньги бедным, то у бедных всё-таки отберут всё, и та ваша капля в море не поможет».
На такое возражение еще совестнее отвечать, но надо ответить. Это такое обычное возражение! Ответ на это — простой.
Говорят: деятельность одного человека есть капля в море. Капля в море!
Есть индейская сказка о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит море, и принес ему жемчужину. Если бы наше общественное зло угнетения человека было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоит того, чтобы отдать свою жизнь на вычерпывание моря этого зла. Князь мира сего испугается и покорится скорее морского духа; но общественное зло не море, а вонючая, помойная яма, которую мы старательно наполняем сами своими нечистотами. Стоит только очнуться и понять, что мы делаем, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тотчас иссякло и мы овладели той бесценной жемчужиной братской, человеческой жизни.
XXV.
Но что же делать? Ведь не мы сделали это? Не мы, так кто же?
Мы говорим: не мы это сделали: это сделалось само, как дети говорят, когда они разобьют что-нибудь, что это само разбилось. Мы говорим, что, раз уже есть города, живя в них, мы кормим людей, покупая труд за услугу их. Но это — неправда. И вот почему. Стоит только посмотреть на нас, как мы живем в деревне и как там кормим людей.
Проходит зима в городе, приходит Святая. В городе продолжается всё та же оргия богачей. На бульварах, в садах, в парках, на реке — музыка, театры, катанья, гулянья, всякие освещения, фейерверки; но в деревне еще лучше, — воздух лучше, деревья, луга, цветы свежее. Надо ехать туда, где всё это распустилось и цветет. И вот большинство богатых, пользующихся трудом других людей, уезжает по деревням дышать этим лучшим воздухом, смотреть на эти еще лучшие луга и леса. И вот в деревне, среди серых, питающихся хлебом да луком, работающих по 18-ти часов в день, недосыпающих ночи и одетых в рубище мужиков, поселяются богатые люди. Здесь уже никто не соблазнял этих людей, не было никаких фабрик и заводов и нет тех гулящих рук, которых так много в городе и которые мы будто бы кормим, давая им работу. Здесь ведь народ никогда во всё лето не поспевает сделать своих дел во-время, и не только нет гулящих рук, а пропасть добра гибнет от недостатка рук, и пропасть людей — детей, стариков, женщин с детьми — гибнут, надрываясь над непосильной работой. Как же тут устраивают свою жизнь богатые люди? А вот как.
Если был старинный дом, построенный при крепостном праве, то дом этот возобновляется и украшается; если не было, то строится новый — в два, три этажа. Комнаты, которых от 12-ти до 20-ти и больше, все аршин по 6-ти вышины. Настилаются паркеты, цельные стекла в рамах, дорогие ковры, дорогая мебель. Около дома набивается камень, выравнивается, разбивают цветники, устраиваются крокет-граунды, ставят гигантские шаги, шары, отражающие часто оранжереи, парники, всегда с вырезушками на коньках, высокие конюшни. Всё красится масляной краской, на том масле, которого нет у стариков и детей в каше. Если хватает возможности у богатого человека, то он поселяется в таком доме, если не хватает, то нанимается такой дом; но как бы ни беден и ни либерален был человек нашего круга, поселяющийся в деревне, он поселяется в таком доме, для постройки и поддержания чистоты в котором нужно отнять от рабочего народа если не десятки то до двух, трех из тех людей, которые не успевают обработать свой хлеб для пропитания.
Тут уж нельзя говорить, что фабрики есть и всё равно будут, буду ли я или не буду пользоваться ими; тут уж нельзя говорить, что я кормлю гулящие руки; тут прямо мы заводим фабрики нужных нам вещей и прямо, пользуясь нуждою окружающих нас, отрываем людей от необходимой для них, и для нас, и для всех работы и тем развращаем одних и губим жизнь и здоровье других людей.
Вот живет в деревне образованное и честное дворянское или чиновничье семейство. Все члены семейства и гости собрались в половине июня вследствие того, что до июня они учились и сдавали экзамены, т. е. к началу покоса, и прожили до сентября, т. е. до уборки и посева. Члены этого семейства (как почти все люди этого круга) прожили в деревне от начала спешной работы, страды (не до конца ее, потому что в сентябре идет еще посев, копка картофеля), но до ослабления напряжения этой работы.
Всё время их житья в деревне вокруг них, рядом с ними шла та летняя крестьянская работа, о напряжении которой, сколько бы мы ни слышали, ни читали про нее, ни смотрели на нее, мы не можем себе составить никакого понятия, не испытав ее. И члены семейства, около 10-ти человек, живут точно так же, как и в городе, еще хуже, если это возможно, чем в городе, потому что тут, в деревне, считается, что члены семейства отдыхают (от ничегонеделания) и уже не имеют все никакого подобия труда, никакой отговорки в своей праздности.
Петровками — голодным постом, когда пища народа — квас, хлеб и лук, начинается покос. Господа, живущие в деревне, видят эту работу, отчасти распоряжаются ею, отчасти любуются ею, утешаются запахом вянущего сена, звуком бабьих песен, лязганьем кос и видом рядов косцов и гребущих баб. Они видят это и около дома и когда едут молодые и дети, ничего не делая целый день, непременно едут на сытых лошадях за пол-версты купаться.
Дело, которое делается на покосе, — одно из самых важных в мире. Почти всякий год от недостатка рук и времени остаются покосы не докошены, и от недостатка же времени и рук покос может попасть под дожди, и более или менее напряженная работа решает вопрос о том, прибавится ли к богатству людей 20 или более процентов сена, или они сгниют, или выболеют на корню. А прибавится сена — прибавится и мяса для стариков и молока для детей. Так вообще; в частности же для каждого из косцов тут решается вопрос о хлебе, молоке себе и детям на зиму. Каждый из работников и работниц знает это; даже дети, и те знают, что это дело важное, и надо трудиться из последних сил, нести кувшинчик с квасом отцу на покос и, перехватывая из руки в руку тяжелый кувшин, пробежать босиком как можно скорее две версты от деревни, чтобы поспеть к обеду и чтоб батька не забранился. Каждый знает, что с покоса и до уборки уже перерыва работы не будет, и отдыхать некогда. Не один покос; у каждого, кроме покоса, еще дела: и землю поднять, и заскородить, и у баб холсты, и хлебы, и стирка, а у мужиков на мельницу съездить надо, и в город, и мирские дела, и на суд к судье и десятскому, и подводы, и лошадей кормить по ночам, — и все, старый и малый и большой, тянут из последних сил. Работают мужики так, что всякий раз косцы перед концом упряжки — слабые, подростки и старые еле-еле, пошатываясь, проходят последние ряды и насилу поднимаются после отдыха; так же работают и бабы, часто брюхатые и кормящие. Работа напряженная и неустанная. Все работают из последних сил и выедают в эту работу не только весь запас своей скудной пищи, но и прежние запасы; они все — не толстые худеют после страды.
Вот работает покос маленькая артель: три мужика — один старик, другой — его племянник, молодой малый, женатый, и сапожник — дворовый, худенький, жилистый человечек; для всех них покос этот решает участь зимы: надо ли держать корову, отбыть ли подати? Они без устали, без отдыха работают 2-ю неделю. Дождь задержал их работу. После дождя, когда обдуло, они решили копнить и, чтобы было успешнее, решили выдти по две бабы на косу. Со стороны старика вышла его жена, 50-тилетняя, изведшаяся от работы и 11-ти родов женщина, глухая, но работающая еще очень сильно, и 13-тилетняя дочь, не высокая, но ухватливая и сильная девочка. Со стороны племянника вышла его жена, женщина сильная и рослая, как добрый мужик, и его невестка — брюхатая солдатка. Со стороны сапожника — его жена, сильная работница, и ее мать — старуха, доживающая восьмой десяток и обыкновенно побирающаяся. Все они равняются и работают с утра до вечера на самом припоре июньского солнца. Парит и грозит дождь. Дорога каждая часина работы. Жалко оторваться от работы, чтобы принесть воды или квасу. Крошечный мальчишка — внук старухи таскает воду. Старуха, видимо озабоченная только тем, чтобы ее не согнали с работы, не выпуская из рук грабли, очевидно с трудом, но насилу движется. Мальчишка, весь изогнувшись, коротко переступая босыми ноженками, таскает, перехватывая из руки в руку, кувшин с водою который тяжелее его. Девочка взваливает на плеча беремя сена, тоже тяжелее себя, переходит несколько шагов и останавливается и сваливает, не в силах донести его. Старуха 50-ти лет загребает без устали и с сбитым на сторону платком таскает сено, тяжело дыша и пошатываясь; 80-тилетняя старуха только гребет, но и это ей через силу; она медленно волочит свои обутые в лапти ноги и, насупившись, мрачно смотрит перед собой, как тяжко больной или умирающий человек. Старик нарочно отсылает ее дальше от других погрести около копен, чтобы она не равнялась с другими, но она не покладает рук и с тем же мертвым мрачным лицом работает, пока другие работают. Солнце уже заходит за лес, а копны еще не все прибраны, остается еще много. Все чувствуют, что пора шабашить, но никто не говорит, ожидая того, чтобы сказали это другие. Наконец сапожник, чувствуя, что сил уже нет, предлагает старику оставить копны до завтра, и старик соглашается, и тотчас же бабы бегут за одеждой, за кувшинами, за вилами, и тотчас же старуха садится, где стояла, и потом ложится, всё тем же мертвым взглядом глядя перед собой. Но бабы уходят, она крехтя поднимается и тащится за ними.
А вот барский дом. В тот же вечер, когда со стороны деревни слышатся побрякивания брусниц измученных косцов, возвращающихся с покоса, звуки молотка по отбою, крики баб и девок, только что успевших поставить грабли и уж бегущих загонять скотину, — с барского двора слышатся другие звуки: дринь, дринь, дринь! Слышится фортепьяно, разливается какая-то венгерская песня и из-за этих песен изредка звук ударов молотков крокета по шарам.
У конюшни стоит коляска, запряженная сытой четверней. Это коляска щегольского ямщика. Приехали гости и заплатили 10 рублей за проезд 15-ти верст. Лошади, стоя у коляски, побрякивают бубенчиками. В коляске у них сено, которое они копают под ноги, то самое сено, которое там, на покосе, с таким трудом собирают. На барском дворе движение. Здоровый отъевшийся малый в розовой, подаренной ему за его службу дворником рубашке зовет кучеров запрягать и седлать лошадей.
Два мужика, живущие тут в кучерах, выходят из кучерской и идут вольготно, размахивая руками, седлать лошадей господам. Еще ближе к барскому дому слышатся звуки другого фортепьяно. Это Шумана практикует консерваторка, живущая у господ для обучения детей. Звуки одного фортепьяно перебивают звуки другого.
Около самого дома идут две няни, одна молодая, другая старая, ведут и несут спать детей такого возраста, какого те, которые прибегали из деревни с кувшинами. Одна няня — англичанка, не умеющая говорить по-русски. Она выписана из Англии не с тем, что за нею известны какие-нибудь качества, а только потому, что она не умеет говорить по-русски. Дальше еще особа — француженка, которая то же приглашена затем, что не умеет по-русски. Дальше один мужик с двумя бабами поливает цветы около дома, другой чистит ружье для барчука. А вот две бабы несут корзину с чистым бельем — это они обмывали всех господ, англичанок и француженок. В доме две бабы едва поспевают мыть посуду за господами, которые только что откушали, и два мужика во фраках бегают взад и вперед по лестнице, подавая кофе, чай, вино, воду сельтерскую. Наверху стол уставлен: только что кончили есть, и тотчас опять будут есть до петухов, до 12-ти, до 3-х, до зари часто.
Одни сидят и курят за картами, другие сидят и курят за либеральными разговорами, третьи ходят из места в место, едят, курят и, не зная, что им делать, выдумали ехать кататься.
Их человек пятнадцать здоровых мужчин и женщин, и человек тридцать здоровенных работников и работниц работают на них. И это происходит там, где каждый час, каждый мальчик дорог. И это будет происходить и в июле, когда мужики, не высыпаясь, будут по ночам косить овес, чтобы он не сыпался, и бабы темно вставать, обмолачивать старновки для свясел, когда эта старуха, уже совсем затянутая работой на жнитве, и беременные женщины и молодые ребята надорвутся и обопьются и когда не будет хватать ни рук, ни лошадей, ни телег, чтобы свезти в скирды тот хлеб, которым кормятся все люди, которого миллионы пудов нужно на день в России, чтобы не померли люди; и в это время такая жизнь господ будет продолжаться, будут театры, пикники, охота, питье, еда, фортепианы, пение, пляска, неперестающая оргия. Ведь тут уже нельзя отговариваться тем, что это заведено: ничего этого не было заведено. Мы сами старательно заводим эту жизнь, отнимая хлеб и труд от замученных работой людей.
Мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой, 14-тилетней проституткой, измученными деланьем папирос женщинами, напряженной, непосильной, без достаточной пищи работой старух и детей вокруг нас; мы живем — наслаждаемся, роскошествуем, как будто нет связи между этим и нашей жизнью; мы не хотим видеть того, что не будь нашей праздной, роскошной и развратной жизни, не будет и этого непосильного труда, а не будь непосильного труда, не будет нашей жизни.
Нам кажется, что страдания сами по себе, а наша жизнь сама по себе, и что мы, живя, как мы живем, невинны и чисты, как голуби.
Мы читаем описания жизни римлян и удивляемся на бесчеловечность этих бездушных Лукуллов, упитывавшихся яствами и винами, когда народ умирал с голода; мы покачиваем головами и удивляемся дикости наших дедов-крепостников, заводивших домашние оркестры и театры и целые деревни назначавших на содержание садов, и удивляемся с высоты нашего неличия на их негуманность. Мы читаем слова Исаии, V:
8. — Горе вам, приобретающие дом к дому, присоединяющие поле к полю, пока не будет места, чтобы вам одним только жить на земле.
11. — Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры, остаются до позднего вечера, чтобы разгорячаться вином.
12. — И арфа, и гусли, тимпан, и свирель, и вино их пиршество; но не взирают они на дело Господа и не видят действия рук Его.
18. — Горе тем, которые привлекают к себе беззаконие греховными узами и грех как бы колесничными ремнями.
20. — Горе тем, которые называют зло добром и добро злом, которые выдают тьму за свет и свет за тьму, которые выдают горькое за сладкое и сладкое за горькое.
21. — Горе мудрым в глазах своих и разумным перед самими собою.
22. — Горе тем, которых храбрость пить вино и доблесть растворять сикору.
23. — Которые оправдывают беззаконного из-за подарков и отнимают у правого законное.
Мы читаем эти слова, и нам кажется, что это к нам не относится. Мы читаем в Евангелии Мф. III, 10: — Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
И мы вполне уверены, что хорошее дерево, приносящее плод, — есть мы сами и что слова эти не нам сказаны, а каким-то другим, дурным людям.
Мы читаем слова Исайи, VI:
10. — Сделай бесчувственным сердце этого народа; оглуши его уши и закрой глаза его, чтобы он не увидел глазами своими, и не услышал ушами своими, и не уразумел сердцем своим, и не обратился и не исцелел.
11. — Тогда я сказал: доколе, Господи? И Он отвечал: доколе не опустеют города от неимения жителей и домы от безлюдья, и земля не обратится в пустыню.
Мы читаем и вполне уверены, что это удивительное дело сделано не над нами, а над каким-то другим народом. А оттого-то мы и не видим ничего, что это удивительное дело совершилось и совершается над нами: мы не слышим, не видим и не разумеем сердцем. Отчего это случилось?
XXVI.
Каким образом может человек, считающий себя — не говорю уже христианином, не говорю образованным или гуманным человеком, но просто человек, не лишенный совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труд борющихся и число гибнущих в этой борьбе? А такими людьми полон наш так называемый христианский и образованный мир. Мало того, что такими людьми полон наш мир, — идеал людей нашего христианского образованного мира есть приобретение наибольшего состояния, т. е. возможности освобождения себя от борьбы за жизнь и наибольшего пользования трудом гибнущих в этой борьбе братьев.
Как могли люди впасть в такое удивительное заблуждение?
Каким образом могли они дойти до того, чтобы не видеть, не слышать и не разуметь сердцем того, что так ясно, очевидно и несомненно? Ведь стоит только на минуту одуматься, чтобы ужаснуться перед тем удивительным противоречием нашей жизни с тем, что мы исповедуем, мы, так называемые — не говорю уже христиане, но мы, гуманные, образованные люди.
Хорошо ли, дурно ли сделал тот Бог или тот закон природы, по которому существует мир и люди; но положение людей в мире, с тех пор, как мы знаем его, таково, что люди голые, без шерсти на теле, без нор, в которых бы они могли укрыться, без пищи, которую бы они могли находить в поле, как Робинзон на своем острове, — все поставлены в необходимость постоянно и неустанно бороться с природою для того, чтобы прикрыть тело, сделать себе одежду, огородиться, сделать крышу над головой и сработать пищу, чтобы два или три раза в день утолить свой голод и голод своих немогущих работать детей и старых.
Где бы, в какое время и в каком числе мы бы ни наблюдали жизнь людей: в Европе ли, в Китае ли, в Америке ли, в России, всё ли будем рассматривать человечество или какую-нибудь малую часть его, в древние ли времена, в кочевом состоянии или в наше, с паровыми двигателями и швейными машинами, усовершенствованным земледелием и электрическим светом, — мы увидим одно и то же: что люди, непрестанно и напряженно работая, не в силах приобрести для себя и для своих малых и старых одежды, крова и пищи и что значительная часть людей, как прежде, так и теперь, гибнет от недостатка средств жизни и непомерного труда для приобретения их.
Где бы мы ни жили, если мы проведем вокруг себя круг в сто тысяч, в тысячу, в десять верст, в одну версту и посмотрим на жизнь тех людей, которых захватит наш круг, мы увидим в этом кругу заморышей-детей, стариков, старух, родильниц, больных и слабых, работающих сверх сил и не имеющих достаточно для жизни пищи и отдыха и оттого преждевременно умирающих; увидим людей в силе возраста прямо убиваемых опасной и вредной работой.
С тех пор, как существует мир, мы видим, что люди с страшным напряжением, лишениями, страданиями борятся с своей общей нуждой и не могут одолеть ее.
Мы знаем, кроме того, что каждый из нас, где бы он ни жил и как бы он ни жил, волей-неволей каждый день, каждый час поглощает для себя часть трудов, выработанных человечеством. Где бы и как бы он ни жил, дом, крыша над ним не выросли сами собой. Дрова в его печи не пришли сами, так же не пришла вода и не свалился с неба печеный хлеб, обед, и одежда, и обувь, а всё это сделали для него не одни люди прошедшего, уже умершие, но это сделали и делают для него теперь те люди, из которых сотни и тысячи чахнут и мрут в тщетных усилиях добывания самим себе и своим детям достаточных крова, пищи и одежды — средств спасения себя и их от страданий и преждевременной смерти.
Все люди борятся с нуждою. Борятся так напряженно, что всякую секунду вокруг них гибнут их братья, отцы, матери, дети. Люди в этом мире, как на заливаемом корабле с небольшим запасом пищи, все поставлены Богом или природою в такое положение, что должны, сберегая эту пищу, не переставая отливаться от нужды. Всякая остановка в этом труде каждого из нас, всякое бесполезное для общего дела поглощение труда других гибельно для нас самих и для наших братьев.
Каким же образом случилось то, что большинство образованных людей нашего времени, не работая, спокойно поглощает труды других людей, необходимые для жизни, и считает такую жизнь самою естественною и разумною?
Для того чтобы освободить себя от свойственного и естественного всем труда, перенести его на других и не считать себя при этом изменниками и ворами, возможно только два предположения: первое, что мы, люди, не принимающие участия в общем труде, мы — особенные существа от рабочих людей и имеем особенное назначение в обществе, так же как трутни или пчелиные матки, имеющие другое назначение от рабочих пчел; и, второе, что то дело, которое мы, люди, освобожденные от борьбы за жизнь, делаем за остальных людей, так полезно для всех людей, что наверное выкупает тот вред, который мы делаем другим людям, отягчая их положение.
В прежние времена люди, пользовавшиеся трудами других, утверждали, во-первых, что они люди особенной породы и, во-вторых, имеют особенное назначение от Бога заботиться о благе отдельных людей, т. е. управлять ими и учить их, и потому они уверяли других и часто верили сами, что то дело, которое они исполняют, нужнее и важнее для народа, чем те труды, которыми они пользовались. И это оправдание до тех пор, пока не было сомнения в непосредственном вмешательстве Божества в людские дела и в различие пород, было достаточно. Но с христианством и вытекающим из него сознанием равенства и единства всех людей оправдание это уже не могло быть выставляемо в прежней форме. Нельзя уже было утверждать, что люди родятся разных пород и достоинств и с различным назначением, и старое оправдание, хотя и поддерживаемое еще некоторыми людьми, понемногу уничтожалось и почти уничтожилось. Оправдание особенности пород людских уничтожилось; но самый факт освобождения себя от труда и пользования трудом других для тех, которые имеют власть это делать, остался тот же, и для существующего факта постоянно были придумываемы новые оправдания, такие, при которых и без признания особенности пород людей освобождение себя от труда тех людей, которые могут делать это, казалось бы справедливым.
Таких оправданий было придумываемо очень много. Как ни странно это может показаться, главная деятельность всего того, что называлось в известное время наукой, того, что составляло царствующее направление науки, было и теперь продолжает состоять в отыскании таких оправданий. Это было целью деятельности богословских, это было целью и юридических наук, это было целью так называемой философии, и это стало в последнее время (как это ни кажется странным для нас, современников, пользующихся этим оправданием) целью деятельности современной опытной науки.
Все богословские тонкости, стремящиеся доказать, что данная церковь есть единая истинная преемница Христа, а потому она одна имеет полную и бесконечную власть над душами, да и над телами людей, главным мотивом своей деятельности имеют эту цель.
Все науки юридические: государственное, уголовное, гражданское, международное право, имеют одно это назначение; большинство философских теорий, в особенности столь долго царствующая теория Гегеля с его положением разумности существующего и того, что государство есть необходимая форма совершенствования личности, имеют одну эту цель.
Позитивная философия Конта и вытекающее из нее учение о том, что человечество есть организм; учение Дарвина о законе борьбы за существование, руководящем будто бы жизнью, и вытекающего из него различия пород людских; столь любимая теперь антропология, биология и социология имеют одну эту цель. Все эти науки стали любимыми науками, потому что они все служат оправданию существующего освобождения себя одними людьми от человеческой обязанности труда и поглощения ими труда других.
Все эти теории, как и всегда это бывает, вырабатываются в таинственных капищах жрецов и в неопределенных, неясных выражениях распространяются в массах и усваиваются ими. Как в старину все тонкости богословские, оправдывавшие насилие церковной и государственной власти оставались специальным достоянием жрецов, а в толпе ходили принимаемые на веру готовые выводы о том, что власть царей, духовенства и дворян священна, так потом философские и юридические тонкости так называемой науки были достоянием жрецов этой науки, а в толпе ходили только принимаемые на веру выводы о том, что устройство общества должно быть такое, какое есть, и иного быть не может.
И так же и теперь только в капищах жрецов разбираются законы жизни и развития организмов; в толпе же ходят принимаемые на веру выводы о том, что разделение труда есть закон, утвержденный наукой, и что так и надо: одним умирать с голода и работать, а другим вечно праздновать, и что эта-то самая гибель одних и празднование других и есть несомненный закон жизни человечества, которому должно подчиняться. Ходячее оправдание в их праздности для массы всех так называемых образованных людей с их разнообразными деятельностями, от железнодорожника до писателя и художника, теперь такое:
Мы, люди, освободившие себя от общечеловеческой обязанности участия в борьбе за существование, служим прогрессу и тем самым приносим пользу всему обществу людей — пользу, выкупающую весь тот вред, который делается тому же народу потреблением его трудов.
Рассуждение это кажется людям нашего времени совершенно непохожим на те рассуждения, которыми оправдывали себя прежние нетрудящиеся люди, точно так же как рассуждение римских императоров и граждан о том, что без них погибнет образованный мир, казалось им совершенно особенным от рассуждения египтян и персов, и точно так же как такое же рассуждение казалось совершенно особенным от рассуждения римлян средневековым рыцарям и духовенству. Но это только так кажется; стоит только вникнуть в сущность оправдания нашего времени, для того чтобы убедиться, что в нем нет ничего нового. Оно только несколько переодето, но оно то же самое, потому что основано на том же.
Всякое оправдание человека в том, что он, не работая, поглощает труды других, — оправдание фараона и жрецов, римских и средневековых императоров с их гражданами — рыцарями, жрецами и духовенством, всегда слагается из двух положений: 1) мы берем труд черни потому, что мы особенные люди, предназначенные Богом для того, чтобы управлять чернью и поучать ее божеским истинам; 2) судьями же той меры трудов, которые мы берем от черни за приносимое нами ей благо, не могут быть люди черни, потому что, как сказали еще фарисеи (Иоанна, VII, 49), «Народ невежда в законе, проклятые они». Народ не понимает того, в чем состоит его благо, и потому не может быть судьею приносимой ему пользы.
Оправдание нашего времени, несмотря на свою кажущуюся особенность, слагается по существу из тех же двух основных положений: 1) мы, люди особенные, мы, люди образованные, служим прогрессу и цивилизации и тем делаем для черни великую пользу; 2) чернь необразованная, не понимает той пользы, которую мы приносим ей, а потому не может быть в ней судьею.
Мы увольняем себя от труда, пользуемся трудом других и тем отягчаем положение наших братий и утверждаем, что взамен этого мы приносим им большую пользу, в которой они по невежеству своему не могут быть судьями. Разве это не то же самое? Разница только в том, что прежде право на чужой труд имели граждане римские, жрецы, рыцари, дворяне; теперь — одна каста людей, называющаяся образованными.
Ложь та же, потому что то же ложное положение людей, оправдывающих себя. Ложь в том, что прежде чем делать рассуждение о пользе, которая приносится народу людьми, освобожденными от труда, известные люди: фараоны, жрецы или мы, образованные люди, прежде рассуждения, и фараоны и мы, мы сами становимся в это положение, поддерживаем его и потом уже придумываем ему оправдание.
Это-то положение одних людей, насилующих других, как прежде, так и теперь служит основой всего.
Разница нашего оправдания от самого старинного только в том, что оно менее основательно, чем прежние. Старинные императоры и папы, если они сами верили и народ верил в их божественное назначение, могли просто объяснять, почему именно они те люди, которые должны пользоваться трудами других: они говорили, что они определены на это самим Богом и Богом же предписано им передавать народу божественные, открытые им истины и управлять народом. Неработающие же руками образованные люди нашего времени, признавая равенство людей, не могут уже объяснить, почему именно они и их дети (потому что и образование получается только деньгами — властью) — те избранные счастливцы, которые призваны приносить известную легкую пользу, а не другие люди из тех миллионов, которые сотнями и тысячами гибнут, поддерживая их возможность образования.
Единственное оправдание их то, что они — те, какие теперь есть, — взамен зла, которое они делают народу, освобождая себя от труда и поглощая его труды, приносят народу непонятную для него пользу, такую, которая выкупает весь производимый ими вред, хотя польза эта и непонятна народу.
XXVII.
Положение, которым люди, уволившие себя от труда, оправдывают свое увольнение, в самом простом и точном выражении будет такое: мы, люди, имеющие возможность, уволив себя от труда, пользоваться посредством насилия трудом других людей, вследствие этого своего положения приносим этим другим людям пользу или, другими словами: известные люди за приносимый народу осязаемый и понятный вред, силою пользуясь его трудами и тем увеличивая трудность его борьбы с природой, приносят ему неосязаемую и непонятную для него пользу.
Положение это очень странно; но люди и прежнего и нашего времени, живущие на шее рабочего народа, верят в него и тем успокаивают свою совесть.
Посмотрим, каким образом в различных классах людей, уволивших себя от труда, оправдывается это положение в наше время.
Я служу людям своей государственной или церковной деятельностью: королем, министром, архиереем; я служу людям своим торговым и промышленным делом; я служу людям своей научной или художественной деятельностью. Мы все своею деятельностью так же необходимы народу, как он необходим для нас. Так говорят разнородные, уволившие себя от труда люди нашего времени. Рассмотрим по порядку те основания, на которых они утверждают полезность своей деятельности.
Признаков полезности деятельности одного человека для другого может быть только два: внешний — признание полезности деятельности тем, кому приносится польза, и внутренний — пользы другому, лежащее в основе деятельности того, кто приносит пользу.
Люди государственные (я включаю устанавливаемых правительством церковных людей в число государственных) приносят пользу тем людям, которыми они управляют.
Император, король, президент республики, первый министр, министр юстиции, министр военный, просвещения, архиерей и все их подчиненные, служащие государству, — все они живут, уволив себя от борьбы человечества за жизнь и наложив всю тяжесть борьбы на остальных людей на том основании, что деятельность их выкупает это. Приложим первый признак. Признается ли теми рабочими людьми, на которых непосредственно направлена деятельность государственных людей, польза, получаемая от этой деятельности? Да, признается: большинство людей считает государственную деятельность для себя необходимой, большинство признает полезность этой деятельности в принципе; но во всех известных нам проявлениях ее, во всех известных нам частных случаях каждое из учреждений и из действий этой деятельности встречает в среде тех людей, для пользы которых она совершается, не только отрицание приносимой пользы, но утверждение того, что деятельность эта вредна и пагубна.
Нет деятельности государственной и общественной, которая не считалась бы очень многими людьми вредом; нет учреждения, которое не считалось бы вредным: суды, банки, земства, волостные правления, полиция, духовенство, всякая деятельность государственная — от высшей власти до урядника и городового, от архиерея и до дьячка — признается одною частью людей полезною, другою частью вредною. И это происходит не в России только, но во всем мире, и во Франции и в Америке.
Вся деятельность республиканской партии считается вредною радикальною партией, и обратно: вся деятельность радикальной партии, если власть в ее руках, считается вредною республиканской партией и другими. Но мало того, что всякая деятельность государственных людей никогда не признается полезною всеми людьми: деятельность эта имеет еще то свойство, что всегда должна быть производима насильственно и что для достижения этой пользы необходимы: убийства, казни, остроги, насильственные подати и др. Оказывается, стало быть, что, кроме того, что польза государственной деятельности не признается всеми людьми и отрицается всегда одною частью людей, польза эта имеет свойство всегда выражаться насилием. И потому полезность государственной деятельности не может быть подтверждаема тем, что она признается теми людьми, для которых она производится.
Приложим второй признак. Спросим самих людей государственных, от царя до городового, от президента до секретаря и от патриарха до дьячка, прося их искреннего ответа. Все они, занимая свои должности, имеют ли в виду ту пользу, которую они желают приносить людям, или другие цели? К желанию их занять место царя, президента, министра или станового, дьячка, учителя побуждаются ли они стремлением к пользе людей или к своей личной выгоде? И ответ добросовестных людей будет тот, что главное побуждение их — личная выгода.
И вот выходит, что один разряд людей, пользующийся трудами других, гибнущих в этом труде людей, выкупает несомненный вред этот такою деятельностью, которая всегда считается не пользою, а вредом очень многими людьми, которая не может быть принимаема людьми свободно, а к которой всегда нужно принуждать силою, и цель которой не есть польза других, а личная выгода тех людей, которые ее производят.
Что же подтверждает то предположение, что государственная деятельность полезна людям? Только то, что те люди, которые ее производят, твердо верят, что она полезна, и то, что деятельность эта всегда существовала; но существовали всегда не только бесполезные, но и вредные учреждения, как рабство, проституция и войны.
Люди промышленные, — разумея под этим и торговцев, и фабрикантов, и железнодорожников, и банкиров, и землевладельцев, — верят в то, что они приносят пользу, выкупающую несомненно приносимый ими вред. На каких основаниях они верят в это? На вопрос о том, кем, какими людьми признается польза их деятельности, государственные, со включением церковных, люди могли указать на тысячи и миллионы рабочих людей, признающих в принципе пользу государственной и церковной деятельности; но на кого укажут нам банкиры, фабриканты водки, бархата, бронз, зеркал, не говоря уже пушек, на кого укажут торговцы, землевладельцы, когда мы спросим их, признается ли приносимая ими польза общественным мнением? Если найдутся люди, которые признают производство ситцев, рельсов, пива и т. п. вещей полезным, то найдутся люди еще в большем количестве, которые признают производство этих предметов вредным. Деятельность же торговцев, возвышающих цены на предметы, и землевладельцев никто и защищать не станет. Кроме того, деятельность эта всегда соединена с вредом для рабочих и с насилием, хотя и менее прямым, чем насилие государственное, но столь же жестоким по своим последствиям, так как промышленная и торговая деятельность вся основана на пользовании нуждою рабочих людей во всяких видах: пользование ею для принуждения рабочих к тяжелой и нежелательной работе, пользование тою же нуждою для закупки товаров по дешевым ценам и продажа нужных народу предметов по самой высокой цене, пользование ею же для взыскания роста за деньги. С какой бы стороны мы ни рассматривали их деятельность, мы увидим, что польза, приносимая промышленными людьми, не признается теми людьми, для которых она производится, ни в принципе, ни в частных случаях и большею частью прямо признается вредом.
Если же мы приложим второй признак и спросим: какая побудительная причина деятельности промышленных людей, то мы получим еще более определенный ответ, чем ответ о деятельности государственных людей.
Если государственный человек скажет, что, кроме личной выгоды, он имеет в виду и общую пользу, нельзя не поверить ему, и всякий из нас знает таких людей; но промышленный человек по самой сущности своего дела не может иметь в виду общую пользу и будет смешон в глазах своих собратьев, если в своем деле будет преследовать какую-либо другую цель, кроме увеличения своего богатства или поддержания его. Итак, рабочие люди не считают деятельность промышленных людей для себя полезною. Деятельность эта сопряжена с насилием против рабочих, и цель этой деятельности есть не польза рабочих людей, а всегда только собственная личная выгода. и вдруг — удивительное дело! Эти промышленные люди так уверены в приносимой ими своею деятельностью пользе людям, что смело, во имя этой воображаемой пользы, делают рабочим несомненный, очевидный вред, освобождая себя от труда и поглощая труд рабочих людей.
Люди науки и искусства освободили себя от труда и наложили этот труд на других и живут с спокойной совестью, твердо уверенные в том, что они приносят другим всё это выкупающую пользу.
На чем основана их уверенность? Спросим их, как мы спрашивали государственных и промышленных людей: признается ли рабочими людьми, всеми или хоть большинством их, та польза, которая приносится им наукой и искусствами? Ответ будет самый плачевный. Деятельность государственных и церковных людей признается полезною в принципе почти всеми и в приложениях большею половиною тех рабочих людей, на которых она направлена; деятельность промышленных людей признается полезною небольшим числом рабочих людей; деятельность же людей науки и искусства не признается полезною никем из рабочих людей. Польза этой деятельности признается только теми, которые ее производят или желают производить. Рабочий народ — тот самый народ, который несет на своих плечах весь труд жизни и кормит и одевает людей наук и искусств — не может признавать деятельность этих людей полезною для себя, потому что не может иметь даже никакого представления об этой столь полезной для него деятельности. Деятельность эта представляется всегда рабочему народу бесполезной и даже развращающей. Так, без исключения, относится рабочий народ к университетам, библиотекам, консерваториям, картинным, скульптурным галлереям и театрам, строимым на его счет. Рабочий человек так определенно смотрит на эту деятельность, как на вред, что не отдает своих детей учиться и что для принуждения народа к принятию этой деятельности нужно было ввести везде закон об обязательном посещении школ. Рабочий человек смотрит всегда на эту деятельность враждебно и перестает относиться к ней так только тогда, когда он перестанет сам быть рабочим человеком и посредством наживы и потом так называемого образования из среды рабочих людей переходит в класс людей, живущих на шее других. И, несмотря на то, что польза деятельности людей наук и искусств не признается и даже не может быть признаваема никем из рабочих людей, рабочие люди всё-таки принуждаются к жертвам в пользу этой деятельности. Государственный человек прямо посылает другого на гильотину или в тюрьму; промышленный человек, пользуясь трудами другого, отбирает у него последнее, предоставляя ему выбор между голодною смертью или губительным трудом; человек же науки или искусства как будто ни к чему не принуждает, он только предлагает свой товар тем, которые хотят взять его; но, чтобы производить свой нежелательный для рабочего народа товар, он отбирает от народа насильно, через государственных людей, большую долю его труда на постройки, содержание академий, универсистетов, гимназий, школ, музеев, библиотек, консерваторий и на жалованье людям наук и искусств. Если же мы спросим людей наук и искусств о цели, которую они преследуют в своей деятельности, то тут получаются самые удивительные ответы. Государственный человек мог отвечать, что цель его есть общая польза, и в ответе его была доля правды, подтверждаемая общественным мнением. В ответе промышленного человека о том, что цель его — общественное благо, было менее вероятности, но всё-таки можно было допустить и это. Ответ же людей науки и искусства сразу поражает своею бездоказательностью и дерзостью. Люди науки и искусств говорят, не приводя на то никаких доказательств, совершенно подобно тому, как говорили это жрецы в старину, что их деятельность самая важная и нужная для всех людей и что без этой деятельности погибнет всё человечество. Они утверждают, что это так, несмотря на то, что никто, кроме их самих, не понимает и не признает их деятельности, и несмотря на то, что истинная наука и истинное искусство, по их же определению, должны не иметь цели полезности. Люди наук и искусств предаются любимому ими занятию, не заботясь о том, какая польза для людей произойдет от него, и всегда уверены, что они делают самое важное и нужное дело для человечества. Так что в то время как государственный искренний человек, признавая то, что главный мотив его деятельности есть личные побуждения, старается сколь возможно более быть полезным рабочим людям; промышленный человек, признавая эгоистичность своей деятельности, старается придать ей характер общего дела, — люди наук и искусств и не считают нужным прикрываться стремлением к пользе: они даже отрицают цель полезности — так они уверены не то что в полезности, но даже в святости своего занятия.
И вот оказывается, что третий отдел людей, уволивших себя от труда и наложивших его на других людей, занимается предметами, совершенно непонятными рабочему народу и которые этот народ считает пустяками, и часто вредными пустяками; и занимается он этими предметами без всякого соображения о пользе людей, а только для своего удовольствия, вполне почему-то уверенный, что его деятельность всегда будет такая, без которой нельзя жить рабочим людям.
Люди уволили себя от труда за жизнь и свалили с себя этот труд на гибнущих в этом труде людей, пользуются этим трудом и утверждают, что их занятия, непонятные всем остальным людям и не направленные к пользе людей, выкупают весь тот вред, который они приносят людям, уволив себя от труда за жизнь и поглощая труд других. Государственные люди, чтобы выкупить этот несомненный и очевидный вред, который они приносят людям своим увольнением от борьбы с природою и пользованием трудом других, делают людям еще другой, очевидный и несомненный вред всякого рода насилий. Промышленные люди, чтобы купить тот несомненный и очевидный вред, который они приносят людям, пользуясь их трудом, стараются приобрести для себя — следовательно, отнять от других — как можно больше богатства, т. е. как можно больше чужого труда. Люди наук и искусств взамен того же несомненного и очевидного вреда, который они делают рабочим людям, занимаются делами, которые непонятны рабочим людям и которые, по их же утверждению, чтобы быть настоящими, должны не иметь в виду пользы, но к которым они чувствуют влечение. И потому все эти люди совершенно уверены в том, что право их на пользование чужим трудом непоколебимо.
Казалось бы очевидно, что все те люди, которые уволили себя от труда за жизнь, не имеют на это оснований. Но удивительное дело: люди эти твердо верят в свою правоту и живут так, как они живут, с спокойной совестью. Должно быть какое-нибудь основание, должно быть какое-нибудь ложное верование в основании такого странного заблуждения.
XXVIII.
И действительно, в основании того положения, в котором находятся люди, живущие чужим трудом, лежит не только верование, но целое вероучение, и не одно, а три вероучения, веками нараставшие друг на друга и сплотившиеся в один чудовищный обман — humbug, как говорят англичане, скрывающий от людей их неправду.
Самое древнее вероучение в нашем мире, оправдывавшее измену людей их основной обязанности труда за жизнь, было вероучение церковно-христианское, по которому люди различествуют по воле Бога друг от друга, как солнце от луны и звезд, а звезды между собой: одним людям повелено от Бога иметь власть над всеми, другим над многими, третьим над некоторыми, четвертым повелено от Бога повиноваться.
Вероучение это, хотя уже расшатанное в своих основах, все еще по инерции продолжает действовать на людей так, что многие, не признавая самого учения, часто и не зная его, всё-таки руководятся им.
Второе оправдательное вероучение нашего мира есть то, которое я не умею иначе назвать, как вероучение государственно-философское. По вероучению этому, выразившемуся вполне в Гегеле, всё существующее разумно, и учрежденный и поддерживаемый людьми порядок жизни учрежден и поддерживается не людьми, а есть единственно возможная форма проявления духа или вообще жизни человечества. И это вероучение уже не разделяется в наше время людьми, руководящими общественным мнением, и держится только по инерции.
Последнее и теперь царствующее вероучение — то, на котором основывается теперь оправдание и государственных, и промышленных, и научных, и художнических передовых людей нашего времени, есть вероучение научное не в простом смысле этого слова, означающего знание вообще, но в смысле одного особенного по форме и по содержанию рода знаний, называемого наукой. На этом-то новом вероучении преимущественно и держится в наше время оправдание, скрывающее от праздных людей их измену своему призванию.
Новое вероучение это появилось в Европе одновременно с появлением в Европе же большого класса богатых и праздных людей, не служащих ни церкви, ни государству, которому понадобилось соответствующее его положению оправдание.
Очень недавно, до французской революции, в Европе было то, что все нерабочие люди для того, чтобы иметь право пользоваться трудами других, должны были иметь очень определенные занятия, служить церкви, правительству и войску. Люди, служившие правительству, управляли народом; служившие церкви научали его божеским истинам; служившие войску защищали народ. Только три сословия — духовенство, правители и военные — считали себя в праве пользоваться трудом рабочих и могли всегда выставить свою службу народу; остальные богатые люди, не имевшие этого оправдания, были презираемы и, чувствуя свою неправоту, стыдились своего богатства и праздности.
Но пришло время, и класс этот богатых людей, не причастных ни духовенству, ни правительству, ни войску, благодаря порокам трех сословий, размножился и сделался силою, и этим людям понадобилось оправдание. И оправдание явилось. Не прошло и столетия, как все те люди, не служащие государству и церкви и не принимающие никакого участия в этих делах, не только получили такие же права на пользование чужими трудами, как и прежние сословия, и не только перестали стыдиться своего богатства и праздности, но и стали считать свое положение вполне оправданным. И таких людей развелось в наше время огромное количество, и число их постоянно увеличивается. И что удивительно, то это то, что эти новые люди, те самые, законность освобождения от труда которых так недавно еще не признавалась, теперь одни считают себя вполне оправданными и нападают на прежние три сословия: слуг церкви, государства и войска, признавая их освобождение от труда несправедливым и даже иногда деятельность их прямо вредною. И что еще удивительнее, то это то, что прежние служители государства, церкви и войска уже не опираются теперь на божеское избрание и даже на философское значение государства, необходимого будто бы для проявления личности, а бросают эти опоры, так долго поддерживавшие их, ищут тех самых опор, на которых стоит теперь царствующее, нашедшее это новое оправдание новое сословие, во главе которого стоят ученые и художники.
Если теперь государственный человек иногда по старой памяти защищает еще свое положение тем, что он назначен на это Богом, или тем, что государство есть форма развития личности, то он делает это по отсталости от века, а сам чувствует, что никто не верит ему. Чтобы ему твердо защищать себя, он должен найти теперь уже не богословские и не философские, а другие, новые, научные опоры. Нужно выставить принцип национальностей или органического развития, нужно задобрить царствующее сословие, как в средине века нужно было задобрить духовных, как в конце прошлого столетия надо было задобрить философов (Фридрих, Екатерина).
Если богатый человек теперь иногда по старой привычке говорит о божеском произволении, избравшем его в богачи, или о значении аристократии для блага государства, то он говорит это по отсталости от века. Чтобы твердо оправдать себя, он должен выставить свое содействие прогрессу цивилизации усовершенствованием способов производства, удешевлением предметов потребления, установлением международного общения. Богатый человек и думать и говорить должен языком научным, и ему, как прежде духовенству, теперь нужно приносить жертвы царствующему сословию; он должен издавать журналы, книги, завести галлерею, музыкальные общества, или детский сад, или технические школы. Царствующее же сословие есть сословие ученых и художников известного направления: они имеют полное оправдание своего освобождения от труда, и на их оправдании, как прежде на богословском, потом на философском, теперь зиждется всякое оправдание, и они-то раздают теперь другим сословиям дипломы на оправдание. Сословия, теперь имеющие полное оправдание в своем освобождении от труда, есть сословие людей науки и преимущественно науки опытной, позитивной, критической, эволюционной, и сословие художников, действующих в этом направлении. Если ученый или художник по старой памяти говорит теперь о пророчестве, откровении или проявлении духа, то он делает это по отсталости, и он не оправдает себя: чтобы ему стоять твердо, ему нужно пристроить как-нибудь свою деятельность к опытной, позитивной, критической науке и эту науку поставить в основание своей деятельности. Тогда только наука или искусство, которыми он занимается, будут настоящие, и он будет в наше время стоять на непоколебимых основах, и не будет уже сомнения в той пользе, которую он приносит человечеству.
На опытной, критической, позитивной науке теперь зиждется оправдание всех людей, освободивших себя от труда. Оправдания богословские и философские уже отжили и робко и стыдливо заявляют себя и стараются подмениться научным оправданием; научное же оправдание смело опрокидывает, разрушает остатки прежних оправданий, заступает везде их место и с уверенностью в свою непоколебимость высоко поднимает голову.
Церковное оправдание говорило, что по своему назначению призваны одни повелевать, другие повиноваться, одни жить в изобилии, другие в нужде, и потому кто верит в откровение Бога, тот не может сомневаться в законности положения тех людей, которые по воле Бога призваны повелевать и быть богатыми. Философско-государственное оправдание говорило: государство со всеми учреждениями своими и различиями сословий по правам и имуществу есть та историческая форма, которая необходима для правильного проявления духа в человечестве, и потому то положение по правам и имуществу, которое кто занимает в государстве и обществе, должно быть таковым для правильной жизни человечества. Научная теория говорит: всё это вздор и суеверие, плод мысли — одно — теологического периода жизни человечества, другое — метафизического периода. Для изучения законов жизни человеческих обществ есть только один несомненный метод: метод позитивной, опытной, критической науки.
Только социология, основанная на биологии, основанной на всех позитивных науках, может дать нам новые законы жизни человечества. Человечество или общества человеческие суть организмы, готовые или еще образующиеся и подчиняющиеся всем законам эволюции организмов.
Один из главных законов этих есть разделение отправлений между частицами органов. Если одни люди повелевают, а другие повинуются, если одни живут в изобилии, а другие в нужде, то это происходит не по воле Бога, не потому, что государство есть форма проявления личности, а потому, что в обществах, как в организмах, происходит необходимое для жизни целого разделение труда: одни люди исполняют в обществах мускульную работу, другие мозговую. На этом вероучении строится царствующее оправдание нашего времени.
XXIX.
Проповедуется новое учение Христом и записывается в Евангелиях. Учение это гонится и не принимается, и вот выдумывается история падения первого человека и первого ангела, и эта выдумка принимается за учение Христа. Выдумка эта нелепа, не имеет никакого основания, но из нее естественно вытекает вывод, что человек может жить дурно и всё-таки считать себя оправданным Христом, и вывод этот так на руку толпе слабых и нелюбящих нравственного труда людей, что выдумка эта сразу признается истиной и даже божеской — откровенной истиной, и несмотря на то, что нигде в том, что называется откровением, нет и намека на это, и выдумка становится в основании тысячелетней работы ученых богословов, строящих на ней свои теории.
Ученые богословы распадаются на толки и начинают отрицать построения друг друга, начинают чувствовать сами, что они запутались, не понимают уж того, что говорят; но толпа требует от них подтверждения своего любимого учения, и они притворяются, что они понимают и верят в то, что говорят, и продолжают проповедывать. Но приходит время, выводы оказываются ненужными, толпа заглядывает в капища жрецов и к удивлению своему видит вместо торжественных и несомненных истин, какими ей казались таинства богословия, что там никогда ничего не было, кроме самого грубого обмана, и удивляется своему ослеплению.
То же самое происходило с философией, не в смысле мудрости Конфуциев, Сократов, Эпиктетов, а с профессорской философией, когда она потакала инстинктам толпы праздных, богатых людей.
Недавно царствовала в ученом образованном мире философия духа, по которой выходило, что всё, что существует, то разумно, что нет ни зла, ни добра, что бороться со злом человеку не нужно, а нужно проявлять только дух: кому на военной службе, кому в суде, кому на скрипке. Ведь много было различных выражений мудрости человеческой, и проявления эти были известны людям XIX столетия. Известен был и Руссо, и Лессинг, и Спиноза, и Бруно, и вся мудрость древности, но ничья мудрость не овладела толпой. Нельзя сказать и того, чтобы успех Гегеля зависел от стройности его теории. Были такие же стройные теории: Декарта, Лейбница, Фихте, Шопенгауэра. Только одна была причина того, что учение это сделалось на короткое время верованием всего мира; причина была та же, как и причина успеха теории падения и искупления человека, что выводы этой философской теории потакали слабостям людей. Выводы эти сводились к тому, что всё разумно, всё хорошо, ни в чем никто не виноват. И точно так же, как в богословии на теории искупления, в философии строили свою вавилонскую башню на Гегелевских основах (и теперь еще некоторые отсталые сидят на ней), и так же смешались языками, и так же почувствовали, что они сами не знают, что говорят, и так же старательно, не вынося сора из избы, старались поддерживать свой авторитет перед толпою.
Когда я начал жить, гегельянство было основой всего: оно носилось в воздухе, выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и юридических лекциях, в повестях, в трактатах, в искусстве, в проповедях, в разговорах. Человек, не знавший Гегеля, не имел права говорить; кто хотел познать истину, изучал Гегеля. Всё опиралось на нем, и вдруг, прошло 40 лет, и от него ничего не осталось, об нем нет и помину, как будто его никогда не было. И что удивительнее всего, что как лжехристианство, так и гегельянство пало не оттого, что его кто-нибудь опроверг, разрушил, — нет, оно как было, так и есть, но вдруг оказалось, что ни то, ни другое не нужно ученому, образованному миру. Если мы теперь скажем новому образованному человеку о падении ангела и Адама и об искуплении, он не то что станет спорить и доказывать несправедливость этого, а он с недоумением спросит: какой ангел? Зачем Адам? Какое искупление? И зачем мне это нужно? То же и с гегельянством. Новый человек не станет оспаривать, а только удивится. Какой дух? Откуда он? Зачем это? Зачем он проявляется? Зачем он мне нужен?
Было время, когда мудрецы-гегельянцы торжественно поучали толпу; и толпа, ничего не понимая, слепо верила всему, находя подтверждения того, что ей на руку, и верила, что то, что ей казалось неясным и противоречивым, там, на высотах философии, всё ясно, как день; но прошло время — теория эта износилась, явилась новая теория на ее место, и старая стала не нужна, и толпа заглянула туда в таинственные капища жрецов и увидела, что там ничего нет, да и не было, кроме слов очень темных и бессмысленных. Это случилось на моей памяти.
«Да, это происходит оттого, — скажут люди теперешней науки, — что всё это были бредни теологического и метафизического периода; теперь же есть критическая позитивная наука, которая уж не обманет, потому что она вся основана на индукции и опыте. Теперь знания наши не шатки, как прежде, и только на нашем пути решение всех вопросов человечества.
Но ведь точь-в-точь то же самое говорили богословы; и не дураки же они были, а мы знаем, что были между ними люди огромного ума, и точь-в-точь то же на моей памяти — и с не меньшей уверенностью, с не меньшим признанием со стороны толпы так называемых образованных людей — говорили гегельянцы. И тоже не дураки были хотя бы наши Герцены, Станкевичи, Белинские. Но отчего же произошло то удивительное явление, что умные люди проповедывали с величайшей уверенностью и толпа с благоговением принимала такие неосновательные и бессодержательные учения? Причина одна — та, что проповедуемые учения оправдывали людей в их дурной жизни.
Весьма плохой английский публицист, сочинения которого все забыты и признаны ничтожными из ничтожных, пишет трактат о народонаселении, в котором он придумывает мнимый закон несоразмерного со средствами питания увеличения населения. Мнимый закон этот писатель этот обставляет математическими, ни на чем не основанными формулами и выпускает в свет. По легкомысленности и бездарности этого сочинения надо бы предполагать, что сочинение это не заслужит ничьего внимания и забудется, как все последующие сочинения того же писателя; но выходит совсем другое: публицист, написавший это сочинение, становится сразу научным авторитетом и держится на этой высоте чуть не полстолетия. Мальтус! Теория Мальтуса — закон увеличения населения в геометрической и средств пропитания в арифметической прогрессии и естественные и благоразумные средства ограничения населения — всё это стало научными, несомненными истинами, которые не проверялись и которые употреблялись, как аксиомы, для дальнейших выводов. Так поступали люди ученые, образованные, в толпе же праздных людей было благоговейное доверие к открытым великим законам Мальтуса. Почему это случилось? Казалось бы, это были научные выводы, не имеющие ничего общего с инстинктами толпы. Но это так только может казаться для того, кто верит в то, что наука есть что-то такое самобытное, как церковь, не подлежащее ошибкам, а не просто измышления слабых и заблуждающихся людей, которые только для важности подставляют внушительное слово «наука» вместо мыслей и слов людей. Стоило сделать практические выводы из теории Мальтуса, чтобы увидать, что эта теория была самая человеческая, с самыми определенными целями. Выводы, прямо вытекающие из этой теории, были следующие: бедственное положение рабочих людей не происходит от жестокости, эгоизма и неразумия людей богатых и властных, а оно таково по неизменному, независящему от людей закону, и если кто виноват в этом, так это сами голодные рабочие: зачем они, дураки, родятся, когда знают, что нечего им будет есть и потому богатые и властные классы нисколько не виноваты и могут спокойно продолжать жить, как жили. И вот, этот драгоценный для толпы праздных людей вывод сделал то, что все ученые проглядели бездоказательность, неправильность и совершенную произвольность выводов, а толпа образованных, т. е. праздных людей, чутьем зная, к чему ведут эти выводы, приветствовала теорию с восторгом, наложила на нее печать истинности, т. е. научности, и носилась с ней полстолетия.
Не та ли же причина самоуверенности людей позитивной, критической, опытной науки и благоговейного отношения толпы к тому, что они проповедуют? Сначала кажется странным, каким образом теория эволюции (она, как искупление в богословии, для большинства служит популярным выражением всего нового вероучения) может оправдывать людей в их неправде, и кажется, что научная теория эволюции имеет дело только с фактами и больше ничего не делает, как только наблюдает факты.
Но это только кажется. Точно так же это казалось с Гегелевским учением в больших размерах и в частном случае с Мальтусовым учением: гегельянство, казалось, занято было только своими логическими построениями и не имело никакого отношения к жизни людей; точно так же это казалось с Мальтусовой теорией: она казалась занятою только фактами статистических данных. Но это только так кажется.
Современная наука тоже занята только фактами; она исследует факты. Но какие факты? Почему именно такие, а не другие факты?
Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему исследованию, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются факты, т. е. избираются из бесчисленного количества те или другие факты. И теория эта существует, и даже очень определенно выраженная, хотя многие из деятелей современной науки или игнорируют, т. е. хотят не знать, или точно иногда не знают, а иногда притворяются, что не знают ее. Точно так же всегда было со всеми царствующими, руководящими вероучениями — и с богословием и с философией. Основы всякого вероучения всегда даны в теории, и так называемые ученые придумывают только дальнейшие выводы из раз данных основ. Так и теперь современная наука избирает свои факты на основании очень определенной теории, которую иногда она знает, иногда не хочет знать, иногда действительно не знает; но теория эта есть.
Теория эта такая: всё человечество есть неумирающий организм, люди — частицы органов, имеющие каждый свое специальное призвание для служения целому. Точно так же, как клеточки, слагаясь в организм, разделяют между собою труд для борьбы за существование целого организма, усиливают одну способность и ослабляют другую и слагаются в один организм, чтобы лучше удовлетворять потребности целого организма, и точно так же, как в общественных животных — муравьях, пчелах — отдельные особи разделяют между собою труд: матка кладет яйца, трутень оплодотворяет, пчела работает для жизни целого, — точно то же происходит и в человечестве и человеческих обществах. И потому, чтобы найти закон жизни человека, нужно изучать законы жизни и развития организмов. В жизни и развитии организмов мы находим следующие законы: закон диференциации и интеграции, закон того, что всякое явление сопровождается не одним только непосредственным последствием, другой закон — о неустойчивости однородного. Всё это кажется очень невинно, но стоит только сделать выводы из всех этих законов, чтобы тотчас же увидать, что законы эти клонят туда же, куда клонили и законы Мальтуса. Законы эти клонят к одному, а именно к тому, чтобы то разделение деятельности, которое существует в человеческих обществах, признать органическим, т. е. необходимым, а потому рассматривать то несправедливое положение, в котором находимся мы, уволившие себя от труда люди, не с точки зрения разумности и справедливости, а только как несомненный факт, подтверждающий общий закон.
Философия духа оправдывала также всякую жестокость и мерзость; но там это выходило философски и потому неправильно; по науке же всё это выходит научно и потому несомненно.
Как же не принять такую прекрасную теорию! Стоит только рассматривать человеческое общество как предмет наблюдения, и можно покойно пожирать труды других гибнущих людей, утешая себя мыслью, что моя деятельность какая бы она ни была, есть функциональная деятельность организма человечества, и потому и речи даже не может быть о том, справедливо ли то, что я пользуюсь трудами других — делаю только то, что мне приятно, как и не может быть речи о том, справедливо ли разделение труда между мозговой клеточкой и мускульной. Как же не допустить такую прекрасную теорию, чтобы после можно было уже навсегда спрятать совесть в карман и жить вполне разнузданной животной жизнью, чувствуя под собой непоколебимую, по нашему времени, опору научную.
И вот на этом-то новом вероучении строится теперь оправдание праздности и жестокости людей.
XXX.
Началось это вероучение недавно — лет 50. Главным основателем его был французский ученый Конт. Конту — систематику и вместе с тем религиозному человеку — пришла в голову под влиянием новых тогда физиологических исследований Биша старая мысль, высказанная еще Менением Агриппой, — мысль, что человеческие общества, даже всё человечество можно рассматривать как одно целое — организм, а людей — как живые частицы отдельных органов, имеющих каждая свое определенное назначение служить всему организму. Мысль эта так понравилась Конту, что он на ней начал строить философскую теорию, и теория эта так увлекла его, что он совершенно забыл о том, что исходная точка его теории была не больше, как хорошенькое сравнение, уместное в басне, но никак не могущее служить основой науки. Он, как это часто бывает, принял любимую им гипотезу за аксиому и вообразил себе, что вся теория его построена на самых твердых основах. По теории его выходило, что так как человечество есть организм, то знание того, что есть человек и каково должно быть его отношение к миру, возможно только через познание свойств этого организма. Для познания этих свойств человек имеет возможность делать наблюдения над другими низшими организмами и из жизни их делать наведения. Поэтому, во-первых, истинный и единственный метод науки, по Конту, есть только индуктивный, и вся наука есть только такая, которая имеет своим основанием опыт; во-вторых, целью и вершиною наук становится новая наука о воображаемом организме человечества или о надорганическом существе — человечестве; новая воображаемая наука эта есть социология. Из этого же взгляда на науку вообще оказывалось, что все прежние знания были ложные, и вся история человечества в смысле его самосознания разделялась на три, собственно на два периода: период теологический и метафизический, продолжавшийся от начала мира до Конта, и на настоящий период единой истинной науки — позитивной, начавшейся с Конта. Всё это было очень хорошо; одна только была ошибка, а именно та, что всё это здание было построено на песке, на произвольном и неправильном утверждении о том, что человечество есть организм. Утверждение это было произвольно потому, что для того, чтобы признать существование неподлежащего наблюдению организма человечества, мы имеем ровно столько же права, как признать существование троичного Бога и тому подобных теологических положений. Неправильно же было это утверждение потому, что к понятию человечества, т. е. людей, неправильно было присоединено определение организма, тогда как в человечестве отсутствует существенный признак организма — центр ощущения или сознания.3
Но, несмотря на произвольность и неправильность основного положения позитивной философии, она была принята так называемым образованным миром с величайшим сочувствием. Замечательно в этом отношении то, что из сочинений Конта, состоящих из двух частей: позитивной философии и позитив, ной политики, была принята ученым миром только первая — та, которая оправдывала на новых опытных началах существующее зло людских обществ; вторая же часть, трактующая о вытекающих из признания человечества организмом нравственных обязанностях альтруизма, была признана не только неважной, но ничтожной и ненаучной. Повторилось то же, что с двумя частями учения Канта. Критика чистого разума принята научной толпой; критика же практического разума, та часть, которая содержит сущность нравственного учения, была отвергнута. В учении Конта признано было научным то, что потакало царствующему злу. Но и принятая толпою позитивная философия, основанная на произвольном и неправильном положении, была сама по себе слишком неосновательна и потому шатка и не могла бы одна держаться. И вот в числе всех тех праздных играний мысли людей так называемой науки является то же не новое и столь же произвольное и неправильное утверждение о том, что живые существа, т. е. что организмы, происходили одни из других, — не только один организм из другого, но один организм из многих, т. е. что в очень долгий промежуток времени, в миллион лет, например, не только от одного предка может произойти рыба и утка, но из роя пчел может сделаться одно животное. И произвольное и неправильное утверждение это было принято ученым миром с еще большим общим сочувствием. Утверждение это было произвольно потому, что никто никогда не видал, как делаются одни организмы из других, и потому предположение о происхождении видов останется всегда предположением, а не опытным фактом. Неправильно же было это утверждение потому, что решение вопроса о происхождении видов тем, что они произошли вследствие закона наследственности и приспособления в бесконечно долгое время, вовсе не было решением, а только повторением вопроса в новой форме. По решению вопроса Моисеем (в полемике с которым и состоит всё значение этой теории) выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле Бога и бесконечному могуществу Его; по теории же эволюции выходит, что разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти всё, что хотите. Ответа на вопрос нет. А только тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества к времени. Но это новое утверждение подкрепляло прежнее утверждение Конта, и кроме того, по наивному признанию самого основателя теории Дарвина, его мысль вызвана была законом Мальтуса и потому выставляла теорию борьбы живых существ и людей за существование, как основной закон всего живого. А в нем это ведь только и нужно было толпе праздных людей для их оправдания.
Две шаткие, не стоящие на своих ногах теории подперли друг друга и получили подобие устойчивости. Обе теории несли в себе тот драгоценный для толпы смысл, что в существующем зле человеческих обществ не виноваты люди и что существующий порядок есть тот самый, который и должен быть; и новая теория была принята толпою с полною верой и неслыханным восторгом. И вот на этих двух произвольных и неправильных положениях, принятых как догматы веры, утвердилось новое научное вероучение.
И по предмету и по форме это новое вероучение необыкновенно похоже на церковно-христианское. По предмету вероучения сходство состоит в том, что как в том, так и в другом действительности придано недействительное, фантастическое значение, и это-то недействительное значение поставлено предметом исследования. В церковно-христианском вероучении действительному бывшему Христу придано фантастическое значение самого Бога; в позитивном вероучении действительному существу — живым людям — придано фантастическое значение организма. По форме сходство обоих вероучений поразительно тем, что как в том, так и в другом известное понимание одних людей признано за единственно непогрешимо истинное. В церковном христианстве понимание божеского откровения людьми, назвавшими себя церковью, признано святым и единым истинным; по позитивному вероучению понимание науки людьми, назвавшими себя научными, признано несомненным и истинным. Как церковные христиане только с учреждения своей церкви признавали начало истинного знания Бога и только как бы из учтивости говорили, что и прежние верующие были тоже церковь, точно так же и позитивная наука по ее утверждению началась только со времени Конта, и научные люди тоже только из учтивости допускают существование науки и прежде, и то только в некоторых представителях ее, как Аристотель; точно так же как церковь, так и позитивная наука, совершенно исключает знания всего остального человечества, признавая все знания, вне своего, заблуждением.
Сходство продолжается и далее: точно так же, как в помощь основному догмату богословия — божественности Христа и троичности — приходит старый, но получающий новое значение догмат падения человека и искупления его смертью Христа и из двух этих догматов складывается популярное церковное учение, так в наше время на помощь Контовскому основному догмату об организме человечества выступает старый, но получающий новое значение догмат, и из обоих складывается популярное научное вероучение эволюции.
Как в том, так и в другом вероучении новый догмат необходим для поддержания старого и понятен только в связи с основным догматом.
Если верующему в божество Христа неясно и непонятно, для чего Бог сошел на землю, то догмат искупления дает это объяснение. Если верующему в организм человечества неясно, почему собрание особей можно считать организмом, то догмат эволюции объясняет это.
Догмат искупления нужен для того, чтобы примирить противоречие с действительностью первого догмата. Бог сошел на землю, чтобы спасти людей, а люди не спасены; то как же примирить это противоречие? Догмат искупления говорит: «Он спас верующих в искупление; если вы веруете в искупление, то вы спасены». Так же и догмат эволюции нужен для того, чтобы разрешить противоречие с действительностью первого догмата: человечество есть организм, между тем мы видим, что оно не отвечает главному признаку организма; как же помирить это? И вот догмат эволюции говорит: «Человечество есть образующийся организм». Если вы верите в это, то вы можете рассматривать и человечество как организм. И как человеку, свободному от суеверия троичности и божества Христа, невозможно даже понять, в чем состоит интерес и смысл учения об искуплении, и смысл этот объясняется только признанием основного догмата, то, что Христос — сам Бог, точно так же для человека, свободного от позитивного суеверия, невозможно понять даже, в чем интерес учения о происхождении видов эволюции, и интерес этот объясняется только тогда, когда знаешь основной догмат, что человечество — организм. И точно так же, как все тонкости богословия понятны только тем, кто верит в основные догматы, так и все тонкости социологии, занимающие теперь все умы людей самой последней и глубокомысленной науки, понятны только для верующих.
Сходство обоих вероучений еще и в том, что раз на веру принятые положения, не подвергаясь более исследованию, служат основанием самых странных теорий, и проповедники этих теорий, усвоив себе прием утверждения за собою права признания самих себя в богословии святыми и в знаниях научными, т. е. непогрешимыми, доходят до самых произвольных, невероятных и ни на чем не основанных утверждений, которые они высказывают с величайшей торжественностью и серьезностью и которые с такою же серьезностью и торжественностью оспариваются в своих подробностях несогласными в частностях, но одинаково признающими основные догматы.
Василий Великий этого вероучения — Спенсер, например, в одном из первых сочинений своих выражает это вероучение так:
Общества и организмы, говорит он, подобны в следующем:
1) в том, что, зачинаясь, как малые аггрегаты, они незаметно возрастают в массе, так что некоторые из них достигают до величины в десять тысяч раз больше первоначальной;
2) в том, что между тем, как в начале они такой простой структуры, что могут быть рассматриваемы, как лишенные всякой структуры, они приобретают во время своего роста постоянно увеличивающуюся сложность структуры;
3) в том, что, хотя в их раннем, неразвитом периоде не существует между ними почти никакой зависимости друг от друга частей, их части постепенно приобретают взаимную зависимость, которая под конец делается столь сильною, что деятельность и жизнь каждой части становится возможной только при деятельности и жизни остальных;
4) в том, что жизнь и развитие общества независимы и более продолжительны, чем жизнь и развитие какой-либо из составляющих его единиц, которые отдельно рождаются, растут, действуют, воспроизводятся и умирают, между тем как политическое тело, составленное из них, продолжает жить поколение за поколением, развиваясь по массе, по совершенству строения и функциональной деятельности.
Далее идут пункты различия организмов и обществ, и доказывается, что различия эти только кажущиеся, а что организмы и общества совершенно подобны.
Для человека свежего прямо представляется вопрос: да о чем вы говорите? Почему человечество — организм или подобно ему?
Вы говорите, что общества подобны организмам по этим четырем признакам, но ничего этого ведь нет. Вы только берете некоторые признаки организма и под них подводите человеческие общества. Вы приводите четыре признака подобия, потом берете признаки различия, но только кажущиеся (по-вашему) и заключаете, что человеческие общества можно рассматривать как организмы. Но ведь это — праздная игра диалектики и больше ничего. На таком же основании под признаки организма можно подвести что хотите.
Беру первое, пришедшее мне в голову, положим — лес: как он засевается на поле и разрастается. 1) Зачинаясь как малый аггрегат, он незаметно возрастает в массе и т. д.; точь в точь то же делается на полях, когда они понемногу обсеменяются и зарастают лесом. 2) Вначале структура проста, потом увеличивается сложность и т. д.; точь в точь то же с лесом: сначала одни березки, потом лозина, орешник; сначала все растут прямо, потом переплетаются ветвями. 3) Зависимость частей усиливается так, что жизнь каждой части зависит от жизни и деятельности остальных; точь в точь то же с лесом: орешник греет стволы (выруби его — замерзнут другие деревья), опушка охраняет от ветра, семенные деревья продолжают породы, высокие и курчавые дают тень, и жизнь одного дерева зависит от другого. 4) Отдельные части могут умирать, но всё живет; точь в точь то же с лесом: лес по дереву не плачет.
Замечательно также сходство этого вероучения с церковно-христианским и всяким другим, основанным на принятых на веру догматах, по своей непроницаемости против логики. Показав, что лес вы можете с таким же правом по этой теории рассматривать как организм, вы думаете, что доказали последователям органического вероучения неправильность их определения? — Нисколько. То определение, которое они дают организму, так неточно и растяжимо, что они под это определение могут подвести что хотят. — Да, скажут они, и лес можно рассматривать, как организм. Лес есть взаимодействие особей, не истребляющих друг друга, — аггрегат, части его тоже могут перейти в более тесную связь, подобно пчелиному рою, сделаться организмом. Тогда вы скажете: если так, то и птиц, и насекомых, и травы этого леса, взаимодействующих и не истребляющих друг друга, можно также рассматривать вместе с деревьями, как один организм? Они и на это согласятся. Всякое собрание живых существ, взаимодействующих и не истребляющих друг друга, можно рассматривать как организмы по их теории. Вы можете утверждать связь и взаимодействие между чем хотите, и по эволюции вы можете утверждать, что из чего хотите может выйти в очень долгое время всё что хотите.
Верующим в троичность Бога нельзя доказать того, что этого нет, но можно показать им, что утверждение их есть утверждение не знания, а веры, что если они утверждают, что богов три, то я с таким же правом могу утверждать, что их 171/2; ТО же самое и еще несомненнее можно доказать последователям позитивной и эволюционной науки. На основании этой науки я берусь доказать всё что хотите. И что удивительнее всего, — это то, что эта самая позитивная наука признаком истинного знания признает научный метод и сама определила то, что она называет научным методом.
Научным методом она называет здравый смысл.
И этот-то здравый смысл на каждом шагу и уличает ее.
Как только те, которые занимали место святых, почувствовали, что в них ничего не осталось святого, что они все проклятые, как папа и наш синод, так они сейчас же назвали себя не святыми только, а святейшими.
Как только наука почувствовала, что в ней не осталось ничего здравомыслящего, так она назвала себя здравомыслящей, т. е. научной наукой.
XXXI.
Разделение труда есть закон всего существующего, и потому оно должно быть в человеческих обществах. Очень может быть, что это так, но остается всё-таки вопрос о том: что то разделение труда, которое я теперь вижу в моем человеческом обществе, есть ли оно то самое разделение труда, которое должно быть? И если люди считают известное разделение труда неразумным и несправедливым, то никакая наука не может доказать людям, что должно быть то, что они считают неразумным и несправедливым. Богословская теория доказывала, что власть от Бога, и очень может быть, что она от Бога, но оставался вопрос: чья власть: Екатерины или Пугачева? И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения. Философия духа доказывала, что государство есть форма развития личностей; но остается вопрос: можно ли государство Нерона или Чингис-хана считать формой для развития личности? И никакие трансцендентные слова не могли разрешить этого. То же и с научной наукой. Разделение труда есть условие жизни организмов и человеческих обществ; но что в этих человеческих обществах считать органическим разделением труда? И сколько бы наука ни изучала разделение труда в клеточках глистов, все эти наблюдения не заставят человека признать правильным разделение труда такое, которое не признают таковым его разум и совесть. Как бы убедительны ни были доказательства разделения труда клеточек в наблюдаемых организмах, человек, если он еще не лишился рассудка, всё-таки скажет, что ткать всю жизнь ситцы человеку не должно и что это не есть разделение труда, а есть угнетение людей. Спенсер и проч. говорят, что есть целые населения ткачей, и потому ткацкая деятельность есть органическое разделение труда; но, говоря это, ведь они говорят точь в точь то же, что говорит богослов: есть власть, и потому она от Бога, какая бы она ни была. Есть ткачи — значит таково разделение труда. Ведь хорошо было бы говорить так, если бы власть и населения ткачей делались сами собою, а мы знаем, что они делаются не сами собой, а мы их делаем. Так вот надо узнать, что делали-то мы эту власть от Бога или от себя и делали мы этих ткачей по органическому закону или по чему другому?
Живут люди, кормятся земледелием, как свойственно всем людям. Один человек устроил кузнечное горно и починил свой плуг, приходит к нему сосед и просит тоже починить и обещает ему за это работу или деньги. Приходит третий, четвертый, и в обществе этих людей происходит следующее разделение труда — делается кузнец. Другой человек хорошо выучил своих детей, к нему приводит детей сосед и просит учить их, и делается учитель. Но и кузнец и учитель сделались и продолжают быть такими только потому, что их просили, и остаются таковыми до тех пор, пока их просят быть кузнецом и учителем. Если бы случилось, что заведется много кузнецов и учителей, или если их работа не нужна, они тотчас, как этого требует здравый смысл и как это и бывает всегда там, где нет причин нарушения правильности разделения труда, они тотчас бросают свое мастерство и опять берутся за земледелие. Люди, поступающие так, руководятся своим разумом, своею совестью, и потому мы, люди, одаренные разумом и совестью, все утверждаем, что такое разделение труда — правильно. Но если бы случилось, что кузнецы имеют возможность принудить других людей работать на них и продолжали бы делать подковы, когда их не нужно, а учители учили бы, когда некого учить, то всякому свежему человеку, как человеку, т. е. существу, одаренному разумом и совестью, очевидно, что это не было бы разделением, а захватом чужого труда. А между тем такая-то именно деятельность и есть то, что называется по научной науке разделением труда. Люди делают то, на что другие и не думают заявлять требования, и требуют, чтобы их кормили за это, и говорят, что это справедливо потому, что это есть разделение труда.
То, что составляет главное общественное бедствие народа не у нас одних, — это управление, бесчисленное количество чиновников; то, что составляет причину экономического бедствия нашего времени, — это то, что англичане называют overproduction, перепроизводство (то, что наделано пропасть вещей, которых некуда девать и которые никому не нужны).
Странно бы было видеть сапожника, который считал бы, что люди обязаны его кормить за то, что он шьет не переставая сапоги, которые давно уж никому не нужны; но что же сказать про тех людей правительства, церкви, науки и искусства, которые уж ничего не шьют, ничего не только видимого, но полезного для народа не производят, на товар которых нет охотников и которые так же смело на основании разделения труда требуют, чтобы их и кормили, и поили сладко, и одевали хорошо? Могут быть и есть колдуны, к деятельности которых заявляются требования, и им носят за это лепешки и полуштофы; но того, чтобы были такие колдуны, колдовство которых никому не нужно и которые бы смело требовали, чтобы их сладко кормили за то, что они будут колдовать, — это трудно себе представить. А это самое и есть в нашем мире с людьми правительства, церкви, науки и искусства. И всё это происходит на основании того ложного понятия разделения труда, определяемого не разумом и совестью, а наблюдением, которое с таким единодушием исповедуют люди науки.
Разделение труда действительно всегда было и есть, но оно правильно только тогда, когда человек решит своей совестью и разумом, что оно должно быть, а не тогда, когда он будет наблюдать его. И совесть и разум всех людей очень просто, несомненно и единогласно решают этот вопрос. Они решают его всегда так, что разделение труда правильно только тогда, когда особенная деятельность человека так нужна людям, что они, прося его послужить им, сами охотно предлагают ему кормить его за то, что он будет для них делать. Когда же человек может с детства до 30 лет прожить на шее других, обещая сделать, когда он выучится, что-то очень полезное, о котором никто его не просит, и когда потом от 30 лет до смерти он может жить так же, всё только с обещаниями сделать что-то, о чем никто его не просит, то это не будет (как и нет его на самом деле в нашем обществе) разделение труда, а будет, как оно и есть, один только захват чужого труда сильным; тот самый захват чужого труда сильным, который прежде богословы называли божеским назначением, потом философы — необходимыми формами жизни, а теперь научная наука называет органическим разделением труда.
Всё значение науки только в этом. Она теперь стала раздавательницей дипломов на праздность, потому что она одна в своих капищах разбирает и определяет — какая паразитическая, какая органическая деятельность человека в общественном организме. Как будто человек каждый не может этого самого узнать гораздо вернее и короче, справившись с разумом и совестью. И как прежде для духовенства, потом для государственных людей не могло быть сомнения в том, кто самые нужные для других люди, так теперь людям научной науки кажется, что не может быть сомнения в том, что их-то деятельность и есть несомненно органическая: они, научные и художественные деятели, суть мозговые, самые драгоценные клеточки организма.
Но Бог с ними; пускай бы они царствовали: сладко пили, ели и праздновали, как пускай бы праздновали и царствовали бы жрецы и софисты; только бы они, как жрецы и софисты, не развращали людей.
С тех пор как есть люди, разумные существа, они различали добро от зла и пользовались тем, что до них в этом различении сделали люди, — боролись со злом, искали истинный, наилучший путь и медленно, но неотступно подвигались на этом пути. И всегда, заграждая этот путь, становились перед людьми различные обманы, имеющие целью показать им, что этого не нужно делать, а нужно жить, как живется. Стоял страшный, старый обман церковных людей; с страшными борьбою и трудом люди понемногу высвободились из него, но не успели они высвободиться из него, как на место старого стал новый обман — государственный, философский. Люди выбились и из него. И вот новый и еще злейший обман вырос на пути людей: обман научный.
Новый этот обман точно такой же, как и старые: сущность его в том, чтобы подменить деятельность разума и совести своей и живших прежде нас людей чем-нибудь внешним; в церковном учении внешнее было откровение, в научном обмане это внешнее — наблюдение.
Ловушка этой науки состоит в том, чтобы, указав людям на самые грубые извращения деятельности разума и совести людей, разрушить в них веру в самый разум и совесть и уверить их, что им самим говорит разум и совесть; всё, что они говорили высшим представителям людей с тех пор, как существует мир, что всё это условно и субъективно.
Всё это надо оставить, говорят они; разумом нельзя понять истину, потому что можно ошибиться, а есть другой путь — безошибочный и почти механический: надо изучать факты. Изучать же факты надо на основании научной науки, т. е. двух ни на чем не основанных предположениях позитивизма и эволюции, которые выдаются за несомненнейшие истины. И царствующая наука с обманной торжественностью заявляет, что разрешение всех вопросов жизни возможно только изучением фактов природы и в особенности организмов. Легковерная толпа молодежи, подавленная новостью этого не только не разрушенного, но еще не затронутого критикою авторитета, бросается на изучение этих фактов в естественных науках, на тот единственный путь, который, по утверждению царствующего учения, может привести к уяснению вопросов жизни. Но чем дальше подвигаются ученики в этом изучении, тем дальше и дальше становится от них не только возможность, но даже самая мысль о разрешении вопросов жизни, и тем больше и больше привыкают они не столько наблюдать, сколько верить на слово чужим наблюдениям (верить в клеточки, в протоплазму, в 4-е состояние тел и т. п.); тем больше и больше форма заслоняет для них содержание; тем больше и больше теряют они сознание добра и зла и способность понимать те выражения и определения добра и зла, которые выработаны всей предшествующей жизнью человечества; тем более и более усваивают они себе специальный научный жаргон условных выражений, не имеющих общечеловеческого значения; тем дальше и дальше заходят они в дебри ничем не освещенных наблюдений; тем больше и больше лишаются они способности не только самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свежую, находящуюся вне их талмуда человеческую мысль; главное же, проводят лучшие годы в отвыкании от жизни, т. е. от труда, привыкают считать свое положение оправданным и делаются и физически ни на что не годными паразитами и умственно вывихивают себе мозги и становятся скопцами мысли. И точно так же, по мере оглупения, приобретают самоуверенность, лишающую их уже навсегда возможности возврата к простой трудовой жизни, к простому, ясному и общечеловеческому мышлению.
XXXII.
Разделение труда в человеческом обществе всегда было и, вероятно, будет; но вопрос для нас не в том, что оно есть и будет, а в том, чем мы должны руководствоваться, чтобы разделение это было правильно. Если же мы наблюдение возьмем за мерило, то мы этим самым откажемся от всякого мерила; тогда мы всякое разделение труда, какое мы будем видеть между людьми и какое нам покажется правильным, и будем считать правильным, к чему и ведет царствующая научная наука.
Разделение труда!
Одни заняты умственной, духовной, другие мускульной, физической работой. С какою уверенностью говорят эти люди! Им хочется это думать, и им кажется, что в самом деле происходит совершенно правильный обмен услуг там, где происходит самое простое, старинное насилие. Ты или скорее вы (потому что всегда многим надо кормить одного), вы меня кормите, одеваете, делайте для меня всю ту грубую работу, которую я потребую и к которой вы привыкли с детства, а я буду делать для вас ту умственную работу, которую я умею и к которой уже привык. Вы давайте мне телесную, а я буду давать духовную пищу. Расчет, кажется, совершенно верен, и он был бы совершенно верен, если бы обмен этих услуг был свободный, если бы те, которые доставляют телесную пищу, не обязаны были доставлять ее прежде, чем они получат духовную пищу. Производитель духовной пищи говорит: для того чтобы я мог вам дать духовную пищу, вы кормите, одевайте меня, выносите за мной мои нечистоты. Производитель же телесной пищи не заявляет никаких требований и дает телесную пищу, хотя бы он и не получал духовной пищи. Если бы обмен был свободен, то условия тех и других были бы одинаковы. Ученый, художник говорит: прежде чем мы можем начать служить людям духовной пищей, нам нужно, чтобы люди продовольствовали нас телесной. Но отчего же производителю телесной пищи не сказать, что прежде чем мне служить вам телесной пищей, мне нужна духовная пища, и, не получив ее, я не могу работать? Вы говорите: мне нужна работа пахаря и кузнеца, сапожника, и плотника, и каменщиков, золотарей и др. для того, чтобы приготовлять мою духовную пищу. Каждый работник тоже должен сказать: прежде чем мне итти работать, приготовляя для вас телесную пищу, мне нужно иметь уже плоды духовной пищи. Для того чтобы мне иметь силы для работы, мне необходимы: религиозное учение, порядок в общей жизни, приложение знаний к труду, радости и утешения, которые дают искусства. Я не имею времени выработать свое учение о смысле жизни, — дайте мне его. Я не имею времени придумать уставов жизни, общей, такой, при которой бы не нарушилась справедливость, — дайте мне это. Я не имею времени заниматься механикой, физикой, химией, технологией, — дайте мне книги с указанием о том, как мне улучшить свои орудия, свои приемы работы, свои жилища, свое отопление, освещение. Я не имею времени сам заниматься поэзией, пластическим искусством, музыкой, — дайте мне те необходимые для жизни возбуждения и утешения; дайте мне эти произведения искусств. Вы говорите, что вам невозможно заниматься вашими важными и нужными для других делами, если вы будете лишены того труда, который несут за вас рабочие люди, а я говорю, скажет рабочий, что мне невозможно заниматься моими не менее важными и нужными для вас делами, если я буду лишен религиозного и соответственного требованиям моего ума и совести руководства разумного управления, обеспечивающего мой труд, указания знания для облегчения моей работы, радостей искусств для облагорожения моего труда. Всё, что вы до сих пор предлагаете мне в виде духовной пищи, не только не годится мне, но я даже не могу понять, на что это кому-нибудь может быть нужно. А пока я не получу этой пищи, свойственной мне, как и каждому человеку, я не могу питать вас телесной пищей, которую я произвожу. Что, если рабочий скажет это? И если он скажет это, ведь это будет не шутка, а только самая простая справедливость. Ведь если рабочий только скажет это, то правоты гораздо более на его стороне, чем на стороне человека умственного труда. Правоты на его стороне больше потому, что труд, доставляемый рабочим человеком, первее и необходимее, чем труд производителя умственного труда, и потому, что человеку умственного труда ничто не мешает давать рабочему ту духовную пищу, которую он обещал ему; рабочему же мешает давать телесную пищу то, что ему самому недостает этой телесной пищи.
Что же ответим мы, люди умственного труда, если нам предъявят такие простые и законные требования? Чем удовлетворим мы их? Катехизисом Филарета, священными историями Соколовых и листками разных лавр и Исакиевского собора — для удовлетворения его религиозных требований; сводом законов и кассационными решениями разных департаментов и разными уставами комитетов и комиссий — для удовлетворения требований порядка; спектральным анализом, измерениями млечных путей, воображаемой геометрией, микроскопическими исследованиями, спорами спиритизма и медиумизма, деятельностью академий наук — для удовлетворения требований знания; чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, картинами французского салона и наших художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться, потому что мы с своим правом на пользование трудом народа и отсутствием всяких обязанностей в нашем приготовлении духовной пищи потеряли совсем из виду то единственное назначение, которое должна иметь наша деятельность. Мы даже не знаем, что нужно рабочему народу, мы даже забыли его образ жизни, его взгляд на вещи, язык, даже самый народ рабочий забыли и изучаем его как какую-то этнографическую редкость или новооткрытую Америку.
Так вот мы, требуя себе телесной пищи, взялись поставлять духовную пищу; но вследствие того воображаемого разделения труда, по которому мы можем не только прежде пообедать, а потом сработать, но можем целыми поколениями сладко обедать, ничего не работая, мы заготовили в виде оплаты народу за наш корм что-то годное только, как нам кажется, для нас, и для науки, и для искусства, но негодное, совершенно непонятное и противное, как лимбургский сыр, для тех самых людей, труды которых мы поедаем под предлогом доставления им духовной пищи. Мы в нашем ослеплении до такой степени упустили из виду взятую на себя обязанность, что даже забыли про то, во имя чего производится наша работа, и тот самый народ, которому мы взялись служить, сделали предметом нашей научной и художественной деятельности. Мы изучаем и изображаем его для своей забавы и развлечения, мы совершенно забыли то, что нам надо не изучать и изображать его, а служить ему. Мы до такой степени упустили из виду эту взятую на себя обязанность, что не заметили даже, как то, что мы взялись делать в области наук и искусств, сделали не мы, а другие, и место наше оказалось занятым. Оказалось, что покуда мы спорили, — подобно тому, как богословы о бессеменном зачатии, — то о самородном зарождении организмов, то о спиритизме, то о форме атомов, то о пангенезисе, то о том, что еще есть в протоплазме, и т. п., народу всё-таки понадобилась духовная пища, и неудачники и отверженцы наук и искусств, по заказу аферистов, имеющих в виду одну цель наживы, начали поставлять народу эту духовную пищу и поставляют ее. Вот уже лет 40 в Европе и лет 10 у нас в России расходятся миллионами книги, и картины, и песенники, и открываются балаганы, и народ и смотрит, и поет, и получает духовную пищу не от нас, взявшихся поставлять ее, а мы, оправдывающие свою праздность той духовной пищей, которую мы будто бы поставляем, мы сидим и хлопаем глазами. А нельзя нам хлопать глазами, ведь выскальзывает из-под ног последнее оправдание. Мы специализировались, у нас есть наша особенная функциональная деятельность, мы — мозг народа. Он кормит нас, а мы его взялись учить. Только во имя этого мы освободили себя от труда. Чему же мы научили и чему учим его? Он ждал года, десятки, сотни лет. И всё мы разговариваем и друг друга учим и потешаем, а его мы даже совсем забыли. Так забыли, что другие взялись учить и потешать его, и мы даже не заметили этого. Так несерьезно мы говорили о разделении труда, так очевидно, что то, что мы говорили о пользе, приносимой нами народу, была одна бесстыдная отговорка.
XXXIII.
Было время, что церковь руководила духовной жизнью людей нашего мира; церковь обещала людям благо и за это выгородила себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И та церковь, которая сделала это, отступила от своего призвания, и люди отвернулись от нее. Не заблуждения церкви погубили ее, а отступление служителей ее от закона труда, выговоренное с помощью власти при Константине; их право праздности и роскоши породили ее заблуждения. С этого права начались заботы церкви о церкви, а не о людях, которым они взялись служить. И служители церкви предались праздности и разврату.
Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства — от королей до низших чиновников, должностных лиц — и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в России, и в Америке предались праздности и разврату. И люди изверились в государство: анархия уже сознательно выставляется идеалом. Государство потеряло свое обаяние на людей только потому, что служители его признали за собой право пользоваться трудами народа.
То же сделала наука и искусство с помощью государственной власти, которую они взялись поддерживать. И они выговорили себе право праздности и пользования чужими трудами и также изменили своему призванию. И так же заблуждения их произошли только потому, что служители ее, выставив ложно понятый принцип разделения труда, признали за собой право пользоваться трудами других и потеряли смысл своего призвания, сделав себе целью не пользу народа, а таинственную пользу науки и искусства, и так же, как их предшественники, предались праздности и разврату, не столько чувственному, сколько умственному.
Говорят: наука и искусство многое дали человечеству.
Это совершенно справедливо. Церковь и государство много дали человечеству, но не потому, что они злоупотребляли своей властью и их служители отступили от общей всем людям и вечной обязанности труда за жизнь, но несмотря на это.
Точно так же и наука и искусства много дали человечеству не потому, что люди науки и искусства, под видом разделения труда, живут на шее рабочего народа, а несмотря на это.
Римская республика была могущественна не потому, что граждане ее имели возможность развратничать, а потому, что в числе их были доблестные граждане. То же самое и с наукой и с искусством. Наука и искусство дали много человечеству, но не потому, что служители их имели изредка прежде и теперь имеют всегда возможность освободить себя от труда, а потому, что были гениальные люди, которые, не пользуясь этими правами, двигали вперед человечество.
Сословие ученых и художников, заявляющее на основании ложного разделения труда требования на право пользования трудом других, не может содействовать успеху истинной науки и истинного искусства, потому что ложь не может произвести истины.
Мы так привыкли к тем выхоленным, жирным или расслабленным нашим представителям умственного труда, что нам представляется диким то, чтобы ученый или художник пахал или возил навоз. Нам кажется, что всё погибнет, и вытрясется на телеге вся его мудрость, и опачкаются в навозе те великие художественные образы, которые он носит в своей груди; но мы так привыкли к этому, что нам не кажется странным то, что наш служитель науки, т. е. служитель и учитель истины, заставляя других людей делать для себя то, что он сам может сделать, половину своего времени проводит в сладкой еде, курении, болтовне, либеральных сплетнях, чтении газет, романов и посещении театров; нам не странно видеть нашего философа в трактире, в театре, на бале, не странно узнавать, что те художники, которые услаждают и облагораживают наши души, проводили свою жизнь в пьянстве, картах и у девок, если еще не хуже. Наука и искусство — прекрасные вещи, но именно потому, что они прекрасные, их не надо портить обязательным присоединением к ним разврата, т. е. освобождения себя от обязанности человека служить трудом жизни своей и других людей. Наука и искусство подвинули вперед человечество. Да! но не тем, что люди науки и искусства под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того, чтобы освободить себя от самой первой и несомненной человеческой обязанности трудиться руками в общей борьбе человечества с природою.
XXXIV.
«Но только разделение труда, освобождение людей науки и искусства от необходимости вырабатывать свою пищу и дало возможность того необычайного успеха наук, который мы видим в наше время, — говорят на это. — Если бы все должны были пахать, не были бы достигнуты те громадные результаты, которые достигнуты в наше время, не было бы тех поразительных успехов, которые так увеличили власть человека над природою; не было бы тех астрономических, так поражающих человеческий ум открытий, упрочивших мореплавание; не было бы пароходов, железных дорог, удивительных мостов, тоннелей, паровых двигателей, телеграфов, фотографий, телефонов, швейных машин, фонографов, электричества, телескопов, спектроскопов, микроскопов, хлороформа, Листеровой повязки, карболовой кислоты».
Я не перечисляю всего, чем так гордится наш век. Перечисление это и восторги перед самим собою и своими подвигами можно найти почти в каждой газете и популярной книжке. Восторги эти перед самим собою до такой степени часто повторяются, мы все до такой степени не можем достаточно нарадоваться на самих себя, что мы серьезно уверены, что наука и искусства никогда не делали таких успехов, как в наше время. Всем же этим удивительным успехам мы обязаны разделению труда. Так как же не признавать его?
Допустим, что действительно успехи, сделанные в наш век, поразительны, удивительны, необычайны; допустим, что мы тоже особенные счастливцы, что живем в такое необыкновенное время. Но попытаемся оценить эти успехи не на основании нашего самодовольства, а того самого принципа, который защищается этими успехами, — разделения труда. Все эти успехи очень удивительны, но по особенной несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сих пор успехи эти не улучшили, а скорей ухудшили положение большинства, т. е. рабочего. Если рабочий может вместо ходьбы проехаться по железной дороге, то за то железная дорога сожгла его лес, увезла у него из-под носа хлеб и привела его в состояние, близкое к рабству — капиталисту. Если, благодаря паровым двигателям и машинам, рабочий может купить дешево непрочного ситцу, то за то эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели в состояние совершенного рабства — к фабриканту. Если есть телеграфы, которыми ему не запрещается пользоваться, но которыми он, по своим средствам, не может пользоваться, то зато всякое произведение его, которое входит в цену, скупается у него под носом капиталистами по дешевой цене, благодаря телеграфу, прежде чем рабочий узнает о требовании на этот предмет. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфонии, оперы, картинные галлереи и т. п, то жизнь рабочего от этого всего не улучшилась, потому что всё это, по той же несчастной случайности, недоступно ему. Так что в общем, в чем согласны и люди науки, до сих пор все эти необычайные изобретения и произведения искусства если не ухудшили, то никак не улучшили жизнь рабочего. Так что если к вопросу о действительности успехов, достигнутых науками и искусствами, мы приложим не наше восхищение перед самими собой, а то самое мерило, на основании которого защищается разделение труда, — пользу рабочему народу, то увидим, что у нас еще нет твердых оснований для того самодовольства, которому мы так охотно предаемся.
Мужик проедет по железной дороге, баба купит ситцу, в избе будет не лучина, а лампа, и мужик закурит трубку спичкой — это удобно; но по какому же праву я могу сказать, что железные дороги и фабрики принесли пользу народу?
Если мужик едет по железной дороге и покупает лампу, ситец и спички, то только потому, что нельзя этого запретить мужику; но ведь мы все знаем, что постройка железных дорог и фабрик никогда не делалась для пользы народа. Так зачем же случайные удобства, которыми нечаянно пользуется рабочий человек, приводить в доказательство полезности этих учреждений для народа? Ведь мы все знаем, что о рабочем человеке если и думали те техники и капиталисты, которые строили дорогу и фабрику, то только в том смысле, как бы вытянуть из него последние жилы. И как мы видим, и у нас, и в Европе, и в Америке вполне достигли этого.
Во всем вредном есть полезное. После пожара можно погреться и закурить головешкой трубку; но зачем же говорить, что пожар полезен?
Не будем, по крайней мере, самих себя обманывать. Ведь все мы знаем мотивы, по которым строятся дороги и фабрики и добываются керосин и спички. Техник строит дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей и капиталиста. Всё, что он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для целей капиталиста и богатых людей. Самые хитрые изобретения техники направлены прямо или на вред народа, как пушки, торпеды, одиночные тюрьмы, приборы для акциза, телеграфы и т. п., или на предметы, которые не могут быть не только полезны, но и приложимы для народа: электрический свет, телефоны и все бесчисленные усовершенствования комфорта, или, наконец, на те предметы, которыми можно развращать народ и выманивать у него последние деньги, т. е. последний труд: таковы прежде всего — водка, пиво, вино, опиум, табак, потом ситцы, платки и всякие безделушки. Если же случается, что выдумки людей науки и работы техников иногда нечаянно пригодятся и народу, как железная дорога, ситец, чугуны, косы, то это доказывает только то, что на свете всё связано и из каждой вредной деятельности может выходить и случайная польза для тех, кому деятельность эта вредна.
Люди науки и искусства могли бы сказать, что деятельность их полезна для народа только тогда, когда люди науки и искусства поставили бы себе целью служить народу так, как они теперь ставят себе целью служить правительствам и капиталистам. Мы бы могли это сказать тогда, когда бы люди науки и искусства поставили бы себе целью нужды народа; но таких ведь нет. Все ученые заняты своими жреческими занятиями, из которых выходят исследования о протоплазмах, спектральные анализы звезд и т. п. А каким топором, каким топорищем выгоднее что рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы — из какой муки, как ставить их, как топить, строить печи, какая пища, какое питье, какая посуда самая удобная и выгодная в данных условиях, какие грибы можно есть и как их разводить, приготовить удобнее, — про это наука никогда и не думала. А ведь это всё дело науки.
Я знаю, что, по своему определению, наука должна быть бесполезна, т. е. наука для науки; но ведь это очевидная отговорка. Дело науки — служить людям. Мы выдумали телеграфы, телефоны, фонографы, а в жизни, в труде народном, что мы подвинули? Пересчитали два миллиона букашек! А приручили ли хотя одно животное со времен библейских, когда уж наши животные давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетерев, рябчик всё остаются дикими. Ботаники нашли и клеточку, и в клеточках-то — протоплазму, и в протоплазме еще что-то, и в этой штучке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго не кончатся, потому что им, очевидно, и конца быть не может, и потому ученым некогда заняться тем, что нужно людям. И потому опять со времен египетской древности и еврейской, когда уже была выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растения, кроме картофеля, и то приобретенного не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза, а прядка, ткацкий станок бабий, соха, топорище, цеп, грабли, ушат, журавец — всё такие же, как были при Рюрике. И если что переменилось, то переменилось не научными людьми. То же и с искусством. Мы произвели пропасть людей в великих писателей, разобрали этих писателей по косточкам и написали горы критик, и критик на критики, и критик на критики критики; и картинные галлереи собрали, и школы искусств разные изучили до тонкости; и симфонии и оперы у нас такие, что уже нам самим трудно становится их слушать. А что мы прибавили к народным былинам, легендам, сказкам, песням, какие картины передали народу, какую музыку? На Никольской делают книги и картины для народа, в Туле — гармонии, и ни в том, ни в другом мы не принимали никакого участия. Поразительнее и очевиднее всего ложность направления нашей науки и искусств именно в тех самых отраслях, которые, казалось бы, по самым задачам своим должны бы быть полезными народу и которые вследствие ложного направления представляются скорее пагубными, чем полезными. Техник, врач, учитель, художник, сочинитель по самому назначению своему должны бы, кажется, служить народу, — и что же? При теперешнем направлении они ничего кроме вреда не могут приносить народу.
Технику, механику надо работать с капиталом. Без капиталов он никуда не годится. Все его знания таковы, что для проявления их ему нужны капиталы и в больших размерах эксплоатация рабочего, и, не говоря уже о том, что он сам приучен к тому, чтобы проживать по меньшей мере 2000 — 1500 рублей в год, а потому не может итти в деревню, где никто не может дать ему такого вознаграждения, он по самым занятиям своим не годится для служения народу. Он умеет вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но перед простыми запросами народного труда он становится втупик. Как улучшить соху, телегу, как сделать проездным ручей — всё это в тех условиях жизни, в которых находится рабочий? Он ничего этого не знает и не понимает, —меньше, чем самый последний мужик. Дайте ему мастерские, народу всякого вволю, выписку машин из-за границы, — тогда он распорядится. А при данных условиях труда миллионов людей найти средства облегчить этот труд, — этого он ничего не знает и не может и по своим знаниям, привычкам и требованиям от жизни не годится для этого дела.
В еще худшем положении находится врач. Его воображаемая наука вся так поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других. Ему нужно бесчисленное количество дорогих приспособлений, инструментов, лекарств и гигиенических приспособлений — квартиры, пищи, нужников, чтобы ему научно действовать; ему кроме своего жалованья нужны такие расходы, что для того чтобы вылечить одного больного, ему нужно заморить голодом сотню тех, которые понесут эти расходы.
Он учился у знаменитостей в столицах, котòрые держатся пациентов только таких, которых можно лечить в клиниках или которые, лечась, могут купить необходимые для лекарства машины и даже переехать сейчас с севера на юг и на такие и другие воды. Наука их такова, что всякий земский врач плачется на то, что нет средств лечить рабочий народ, что он так беден, что нет средств поставить больного в гигиенические условия и вместе с тем этот же врач жалуется на то, что нет больниц и что он не поспевает, ему нужно помощников, еще докторов и фельдшеров. Что же выходит? Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят и распространяются и не излечиваются болезни, — это недостаточность средств для жизни. И вот наука, под знаменем разделения труда, призывает своих борцов на помощь народу. Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, как лечить тех людей, которые всё могут достать себе, и посылает лечить тех, у которых ничего нет лишнего, теми же средствами. Но средств нет, и потому надо их брать с народа, который болеет и заражается, а не вылечивается от недостатка средств. Вот и говорят защитники медицины для народа, что теперь еще это дело мало развилось. Очевидно, что мало развилось, потому что, если бы, избави Бог, оно развилось и на шею народа вместо 2-х докторов, акушерок и фельдшеров в уезде посадили бы 20, как они хотят этого, то половина народа перемерла бы от тяжести содержания этого медицинского штата, и скоро бы и лечить некого было. Научное содействие народу, про которое говорят защитники науки, должно быть совсем другое. И то содействие, которое должно быть, еще не началось. Оно начнется тогда, когда человек науки — техник или врач — не будет считать законным то разделение, т. е. захват чужого труда, который существует, не будет считать себя в праве брать от людей — не говорю уже сотни тысяч, а даже скромные 1000 или 500 рублей за свое содействие им, а будет жить среди трудящихся людей в тех же условиях и так же, как они, и тогда будет прикладывать свои знания к вопросам механики, техники, гигиены и лечения рабочего народа. Теперь же наука, кормящаяся на счет рабочего народа, совершенно забыла об условиях жизни этого народа, игнорирует (как она выражается) эти условия и пресерьезно обижается, что ее воображаемые знания не находят приложения к народу.
Область медицины, как область техники, лежит еще непочатая.
Все вопросы о том, как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде, когда, как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей, пеленать и т. п., именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ, — все эти вопросы еще не поставлены.
То же и с деятельностью учителей — научных, педагогических. Точно так же наука поставила это дело так, что учить по науке можно только богатых людей, и учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к правительству.
И это не может быть иначе, потому что образцово устроенная школа (как общее правило, чем научнее устроена школа, тем она дороже), с скамейками на винтах, глобусами, и картами, и библиотеками, и методиками для учителей и для учеников, — такая, на которую надо удвоить подати с каждой деревни. Так требует наука. Народу нужны дети для работы и тем более нужны, чем он беднее.
Научные защитники говорят: педагогия и теперь приносит пользу народу, а дайте, она разовьется, тогда еще будет лучше. Да если она разовьется, и вместо 20 школ в уезде будет 100, и все научные, и народ будет содержать эти школы — он обеднеет еще больше, и ему еще нужнее будет работа своих детей.
«Что же делать! — говорят на это. — Правительство устроит школы и сделает обязательным обучение, как в Европе». Но деньги-то возьмутся ведь опять-таки с народа, и он тяжелее будет работать, и у него будет меньше досуга от труда, и образования насильственного не будет. Опять одно спасение — то, чтобы учитель жил в условиях рабочего человека и учил за то вознаграждение, которое свободно и охотно дадут ему.
Таково ложное направление науки, лишающее ее возможности исполнять свою обязанность — служить народу.
Но ни на чем это ложное направление не видно с такою очевидностью, как на деятельности искусства, которое по самому значению своему должно бы было быть доступно народу. Наука еще может ссылаться на свою глупую отговорку, что наука действует для науки и что когда она разработается учеными, она станет доступною и народу; но искусство, если оно искусство, — должно быть доступно всем, а в особенности тем, во имя которых оно делается. И наше положение искусства поразительно обличает деятелей искусства в том, что они и не хотят, и не умеют, и не могут быть полезными народу.
Живописец для изготовления своих великих произведений должен иметь студию, по крайней мере такую, в которой могла бы работать артель человек 40 столяров или сапожников, мерзнущих или задыхающихся в трущобах; но этого мало: ему нужна натура, костюмы, путешествия. Академия художеств истратила миллионы, собранные с народа, на поощрение искусств, и произведения этого искусства висят в дворцах и не понятны и не нужны народу. Музыканты, чтобы выразить свои великие идеи, должны собрать человек 200 в белых галстуках или в костюмах и израсходовать сотни тысяч для постановки оперы. И произведения этого искусства не могут вызвать в народе, если бы он когда-нибудь и мог пользоваться ими, ничего кроме недоумения и скуки. Писатели, сочинители, казалось бы, не нуждаются в обстановке, в студиях, натуре, оркестрах и актерах; но и тут оказывается, что писателю, сочинителю, не говоря уже об удобствах помещения, всех сладостей жизни, для изготовления своих великих произведений нужны путешествия, дворцы, кабинеты, наслаждения искусствами, посещения театров, концертов, вод и т. п. Если сам он не наживет, ему дают пенсию, чтобы он лучше сочинял. И опять сочинения эти, столь ценимые нами, остаются трухою для народа и совершенно не нужны ему.
Что если разведется еще больше, чего так желают люди наук и искусств, таких поставщиков духовной пищи, и придется в каждой деревне строить студию, заводить оркестры и содержать сочинителя в тех условиях, которые считают для себя необходимыми люди искусств? Я полагаю, что рабочие люди зарекутся скорее никогда не видать картины, не слыхать симфонии, не читать стихов или повестей, только бы не кормить всех этих дармоедов.
А отчего бы, казалось, людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть гармония, и все рассказывают истории, стихи; и читают многие. Как же так разошлись те две вещи, сделанные одна для другой, как ключ и замок, — разошлись так, что не представляется даже возможности соединения? Скажите живописцу, чтобы он писал без студии, натуры, костюмов и рисовал бы пятикопеечные картинки; он скажет, что это значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, чтобы он играл на гармонии и учил бы баб петь песни; скажите поэту, сочинителю, чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший. А разве не худшее сумасшествие, что люди только во имя того, что они будут служить духовной пищей тем людям, которые возрастили их, и кормят, и одевают их, освободили себя от труда и потом так забыли свое обязательство, что разучились делать эту годную для народа пищу и это-то самое отступление от обязательства считают своим достоинством?
«Но так везде», говорят на это. Везде очень неразумно и будет неразумно до тех пор, пока люди, под предлогом разделения труда и обещания служить народу духовной пищей, будут только поглощать труды этого народа. Служение народу науками и искусствами будет только тогда, когда люди, живущие среди народа и как народ, не заявляя никаких прав, будут предлагать ему свои научные и художественные услуги, принять или не принять которые будет зависеть от воли народа.
XXXV.
Говорить, что деятельность наук и искусств содействовала движению вперед человечества, подразумевая под этой деятельностью то, что теперь называется этим именем, всё равно, что говорить, что неумелое, мешающее ходу судна болтание веслами на судне, идущем по течению, содействует движению судна. Оно только мешает ему. Так называемое разделение труда, т. е. захват чужого труда, ставший в наше время условием деятельности людей науки и искусства, был и остался главной причиной медленного движения вперед человечества.
Доказательства этого в том признании всех людей науки, что приобретения науки и искусств недоступны рабочим массам вследствие дурного распределения богатств. Неправильность этого распределения по мере успеха наук и искусств не уменьшается, а только увеличивается. Люди наук и искусств делают вид, что они очень сожалеют об этом не зависящем от них несчастном обстоятельстве. Но это несчастное обстоятельство производится ими самими, потому что возникает это неправильное распределение богатств только из теории разделения труда, проповедуемого людьми науки и искусства. Наука отстаивает разделение труда, как закон неизменный, видит, что распределение богатств, основывающееся на разделении труда, неправильно и гибельно, и утверждает, что ее деятельность, признающая разделение труда, приведет людей к благу.
Выходит, что одни люди пользуются трудами других, но что если они очень долго и в еще бòльших размерах будут пользоваться трудами других, то тогда это неправильное распределение богатств, т. е. пользование трудом других, прекратится.
Люди стоят у постоянно увеличивающегося источника воды и заняты тем, чтобы отводить его в сторону от жаждущих людей, и утверждают, что они-то и производят эту воду и что вот-вот скоро наберется ее столько, что всем достанет. А ведь вода эта, которая текла и течет не переставая и питает всё человечество, не только не есть последствие деятельности тех людей, которые, стоя у источника, отводят его, а вода эта течет и разливается, несмотря на усилия этих людей остановить ее развитие.
Всегда была истинная церковь в смысле людей, соединенных в наивысшей доступной в известный период человечеству истине, и всегда эта церковь была истинною не потому, что она называла себя таковою, и всегда была наука и искусство, но истинными науки и искусства были не потому, что они называли себя этим именем. Признающим себя представителями науки и искусства известного времени всегда кажется, что они сделали и делают, и, главное, вот-вот сейчас сделают удивительные чудеса и что помимо их не было и нет никакой науки и никакого искусства. Так это казалось софистам, схоластикам, алхимикам, каббалистам, талмудистам и нашей научной науке и нашему искусству для искусства.
XXXVI.
«Но наука, искусство! Вы отрицаете науку и искусство, т. е. отрицаете то, чем живет человечество!» Мне постоянно делают это — не возражение, а употребляют этот прием, чтобы не разбирая их, отбрасывать мои доводы: «Он отрицает науку и искусство, он хочет вернуть людей к дикому состоянию; что же слушать его и говорить с ним?» Но это несправедливо. Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, чтò есть истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю; только для того, чтобы была возможность человечеству выйти из того дикого состояния, в которое оно быстро впадает, благодаря ложному учению нашего времени, только для этого я и говорю то, что я говорю.
Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже необходимее; но они делаются таковыми не потому, что мы решим, что то, чтò мы называем наукой и искусством, — необходимо, а только потому, что они действительно необходимы людям.
Ведь если для телесной пищи людей будут готовить сено, то то, что мы убеждены в том, что сено есть пища людей, не сделает того, что сено станет пищей людей. Я ведь не могу сказать: «что же ты не ешь сена, когда оно — необходимая пища?» Пища необходима, но может случиться то, что то, чтò я предлагаю, — не пища. Вот это-то самое и случилось с нашей наукой и искусством. А нам кажется, что если мы приложим к греческому слову слово логия и назовем это наукою, то будет наука, и если какое-нибудь гадкое дело, как плясание обнаженных женщин, назовем греческим словом хореография и скажем, что это искусство, то оно и будет искусство. Но сколько бы мы ни говорили этого, дело, которым мы занимаемся, считая козявок и исследуя химический состав звезд млечного пути, рисуя русалок и исторические картины, сочиняя повести и симфонии, наше дело не станет ни наукой, ни искусством до тех пор, пока оно не будет охотно приниматься теми людьми, для которых оно делается. А до сих пор оно не принимается.
Если бы только одним людям разрешено было производить пищу, а всем остальным было бы запрещено это делать, или бы они были поставлены в невозможность производить пищу, я полагаю, что качество пищи понизилось бы. Если бы люди, имеющие монополию производить пищу, были бы русские крестьяне, не было бы другой пищи, кроме черного хлеба, щей, квасу и т. п., — кроме того, что они любят и чтò им приятно. То же самое случилось бы с той высшей человеческою деятельностью наук и искусств, если бы монополию ее присвоила себе одна каста; но только с тою разницею, что в телесной пище не может быть очень больших отклонений от естественности, а хлеб и щи, хотя и не очень вкусная пища, но всё-таки удобоедома; в духовной же пище могут быть самые большие отклонения; и некоторые люди могут долгое время питаться прямо им ненужной или вредной, отравляющей духовной пищей, могут сами медленно убивать себя духовным опиумом или спиртом и эту самую пищу предлагают массам.
Это самое и случилось с нами. И случилось потому, что положение людей науки и искусств привилегированное, потому что наука и искусство (в наше время) в нашем мире не есть вся та разумная деятельность всего без исключения человечества, выделяющего свои лучшие силы на служение науке и искусству, а деятельность маленького кружка людей, имеющего монополию этих занятий и называющего себя людьми науки и искусства и потому извративших самые понятия науки и искусства и потерявших смысл своего призвания и занятых только тем, чтобы забавлять и спасать от удручающей скуки свой маленький кружок дармоедов.
С тех пор как существуют люди, у них всегда была наука в самом ее простом и широком смысле. Наука, в смысле всего знания, приобретенного человечеством, всегда была и есть, и без нее немыслима жизнь; и ни нападать на науку в этом смысле, ни защищать ее нет никакой возможности. Но дело в том, что область знания вообще всего человечества так многообразна — от знания, как добывать железо, до знания движения светил, — что человек теряется в этой многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности. Прежде чем человек познает что бы то ни было, он должен решить, что этот предмет познания важен для него и важнее и нужнее, чем те другие бесчисленные предметы познания, которыми он окружен. Прежде чем изучать что-нибудь, человек решает уже, для чего он изучает этот предмет, а не остальные. Изучать же всё, как проповедуют в наше время люди научной науки, без соображения о том, что выйдет из этого изучения, прямо невозможно, потому что число предметов изучения бесконечно, и потому, сколько бы и какие бы предметы мы ни изучали, изучение их не может иметь никакого значения и смысла. И потому в древние времена, даже не очень давно, до тех пор, пока не явилась научная наука, как церковь, высшая мудрость людей всегда состояла в том, чтобы найти ту руководящую нить, по которой должны быть расположены знания людей: какие из них первой, какие меньшей важности. И это-то руководящее всеми другими знаниями знание люди всегда называли наукою в тесном смысле. И такая наука всегда и до нашего времени была в людских обществах, выходивших из первоначального дикого состояния. С тех пор как существует человечество, всегда, у всех народов являлись учители, составлявшие науку в этом тесном смысле: науку о том, чтò нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Эта-то наука и служила руководящей нитью в определении значения всех других знаний.
Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета и других; наука такая, какою ее разумели и разумеют все люди, за исключением нашего кружка так называемых образованных людей. Наука такая всегда занимала не только первенствующее место, но была одной наукой, из которой определялось значение всех других. И это происходило совсем не потому, как это думают так называемые ученые люди нашего времени, что обманщики жрецы — учители этой науки — придали ей такое значение, а потому что действительно, как каждый может это узнать и внутренним опытом и рассуждением, без науки о том, в чем назначение и благо человека, не может быть никаких настоящих наук и искусств, ибо предметов наук и искусств бесчисленное количество (я подчеркиваю слово бесчисленное, так как понимаю его в точном значении); и без знания того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве предметов, и потому без этого знания все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной и вредной забавой.
Человечество жило-жило и никогда не жило без науки о том, в чем назначение и благо людей; правда, что наука о благе людей для поверхностного наблюдения кажется различной; у буддистов, браминов, евреев, христиан, конфуцианцев, таосистов; хотя стоит только вникнуть в эти учения, чтобы увидать одинаковую сущность, но всё-таки, где мы знаем людей, вышедших из дикого состояния, мы находим эту науку; и вдруг оказывается, что люди нашего времени решили, что эта-то самая наука, до сих пор бывшая руководительницей всех человеческих знаний, что она-то и мешает всему. Люди строят здание, и один строитель составил одну смету, другой — другую, третий — третью. Сметы несколько различны, но сметы верны, так что всякий видит, что если всё будет исполнено по смете, то здание построится. Таковы строители Конфуций, Будда, Моисей, Христос. Вдруг приходят люди и уверяют, что главное дело в том, чтобы не было никакой сметы, а чтобы строить так — на глазомер. И это-то «так» люди эти называют самой точной научной наукой, как папа называется святейшим. Люди отрицают всякую науку, самую сущность науки — определение того, в чем назначение и благо людей, и это отрицание науки называют наукой.
С тех пор как существуют люди, в среде их зарождались великие умы, которые в борьбе с требованиями разума и совести задавали себе вопросы о том, в чем состоит благо, назначение и благо не одного меня, а всякого человека. Чего хочет от меня и от всякого человека та сила, которая произвела и ведет меня? И что мне нужно делать, чтобы удовлетворить вложенным в меня требованиям личного и общего блага? Они спрашивали себя: я целое и частица чего-то необъятного, бесконечного. Какие мои отношения к таким же подобным мне частицам — людям и ко всему целому — к миру?
И из голоса совести, и из разума, и из соображений того, чтò говорили им прежде жившие и современные люди, задававшие себе те же вопросы, эти великие учители выводили свои учения, простые, ясные, понятные всем людям и всегда такие, которые могли быть исполняемы. Такие люди были первой, второй, третьей и самой последней величины. Такими людьми полон мир. Все живые люди задают себе вопрос: как помирить свое требование блага личной жизни с совестью и разумом, и из этого общего труда вырабатываются медленно, но безостановочно новые, более близкие к требованиям разума и совести формы жизни. Вдруг является новая каста людей, которые говорят: всё это пустяки, всё это надо оставить. Это дедуктивный способ мышления (в чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не мог), это приемы теологического и метафизического периода. Всё то, что открывают внутренним опытом и сообщают друг другу люди о сознании закона своей жизни (функциональной деятельности на их жаргоне), всё, что с начала мира сделали на этом пути величайшие умы человечества, всё это пустяки и не имеет никакого веса. По этому новому учению выходит так: вы клеточка; и то, что вы, как клеточка, имеете очень определенную функциональную деятельность, которую вы не только наблюдаете, но и несомненно внутри себя чувствуете; и то, что вы клеточка мыслящая, говорящая, понимающая, и что вы поэтому можете у другой такой говорящей клеточки спросить, так ли она, как и вы, чувствует, и этим еще проверить свой опыт; то, что вы можете воспользоваться тем, что прежде жившие говорящие клеточки записали об этом же предмете; и то, что у вас есть миллионы клеточек, своим согласием с теми записавшими свои мысли клеточками подтверждающих ваши наблюдения, — всё это ничего не значит, всё это дурной, ложный метод. Верный научный метод такой: если вы хотите знать, в чем ваше назначение и благо и назначение и благо всего человечества и всего мира, то вы прежде всего должны перестать слышать голос и требования своей совести и разума, заявляющие себя и в вас самих и в подобных вам, вы должны перестать верить всему тому, что говорили великие учители человечества о своем разуме и совести, считать всё это пустяками и начать всё сначала. И, чтобы понять всё сначала, вам надо смотреть в микроскоп на движение амеб и клеточек в глистах или еще покойнее верить во всё то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости. И, глядя на движение этих амеб и клеточек или читая про то, что видели другие, приписывать этим клеточкам свои человеческие чувства и расчеты о том, чего они желают, куда стремятся, что соображают и рассчитывают и к чему привыкли, и из этих наблюдений (в которых что ни слово, то ошибка мысли или выражения) по аналогии заключать о том, что вы такое, какое ваше назначение и в чем благо ваше и других подобных вам клеточек. Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но и микроскопические существа, которых вы почти что не видите, и трансформации из одних существ в другие, которых никто никогда не видел, и вы наверно никогда не увидите.
То же самое и с искусством. Искусство — там, где была истинная наука, было всегда выражением ее. С тех пор как есть люди, они из всей деятельности выражения разнообразных знаний выделяли главное выражение знания о назначении и благе человека, и выражение-то этого знания и было искусство в тесном смысле. С тех пор как есть люди, были те особенно чуткие и отзывчивые на учение о благе и назначении человека, которые на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою и людскую борьбу с обманами, отвлекавшими их от их назначения, свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага. С тех пор как были люди, истинное искусство, то, которое высоко ценилось людьми, не имело другого значения, как выражение науки о назначении и благе человека. Всегда и до последнего времени искусство служило учению о жизни, — только тогда оно было тем, что так высоко ценили люди. Но одновременно с тем как на место истинной науки о назначении и благе стала наука обо всем, о чем вздумается, — с тех пор и исчезло искусство, как важная деятельность человеческая. Искусство во всех народах существовало и существует до тех пор, пока то, что теперь у нас презрительно называется религией, считалось единой наукой. В нашем европейском мире пока была церковь, как учение о назначении и благе, и учение церкви считалось единой истинной наукой, искусство служило церкви и было истинное искусство; но с тех пор как искусство вышло из церкви и стало служить науке, наука же служила чему попало, искусство потеряло свое значение, и, несмотря на заявляемые по старой памяти права и на нелепое, доказывающее только потерю признания утверждение, что искусство служит искусству, оно сделалось ремеслом, доставляющим людям приятное, и, как такое, неизбежно сливается с хореографическими, кулинарными, парикмахерскими и косметическими искусствами, производители которых с таким же правом называют себя артистами, как и поэты, живописцы и музыканты нашего времени.
Оглянешься назад и видишь; в продолжение тысячелетий из миллиардов живших людей выделяются десятки Конфуциев, Будд, Солонов, Сократов, Соломонов, Гомеров, Исаий, Давидов. Видно, редко между людьми они встречаются, несмотря на то, что тогда не из одной касты только, а из всех людей выбирались эти люди, видно, редки эти истинные ученые и художники, производители духовной пищи. И не даром человечество так высоко ценило и ценит их. Теперь же оказывается, что эти все прошедшие великие деятели науки и искусства уже не нужны нам. Теперь научных и художественных деятелей можно, по закону разделения труда, делать фабричным способом, и мы в одно десятилетие наделали больше великих людей науки и искусства, чем их родилось среди всех людей от начала мира. Теперь есть цех ученых и художников, они заготавливают усовершенствованным способом всю ту духовную пищу, которая нужна человечеству. И заготовили они ее так много, что старых, прежних, не только древних, но и более близких уж не нужно и поминать, — это всё была деятельность теологического и метафизического периода, то всё надо стереть; а настоящая разумная деятельность началась так — лет 50 тому назад, и в эти 50 лет мы наделали столько великих людей, что на каждую науку приходится человек по 10 великих людей, а наук наделали столько — благо их легко делать, стоит приложить к греческому названию слово логия и расположить по готовым рубрикам — и готова наука, —наделали наук столько, что не только один человек не может знать их, но ни один не запомнит всех названий существующих наук; названия одни составят толстый лексикон, и каждый день делают еще новые науки. Наделали очень много, в роде того учителя чухонца, который выучил детей помещика чухонскому вместо французского языка. Выучил всё прекрасно, одно только горе, что никто, кроме нас, ничего этого не понимает и считает всё это ни на что не нужной чепухой. Но, впрочем, и на это есть объяснения. Люди не понимают всей пользы научной науки потому, что они находятся под влиянием теологического периода, того глупого периода, когда весь народ и у евреев, и у китайцев, и у индейцев, и у греков понимал всё, что говорили им их великие учители.
Но отчего бы это ни случилось, дело в том, что науки и искусства всегда были в человечестве, и, когда они действительно были, они были нужны и понятны всем людям. Мы же делаем что-то такое, чтò мы называем науками и искусствами, но оказывается, что то, что мы делаем, не нужно и не понятно людям. И потому какие бы прекрасные вещи ни были те, какие мы делаем, мы не имеем права называть их науками и искусствами.
XXXVII.
«Но вы только даете другое, несогласное с наукой, более тесное определение науки и искусства», говорят мне на это; остается всё та же научная и художественная деятельность Галилеев, Брунов, Гомеров, Микель-Анджелов, Бетховенов и всех меньшей величины ученых и художников, которые всю жизнь свою посвящали служению науке и искусству и которые были и останутся благодетелями человечества, стараясь забыть тот новый принцип разделения труда, на основании которого наука и искусства занимают теперь свое привилегированное положение и на основании которого мы имеем возможность уже не голословно, а по данному мерилу решить, имеет или не имеет основание та деятельность, которая называет себя наукой и искусством, так величать себя.
Когда египетские или греческие жрецы производили свои никому неизвестные таинства и говорили об этих таинствах, что в них заключается вся наука и искусство, — я не мог на основании пользы, приносимой ими народу, проверить действительность их науки, потому что наука, по их утверждению, была — сверхъестественное; но теперь у всех нас есть ясное, простое определение деятельности науки и искусства, исключающее всё сверхъестественное: наука и искусство обещаются исполнять мозговую деятельность человечества для блага обществ или всего человечества. И потому мы имеем право называть наукой и искусством только такую деятельность, которая будет иметь эту цель и будет достигать ее. А потому, как бы ни называли себя ученые, придумывающие теории уголовных, государственных и международных прав, придумывающие новые пушки и взрывчатые вещества, и художники, сочиняющие похабные оперы и оперетки или такие же похабные романы, мы не имеем права называть всю эту деятельность деятельностью науки и искусства, потому что деятельность эта не имеет целью блага обществ или человечества, а, наоборот, направлена ко вреду людей.
Точно так же, как бы ни называли себя те ученые, которые в простодушии своем всю свою жизнь заняты исследованием микроскопических животных и телескопических и спектральных явлений, или художники, которые после старательного исследования памятников старины заняты писанием исторических романов, картин, симфоний и прекрасных стихов, — все эти люди, несмотря на всё свое усердие, не могут быть названы людьми науки и искусства, во-первых, потому, что их деятельность науки для науки и искусства для искусства не имеет целью блага; во-вторых, потому, что мы не видим последствий этой деятельности для блага общества или человечества. То же, что из их деятельности выходит иногда полезное и приятное для некоторых людей, как и из всего может выйти приятное и полезное для некоторых людей, никак не дает нам права, по их научному определению, считать их людьми науки и искусства.
Точно так же, как бы ни называли себя люди, выдумывающие приложение электричества к освещению, отоплению и движению или новые химические соединения, дающие динамит или прекрасные краски, люди, играющие правильно симфонии Бетховена, играющие на театре или пишущие хорошие портреты, жанры, пейзажи и картины, пишущие интересные романы, цель которых только в развлечении от скуки богача, — деятельность этих людей не может быть названа наукой и искусством, потому что деятельность эта не направлена, так же как мозговая деятельность в организме, на благо целого, а руководится только личной выгодой, привилегиями, деньгами, получаемыми за изобретение, и потому деятельность такого рода науки и искусства также не может быть отделена от всякой другой корыстной, личной деятельности, прибавляющей приятности жизни, как деятельность трактирщиков, и наездников, и модисток, и проституток, и т. п. Деятельность как тех, и других, и третьих не подходит под определение науки и искусства, на основании разделения труда, обещающих служить благу всего человечества или общества.
Определение наукою науки и искусства совершенно правильно, но, к несчастию, деятельность теперешних наук и искусств не подходит под него. Одни прямо делают вредное, другие — бесполезное, третьи — ничтожное, годное только для богачей. Они не исполняют того, что они, по своему же определению, взялись исполнить, и потому так же мало имеют права считать себя людьми науки и искусства, как испорченное духовенство, не исполнявшее взятых на себя обязанностей, не имеет права признавать себя носителем божеской истины.
И понятно, почему деятели нынешней науки и искусств не исполнили и не могут исполнить своего призвания. Они не исполняют его потому, что они из обязанностей своих сделали права.
Деятельность научная и художественная в ее настоящем смысле только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности. Только потому, что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанность и с трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять ее.
Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника.
Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы делают ученого и художника (собственно же делают губителя науки и искусства), и получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей.
Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает. Духовная деятельность и выражение ее, действительно нужные для других, есть самое тяжелое призвание человека — крест, как выражено в Евангелии. И единственный, несомненный признак присутствия призвания есть самоотвержение, есть жертва собой для проявления вложенной в человека на пользу другим людям силы. Без мук не рождается и духовный плод.
Учить тому, сколько козявок на свете, и рассматривать пятна на солнце, писать романы и оперу — можно не страдая; но учить людей их благу, которое всё только в отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение нельзя без отречения.
До тех пор была церковь, пока учители терпели и страдали, а как только они стали жирны, кончилась их учительская деятельность. «Были попы золотые и чаши деревянные; стали чаши золотые — попы деревянные», говорит староверческая пословица. Не даром умер Христос на кресте, не даром жертва страдания побеждает всё.
Наши же и наука и искусство обеспечены, дипломированы, и только и заботы у всех, как бы еще лучше обеспечить, т. е. сделать для них невозможным служение людям.
Истинной науки и истинного искусства есть два несомненные признака: первый — внутренний, тот, что служитель науки и искусства не для выгоды, а с самоотвержением будет исполнять свое призвание, и второй — внешний, тот, что произведение его будет понятно всем людям, благо которых он имеет в виду.
В чем бы ни полагали люди свое назначение и благо, наука будет учением об этом назначении и благе, а искусство — выражением этого учения. Законы Конфуция — наука; учение Моисея, Христа — наука; постройки в Афинах — искусство, псалмы Давида тоже искусство, обедня — искусство; но изучение тел в 4 измерениях, и таблицы химических соединений, и наши поэмы, и симфонии, и картины никогда не были и не будут ни наукой, ни искусством. Место настоящей науки и искусств занимают в наше время богословие и юридические науки, место настоящего искусства занимают церковные и правительственные обряды, в которые одинаково никто не верит и на которые одинаково никто не смотрит серьезно; то же, что называется у нас наукой и искусством, есть произведения праздного ума и чувства, имеющие целью щекотать такие же праздные умы и чувства: науки и искусства наши непонятны и ничего не говорят народу, потому что не имеют в виду его блага.
С тех пор как мы знаем жизнь людей, мы находим всегда и везде царствующее учение, ложно называющее себя наукой, не раскрывающее для людей, а затемняющее для них смысл жизни. Так это было у греков (софисты), потом у христиан (мистики, гностики, схоластики), у евреев (кабалисты и талмудисты), и так везде и до нашего времени. Что за особенное счастье наше жить в такое особенное время, когда та деятельность умственная, которая называет себя наукой, не только не заблуждается, но находится, как нас уверяют, в каком-то необычайном преуспеянии! Не происходит ли это особенное счастье оттого, что человек не может и не хочет видеть своего безобразия? Отчего же от тех наук и софистов, и кабалистов, и талмудистов ничего не осталось, кроме слов, а мы так особенно счастливы? Ведь признаки совершенно те же: то же самодовольство, слепая уверенность, что мы, именно мы и только мы, на настоящем пути, и с нас только начинается настоящее. Те же ожидания, что вот-вот мы откроем что-то необыкновенное, и тот же главный, обличающий наши заблуждения признак: вся мудрость наша остается при нас, а массы народа не понимают, и не принимают, и не нуждаются в ней.
Положение наше очень тяжелое, но почему же не посмотреть на него прямо?
Пора опомниться и оглянуться на себя. Ведь мы не что иное как книжники и фарисеи, севшие на седалище Моисея и взявшие ключи от царства небесного, и сами не входящие и других не впускающие. Ведь мы, жрецы науки и искусства, — самые дрянные обманщики, имеющие на наше положение гораздо меньше прав, чем самые хитрые и развратные жрецы. Ведь для привилегированного положения нашего у нас нет никакого оправдания: мы мошенничеством захватили это место и обманом поддерживаем его. Жрецы, духовенство, наше или католическое, как оно ни было развратно, имело право на свое положение, — они говорили, что учат людей жизни и спасению. Мы же, люди науки и искусств, подкопались под них, доказали людям, что они обманывают, и стали на его место; и не учим людей жизни, даже признаем, что учиться этому не надо, а сосем соки народа и за это учим своих детей греческой и латинской грамматике, для того чтобы и они могли продолжать ту же жизнь паразитов, какую мы ведем. Мы говорим: касты были, у нас теперь нет. А что же значит то что одни люди и их дети работают, а другие люди и их дети не работают?
Приведите индейца, не знающего языка, и покажите ему европейскую и нашу жизнь нескольких поколений, и он признает такие же две главные определенные касты рабочих и не рабочих, какие есть у него. И как у него, так и у нас, право не работать дает особенное посвящение, которое мы называем наукой и искусством, вообще — образованием. Вот это-то образование и всё извращение разума, соединенное с ним, и привело нас к тому удивительному безумию, вследствие которого мы не видим того, что так ясно и несомненно. Мы поедаем людские жизни наших братий и считаем себя христианами, гуманными, образованными и совершенно правыми людьми.
XXXVIII.
Так что же делать? Что же нам делать? Этот вопрос, включающий в себя и признание того, что жизнь наша дурна и неправильна, и вместе с тем как бы отговорку о том, что всё-таки переменить этого нельзя, — этот вопрос я слышал и слышу со всех сторон, и потому я только и выбрал этот вопрос заглавием всего этого писания. Я описывал свои страдания, свои искания и свои разрешения этого вопроса. Я такой же человек, как все, и если отличаюсь чем-нибудь от среднего человека нашего круга, то главное тем, что я больше среднего человека служил и потворствовал ложному учению нашего мира, больше получал одобрений от людей царствующего учения и потому больше других развратился и сбился с пути. И потому думаю, что решение вопроса, который я нашел для себя, будет годиться и для всех искренних людей, которые поставят себе тот же вопрос.
Прежде всего на вопрос, что делать, я ответил себе: не лгать ни пред людьми, ни пред собою, не бояться истины, куда бы она ни привела меня.
Мы все знаем, что значит лгать перед людьми, но лжи перед самими собой мы не боимся; а между тем самая худшая, прямая, обманная ложь перед людьми ничто по своим последствиям в сравнении с той ложью перед самим собой, на которой мы строим свою жизнь.
Вот той-то ложью нужно не лгать, чтобы быть в состоянии ответить на вопрос, что делать. И в самом деле, как же ответить на вопрос, что делать, когда всё, что я делаю, вся моя жизнь основана на лжи, и я эту ложь старательно выдаю за правду перед другими и перед самим собой? Не лгать в этом смысле значит не бояться правды, не придумывать и не принимать придуманных людьми изворотов для того, чтобы скрыть от себя вывод разума и совести; не бояться разойтись со всеми окружающими и остаться одному с разумом и совестью; не бояться того положения, к которому приведет правда, твердо веруя, что то положение, к которому ведет правда и совесть, как бы страшно оно ни было, не может быть хуже того, которое построено на лжи. Не лгать в нашем положении людей привилегированных, умственного труда — значит не бояться учесться.
Может быть, уже так много должен, что и не рассчитаешься; но как бы ни много было, всё лучше, чем не считаться, как бы ни далеко зашел по ложной дороге, всё лучше чем продолжать итти по ней. Ложь перед другими только невыгодна: всякое дело решается всегда прямее и короче правдой, чем ложью. Ложь перед другими только запутывает дело и отдаляет решение; но ложь перед самим собою, выставляемая за правду, губит всю жизнь человека. Если человек, выбравшийся на ложную дорогу, признает ее настоящею, то всякий шаг его по этой дороге отдаляет его от цели; если человек, долго идущий по этой ложной дороге, сам догадается или ему скажут, что это дорога ложная, но он испугается мысли о том, как далеко он заехал в сторону, и постарается уверить себя, что он, может-быть, и тут выедет на путь, то он никогда не выедет. Если человек сробеет перед истиной и, увидав ее, не признает ее, а примет ложь за истину, то человек никогда не узнает, что ему делать. Мы, люди не только богатые, но люди привилегированные, так называемые образованные, так далеко зашли по ложной дороге, что нам надо или большую решительность, или очень большие страдания на ложной дороге для того, чтобы опомниться и признать ту ложь, которой мы живем. Я увидал ложь нашей жизни благодаря тем страданиям, к которым меня привела ложная дорога; и я, признав ложность того пути, на котором стоял, имел смелость итти, прежде только одною мыслью, туда, куда меня вели разум и совесть, без соображения о том, к чему они меня приведут. И я был вознагражден за эту смелость.
Все сложные, разрозненные, запутанные и бессмысленные явления жизни, окружавшие меня, вдруг стали ясны, и мое прежде странное и тяжелое положение среди этих явлений вдруг стало естественно и легко.
И в новом положении этом определилась совершенно точно моя деятельность — совсем не та, какая представлялась мне прежде, но деятельность новая, гораздо более спокойная, любовная и радостная. То самое, что прежде пугало меня, стало привлекать меня. И потому я думаю, что тот, кто искренно задаст себе вопрос, что делать, и, отвечая на этот вопрос, не будет лгать перед собой, а пойдет туда, куда поведет его разум, тот уже решил вопрос. Если он только не будет лгать перед собой, он найдет, что, где и как делать.
Одно только, что может помешать ему в отыскании исхода, — это ложно высокое о себе и о своем положении мнение. Так это было со мной, и потому другой, вытекающий из первого ответ на вопрос, что делать, для меня состоял в том, чтобы покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего положения и своей деятельности: вместо полезности и серьезности своей деятельности признать ее вред и пустяшность, вместо своего образования признать свое невежество, вместо своей доброты и нравственности признать свою безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость. — Я говорю, что, кроме того, чтобы не лгать перед самим собой, мне нужно еще было покаяться, потому что, хотя одно и вытекает из другого, ложное представление о моем высоком значении так срослось со мною, что до тех пор, пока я искренно не покаялся, не отрешился от той ложной оценки, которую я сделал сам себе, я не видал большей части той лжи, которою я лгал перед собой. Только когда я покаялся, т. е. перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал смотреть, как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал ясен для меня. Прежде же я не мог отвечать на вопрос, что делать, потому что самый вопрос я ставил неправильно.
Пока я не покаялся, я ставил вопрос так: какую избрать деятельность мне, человеку, приобретшему то образование и те таланты, которые я приобрел? Как отплатить этими талантами и этим образованием за то, что я брал и беру у народа? Вопрос этот был неправилен потому, что он включал в себя ложное представление о том, что я не такой же человек, а особенный, призванный служить людям теми талантами и образованием, которое я приобрел 40-летним упражнением. Я задавал себе вопрос, но в сущности уже отвечал на него вперед тем, что вперед уж определял тот род мне приятной деятельности, которою я призван был служить людям. Я собственно спрашивал себя, как мне, такому прекрасному писателю, приобретшему столько знаний и талантов, употребить их на пользу людям.
Вопрос же надо было поставить так, как бы он стоял для ученого раввина, прошедшего курс талмуда и выучившего число букв всех священных книг и все тонкости своей науки. Вопрос как для раввина, так и для меня должен был стоять так: чтò мне, проведшему, по несчастию моих условий, лучшие учебные года, вместо приучения к труду, в изучении грамматики, географии, юридических наук, стихов, повестей и романов, французского языка и фортепианной игры, философских теорий и военных упражнений, — чтò мне, проведшему лучшие годы моей жизни в праздных и развращающих душу занятиях, — чтò мне делать, несмотря на эти несчастные условия прошедшего, чтобы отплатить тем людям, которые во всё это время кормили и одевали меня, да и теперь продолжают кормить и одевать меня? Если бы вопрос стоял так, как он стоит передо мной теперь, после того, как я покаялся, — чтò мне делать, такому испорченному человеку? — то ответ был бы легок: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шее других и, учась этому и выучившись, при всяком случае приносить пользу людям и руками, и ногами, и мозгами, и сердцем, и всем тем, на что заявляются требования людей.
И потому-то я говорю, что для человека нашего круга, кроме того, чтобы не лгать перед другими и собой, нужно еще покаяться, соскрести с себя вросшую в нас гордость своим образованием, утонченностью, талантами и сознать себя не благодетелем народа, передовым человеком, который не отказывается поделиться с народом своими полезными приобретениями, а признать себя кругом виноватым, испорченным, никуда ненужным человеком, который желает исправиться и не то что благодетельствовать народу, но перестать только оскорблять и обижать его. Я слышу часто вопросы хороших молодых людей, сочувствующих отрицательной части моего писания и спрашивающих: ну, так что же мне делать? что делать мне, кончившему курс в университете или в другом заведении, для того чтобы быть полезным? Молодые люди эти спрашивают, а в глубине души у них уже решено, что то образование, которое они получили, есть их великое преимущество, и что служить народу они желают именно этим своим преимуществом. И потому одно, чего они никак не сделают, это то, чтобы искренно, честно отнестись критически к тому, что они называют своим образованием: спросить себя, хорошие или дурные свойства суть то, что они называют своим образованием. Если же они сделают это, то они неизбежно будут приведены к необходимости отречься от своего образования и к необходимости начать учиться снова, а это одно и нужно. Они никак не могут решить вопроса: что делать, потому что вопрос этот стоит для них не так, как он должен стоять. Вопрос должен стоять так: как мне, беспомощному, бесполезному человеку, по несчастию моих условий погубившему лучшие учебные года на развращающее душу и тело изучение научного талмуда, поправить эту ошибку и выучиться служить людям? А он у них стоит так: как мне, приобретшему столько прекрасных знаний человеку, быть этими прекрасными знаниями полезным людям? И потому-то такой человек никогда не ответит на вопрос — что делать, до тех пор, пока он не покается. И покаяние не страшно, так же как не страшна истина, и так же радостно и плодотворно. Стоит принять истину совсем и покаяться совсем, чтобы понять, что прав, преимуществ, особенностей в деле жизни никто не имеет и не может иметь, а обязанностям нет конца и нет пределов, и что первая и несомненная обязанность человека есть участие в борьбе с природою за свою жизнь и жизнь других людей.
И это-то сознание обязанности человека и составляет сущность третьего ответа на вопрос — что делать?
Я старался не лгать перед собой, я старался выварить из себя остатки ложного мнения о значении моего образования и талантов и покаяться; но на дороге решения вопроса, что делать, становилось новое затруднение: дел так много разных, что надо было указание на то, что именно делать. И ответ на этот вопрос дало мне искреннее покаяние в том зле, в котором я жил.
Что делать? Что именно делать? — спрашивают все и спрашивал я до тех пор, пока под влиянием высокого мнения о своем призвании не видел того, что первое и несомненное дело мое было то, чтобы кормиться, одеваться, отопляться, обстраиваться и в этом же самом служить другим, потому что, с тех пор как существует мир, в этом самом состояла и состоит первая и несомненная, обязанность всякого человека.
В самом деле, в чем бы человек ни полагал своего призвания: в том ли, чтобы управлять людьми, в том ли, чтобы защищать своих соотечественников, совершать ли богослужение, поучать ли других, придумывать ли средства для увеличения приятностей жизни, открывать ли законы мира, воплощать ли вечные истины в художественных образах, — для разумного человека обязанность его участвовать в борьбе с природою для поддержания жизни и своей и других людей всегда будет самая первая и самая несомненная. Обязанность эта будет первой уже потому, что людям нужнее всего их жизнь, и потому для того, чтобы защищать и поучать людей и делать их жизнь более приятной, надо сохранять самую жизнь, а между тем мое неучастие в борьбе, поглощение чужих трудов есть уничтожение чужих жизней. И потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизни людей, и нельзя говорить, что я служу людям, когда я своей жизнью очевидно врежу им.
Обязанность человека борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность эта есть закон жизни, отступление от которого влечет за собой неизбежное наказание — уничтожение или телесной или разумной жизни человека. Если человек, живя один, уволит себя от обязанности борьбы с природой, он тотчас же казнится тем, что тело его погибает. Если же человек уволит себя от этой обязанности, заставляя других людей, губя их жизнь, исполнять ее, то он тотчас же казнится уничтожением разумной жизни, т. е. жизни, имеющей разумный смысл.
В этом одном деле получает человек, если уже разделять его, полное удовлетворение телесных и духовных требований своей природы: кормить, одевать, беречь себя и своих близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то же для других людей — удовлетворение духовной потребности. Всякая другая деятельность человека только тогда законна, когда она направлена на удовлетворение этой первейшей потребности человека, потому что в удовлетворении этой потребности состоит и вся жизнь человека.
Я так был извращен своей прошедшей жизнью, так скрыт в нашем мире этот первый и несомненный закон Бога или природы, что мне показалось странным, страшным, стыдным даже исполнение этого закона, как будто может быть страшно, странно и стыдно исполнение вечного несомненного закона, а не отступление от него.
Сначала мне представлялось, что для исполнения этого дела нужно какое-то приспособление, устройство, сообщество единомышленных людей, согласие семьи, жизнь в деревне; потом представлялось совестным как будто выказываться перед людьми, делать такое непривычное в нашем быту дело, как телесный труд, и я не знал, как взяться за него. Но стоила мне понять, что это не есть какая-нибудь исключительная деятельность, которую нужно выдумать и устроить, а что эта деятельность есть только возвращение из ложного положения, в котором я находился, к естественному, есть только исправление той лжи, в которой я живу, — стоило мне сознать это, чтобы устранились все эти затруднения. Устроивать и приспособлять и ожидать согласия других никогда не нужно было, потому что всегда, в каком бы я ни был положении, были люди, которые кормили, одевали, отопляли кроме себя и меня, и везде при всех условиях я мог делать это сам для себя и для них, если у меня доставало времени и сил. А испытывать ложный стыд в занятии непривычным и как бы удивительным для людей делом я тоже не мог, потому что, не делая этого, я испытывал уже не ложный, а настоящий стыд.
И тут-то, придя к этому сознанию и практическому из него выводу, я был вознагражден вполне за то, что не заробел перед выводами разума и пошел туда, куда они вели меня. Придя к этому практическому выводу, я был поражен легкостью и простотою разрешения всех этих вопросов, которые мне прежде казались столь трудными и сложными. На вопрос, что нужно делать, явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно: мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда — всё, что я могу сам сделать. На вопрос, не странно ли это будет перед людьми, делавшими это, оказалось, что странность эта продолжалась только неделю, а после недели сделалось бы странным, если бы я возвратился к прежним условиям. На вопрос, нужно ли организовать этот физический труд, устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что всё это не нужно, что труд, если он имеет своею целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собою влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было никакого составлять потому, что человек трудящийся сам по себе, естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуту самомнения считаю не бесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов — ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукою, у меня оставалось еще восемь часов, из которых мне нужно было по моим условиям только пять для умственного труда; оказалось, что если бы я, весьма плодовитый писатель, 40 почти лет ничего не делавший кроме писания и написавший 300 листов печатных, — если бы я работал все эти 40 лет рядовую работу с рабочим народом, то, не считая зимних вечеров и гулевых дней, если бы я читал и учился в продолжение пяти часов каждый день, а писал бы по одним праздникам, по две страницы в день (а я писывал по листу печатному в день), то я написал бы те же 300 листов в 14 лет. Оказалось удивительное дело: самый простой арифметический расчет, который может сделать семилетний мальчик и которого я до сих пор не мог сделать. В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвятит на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много. Куда же деваются остальные 11 часов?
Оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее.
На вопрос о том, не лишит ли этот физический труд меня многих безвредных радостей, свойственных человеку, как наслаждение искусствами, приобретение знания, общения с людьми и вообще счастия жизни, оказалось совершенно обратное: чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья жизни.
На вопрос о том (так часто слышанный мною от людей не совсем искренних), какой результат может произойти от такой ничтожной капли в море, от участия моего личного физического труда в море поглощаемого мною труда, получился тоже самый удовлетворительный и неожиданный ответ. Оказалось, что стоило мне сделать физический труд привычным условием своей жизни, чтобы тотчас же большинство моих ложных, дорогих привычек и требований при физической праздности сами собой, без малейшего усилия с моей стороны, отпали от меня. Не говоря уже о привычках обращать день в ночь и обратно, о постеле, одежде, условной чистоте, прямо невозможных и стесняющих при физическом труде, пища, потребность качества пищи совершенно изменились. Вместо сладкого, жирного, утонченного, сложного, пряного, на что тянуло прежде, стала нужна и более всего приятна самая простая пища: щи, каша, черный хлеб, чай в прикуску. Так что, не говоря уже о влиянии на меня примера простых рабочих людей, довольствующихся малым, с которыми я при физической работе приходил в общение, самые потребности незаметно изменились вследствие рабочей жизни, так что моя капля физического труда в море общего труда, по мере моей привычки и усвоения приемов работы, становилась всё больше и больше; по мере же плодотворности моего труда и требования мои труда от других становились всё меньше и меньше, и жизнь естественно, без усилий и лишений приближалась к такой простой, о которой я не мог и мечтать без исполнения закона труда. Оказалось то, что самые дорогие требования мои от жизни — именно требования тщеславия и рассеяния от скуки — происходили прямо от праздной жизни. При физической работе не было места тщеславию и не было нужды в рассеянии, так как время было приятно занято, и после усталости простой отдых за чаем, за книгой, за разговором с близкими был несравненно приятнее театра, карт, концерта, большого общества — всех тех вещей, которые нужны при физической праздности и стоят дорого.
На вопрос о том, не расстроил ли бы этот непривычный труд здоровья, необходимого для возможности служения людям, оказалось, что, несмотря на положительные утверждения знаменитых врачей, что физический напряженный труд, особенно в мои года, может иметь самые вредные последствия (а что лучше шведская гимнастика, массаж и т. п. приспособления, долженствующие заменить естественные условия жизни человека), оказалось, что чем напряженнее был труд, тем я сильнее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовал. Так что оказалось несомненно то, что точно так же, как все те ухищрения человеческого ума: газеты, театры, концерты, визиты, балы, карты, журналы, романы суть не что иное, как средство поддерживать духовную жизнь человека вне его естественных условий труда для других, что точно таковы же все гигиенические и медицинские ухищрения человеческого ума для приспособления пищи, питья, помещения, вентиляции, отопления, одежды, лекарств, вод, массажа, гимнастики, электрических и всяких других лечений, — что все эти хитрости-мудрости суть только средства поддержать телесную жизнь человека, изъятую из естественных ее условий труда. Оказалось, что все те ухищрения человеческого ума для приятного устройства жизни физически праздных людей совершенно подобны тем хитростям, которые бы придумывали люди для устройства в герметически закрытом помещении, посредством механических приборов, испарения и растений, наилучшего для дыхания воздуха, когда стоит только открыть окошко.
Все выдумки медицины и гигиены для людей нашего круга подобны тому, что придумывал бы механик для того, чтобы, растопив неработающий паровик и заткнув все клапаны, сделать так, чтобы паровик не разорвало. Вместо всех сложнейших и поглощающих столько трудов устройств увеселений, комфорта и медицинских и гигиенических приспособлений, долженствующих спасать людей от их духовных и телесных болезней, нужно только одно: исполнять закон жизни — делать то, что свойственно не только человеку, но и животному, — выпускать заряд энергии, принимаемый в виде пищи, мускульным трудом; говоря простым языком — зарабатывать хлеб, не работавши не есть, или сколько поел, столько и сработал.
И когда я ясно понял всё это, мне стало смешно. Я целым рядом сомнений, исканий, длинным ходом мысли пришел к той необыкновенной истине, что если у человека есть глаза, то затем, чтобы смотреть ими и уши, чтобы слушать, и ноги, чтобы ходить, и руки, и спина, чтобы работать. И что если человек не будет употреблять этих членов на то, на что они предназначены, то ему будет хуже. Я пришел к тому заключению, что с нами, привилегированными людьми, случилось то же, что случилось с жеребцами моего знакомого. Приказчик, не охотник до лошадей и не знаток, получив приказание хозяина поставить на стойло лучших жеребцов, отобрал их из табуна, поставил в стойла, кормил овсом, и поил; но, боясь за дорогих лошадей, не решался никому поручить их, не ездил, не гонял и даже не выводил их. Лошади все сели на ноги и стали никуда не годными. То же случилось и с нами, но только с тою разницей, что лошадей нельзя обмануть ничем, и их, чтобы не выпускать, держали на привязи, нас же держат в таком же неестественном, гибельном для нас положении соблазнами, которые спутали нас и держат, как цепи.
Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной и физической природе человека, и все силы своего ума напрягаем на то, чтобы уверить человека, что это-то и есть самая настоящая жизнь. Всё, что мы называем культурой: наши науки и искусства, усовершенствования приятностей жизни, — это попытки обмануть нравственные требования человека; всё, что называем гигиеной и медициной, — это попытки обмануть естественные, физические требования человеческой природы. Но обманы эти имеют свои пределы, и мы доходим до них. Если такова настоящая жизнь человеческая, то лучше уже вовсе не жить, говорит царствующая, самая модная философия Шопенгауэра и Гартмана. Если такова жизнь, то лучше не жить, говорит увеличивающееся число самоубийств привилегированного класса. Если такова жизнь, то и будущим поколениям лучше не жить, говорят потворствуемые наукой медицины и изобретенные ею уловки для уничтожения женского плодородия.
В Библии сказано, как закон человека: «в поте лица снеси хлеб, и в муках родиши чада». Мужик Бондарев, написавший об этом статью, осветил для меня мудрость этого изречения.4
Ho nous avons changé tout ça,5 — как говорит мольеровское лицо, завравшись о медицине и сказавши, что печень на левой стороне. Мы всё это переменили. Людям не нужно работать, чтобы кормиться, это всё будут делать машины, а женщинам не нужно рожать. Наука медицина научит различным средствам, а народу и так слишком много.
По Крапивенскому уезду ходит оборванный мужик. Он был во время войны закупщиком хлеба у провиантского чиновника. Сблизившись с чиновником, увидав его сладкую жизнь, мужик сошел с ума на том, что и он так же, как господа, может не работать, а получать следующее ему содержание от государя императора. Мужик этот называет себя теперь светлейшим военным князем Блохиным, поставщиком военного провианта всех сословий. Он говорит про себя, что он, «окончил всех чинов» и по выслуге военного сословия должен получить от государя императора открытый банк, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горох и прислугу и всякое продовольствие. Человек этот смешон для многих, но для меня значение сумасшествия его ужасно. На вопросы: не хочет ли он поработать, он всегда гордо отвечает: «очень благодарен, это всё управится крестьянами». Когда скажешь ему, что крестьяне тоже не захотят работать, он отвечает: «крестьянам это не затруднительно в управке» (вообще он говорит высоким слогом и любит отглагольные существительные). «Теперь выдумка машин для облегчительности крестьян, — говорит он. — Для них нет затруднительности». Когда у него спросят, для чего он живет, он отвечает: «для разгулки времени». Я всегда смотрю на этого человека, как в зеркало. Я вижу в нем себя и всё наше сословие. Окончить чинов, чтобы жить для разгулки времени и получать открытый банк, между тем как крестьяне, для которых это не затруднительно по выдумке машин, управляют все дела, — это полная формулировка безумной веры людей нашего круга.
Когда мы спрашиваем, что же именно нам делать, ведь мы не спрашиваем ничего, а только утверждаем, только не с такою добросовестностью, как светлейший военный князь Блохин, окончивший всех чинов и лишась разума, что мы не хотим ничего делать. Тот, кто опомнится, не может этого спрашивать, потому что, с одной стороны, всё, чем он пользуется, сделано и делается руками людей, а с другой стороны, как только проснулся и поел здоровый человек, так у него является потребность работать и ногами, и руками, и мозгами. Для того чтобы найти работу и работать, ему нужно только не удерживаться; только тот, кто считает стыдным работу, как дама, которая просит гостью не трудиться отворять дверь, а подождать, пока она позовет для этого человека, только тот может задавать себе вопрос, что именно делать. Дело не в том, чтобы выдумать работу, — работы для себя и для других не переделаешь, — а дело в том, чтобы отвыкнуть от того преступного взгляда на жизнь, что я ем и сплю для своего удовольствия, и усвоить себе тот простой и правдивый взгляд, с которым вырастает и живет рабочий человек, что человек прежде всего есть машина, которая заряжается едой, для того чтобы кормиться, и что потому стыдно, тяжело, нельзя есть и не работать; что есть и не работать — это самое безбожное, противоестественное и потому опасное положение в роде содомского греха. Только бы было это сознание, и работа будет, и работа будет всегда радостная и удовлетворяющая душевные и телесные требования.
Мне представилось дело так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми.
Блага, которыми пользуется человек, также разделяются на 4 рода. Всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда, хлебом, скотиной, постройками, колодцами, прудами, и т. п.; во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждой, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих, произведениями умственной деятельности наук, искусства и, в-четвертых, установленным общением между людьми.
И мне представилось, что лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня — первая упряжка — была посвящена тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми.
Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастия человека.
Я, например, занимался всю свою жизнь умственным трудом. Я говорил себе, что я так разделил труд, что писание, т. е. умственный труд, есть специальное мое занятие, а другие нужные мне дела предоставил (или заставил) делать других. Но это, казалось бы, самое выгодное устройство для умственного труда, не говоря уже о своей несправедливости, было невыгодно именно для умственного труда.
Я всю свою жизнь — пищу, сон, развлечения — устраивал в виду этих часов специальной работы и, кроме этой работы, ничего не делал. Из этого выходило, во-первых, то, что я суживал свой круг наблюдения и знаний, часто не имел средства для изучения и часто, задавшись задачей описывать жизнь людей (а жизнь людей есть всегдашняя задача всякой умственной деятельности), я чувствовал свое незнание и должен был учиться, спрашивал о таких вещах, которые знал всякий человек, не занятый специальной работой; во-вторых, выходило то, что я садился писать, но у меня не было никакого внутреннего влечения писать, и никто не требовал от меня писания, как писания, т. е. моих мыслей, а требовалось мое имя для журнальных соображений. Я старался выжимать из себя, что мог: иногда ничего не выжимал, иногда что-нибудь очень плохое и чувствовал неудовлетворенность и тоску. Теперь же, когда я сознал необходимость физической работы, и грубой и ремесленной, выходило совершенно другое: время мое было занято, как ни скромно, но несомненно полезно, и радостно, и поучительно для меня. И потому я отрывался для своей специальности от этого несомненно полезного и радостного занятия только тогда, когда чувствовал и внутреннюю потребность и видел прямо заявляемые ко мне в моем писательском труде требования.
А эти-то требования и обусловливали только доброкачественность и потому полезность и радостность моей специальной работы. Так что оказалось, что занятие теми физическими работами, которые мне необходимы, как и всякому человеку, не только не мешало моей специальной деятельности, но было необходимым условием полезности, доброкачественности и радостности этой деятельности.
Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она всё это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек.
Человек, сознавший свое призвание труда, будет естественно стремиться к той перемене труда, которая свойственна ему для удовлетворения его внешних и внутренних потребностей, и изменит этот порядок не иначе, как только если почувствует в себе непреодолимое призвание к какому-либо исключительному труду, и к этому же труду будут предъявляться требования других людей.
Свойство труда таково, что удовлетворение всех потребностей человека требует того самого чередования разных родов труда, которое делает труд не тягостью, а радостью. Только ложная вера, ὀὸϛ͂α, о том, что труд есть проклятие, могла привести людей к тому освобождению себя от известных родов труда, т. е. захвату чужого труда, требующего насильственного занятия специальным трудом других людей, которое они называют разделением труда.
Ведь мы только так привыкли к нашему ложному пониманию устройства труда, что нам кажется, что сапожнику, машинисту, писателю или музыканту будет лучше, если он уволит себя от свойственного человеку труда. Там, где не будет насилия над чужим трудом и ложной веры в радостность праздности, ни один человек для занятия специальным трудом не уволит себя от физического труда, нужного для удовлетворения его потребностей, потому что специальное занятие не есть преимущество, а есть жертва, которую приносит человек своему влечению и своим братьям.
Сапожник в деревне, оторвавшись от привычного, радостного в поле труда и взявшись за свою работу, чтобы починить или сшить сапоги соседям, лишает себя всегда радостного труда в поле только потому, что он любит шить, знает, что никто не может так хорошо сделать этого, как он, и что люди будут благодарны ему. Но ему не может прийти желание на всю жизнь лишить себя радостного чередования труда.
Так же староста, машинист, писатель, ученый. Ведь это нам, с нашим извращенным понятием, кажется так, что если конторщика барин разжаловал в мужики или министра сослали на поселение, то его наказали, сделали ему дурное. В сущности же его облагодетельствовали, т. е. заменили его тяжелый, специальный труд радостным чередованием труда. В естественном обществе это совсем иначе. Я знаю одну общину, где люди сами кормились. Один из членов этого общества был образованнее других, и от него потребовали чтения, к которому он должен был готовиться днем, чтобы читать его вечером. Он делал это с радостью, чувствуя, что он полезен другим и делает дело хорошее. Но он устал от исключительно умственной работы, и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалели его и попросили итти работать в поле.
Для людей, смотрящих на труд как на сущность и радость жизни, фон, основа жизни будет всегда борьба с природой — труд, и земледельческий, и ремесленный, и умственный и установление общения между людьми. Отступление от одного или многих из этих родов труда и специальная работа будет только тогда, когда человек специальной работы, любя эту работу и зная, что он лучше других делает ее, жертвует своей выгодой для удовлетворения непосредственно заявляемых к нему требований. Только при таком взгляде на труд и вытекающем из него естественном разделении труда уничтожается то проклятие, наложенное в нашем воображении на труд, и всякий труд становится всегда радостью, потому что либо человек будет делать несомненно полезный и радостный, неотягчительный труд, либо будет иметь сознание жертвы в исполнении труда более тяжелого, исключительного, но такого, который он делает для блага других.
Но разделение труда выгоднее. Для кого выгоднее? Выгоднее поскорее наделать как можно больше сапог и ситцев. Но кто будет делать эти сапоги и ситцы? Люди, поколениями делающие только булавочные головки. Так как же это может быть выгоднее для людей? Если дело в том, чтобы наделать как можно больше ситцев и булавок, то это так; но дело ведь в людях, в благе их. А благо людей в жизни. А жизнь в работе. Так как же может необходимость мучительной, угнетающей работы быть выгоднее для людей? Если дело только в выгоде одних людей без соображения о благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и вкусно. Выгоднее для всех людей — одно, то самое, что я для себя желаю, — наибольшего блага и удовлетворения тех потребностей, и телесных и душевных, и совести, и разума, которые в меня вложены. И вот для себя я нашел, что для моего блага и удовлетворения моих этих потребностей мне нужно только излечиться от того безумия, в котором я жил вместе с крапивенским сумасшедшим, сумасшествия, состоящего в том, что некоторым людям не полагается работать и что всё это должны управлять другие люди, и потому делать только то, что свойственно человеку, т. е. работать, удовлетворяя своим потребностям. И, найдя это, я убедился, что труд для удовлетворения своих потребностей сам собою разделяется на разные роды труда, из которых каждый имеет свою прелесть и не только не составляет отягощения, а служит отдыхом один от другого. Я в грубой форме (нисколько не настаивая на справедливости такого деления) разделил этот труд по тем требованиям, которые я имею в жизни, на 4 отдела, соответственно четырем упряжкам работы, из которых слагается день, и стараюсь удовлетворять этим требованиям.
Так вот какие ответы я нашел для себя на вопрос, что нам делать.
Первое: не лгать перед самим собой, как бы ни далек был мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум.
Второе: отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым.
Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон человека — трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей.
XXXIX.
Я кончил, сказав всё то, что касалось меня, но не могу удержаться от желания сказать еще то, что касается всех: общими соображениями поверить те выводы, к которым я пришел. Мне хочется сказать о том, почему мне кажется, что очень многие из нашего круга должны прийти к тому же, к чему я пришел, и еще о том что выйдет из того, если хоть некоторые люди придут к этому.
Я думаю, что многие придут к тому же, к чему я пришел, потому что если только люди нашего круга, нашей касты серьезно оглянутся на себя, то люди молодые, ищущие личного счастья, ужаснутся перед всё увеличивающейся, явно влекущей их в погибель бедственностью своей жизни, люди совестливые ужаснутся перед жестокостью и незаконностью своей жизни, и люди робкие ужаснутся перед опасностью своей жизни.
Несчастье нашей жизни. Как мы, богатые люди, ни поправляем, ни подпираем с помощью нашей науки и искусства эту нашу ложную жизнь, жизнь эта становится с каждым годом и слабее, и болезненнее, и мучительнее; с каждым годом увеличивается число самоубийств и отречений от рождения детей; с каждым годом мы чувствуем увеличивающуюся тоску нашей жизни, с каждым годом слабеют новые поколения людей этого сословия. Очевидно, что на этом пути увеличения удобств и приятностей жизни, на пути всякого рода лечений и искусственных приспособлений для улучшения зрения, слуха, аппетита, искусственных зубов, волос, дыхания, массажей и т. п. не может быть спасения. То, что люди, не пользующиеся этими усовершенствованиями, сильнее и здоровее, эта истина стала таким труизмом, что в газетах печатаются рекламы о желудочных порошках для богатых под заглавием: Blessings for the poor (блаженство для бедных), где говорится, что бедные только имеют правильное пищеварение, а богатым нужна помощь, а в том числе эти порошки. Поправить это дело нельзя никакими увеселениями, удобствами и порошками; поправить может только перемена жизни.
Несогласие нашей жизни с нашей совестью. Как ни стараемся мы оправдать перед самими собой свою измену человечеству, все наши оправдания распадаются прахом перед очевидностью: вокруг нас мрут люди от непосильной работы и недостатков, мы губим труд других людей, пищу и одежду, необходимые для них, только для того, чтобы найти развлечение и разнообразие в скучной жизни. И потому совесть человека нашего круга, если есть хоть малый остаток ее в нем, не может заснуть и отравляет все те удобства и приятности жизни, которые доставляют нам страдающие и гибнущие в труде братья. Но мало того, что каждый совестливый человек сам чувствует это, — он бы и рад забыть это, но не может этого сделать: в наше время вся лучшая часть науки и искусства, та, в которой остался смысл ее призвания, постоянно напоминает нам о нашей жестокости и нашем незаконном положении. Старые, твердые оправдания все разрушены; новые, эфемерные оправдания науки для науки, искусства для искусства не выдерживают света простого, здравого рассудка. Совесть людей не может быть успокоена новыми придумками, а может быть успокоена только переменой жизни, при которой не нужно будет и не в чем будет оправдываться.
Опасность нашей жизни. Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов. Давящие народ классы, кроме царя, не имеют теперь в глазах нашего народа никакого оправдания; они держатся все в своем положении только насилием, хитростью и оппортунизмом, т. е. ловкостью, но ненависть в худших представителях народа и презрение к нам в лучших растут с каждым годом.
В нашем народе в последние три-четыре года вошло в общее употребление новое, многозначительное слово; словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, ругаются теперь на улице и определяют нас: — дармоеды. Ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится всё, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем. Возвратиться к старому нельзя; возобновить разрушенный престиж нельзя; остается одно для тех, которые не хотят переменить свою жизнь: надеяться на то, что на мою жизнь хватит, а после как хотят. Так и делает слепая толпа богатых классов; но опасность всё растет, и ужасная развязка приближается. Устранить угрожающую опасность богатые классы могут только переменою жизни.
Три причины указывают людям богатых классов необходимость перемены их жизни: потребность личного блага своего и своих близких, неудовлетворимая на том пути, на котором они стоят, потребность удовлетворения голоса совести, невозможность которой очевидна на настоящем пути, и угрожающая и всё растущая опасность жизни, неустранимая никакими внешними средствами. Все три причины вместе должны влечь людей богатых классов к перемене их жизни, к такой перемене, которая бы удовлетворяла и благу и совести и устраняла бы опасность.
И такая перемена есть только одна: перестать обманывать, покаяться, признать труд не проклятием, а радостным делом жизни.
Но что же будет из того, что я буду 10, 8, 5 часов работать физическую работу, которую охотно сделают тысячи мужиков за те деньги, которые у меня есть? — говорят на это.
Будет первое, самое простое и несомненное, то, что ты будешь веселее, здоровее, бодрее, добрее и узнаешь настоящую жизнь, от которой ты прятался сам или которая была спрятана от тебя. Будет второе то, что если у тебя есть совесть, то не только она не будет страдать, как она страдает теперь, глядя на труд людей, значение которого мы всегда, по незнанию его, преувеличиваем или уменьшаем, но ты будешь постоянно испытывать радостное сознание того, что с каждым днем ты всё больше и больше удовлетворяешь требованиям своей совести и выходишь из того ужасного положения такого нагромождения зла в нашей жизни, что нет возможности делать добро людям; ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра; ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт от тебя. Будет третье то, что, вместо вечного страха возмездия за твое зло ты будешь чувствовать, что ты спасаешь и других от этого возмездия и, главное, спасаешь угнетенных от жестокого чувства злобы и мести.
Но ведь смешно, говорят обыкновенно, нам, людям нашего мира, с стоящими перед нами глубокомысленными вопросами — философскими, научными, политическими, художественными, церковными, общественными, нам, министрам, сенаторам, академикам, профессорам, артистам, четверть часа времени которых так дорого ценится людьми, нам тратить наше время — на что же? на чищение своих сапог, мытье своих рубашек, копание, сажанье картофеля или кормление своих кур и своей коровы и т. п., теми делами, которые делают для нас и за нас с радостью не только наш дворник, наша кухарка, но тысячи людей, которые дорожат нашим временем. Но почему же мы сами одеваемся, моемся, чешемся (извините за подробности), держим себе горшок, почему мы сами подаем стулья дамам, гостям, отворяем, затворяем двери, подсаживаем в экипажи, делаем тому подобных сотни дел, которые прежде делали за нас рабы. Потому что мы считаем, что это так надобно, что в этом человеческое достоинство, т. е. долг, обязанность человека. То же самое и с физической работой. Достоинство человека, его священный долг и обязанность употреблять данные ему руки и ноги на то, для чего они даны, и поглощаемую пищу на труд, производящий эту пищу, а не на то, чтобы они атрофировались, не на то, чтобы их мыть, и чистить, и употреблять только на то, чтобы посредством их совать в рот пищу, питье и папироски. Такое значение имеет занятие физическим трудом для всякого человека во всяком обществе; но в нашем обществе, где уклонение от этого закона природы сделалось несчастьем целого круга людей, занятие физическим трудом получает еще другое значение — значение проповеди и деятельности, устраняющей страшные бедствия, угрожающие человечеству. Ведь говорить, что для образованного человека занятие физическим трудом есть ничтожное занятие, это всё равно, что говорить при постройке храма: что же важного в том, чтобы положить один камень ровно на свое место? Ведь всякое величайшее дело делается именно в условиях незаметности, скромности, простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при освещении, громе пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятие о важности занятия, напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дела. Великие, истинные дела всегда просты и скромны. И таково величайшее дело, предстоящее нам: разрешение тех страшных противоречий, в которых мы живем. И дела, разрешающие эти противоречия, суть те скромные, незаметные, кажущиеся смешными дела: служения себе и физической работой для себя и, если можно, для других, которые предстоят нам, богатым людям, если мы понимаем несчастие, бессовестность и опасность того положения, в которое мы попали.
Что выйдет из того, что я и другой, третий десяток людей будет не брезгать работой физической и будет считать ее необходимой для нашего счастья, спокойствия совести и безопасности? Выйдет то, что будет один, другой, третий десяток людей, которые, не входя в столкновение ни с кем, без насилия правительственного или революционного для себя разрешат страшный вопрос, стоящий перед всем миром и разделяющий людей, разрешат его так, что им станет лучше жить, что их совесть станет спокойнее и что им нечего бояться; выйдет то, что и другие люди увидят, что благо, которого они ищут везде, — тут около них самих, что казавшиеся неразрешимые противоречия совести и устройства мира разрешаются самым легким и радостным способом, и что вместо того, чтобы бояться людей, окружающих нас, нам надо сближаться с ними и любить их.
Ведь кажущийся неразрешимым вопрос экономический и социальный есть вопрос крыловского ларчика. Ларчик просто открывается. И до тех пор не откроется, пока люди просто не сделают самое первое, простое — не откроют его.
Кажущийся неразрешимым вопрос есть старый вопрос о том, каким образом одним людям пользоваться трудом других. Прежде пользовались трудом других прямо насилием, рабством; в наше время и в нашем мире это делается посредством собственности. Собственность в наше время есть и источник страданий людей, имеющих или лишенных ее, и укоров совести людей, злоупотребляющих ею, и опасности за столкновение между имеющими избыток ее и лишенными ее. И собственность есть в наше время то самое, на что направлена почти вся деятельность нашего современного общества, то, что руководит почти всей деятельностью нашего мира.
Государства — правительства интригуют и воюют из-за собственности: берегов Рейна, земли в Африке, в Китае, земли на Балканском полуострове. Банкиры, торговцы, фабриканты, землевладельцы трудятся, хитрят, мучаются и мучают из-за собственности; чиновники, ремесленники, землевладельцы бьются, обманывают, угнетают, страдают из-за собственности; суды, полиция охраняют собственность. Собственность есть корень всего зла; распределением, обеспечением собственности занят почти весь мир.
Что же такое собственность? Люди привыкли думать, что собственность есть что-то действительно принадлежащее человеку. Оттого и назвали они это собственностью. Мы говорим про дом и про свою руку одинаково: моя собственная рука и мой собственный дом.
Но ведь это, очевидно, заблуждение и суеверие.
Мы знаем, а если мы и не знаем, то легко увидать, что собственность есть только средство пользования трудом других. А труды других никак не могут быть моими собственными. Они даже не имеют ничего общего с понятием собственности — понятием очень точным и определенным. Собственным, своим человек всегда называл и будет называть себя, то, что всегда подчинено его воле, то, что составляет орудие его деятельности или средство удовлетворения его потребностей. Таким орудием и средством человек признает прежде всего свое тело, свои руки, ноги, уши, глаза, язык. Как только человек называл собственностью то, что не есть его тело, но что он желал бы, чтобы подчинялось его воле, как и его тело, так он делает ошибку и наживает себе разочарование, страдания и входит в необходимость заставлять страдать других. Человек называет своей собственностью свою жену, своих детей, своих рабов, но действительность всегда показывает ему его ошибку, и он должен отказываться от этого суеверия или страдать и заставлять страдать других. Теперь мы, номинально отказываясь от собственности людей, заявляем право собственности на землю, предметы, на деньги, т. е. труд других. Но как право собственности на жену, сына, раба есть фикция, которая уничтожается действительностью и только заставляет страдать того, кто верит в нее, потому что жена, сын никогда не будут подчиняться воле моей, как мое тело, и собственность моя истинная останется всё-таки одно мое тело, точно так же и собственность денег и всяких внешних предметов никогда не будет собственностью, а только обманом самого себя и источником страданий, а собственностью останется только мое тело, то, что всегда подчиняется мне и связано с моим сознанием.
Только нам, так привыкшим к тому, чтобы называть не свое тело своею собственностью, может казаться, что такое дикое суеверие может быть полезным нам и оставаться без вредных для нас последствий; но стоит вдуматься в сущность дела, чтобы увидать, как это суеверие, как и всякое другое, несет за собою страшные последствия.
Всякая собственность вызывает в человеке несоответствующие, не всегда удовлетворенные потребности и лишает его возможности приобрести для своей истинной и несомненной собственности — своего тела — те знания, умения, привычки, те усовершенствования, которые он мог приобрести. Результат всегда тот, что он праздно для себя, для своей истинной собственности, потратил силы, иногда всю жизнь без остатка на то, что не было и не могло быть его собственностью.
Человек устраивает воображаемую собственную библиотеку, собственную картинную галлерею, собственную квартиру, одежду, приобретает собственные деньги, чтобы покупать на них всё, что ему нужно, и кончается тем, что, занимаясь этой воображаемой собственностью, как действительной, он совершенно теряет сознание того, что есть настоящая его собственность, над которой он действительно мог работать, которая может служить ему и которая всегда останется в его власти, и того, что не есть, не может быть его собственностью, как бы он ни называл ее, и которая не может быть предметом его деятельности.
Слова имеют всегда ясное значение до тех пор, пока мы умышленно не дадим им ложный смысл.
Что значит собственность?
Собственность значит то, что дано, принадлежит мне одному исключительно, то, с чем я могу сделать всегда всё, что хочу, то, чего никто не может отнять у меня, что остается моим до конца моей жизни, и то, что я именно должен употреблять, увеличивать, улучшать. Такая собственность для каждого человека ведь есть только он сам. А между тем в этом самом смысле и разумеется обыкновенно воображаемая собственность людей, та самая, во имя которой (для того, чтобы сделать невозможное — эту воображаемую собственность сделать действительною) и происходит всё страшное зло мира: и войны, и казни, и суды, и остроги, и роскошь, и разврат, и убийство, и погибель людей.
Так что же выйдет из того, что десяток людей будут пахать, колоть дрова, шить сапоги не по нужде, а по сознанию того, что человеку нужно работать и что чем он больше будет работать, тем ему будет лучше? Выйдет то, что десяток или хоть один человек и в сознании и на деле покажут людям, что то страшное зло, от которого они страдают, не есть закон судьбы, воля Бога или какая-нибудь историческая необходимость, а есть суеверие, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное, в которое только надо перестать верить, как в идолов, для того чтобы освободиться от него и, как слабую паутину, разрушить его. Люди, которые станут трудиться для того, чтобы исполнять радостный закон их жизни, т. е. работающие для исполнения закона труда, освободятся от ужасного суеверия собственности для себя; и все те учреждения мира, существующие для поддержания этой мнимой собственности вне своего тела, окажутся для них не только ненужными, но и стеснительными; а для всех станет ясно, что все эти учреждения не суть необходимые, а вредные, выдуманные и ложные условия жизни. Для человека, считающего труд не проклятием, а радостью, собственность вне своего тела, т. е. права или возможность пользоваться трудом других, будет не только бесполезна, но стеснительна. Если я люблю и привык готовить свой обед, то то, что другой человек станет это делать для меня, лишит меня моего привычного занятия и не удовлетворит меня так, как я сам удовлетворял себя; кроме того, приобретения воображаемой собственности будет не нужно такому человеку: человек, считающий труд самою жизнью, наполняет им свою жизнь и потому всё меньше и меньше нуждается в труде других, т. е. в собственности, для занятия своего праздного времени, для приятностей своей жизни.
Если жизнь человека наполнена трудом и он знает наслаждение отдыха, ему не нужно комнат, мебели, разнообразных красивых одежд, ему нужно меньше дорогой пищи, не нужно средств передвижения, рассеяния. Главное же, человек, считающий труд делом и радостью своей жизни, не будет искать облегчения своего труда, которое ему могут дать труды других. Человек, считающий жизнь трудом, будет ставить себе целью, по мере приобретения умения, ловкости и выносливости, всё больший и больший труд, всё более и более наполняющий его жизнь. Для такого человека, полагающего смысл своей жизни в труде, а не в результатах его, для приобретения собственности, т. е. труда других, не может быть и вопроса об орудиях труда. Хотя такой человек и изберет всегда орудия наиболее производительные, человек этот получит то же самое удовлетворение работы и отдыха, работая и самым непроизводительным орудием. Если будет паровой плуг, он будет пахать им, если не будет его, он будет пахать конным, не будет его, — сохой, не будет сохи, он будет копать скребкой и во всех условиях одинаково будет достигать своей цели — проводить свою жизнь в полезном людям труде и потому будет получать полное удовлетворение. И положение такого человека и по внешним условиям и по внутренним будет более счастливо, чем того, который кладет свою жизнь в приобретении собственности. По внешним условиям такой человек никогда не будет в нужде, потому что люди, видя его желание работать, как в силе воды, к которой приделывают мельницу, всегда постараются сделать его работу наиболее производительной, обеспечат его материальное существование, чего они не делают для людей, стремящихся к собственности. А обеспечение материальных условий и есть всё то, что нужно человеку. По внутренним условиям такой человек будет всегда счастливее того, который ищет собственности, потому что второй никогда не получит того, к чему стремится, первый же всегда, по мере своих сил: слабый, старый, умирающий, по пословице, с качедыком в руках, получит полное удовлетворение и любовь и сочувствие людей.
Так вот что будет из того, что несколько чудаков-сумасшедших будут пахать, шить сапоги и т. п., вместо того, чтобы курить папиросы, играть в винт и ездить повсюду, развозить свою скуку в продолжение свободных у каждого умственного работника 10-ти часов в день. Выйдет то, что эти сумасшедшие покажут на деле, что та воображаемая собственность, из-за которой страдают, мучаются и мучают других людей, не нужна для счастья, стеснительна и что это есть только суеверие; что собственность, истинная собственность, есть только своя голова, свои руки, свои ноги, и что для того, чтобы эксплуатировать действительно с пользою и радостью эту истинную собственность, надо откинуть ложное представление о собственности вне своего тела, на которое мы тратим лучшие силы своей жизни. Выйдет то, что эти люди покажут, что только когда человек перестанет верить в воображаемую собственность, только тогда он обработает свою настоящую собственность, свои способности, свое тело, так что они дадут ему плод сторицею и счастье, о котором мы не имеем понятия, и будет таким полезным, сильным, добрым человеком, которого куда ни брось, он везде упадет на ноги, везде всем всегда будет брат, будет всем понятен и нужен и дорог. И люди, глядя на одного, на десяток сумасшедших этих, поймут, чтò они все должны сделать, чтобы развязать тот страшный узел, в который их затянуло суеверие собственности, чтобы избавиться от несчастного положения, от которого они все в один голос стонут теперь, не зная из него выхода.
Но что же сделает один человек в толпе, несогласной с ним? Нет рассуждения, которое бы очевиднее этого показывало неправду тех, которые употребляют его. Бурлаки тянут барку против течения. Неужели найдется такой глупый бурлак, который откажется влечь в свою лямку, потому что он один не в силах тянуть барку против течения. Тот, кто признает за собою, кроме своих прав животной жизни — есть и спать, какую-нибудь человеческую обязанность, знает очень хорошо, в чем эта человеческая обязанность, точно так же как знает это бурлак, на которого надета лямка. Бурлак очень хорошо знает, что ему надо только влечь в лямку и итти по данному направлению. Он будет искать того, что ему делать и как, только тогда, когда он сбросит с себя лямку. И что с бурлаками и со всеми людьми, делающими общую работу, то и в деле всего человечества: каждому надо не снимать лямку, а влечь в нее по данному хозяином направлению. И на то и дан разум один всем людям, чтобы направление это было всегда одно. И направление это дано так очевидно несомненно, и во всей и жизни окружающих нас людей, и в совести каждого человека, во всем выражении мудрости людей, что только тот, кто не хочет работать, может говорить, что он не видит его.
Так что же выйдет из этого? То, что один-два человека потянут; на них глядя, присоединится третий, и так будут присоединяться лучшие люди до тех пор, пока не двинется дело и не пойдет, как будто само подталкивая и вызывая к тому же и тех, которые и не понимают, что и зачем делается. Сперва к числу людей, сознательно работающих для исполнения закона Бога, присоединятся люди полусознательно, полу-на-веру признающие то же; потом к ним присоединится еще большее число людей, только на-веру передовым людям признающие то же, и, наконец, большинство людей признают это, и тогда совершится то, что люди перестанут губить себя и найдут счастье.
Это будет тогда, — что будет очень скоро, — когда люди нашего круга, а за ними и всё огромное большинство не будут считать, что стыдно вывозить и чистить нужники, а не стыдно наполнять их для того, чтобы люди-братья вывозили их; не будут считать, что стыдно итти в личных сапогах в гости, а не стыдно итти в калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви; что стыдно не знать по-французски или последней новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его ставят; что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно ходить в чистом платье, выказывая тем свою праздность; что стыдно иметь грязные руки, а не стыдно не иметь рук с мозолями.
Всё это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение. А общественное мнение будет требовать этого тогда, когда уничтожатся в представлении людей те соблазны, которые скрывали от них истину. На моей памяти совершились большие перемены в этом смысле. И перемены эти совершились только потому, что переменилось общественное мнение. На моей памяти совершилось то, что было стыдно богатым людям выехать не на четверне с двумя лакеями, что было стыдно не иметь лакея или горничной для того, чтобы одевать, умывать, обувать, держать горшок и т. п.; и теперь вдруг стало стыдно не одеваться, не обуваться самому и ездить с лакеями. Все эти перемены сделало общественное мнение. Разве не ясны те перемены, которые теперь готовятся в общественном мнении?
Стоило 25 лет тому назад уничтожиться соблазну, оправдывающему крепостное право, и изменилось общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменилась жизнь. Стоит уничтожиться соблазну, оправдывающему денежную власть над людьми, и изменится общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменится жизнь. А уничтожение соблазна оправдания денежной власти и изменение общественного мнения в этом отношении уже быстро совершается.
Соблазн этот уж просвечивает и чуть-чуть закрывает истину. Стоит только пристально вглядеться, чтобы видеть ясно то изменение общественного мнения, которое уже совершилось и только не сознано, не названо словом. Стоит мало-мальски образованному человеку нашего времени вдуматься в то, что вытекает из тех воззрений на мир, которые он исповедует, чтобы убедиться, что та оценка хорошего и дурного, похвального и стыдного, которой он по инерции руководится в жизни, прямо противоречит всему его миросозерцанию.
Стоит человеку нашего времени, только на минуту отрешившись от своей идущей по инерции жизни, взглянуть на нее со стороны и подвергнуть той самой оценке, которая вытекает из всего его миросозерцания, чтобы ужаснуться перед тем определением всей его жизни, которая вытекает из его миросозерцания. Возьмем для примера молодого человека (в молодых сильнее энергия жизни и туманнее самосознание). Возьмем для примера молодого человека богатых классов какого бы то ни было направления. Всякий хороший юноша считает, что стыдно не помочь старику, ребенку, женщине; считают, что в общем деле стыдно подвергать опасности жизнь или здоровье другого человека, а самому избегать ее. Всякий считает, что стыдно и дико делать то, что, как рассказывал Скайлер, делают киргизы во время бури: высылают баб и старух держать под бурей углы кибитки, а сами продолжают сидеть за кумысом в кибитке; всякий считает, что стыдно слабого человека заставлять делать на себя работу, считают, что еще стыднее во время опасности на горящем корабле, например, самому сильному, расталкивая слабых и оставляя их в опасности, первому лезть в спасающую лодку и т. п.
Они всё это считают стыдным и ни за что этого не сделают в некоторых исключительных условиях; но в обыденной жизни точно такие же поступки и гораздо худшие закрыты от них соблазнами, и они не переставая делают их. Стоит им только вдуматься, чтобы увидать и ужаснуться. Молодой человек носит чистые рубашки каждый день. Кто моет их на реке? Женщина, в каком бы она ни была положении, очень часто старая, годящаяся в бабки и в матери молодому человеку, иногда больная. Как назовет сам этот молодой человек того, кто для прихоти сменить рубашку, которая и так чиста, посылает стирать эту рубашку женщину, годящуюся ему в матери? Молодой человек заводит лошадей для щегольства, и их выезжает с опасностью жизни человек, годящийся ему в отцы или деды, а сам молодой человек садится на лошадь только тогда, когда опасность миновалась. Как назовет этот молодой человек того, кто, устраняясь сам, ставит другого в опасное положение и пользуется этим риском для своего удовольствия?
А ведь вся жизнь богатых классов составляется из ряда таких поступков. Непосильные труды стариков, детей, женщин и дела, с опасностью жизни совершаемые другими не для того, чтобы мы могли работать, а для нашей прихоти, наполняют всю нашу жизнь.
Рыбак тонет, ловя нам рыбу, прачки студятся и мрут, кузнецы слепнут, фабричные болеют и портятся машинами, лесорубы раздавливаются деревьями, рабочие убиваются с крыш, швеи чахнут. Все настоящие дела совершаются с тратою и опасностью жизни. Скрыть это и не видать этого нельзя. Одно спасение в этом положении, один выход из него тот, чтобы, по своему же миросозерцанию человеку нашего времени не назвать себя подлецом и трусом, взваливающим на других труд и опасность жизни, — это то, чтобы брать от людей только необходимое для жизни и самому нести настоящий труд с тратою и опасностью жизни.
Придет время очень скоро, и оно приходит уже, когда стыдно и гадко будет обедать не только обед в пять блюд, подаваемый лакеями, но обедать обед, который сварили не сами хозяева; стыдно будет ехать не только на рысаках, но на извозчике, когда ноги есть; надевать в будни платья, обувь, перчатки, в которых нельзя работать; стыдно будет не только кормить собак молоком и белым хлебом, когда есть люди, у которых нет молока и хлеба, и жечь лампы и свечи, при которых не работают, топить печи, в которых не варят пищи, когда есть люди, у которых нет освещения и отопления. И к такому взгляду на жизнь мы неизбежно, и быстро идем. Мы стоим уже на рубеже этой новой жизни и установление этого нового взгляда на жизнь есть дело общественного мнения. Общественное мнение, утверждающее такой взгляд на жизнь, быстро вырабатывается.
Женщины делают общественное мнение. И женщины особенно сильны в наше время.
XL.
Как сказано в Библии, мужчине и женщине дан закон: мужчине закон труда, женщине закон рождения детей. Хотя мы по нашей науке и nous avons changé tout ça,6 но закон мужчины, как и женщины, остается неизменным, как печень на своем месте, и отступление от него казнится всё так же неизбежно смертью. Разница только в том, что для мужчины отступление от закона казнится смертью в таком близком будущем, что оно может быть названо настоящим, для женщин же отступление от закона казнится в более далеком будущем. Отступление общее всех мужчин от закона уничтожает людей тотчас же; отступление всех женщин уничтожает людей следующего поколения. Отступление же некоторых мужчин и женщин не уничтожает рода человеческого, а лишает только отступивших разумной природы человека. Отступление мужчин от закона началось давно в тех классах, которые могли насиловать других, и, всё распространяясь, продолжалось до нашего времени и в наше время дошло до безумия, до идеала, состоящего в отступлении от закона, — до идеала, выраженного князем Блохиным и разделяемого Ренаном и всем образованным миром: будут работать машины, а люди будут наслаждающиеся комки нерв.
Отступления от закона женщин почти не было. Оно выражалось только в проституции и в частных преступлениях убивания плода. Женщины круга людей богатых исполняли свой закон, тогда как мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнее и продолжают властвовать и должны властвовать над людьми, отступившими от закона и потому потерявшими разум. Говорят обыкновенно, что женщина (парижская женщина, преимущественно бездетная) так стала обворожительна, пользуясь всеми средствами цивилизации, что она этим своим обаянием овладела мужчиной. Это не только несправедливо, но как раз наоборот. Овладела мужчиной не бездетная женщина, а мать, та, которая исполняла свой закон, тогда как мужчина не исполнял своего. Та же женщина, которая искусственно делается бездетною и пленяет мужчину своими плечами и локонами, — это не властвующая над мужчиной женщина, а развращенная мужчиной, опустившаяся до него, до развращенного мужчины, женщина, сама, так же как и он, отступающая от закона и теряющая, как и он, всякий разумный смысл жизни. Из этой ошибки вытекает и та удивительная глупость, которая называется правами женщин. Формула этих прав женщин такая: а! ты, мужчина, — говорит женщина, — отступил от своего закона настоящего труда, а хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящего труда? Нет, если так, то мы, так же как и ты, сумеем делать то подобие труда, которое ты делаешь в банках, министерствах, университетах, академиях; мы хотим, так же как и ты, под видом разделения труда, пользоваться трудами других и жить, удовлетворяя одной похоти. Они говорят это и на деле показывают, что они никак не хуже, еще лучше мужчин умеют делать это подобие труда.
Так называемый женский вопрос возник и мог возникнуть только среди мужчин, отступивших от закона настоящего труда. Стоит только вернуться к нему и вопроса этого быть не может. Женщина, имея свой особенный, неизбежный труд, никогда не потребует права участия в труде мужчины — в рудниках, на пашне. Она могла потребовать участия только в мнимом труде мужчин богатого класса.
Женщина нашего круга была сильнее мужчины и сильнее еще теперь не своим обаянием, не своею ловкостью делать то же фарисейское подобие труда, как и мужчина, а тем, что она не выступала из под закона, что она несла тот настоящий с опасностью жизни, с напряжением до последних пределов, настоящий труд, от которого уволил себя мужчина богатых классов. Но на моей же памяти началось и отступление женщины от закона, т. е. падение ее, и на моей памяти оно всё дальше и дальше совершается. Женщина, потеряв закон, поверила, что ее сила в обаянии прелести или в ловкости фарисейского подобия умственного труда. А тому и другому мешают дети. И вот с помощью науки на моей памяти сделалось то, что среди богатых классов явились десятки способов уничтожения плода. И вот женщины-матери, одни из богатых классов державшие в своих руках власть, выпускают ее для того, чтобы не уступить уличным девкам и сравняться с ними. Зло уже далеко распространилось и с каждым днем распространяется дальше и дальше, и скоро оно охватит всех женщин богатых классов, и тогда они сравняются с мужчинами и вместе с ними потеряют разумный смысл жизни. Но еще есть время.
Если бы только женщины поняли свое значение, свою силу и употребили бы ее на дело спасения своих мужей, братьев и детей. На спасение всех людей!
Жены-матери богатых классов, спасение людей нашего мира от тех зол, которыми он страдает, в ваших руках!
Не те женщины, которые заняты своими талиями, турнюрами, прическами и пленительностью для мужчин и против своей воли, по недоглядке, с отчаянием рожают детей и отдают их кормилицам; и не те тоже, которые ходят на разные курсы и говорят о психомоторных центрах и дифференциации и тоже стараются избавиться от рождения детей с тем, чтобы не препятствовать своему одурению, которое они называют развитием, а те женщины и матери, которые, имея возможность избавиться от рождения детей, прямо, сознательно подчиняются этому вечному, неизменному закону, зная, что тягость и труд этого подчинения есть назначение их жизни. Вот эти-то женщины и матери наших богатых классов те, в руках которых больше, чем в чьих-нибудь других, лежит спасение людей нашего мира от удручающих их бедствий. Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющиеся закону Бога, вы одни знаете в нашем несчастном, изуродованном, потерявшем образ человеческий кругу, вы одни знаете весь настоящий смысл жизни по закону Бога, и вы одни своим примером можете показать людям то счастие жизни в подчинении воле Бога, которого они лишают себя. Вы одни знаете те восторги и радости, захватывающие всё существо, то блаженство, которое предназначено человеку, не отступающему от закона Бога. Вы знаете счастие любви к мужу — счастие не кончающееся, не обрывающееся, как все другие, а составляющее начало нового счастия — любви к ребенку. Вы одни, когда вы просты и покорны воле Бога, знаете не тот шуточный парадный труд в мундирах и в освещенных залах, который мужчины вашего круга называют трудом, а знаете тот истинный, Богом положенный людям труд и знаете истинные награды за него, то блаженство, которое он дает. Вы знаете это, когда после радостей любви вы с волнением, страхом и надеждой ждете того мучительного состояния беременности, которое сделает вас больными на 9 месяцев, приведет вас на край смерти и к невыносимым страданиям и болям; вы знаете условия истинного труда, когда вы с радостью ждете приближения и усиления самых страшных мучений, после которых наступает вам одним известное блаженство. Вы знаете это тогда, когда тотчас же после этих мук, без отдыха, без перерыва вы беретесь за другой ряд трудов и страданий — кормления, при котором вы сразу отказываетесь и покоряете своему чувству самую сильную человеческую потребность сна, которая, по пословице, милей отца и матери, и месяцы, годы не спите подряд ни одной ночи, а иногда, и часто, не спите напролет целые ночи, а с затекшими руками одиноко ходите, качаете разрывающего вам сердце больного ребенка. И когда вы делаете всё это, никем не одобряемые, никому невидимые, ни от кого не ожидающие за это похвалы или награды, когда вы делаете это не как подвиг, а как работник евангельской притчи, пришедший с поля, считая, что вы сделали только то, что должно, тогда вы знаете, чтò фальшивый парадный труд для славы людской и чтò настоящий — исполнение воли Бога, которой указание вы чувствуете в своем сердце. Вы знаете, что, если вы настоящая мать, что мало того, что никто не видел вашего труда, не хвалил вас за него, а только находил, что это так и нужно, но что и те, для кого вы трудились, не только не благодарят, но часто мучают, укоряют вас. И с следующим ребенком вы делаете то же: опять страдаете, опять несете невидимый, страшный труд и опять не ждете ни от кого награды и чувствуете всё то же удовлетворение.
Если вы такие, то вы не скажете ни после двух ни после двадцати детей, что довольно рожать, как не скажет 50-тилетний работник, что довольно работать, когда он еще ест и спит и мускулы его просят дела; если вы такие, вы не свалите с себя заботы кормления и ухаживания на чужую мать, как не даст работник другому человеку кончать его начатую и почти конченную работу, потому что в этой работе вы кладете свою жизнь, и потому тем полнее и счастливее ваша жизнь, чем больше этой работы. А когда вы такая — и такие еще есть, к счастию людей, — то тот же закон исполнения воли Бога, которым вы руководитесь в своей жизни, вы приложите и к жизни вашего мужа, и ваших детей, и близких вам. Если вы такая и знаете по себе, что только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд, с опасностью жизни и до последних пределов напряжения для жизни других, есть то призвание человека, которое дает ему удовлетворение, то эти же требования вы будете заявлять и к другим, к этому же труду поощрять мужа, по этому труду мерить и оценивать достоинство людей и к этому же труду будете готовить своих детей.
Только та женщина-мать, которая смотрит на свое рождение детей как на неприятную случайность, а на свои удовольствия любви, удобства жизни, образования, общественности как на смысл жизни, будет воспитывать детей так, чтобы они имели как можно больше удовольствий и как можно больше пользовались ими: будет сладко кормить, наряжать, искусственно веселить их, будет учить их не тому, что бы сделало их способными к самоотверженному с опасностью жизни и до последних пределов напряжения мужскому и женскому труду, а тому, что бы избавило их от этого труда. Только такая женщина, потерявшая смысл своей жизни, будет сочувствовать тому обманному, фальшивому мужскому труду, при котором муж ее, освободив себя от обязанности человека, имеет возможность пользоваться вместе с нею трудами других. Только такая женщина будет выбирать такого же мужа своей дочери и оценивать людей не тем, что они сами такое, а тем, что с ними связано: положением, деньгами, уменьем пользоваться чужими трудами.
Настоящая же мать, зная на деле волю Бога, к исполнению ее будет готовить и детей своих. Для таких матерей видеть своего перекормленного, изнеженного, разряженного ребенка будет страданием, потому что всё это, она знает, затруднит для него изведанное матерью исполнение воли Бога. Такая мать будет учить не тому, что даст сыну или дочери возможность освободить себя от труда, а тому, что поможет ему нести труд жизни. Ей не нужно будет спрашивать, чему учить, к чему готовить детей: она знает, в чем призвание людей, и потому знает, чему надо учить и к чему готовить детей. Такая женщина не будет не только поощрять мужа к обманному, фальшивому труду, имеющему только целью пользование трудом других, но с отвращением и ужасом будет относиться к такой деятельности, служащей двойным соблазном для детей; такая женщина не будет выбирать мужа дочери по белизне его рук и утонченности манер, а твердо зная, чтò труд и чтò обман, будет всегда и везде, начиная с своего мужа, уважать и ценить
Корректура главы XI „Так что же нам делать?“ с исправлениями Толстого.
Размер подлинника.
в мужчинах, требовать от них настоящий труд с тратой и опасностью жизни и презирать тот фальшивый парадный труд, который имеет целью избавление себя от истинного труда.
Такая мать сама родит, сама выкормит, сама будет, прежде всего другого, кормить и готовить пищу детей, и шить, и мыть, и учить своих детей, и спать, и говорить с ними, потому что в этом она полагает свое дело жизни. Только такая мать не будет искать для своих детей внешних обеспечений в деньгах своего мужа, в дипломах детей, а будет воспитывать в них ту самую способность самоотверженного исполнения воли Божией, которую она в себе знает, способность несения труда с тратою и опасностью жизни, потому что знает, что в этом одном обеспечение и благо жизни. Такая мать не будет спрашиваться у других, что ей делать, — она всё будет знать и ничего не будет бояться.
Если могут быть сомнения для мужчины и для бездетной женщины о том пути, на котором находится исполнение воли Бога, для женщины-матери путь этот твердо и ясно определен; и если она покорно, в простоте душевной исполнила его, она, становясь на ту высшую точку блага, до которой дано достигнуть человеческому существу, становится путеводной звездой для всех людей, стремящихся к благу. Только мать может перед смертью спокойно сказать Тому, Кто послал ее в этот мир, и Тому, Кому она служила рождением и воспитанием любимых больше себя детей, только она может спокойно сказать, сослужив Ему положенную ей службу: «Ныне отпущаеши раба твоего». А это-то и есть то высшее совершенство, к которому, как к высшему благу, стремятся люди.
Вот такие-то, исполнявшие свое призвание женщины властвуют властвующими мужчинами; такие-то женщины готовят новые поколения людей и установляют общественное мнение, и потому в руках этих женщин высшая власть спасения людей от существующих и угрожающих зол нашего времени.
Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение мира!
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЧАСТНОГО ПИСЬМА ПО ПОВОДУ ВОЗРАЖЕНИЙ НА СТАТЬЮ «ЖЕНЩИНАМ».
Призвание всякого человека, мужчины и женщины, в том, чтобы служить людям. С этим общим положением, я думаю, согласны все не безнравственные люди. Разница между мужчинами и женщинами в исполнении этого назначения только в средствах, которыми они его достигают, т. е. чем они служат людям.
Мужчина служит людям и физической работой — приобретая средства пропитания, и работой умственной — изучением законов природы для побеждения ее, и работой общественной — учреждением форм жизни, установлением отношений между людьми. Средства служения людям для мужчины очень многообразны. Вся деятельность человечества, за исключением деторождения и кормления, составляет поприще его служения людям. Женщина же, кроме своей возможности служения людям всеми теми же, как и мужчина, сторонами своего существования, по строению своему призвана, привлечена неизбежно к тому служению, которое одно исключено в области служения мужчины.
Служение человечеству само собой разделяется на две части: одно — увеличение блага в существующем человечестве, другое — продолжение самого человечества. К первому призваны преимущественно мужчины, так как они лишены возможности служить второму. Ко второму призваны преимущественно женщины, так как исключительно они способны к нему. Этого различия нельзя, не должно и грешно (т. е. ошибочно) не помнить и стирать. Из этого различия вытекают обязанности тех и других, обязанности не выдуманные людьми, но лежащие в природе вещей. Из этого же различия вытекает оценка добродетели и порока женщины и мужчины — оценка, существовавшая во все века и теперь существующая и никогда не перестанущая существовать, пока в людях был, есть и будет разум.
Всегда было и будет то, что мужчина, проводящий большую часть своей жизни в свойственном ему многообразном физическом и умственном общественном труде, и женщина, проводящая большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления, и возращения детей, будут одинаково чувствовать, что они делают то, что должно, и будут одинаково возбуждать уважение и любовь других людей, потому что оба исполняют свое, то, что предназначено им по их природе.
Призвание мужчины многообразнее и шире, призвание женщины однообразнее и уже, но глубже, и потому всегда было а будет то, что мужчина, имеющий сотни обязанностей, изменив одной, десяти из них, остается не дурным, не вредным человеком, исполнив большую часть своего призвания. Женщина же, имеющая малое число обязанностей, изменив одной из них, тотчас же нравственно падает ниже мужчины, изменившего десяти из своих сотни обязанностей. Таково всегда было общее мнение и таково оно всегда будет, потому что такова сущность дела.
Мужчина для исполнения воли Бога должен служить ему и в области физического труда, и мысли, и нравственности: он всеми этими делами может исполнить свое назначение. Для женщины средства служения Богу суть преимущественно и почти исключительно (потому что кроме нее никто не может этого сделать) — дети. Только через дела свои призван служить Богу и людям мужчина, только через детей своих призвана служить женщина.
И потому любовь к своим детям, вложенная в женщину, исключительная любовь, с которой совершенно напрасно бороться рассудочно, всегда будет и должна быть свойственна женщине-матери. Любовь эта к ребенку в младенчестве есть вовсе не эгоизм, а это есть любовь работника к той работе, которую он делает в то время, как она у него в руках. Отнимите эту любовь к предмету своей работы, и невозможна работа. Пока я делаю сапог, я его люблю больше всего. Если бы я не любил его, я бы не мог и работать его. Испортят мне его, я буду в отчаянии, но я люблю его так до тех пор, пока работаю. Когда сработал, остается привязанность, предпочтение, слабое и незаконное.
То же и с матерью. Мужчина призван служить людям через многообразные работы, и он любит эти работы, пока их делает.
Женщина призвана служить людям через своих детей, и она не может не любить этих своих детей, пока она их делает, до 3-х, 7-ми, 10 лет.
По общему призванию — служить Богу и людям — мужчина и женщина совершенно равны, несмотря на различие в форме этого служения. Равенство в том, что одно служение столь же важно, как и другое, что одно немыслимо без другого, что одно обусловливает другое и что для действительного служения как мужчине, так женщине одинаково необходимо знание истины, без которого деятельность как мужчины, так и женщины становится не полезной, но вредной для человечества. Мужчина призван исполнять свой многообразный труд, но труд его тогда только полезен, и его работа, и физическая, и умственная, и общественная, тогда только плодотворны, когда они совершаются во имя истины и блага других людей. Как бы усердно ни занимался мужчина увеличением своих удовольствий, праздным умствованием и общественной деятельностью для своей пользы, труд его не будет плодотворен. Он будет плодотворен только тогда, когда будет направлен к тому, чтобы уменьшить страдания людей от нужды, от невежества и от ложного общественного устройства.
То же и с призванием женщины: ее рождение, кормление, возращение детей будет полезно человечеству только тогда, когда она будет выращивать не просто детей для своей радости, а будущих слуг человечества; когда воспитание этих детей будет совершаться во имя истины и для блага людей, т. е. она будет воспитывать детей так, чтобы они были наилучшими людьми и работниками для других людей.
Идеальная женщина, по мне, будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание того времени, в котором она живет, отдается своему женскому, непреодолимо вложенному в нее призванию — родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей, по усвоенному ей миросозерцанию.
Для того же чтобы усвоить себе высшее миросозерцание, мне кажется, нет надобности посещать курсы, а нужно только прочесть Евангелие и не закрывать глаз, ушей и, главное, сердца.
Ну, а те, у которых нет детей, которые не вышли замуж, вдовы? Те будут прекрасно делать, если будут участвовать в мужском многообразном труде. Но нельзя будет не жалеть о том, что такое драгоценное орудие, как женщина, лишилось возможности исполнять ей одной свойственное великое назначение.
Тем более, что всякая женщина, отрожавшись, если у ней есть силы, успеет заняться этою помощью мужчине в его труде. Помощь женщины в этом труде очень драгоценна, но видеть молодую женщину, готовую к деторождению и занятую мужским трудом, всегда будет жалко. Видеть такую женщину — всё равно, что видеть драгоценный чернозем, засыпанный щебнем для плаца или гулянья. Еще жалче: потому что земля эта могла бы родить только хлеб, а женщина могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет, — человека. И только она одна может это сделать.
УЧЕНИЕ 12-ти АПОСТОЛОВ.
«Учение 12-ти апостолов» есть древняя рукопись, найденная недавно в старинном сборнике. Эта рукопись известна была древним отцам церкви Афанасию, Евсевию и др., которые знали ее и упоминали о ней в своих писаниях, но сама рукопись была затеряна.
В 1883 году митрополит греческий Бриений, живущий в Константинополе, открыл это «учение» в старинной рукописи и напечатал ее.
Учение это есть самое древнее изложение проповедей Иисуса Христа. Оно было написано тогда, когда еще были живы люди, слышавшие самого Христа.
Учение это разделяется на две части: одна старинная, от 1 до 6 главы, а другая, после приписанная, от 6 до последней главы. Последние главы касаются устройства жизни учеников Христа; в первых же пяти главах записано учение Христа людям, то самое, которое записано в 5, 6 и 7 главах Евангелия Матѳея, то, которое Христос говорил с горы всем простым людям для того, чтобы они узнали это учение и могли спастись им. Это учение есть та самая благая весть, которую Христос завещал ученикам проповедывать народам, та самая, про которую он сказал ученикам (Mp. XVI, 15): «Идите и проповедуйте благую весть всей твари».
УЧЕНИЕ ГОСПОДА, ПРЕПОДАННОЕ НАРОДАМ 12-ью АПОСТОЛАМИ.
Есть два пути: путь жизни и путь смерти. И разница великая между этими двумя путями. Путь жизни такой:
Во-первых, люби Бога, создавшего тебя.
Во-вторых, ближнего своего, как самого себя, и потому не делай другому всего того, чего не хочешь чтобы тебе сделали.
Учение этих двух слов такое.
1.
Первая заповедь учения: люби Бога, создавшего тебя.
Благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших, за нападающих на вас и поститесь за тех, которые обижают вас, потому что — то не добро, чтобы любить только тех, которые любят вас. То же делают и язычники. Они любят своих и ненавидят врагов, и потому у них есть враги. Вы же любите ненавидящих вас, и тогда не будет у вас врагов.
Берегись телесных и мирских побуждений.
Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Если кто принудит тебя пройти с ним одну версту, иди с ним две. Если кто возьмет у тебя кафтан твой, отдай и рубаху. Если кто взял у тебя твое, не выворачивай назад, потому что этого нельзя делать. А всякому просящему у тебя дай и не требуй назад, потому что Отец хочет, чтобы у каждого было то свое, которое Он дал всем людям. Блажен тот, кто по заповеди дает: тот прав; но горе тому, кто берет, потому что прав только тот, кто берет по нужде; тот же, кто берет без нужды, должен дать отчет, почему и для чего он взял. Кто пойман в сети маммона, тот будет мучим за то, что он сделал, и не высвободится из них до тех пор, пока не отдаст последнее. Об этом-то сказано: «пусть милосердие твое выходит пòтом из рук твоих, покуда ты еще и не знаешь, кому ты дашь».
2.
Вторая заповедь учения: люби ближнего, как самого себя, т. е. не делай другому того, чего не хочешь чтобы с тобою сделали.
Не убивай, не прелюбодействуй, не оскверняй детей, не распутничай, не крадь, не колдуй, не отравляй, не умерщвляй младенца в утробе матери и рожденного не убивай, не желай иметь того, что у ближнего твоего, не клянись, не лжесвидетельствуй, не сквернословь, не скверномысли, не будь двумыслен, ни двуязычен — двуязычие есть сеть смерти. Чтобы твое слово было ни лживо, ни пусто, но всегда полно дела; не будь ни алчным, ни хищным, ни лицемером, ни угрюмым, ни гордым. Не держи зла на ближнего своего, не ненавидь никакого человека, но одних обличай, за других молись, а иных люби более души своей.
3. Соблазны, ведущие на путь смерти.
Чадо мое! Избегай всякого зла и всего того, что похоже на него. Не входи в гнев, гнев ведет к убийству; не входи в задор, в споры, в горячность — от всего этого бывают убийства. Чадо мое! Избегай похоти, похоть ведет к распутству; не сквернословь и не озирайся на то, чего тебе не нужно видеть; это ведет к прелюбодеяниям. Чадо мое! Не ворожи, потому что это ведет к идолопоклонству; не волхвуй, не чернокнижничай, не делай заговоров и не присутствуй при подобных делах, потому что это идолопоклонство. Чадо мое! Не будь обманщиком, потому что обман приводит к воровству; не будь корыстолюбив и тщеславен; и это доводит до воровства. Чадо мое! Не будь недовольным: недовольство ведет к ругательству; не будь самодовольным и осуждающим, потому что и это ведет к ругательству; будь кроток, потому что кроткие наследуют землю; будь терпелив, милостив и незлобив, и смирен, и добр и со страхом при всяком случае вспоминай слова эти, которые ты слышал. Не возвышай сам себя и не допускай самоуверенность в сердце свое. Сердце твое чтоб не лежало к высоким и сильным; но пусть прилепляется оно к праведным и смиренным. Всё же, что случается с тобою, принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает.
4. Руководство на пути жизни.
Чадо мое! И днем и ночью вспоминай того, кто учит тебя слову Божию, и почитай его как Господа, потому что Господь там, откуда ты узнал про него. Всегда отыскивай святых людей и общайся с ними, чтобы в словах их находить успокоение душе своей. Не желай разделения между людьми, но примиряй враждующих. Рассуживай их по правде и, не взирая на лица, уличай их в грехах. Не двоедушничай и не говори: можно так, можно и этак. Не протягивай руку, когда приходится брать, и не сжимай ее, когда приходится давать. То, что ты заработал руками своими, давай, как выкуп за грехи свои. Не раздумывай давать и, когда дал, не жалей, потому что ты узнаешь, в чем лучшая награда за добро твое. Не отворачивайся от нуждающегося, но пусть всё то, что есть у тебя, будет общим с братом твоим, и не называй ничего своей собственностью, потому что если то, что бессмертно, всё у вас общее, то тем паче должно быть общим между вами всё тленное. Не переставай руководить сына своего или дочь свою, но от юности учи их страху Божию. Не повелевай рабу пли служанке. Они веруют тому же Богу, как ты. А то как бы от огорчения они не перестали бы бояться того Бога, который над вами обоими, потому что приходится повелевать не по лицам, а тому, кого назначил Дух. Вы же, рабы, повинуйтесь господам нашим,7 как образу Божию в почтении и страхе. Ненавидь всякое лицемерие и всё, что не угодно Богу. Не оставляй заповедей Господа, но храни те, которые получил, ничего не прибавляя и не откидывая. Среди верующих кайся в грехах своих и не думай молиться, пока у тебя есть зло на сердце. Таков путь жизни.
5. Путь смерти.
Путь же смерти такой: прежде всего он бедственен и полон мерзостей. Убийства, прелюбодеяния, похоти, распутство, воровство, идолопоклонство, колдовство, отравление, грабежи, обманы, лицемерие, двоедушие, хитрость, гордость, злоба, самоуверенность, алчность, сквернословие, зависть, дерзость, высокоумие, тщеславие, гонители добрых, ненавистники истины, любители лжи, не признающие награды за праведность, не прилепляющиеся к добру и не знающие правильного суждения, те, которые заботятся и хлопочут не о добром, а о злом, не знающие кротости и терпения, любители пустяков, искатели мирских наград, не жалеющие нищего, не трудящиеся для утружденного, не знающие того, кто создал их самих, убийцы и соблазнители детей, погубители образа Божия, отвращающиеся от нуждающегося и домучивающие трудом измученного, утешители богатых и беззаконные судьи бедных, — кругом и во всем грешники. Берегитесь, чада мои, таких людей!
6. Посильное исполнение учения.
Смотри, чтобы кто-нибудь не сбил тебя с этого пути учения. Берегись того, кто будет сбивать тебя с этого пути, так как он учит не по-Божьи, потому что, если ты можешь понести всё иго Господне, то будешь совершен, а если не можешь, то делай то, что можешь, и в пище понеси то, что можешь; только воздерживайся от идолопоклонства, потому что это есть служение богам мертвых.
7. Об омовении.
Что же касается до омовения, то омывайте так: наперед скажите тому, кого омываете, всё то, что тут сказано, и потом омывайте во имя Отца и Сына и Святого Духа в воде проточной. Если же не имеешь воды проточной, то омывай в другой воде; если же не можешь в холодной, то омывай в теплой; если нет ни той, ни другой, облей три раза водой голову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед омовением же пусть постится тот, которого будут омывать, и тот, который будет омывать, и другие, если могут. Тому же, кого омывать будешь, прикажи поститься за день или за два.
8. О посте и молитве.
Посты же ваши да не будут в один день с лицемерами, а они постятся в понедельник и четверг. Вы же поститесь в среду и пятницу.
И не молитесь, как лицемеры, но как повелел Господь в благовествовании своем. Молитесь так: «Отец наш, тот, что на небе! Да будет свято Твое имя! Да наступит царство Твое! Да совершится желание Твое, как на небе, так и на земле. Дай нам пищу достаточную на день, и прости нам то, в чем мы виноваты пред Тобою, так, как и мы прощаем тем, кто виноват перед нами; и не введи нас во искушение, но избави нас от зла, потому что Твоя и сила и слава во веки». Так молитесь три раза в день.
9. Молитва пред пищей и питьем.
Что же касается до благодарности за пищу, то прежде пищи благодарите так, сперва о питье: «Благодарим Тебя, Отец наш, за святой виноград Давида, отрока Твоего, который Ты открыл нам чрез Иисуса, отрока Твоего, Тебе слава во веки». А об еде благодарите так: «Благодарим Тебя, Отец наш, за жизнь и разум, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава во веки! Как этот преломленный хлеб был рассеян в зернах на холмах и соединен воедино, так да соберутся избранные Твои с концов земли в царство Твое, потому что Твоя есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки».
Но пусть никто не ест и не пьет от вашей трапезы, кроме омытых во имя Господне, потому что об этом-то сказал Господь: «Не давайте святыни псам».
10. Молитва после пищи и питья.
После того как насытились, благодарите так: «Благодарим Тебя, святой Отец, за святое Твое имя, которое Ты вселил в сердцах наших, и за разум, и веру, и бессмертие, которые Ты открыл нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава во веки. Ты, Владыко вседержитель, сотворил всё ради имени Твоего; пищу же и питье Ты дал людям в наслаждение, дабы они благодарили Тебя, а нам пожалуй духовную пищу и питье, и жизнь вечную через отрока Твоего. Прежде всего благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки. — Помяни, Господи, избранных Твоих, чтобы избавить их от всякого зла и сделать их совершенными в любви Твоей. И собери их от четырех ветров освященными в царство Твое, которое Ты уготовил им, потому что Твоя есть сила и слава во веки. Да царствует милосердие и любовь, и да погибнет устройство мира сего, Осанна сыну Давидову! Кто свят, да приступит, кто же не свят, тот пусть покается. Маром афа! Аминь».
Пророкам же прикажите благодарить, как хотят.
11. Об апостолах.
Если кто, пришедши к вам, станет учить вас тому, что сказано перед этим, того примите. Если же сам учитель сбился и учит такому учению, чтобы разрешать от того, что здесь сказано, того не слушайте. Если же он учит тому, чтобы еще увеличить праведность и знание Господа, то примите его, как Господа.
Относительно же апостолов и пророков по постановлению благовествования поступайте так: всякого апостола, приходящего к вам, примите, как Господа. Но он пусть не остается у вас долее одного дня; по нужде же может пробыть и другой день; но если он пробудет три дня, он лжепророк. Апостол, когда идет в путь, не должен ничего брать, кроме хлеба до ночлега; если же он просит денег, он лжепророк. Всякого пророка, говорящего духовное, не допытывайте и не пересуживайте, потому что всякий грех прощается, но этот грех не простится. Хотя не всякий, говорящий о духовном, есть истинный пророк, но тот, кто имеет обычай Господа. По обычаю узнается лжепророк от пророка. Всякий пророк, учреждающий трапезу духовную и не вкушающий от нее, — лжепророк. Каждый пророк, поучающий истине, не делающий того, чему учит, — лжепророк. Всякий же пророк испытанный, истинный, поступающий по мирскому учению избранных, делающий еще что-либо сверх этого и не учащий всех делать то же, не должен быть судим вами, потому что он имеет суд у Бога. Так поступали и древние пророки. Если кто, говоря о духовном, скажет: дай мне денег или другого чего-либо, не слушайте его; но если он скажет: давайте нуждающимся, то его нельзя осудить.
12. О странниках.
Всякий, приходящий во имя Господне, должен быть принят; но после этого обсудите и познайте его, потому что вы должны различать правое и ложное. Если приходящий — странник, то помогите ему, сколько можете; но он пусть не остается у вас долее двух или трех дней, если это нужно. Но если он ремесленник и желает поселиться у вас, то пусть работает и ест. Если же он не знает ремесла, то позаботьтесь о нем по вашему усмотрению так, чтобы христианин не жил среди вас праздно. А если он не желает так поступать, то он христопродавец. Берегитесь таких.
13. О пророках.
Всякий истинный пророк, если хочет поселиться у вас, достоин своего пропитания. Истинный учитель, как всякий работник, достоин своего пропитания. Поэтому, взявши каждый начаток из точила и гумна, а также волов и овец, дай пророкам, ибо они ваши первосвященники. Но если не имеете пророка, то дайте нищим. Если ты приготовил пищу, то взявши начаток, отдай его по заповеди; точно так же, если ты откроешь сосуд вина или елея, то взявши начаток, отдай пророкам. Или из денег, или одежды, или какого имения, как тебе покажется, отдай по заповеди.8
14. О собраниях.
В день Господень, собравшись вместе, ешьте и благодарите, исповедавши прежде грехи свои, дабы чиста была ваша жертва. Тот, кто в ссоре с товарищем своим, тот пусть не сходится с вами до тех пор, пока не примирится с ним, чтобы не осквернена была жертва ваша; ибо так сказал Господь: «На всяком месте и во всякое время должно приносить мне жертву чистую, ибо я царь великий, — говорит Господь, — и мое имя чудно у народов».
15. О соблюдении порядка в общине.
Поставляйте себе надзирателей и служителей, достойных Господа, мужей кротких и не сребролюбивых, праведных и испытанных, потому что они исполняют для вас служение пророков и учителей Господа. Поэтому не пренебрегайте ими: ибо они должны почитаться вами вместе с пророками и учителями. Обличайте друг друга не во гневе, но в мире, как это сказано в благовествовании; и со всяким, кто дурно поступил с ближним своим, пусть никто не говорит. И не услышит он слова от вас, пока не покается. Молитвы же ваши, милостыне? и все дела творите так, как сказано в благовествовании Господа нашего.
16. Ожидание пришествия Господа.
Не засыпайте в ЖИЗНИ своей, чтобы светильники ваши не были потушены и чресла не были распоясаны, но будьте готовыми, ибо вы не знаете часа, в который приходит Господь наш. Часто сходитесь вместе, заботясь о том, что нужно душам вашим, потому что всё время веры вашей не попользует вам, если не будете совершенны в последний час, потому что в последние дни умножатся лжепророки и губители, и овцы превратятся в волков, и любовь превратится в ненависть. Потому что когда возрастает беззаконие, возненавидят друг друга и будут гнать,, предавать, и тогда явится искуситель мира, как Сын Божий,, и сотворит знамения и чудеса; и земля будет предана в руки его, и сотворит беззакония, каких нигде не было от века. Тогда тварь человеческая пойдет в огонь испытания, и соблазнятся многие и погибнут; но пребывшие в вере своей будут спасены от проклятия его. И тогда явятся знамения истины: во-первых, знамение отверзтия неба, потом знамение звука трубного и третье — воскресение мертвых. Однако же это не всё, но как сказано: «прийдет Господь и все святые с ним». Тогда увидит мир Господа, грядущего на облаках небесных.
————
В этом древнем учении сказано всё то, что нужно каждому человеку для познания истины Христовой и спасения души своей.
Учение это не длинно и не мудрено, и всякий может прочесть его, и всякий может понять его, и всякий может исполнить его. Христос сказал (Лк. X, 21): «Славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Сказано еще (Мф. XI, 28—30): «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Еще сказано (Іоан. VII, 37): «Кто жаждет иди ко мне и пей».
И вот оно, то учение, которое открыто младенцам, то благое иГО и легкое бремя, к которому он призывает нас, тот ключ воды живой, к которому всякий может прийти. Это то самое учение, которое проповедано Христом на горе и записано в 5-й, 6-й и 7-й главах Матфея и называется обыкновенно нагорной проповедью. Всё, что нужно для спасения своей души, есть в этом учении, и миллионы и миллионы христиан спаслись и спасаются, и весь мир спасается им.
Христос сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь». Он сказал еще (Мф. VII, 13, 14): «Входите тесными вратами; широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; но тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят его».
И учение начинается с того, что Христос показывает среди всех широких путей, ведущих в погибель, единый узкий путь истины, ведущий к жизни.
Узкий путь истины, ведущий в жизнь, — в том, чтобы любить Бога и ближнего.
Широкий путь — путь лжи, ведущий к смерти; это — все те пути, по которым идут люди без любви к Богу и ближнему.
Путь жизни — в двух заповедях: в любви к Богу и ближнему.
В первой главе говорится о первой заповеди — о любви к Богу. Любовь к Богу — в любви ко всем людям, как и сказано в другом месте, что Бог есть любовь. Она заключается в том, чтобы любить не одних своих близких, но и тех, которых мы не знаем, любить и любящих и ненавидящих нас; и потому не только не брать от людей ничего, кроме того, в чем мы имеем нужду, но и отдавать другим людям всё, что мы имеем, и весь труд свой, не зная даже, для кого мы трудились. Это есть учение первой заповеди — любви к Богу.
Во второй главе говорится о второй заповеди — о любви к ближнему, о которой сказано в другом месте, что она подобна первой. Любовь к ближнему заключается в том, чтобы не делать ближнему того, чего себе не хочешь. Не убивать, не бесчестить детей и женщин, не воровать, не ругать, не лгать, не отнимать и не удерживать от других никакого имущества и потому одних, заблудших, увещевать, за других, слабых, молиться, а третьих, добрых, любить больше, чем душу свою. Это есть учение второй заповеди о любви к ближнему.
В третьей главе говорится о соблазнах. Соблазны заключаются в тех делах, которые ведут к грехам против любви к Богу и ближнему. Грехов этих перечислено пять: убийство, разврат, идолопоклонство, воровство, ругательства; и указываются те соблазны, которые ведут к грехам этим. Гнев, задор, спор — ведут к убийствам; искание наслаждений, сквернословие, созерцание чужих грехов — ведут к распутству; гадания, вызывания духов, праздное мудрование — ведут к идолопоклонству; ложь, зависть, корысть, тщеславие — ведут к воровству; самоуверенность, недовольство и гордость — ведут к ругательствам. Это — учение о соблазнах.
В четвертой главе говорится о том, чем может подкрепить себя человек на пути жизни. И средств для подкрепления человека на пути жизни перечислено пять: внимание к слову Божию, общение со святыми, мирное житие с людьми, отречение от собственности и непризнание над собою и над другими никакой другой власти, кроме той, которую дает дух истины. Это — учение о подкреплении сил на пути жизни.
В пятой главе говорится о том мире людей, которые живут вне заповедей Бога и идут по пути смерти. Люди эти страдают, мучают других и всё идут к смерти. Это — учение о том, что ждет человека на пути смерти.
Остальные 11 глав говорят о подробностях устройства христианской общины. Но уже в этих пяти первых главах изложено всё учение, нужное для спасения души каждого человека. Учение этих пяти глав просто и понятно.
Христос показывает нам путь спасения и путь погибели и, кроме того, указывает то, чего мы не должны делать, и то, что должны делать, чтобы нам легко было итти по пути его. Христос, давая нам направление пути, указывает нам на те обманы, которые могут сбить нас с него, и, кроме того, научает нас тому, что может поддержать нас. Он поступает с нами, как поступил бы добрый отец, посылая сына своего в дорогу. Прежде всего отец сказал бы сыну: итти тебе надо прямо по дороге, ведущей туда, где тебе будет хорошо; но если не будешь итти прямо по дороге, то пропадешь. И вот, чтобы тебе не сбиваться с ней, днем иди на солнце, а ночью на звезду, которую я указываю тебе. Но отец не удовольствовался этим, он любит сына и боится, чтоб он не сбился, и потому еще сказал ему: когда будешь итти, придет тебе одна повертка направо, не поворачивай по ней; потом придет перекресток, иди по средней; потом придет повертка влево, не ходи по ней; потом придут развилки, иди по левой. Так отец рассказал сыну вперед всю дорогу. Но мало и этого: отец еще дал сыну посох и суму, чтобы он мог опираться и питаться дорогой, и тогда только отправил его.
То же и с нами сделал Христос. Он прежде всего показал нам тот путь, который приведет нас, как солнце, — любовь к Богу, и как звезда, — любовь к ближнему, и велел нам держаться на них; потом подробно показал нам все те повертки, которые могут сбить нас. Он сказал: придет гнев, задор — остановись и одумайся: это одна из поверток, которая может увести тебя с пути жизни; не ходи по ней, а иди прямо. Придет похоть, — это другая повертка, опять одумайся и не иди по ложному пути. Придет тщеславие, корысть, — знай, что и это ложные пути.
Но мало и этого. Христос, кроме этих указаний, дает нам и подкрепление на пути нашем, дает нам хлеб и посох на дорогу. Он учит нас тому, что может поддержать нас на пути нашем, дает нам пищу и опору в слове Божьем, в общении со святыми, в установлении мира между людьми, в отречении от собственности, в освобождении от всякого господства, кроме господства истины.
Христос знал нашу слабость и сделал всё для того, чтобы мы с нашей слабостью могли итти по пути его. Учение его таково, что, понимая его, нам нельзя отговариваться своею слабостию. Если мы верим тому, что все пути помимо пути Христова ведут к смерти, нам уже нельзя говорить, что мы желали бы итти по пути жизни, но не можем итти по нем; не можем и отговариваться незнанием пути: всё, что нужно нам для того, чтобы не сбиваться с пути и итти по нем, дано нам. И если мы скажем, что мы слабы и не можем итти за Христом, то Христос ответит нам: да я для слабости-то вашей и указал вам вперед все те повертки, которые могут сбить вас, и научил вас, как поступать, и для слабости вашей дал вам в дорогу всё то, что может подкрепить вас. Что же вы не останавливаетесь там, где я сказал вам останавливаться и вспоминать мои слова? Что же вы не берете с собою в дорогу всё то, что я сказал вам, что оно подкрепит вас?
Что скажет отец тому сыну, которого он направил в путь, снабдив его и указаниями и пищей, когда найдет сына своего заблудшим совсем в другой стороне? Он наверное пожалеет его и опять выведет на дорогу и опять даст указания, как итти; и опять те же самые, потому что других нет; но он не будет слушать отговорок сына о том, что он заблудился потому, что ему трудно было помнить все указания, данные для пути, потому что человеку, которого одно дело итти, не может быть трудно помнить о том, куда он идет. Если же он говорит, что забыл, куда он идет, и всё-таки идет, то он лицемер или безумный. И мы лицемеры или безумные, если говорим, что верим Христу, и не идем по пути его.
Христос показал нам путь освобождения от смерти и ждет нас на пути этом. И если мы верим ему, то мы пойдем по нем. А если пойдем по нем, то, как и сказал он нам, узнаем, что иго его благо и бремя легко, и выйдем на путь жизни и придем к нему.
**** ГРЕЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ СОКРАТ.
I. Сократ хочет узнать, как людям жить надо, и слышит в своей душе голос.
Сократ родился в Греции, в городе Афинах. Отец Сократа был рабочий, каменотес, а мать повивальная бабка. От этого-то Сократ и говаривал часто, что мать его была бабушка, — помогала людям рожаться, и он то же делает, только помогает не людям, а мыслям людским рожаться.
Отец Сократа учил его своему мастерству, посылал и в училище учиться грамоте и другим наукам. В Афинах все были грамотные, и было много разных училищ. Были самые бедные училища, где дети учились на дворе и буквы выводили палочками на песке. Были училища побогаче, где учились грамоте, черчению, счету и читали стихи. Были училища и самые высокие, где ученики обучались всему тому, что знали в то время греки.
Сократ был смолоду понятлив и охоч до ученья, и отец отдал его в высшее училище. И выучился Сократ в училище всем наукам и прочел сочинения всех лучших греческих писателей.
Кончил Сократ науку и вернулся к отцу и опять стал работать своим ремеслом, камни тесать. Работал Сократ хорошо, но за работой часто задумывался. Задумывался Сократ о том, что прошел он все науки и узнал всё то, чему учили людей, и ничего-то он не узнал того, что ему и другим людям знать нужно было.
«Надо, — думал Сократ, — дойти и понять, как жить человеку. А то учимся мы все много, и нет нам от нашего ученья прока. Хоть мы бы все звезды узнали и все камни в море учли и всех тому же научили, что я знаю, житье наше не стало бы от этого лучше. Все мы, люди, хлопочем, ищем каждый себе добра, а разберешь дело — мы вместо добра себе зло готовим. И не знает никто из нас, в чем настоящее добро для человека. Вот я учился, учился, а спроси меня, как человеку жить надо, — я и не знаю. А это одно нужно знать человеку. Только и пользы от моего ученья, что я узнал, что ученье всё наше пустое. Прежде, до ученья моего, я думал, что я что-нибудь знаю, а теперь верно знаю, что ничего не знаю. Только и проку от моего ученья, что я знаю теперь то, что я ничего не знаю. Учили меня про богов, что они создали людей и награждают их, если люди живут по их наказу, и казнят их, если люди не то делают, что велят боги. Но чего же хотят от нас боги и как они велят нам жить?»
И стал припоминать Сократ всё, чему учили его про богов. Богов почиталось у греков много. Один бог неба считался главным; другой считался богом морей; третий — богом ветров; четвертый — богом солнца; пятый — богом войны; шестой — богом веселья; седьмой — богом смерти.
Были и богини; была богиня мудрости, богиня вражды, богиня земледелия, богиня рукоделия и еще много других богинь. Писано было про богов, что живут они на небе, как люди на земле, и женятся, и блудят, и ссорятся, и плутуют, и воюют. Про главного бога Зевса учили, что он был силен и страшен: кто ему угождал, тому он давал во всем удачу, а на кого гневался, на того пускал молнию и убивал. И так представлен был Зевс в храме из камня, как большой, здоровый старик, с молнией в руке.
Начал же царствовать на небе Зевс с того, что сбросил с неба родного отца своего — Ад. Вспомнил это Сократ, вспомнил и о том, что учили про Зевса, как он с своей женой ссорился и обманывал ее, как напивался до-пьяна небесным напитком и как его тогда обманывали другие боги и даже люди. И понял Сократ, что если и есть такой Зевс, то Зевс этот не знает, как жить надо, так и от него заняться нечем.
После Зевса в почете была еще богиня Афина, — в честь ее и был назван город. Была такая кукла большая высечена из камня и поставлена на главной площади. На голове у нее был большой шлем и в руке было золотое копье. Учили про эту богиню, что она научила народ мудрости. И стал припоминать Сократ всё что учили про нее. И тоже, когда он разобрал дело, то увидел, что и от этой богини выучиться нечему. По рассказам была эта Афина хитрая и жестокая, помогала своим любимцам, а другим вредила без вины. И учили еще, что Афина эта узнала раз, что одна девушка гречанка прядет и ткет не хуже ее самой, то так раздосадовалась на девушку-мастерицу, что обернула ее в паука и велела ей век прясть.
Про других богов учили про такие же плохие дела.
Назывались боги богами, а дела их были человеческие, да еще часто плохие.
И подумал Сократ: «Нет! эти боги не настоящие, и через них не узнаешь, как человеку жить. Эти боги такие же слабые, как и мы, люди, они сами поступают не по правде, от них не научишься отличать добро от зла. А настоящий Бог должен быть праведен и научить человека, как ему жить».
И стал искать Сократ такого Бога. Не год и не два мучился Сократ, и не давали ему его мысли покоя ни днем, ни ночью. Но пришло время, и открылось Сократу то, чего он искал. Узнал он того Бога, которого искал и которого не знали греки, и нашел он Его ни где-нибудь, а в своей совести.
Пока искал Сократ этого Бога праведного, случалось с ним не раз и не два, и ночью и днем, когда задумается Сократ и хочет такое или другое дело сделать, вдруг слышит голос у себя в душе. Если хорошее, голос говорит: «делай, Сократ»; если дурное, голос говорит: «не делай, Сократ». И привык Сократ прислушиваться к этому голосу. И голос всё чаще и чаще говорил Сократу. И всё, что он говорил Сократу, была правда.
И подумал Сократ: «Если хорошее голос говорит, кто это говорит мне? Не я сам, а кто-то другой, — кто ж это? Голос этот всегда говорит правду. Научает он меня жить праведно, и потому знаю, что это голос Божий».
И голос этот стал Сократ называть Богом. И голос этот открыл Сократу то, что он хотел знать, — то, как надо жить людям.
И когда Сократ узнал этого Бога, то увидал он, что узнать этого Бога может каждый человек и, так же как и он, узнать от этого Бога, как жить надо.
И сказал себе Сократ: «Дело это великое; если я узнал правду и добро, то надо мне этому и других учить, чтобы и им было хорошо».
Когда Сократ дошел до этого, отец его уже помер, и был он сам женат, и были у него дети. Когда он сказал своей жене то, что открылся ему голос Бога, то она не поверила ему. Когда же он сказал ей, что он это будет всем говорить и всех будет учить этому, то она стала его отговаривать. «Не делай, — говорит, — этого. Бросишь ты мастерство, станешь учить народ — только беды наживешь, да и мне с детьми жить плохо будет. Брось ты эти затеи, и без тебя учителей довольно».
Но не послушался жены Сократ. Видел он, что народ вокруг него бедствует и мучится всё оттого, что не знает, как жить, и что если он знает это, ему нельзя это про себя таить. Так и голос Божий говорил ему.
В самые старинные времена до Сократа греки жили хорошо. Земля у них была теплая и плодородная. Они всё сами работали: пахали, сеяли, сады разводили, водили пчел и скотину. И богатых, и бедных, и господ, и рабов у них не было, а все жили равно. Потом стали греки воевать, стали обижать соседей. На войне захватывали добычу, и золото, и серебро, и вещи всякие, и скот, и людей забирали в плен и держали в рабстве. Стали от войны греки богатеть, и стала их жизнь портиться. Кто посмелее, тот военным делом занимался. Кто поумней, тот в управление, в начальство попадал. Кто поизворотливей, тот стал заниматься торговлей. А от черной работы греки совсем отстали, и никто из них ничего не работал.
Во времена Сократа в Афинской земле рабов было больше, чем господ: господ сто тысяч, а рабов триста пятьдесят тысяч. Всякую работу делали рабы, так что греки-господа за стыд считали заниматься каким-нибудь ручным делом. Вся забота господ была в том, как бы торговлей, или войной, или в начальстве побольше нажить денег и накупить себе сильных и искусных рабов и рабынь и жить в свое удовольствие.
И жили так греки и избаловались совсем, и никто из них не думал о том, чтобы жить по правде, помочь брату, пожалеть раба и послужить другому, а все думали только о том, как бы нагнуть другого да на нем ехать.
И видел Сократ, что заблудился народ и что сами себя губят, и выходил Сократ на площадь и при всяком случае говорил им то, что ему говорил голос, — что жизнь их дурная и что не так жить надо.
II. Как жить надо?
Встретил раз Сократ на площади молодого господина, богача, — звали его Аристон. Аристон был человек не глупый и не злой, но жил, как все богатые греки — не принимался ни за какое дело, а жил только в свое удовольствие.
Встретил его раз Сократ и стал с ним говорить. Подошел народ и стал слушать. Сократ и говорит:
— Здравствуй, Аристон! Что давно не видать тебя? Верно, ты работой какой занят, тебе и некогда шляться, как нам?
— Нет, — говорит, — я никакой работой не занят. Да и на что мне работать? И нечего и незачем. Мне и так хорошо. Я ведь не бедняк какой-нибудь, а человек достаточный, слава богам! Какая же мне неволя работать или хлопотать? Вот нешто в начальство, если бы выбрали, пожалуй, из чести и пошел бы. Да и то навряд. Возьмешь должность какую-нибудь — всё забота. Хочешь, не хочешь — иди, слушай, говори или пиши. Всё это докука лишняя. Из чего мне себя неволить? Деньги у меня есть, рабы есть, что ни вздумаю, то будет у меня. Живу весело, чего же мне еще?
— Это точно, что неволи тебе нет, — сказал Сократ, — да только хорошо ли будет, если ты весь век так проживешь?
— А отчего же нехорошо? Чего же еще лучше, как весь век в удовольствиях прожить?
— То-то, хорошо ли будет? — сказал Сократ. — Не всё то всегда хорошо, что нам хорошим кажется. Слыхал ли ты о Геркулесе?
— Кто не знает о Геркулесе, какой он богатырь был и какие дела славные делал и какую славу заслужил, — сказал Аристон.
— Ну, а слыхал ты, как он путь жизни выбирал? — сказал Сократ.
— Этого не слыхал.
— А не слыхал, так я расскажу тебе, — сказал Сократ. — Рассказать, что ли?
— Расскажи, Сократ, — сказали другие.
И Сократ стал рассказывать:
— Вот видишь ли: когда Геркулес вырос, задумался он над тем, какую ему избрать жизнь. И пошел он прогуляться и всё с собой думает: что ему делать и как жить? И вот шел он, шел и зашел далеко в поле и видит: откуда ни возьмись, в чистом поле идут к нему навстречу две женщины. Подивился Геркулес и пошел сам к ним навстречу. Видит: одна ни большая, ни маленькая, ни толстая, ни худая, ни нарядная, ни замаранная, а простая и неприметная, идет ровно, тихо, не торопится, а другая — высокая, толстая, в пышном платье, набеленная и нарумяненная. Неприметная шла прямо и не оглядывалась по сторонам. Нарядная же подергивалась, охорашивалась и всё оглядывалась, на тень свою смотрела. Вот стали они подходить к Геркулесу, нарядная подпрыгнула и выскочила вперед и прямо к Геркулесу.
— Знаю я, — говорит, — что раздумываешь ты о жизни: какую тебе жизнь избрать и по какой дороге итти? Вот я и вышла показать тебе самую лучшую мою дорогу. Пойдешь со мной, всё тебе легко и весело будет. Не будет у тебя ни трудов, ни заботы, ни печали. Печали тебе никакой не будет, веселье на моей дороге никогда не будет перемежаться, — от одного веселья будешь переходить в другое, забота только та и будет, что выбирать: какое сладкое кушанье слаще, какое вино вкуснее, какая постель мягче, какое веселье веселее. А трудов только и будет, что приказать то, что тебе вздумается. Всё, что прикажешь, другие тебе и сделают.
Хорошо показалось Геркулесу обещание толстой женщины и, чтобы запомнить ее, спросил, как ее имя.
— Имя мое настоящее, — сказала женщина, — Счастье. Ненавистники только по злобе называют меня Роскошью. Так дразнят меня. Имя же мне — Счастье.
Неприметная женщина стояла тихо, пока говорила нарядная; но когда она кончила, неприметная тоже заговорила и сказала:
— Прежде всего я скажу свое имя; зовут меня — Праведность, и нет мне другого имени. Не стану тебя заманивать соблазнами, как вот эта, а скажу тебе прямо, в чем благо всякого человека. Ты увидишь, что только со мной и найдешь благо. Ведь ты сам знаешь, что для того, чтобы земля родила, надо над ней потрудиться; хочешь, чтобы скотина была, надо за ней походить; [чтобы] дом хороший был, надо камни тесать и ворочать; хочешь, чтобы люди почитали тебя, надо трудиться для них; чтобы боги любили тебя, надо делать их волю. А воля их в том, чтобы трудами своими заплатить за труды других. По этой дороге я поведу тебя, и на этой дороге только есть благо.
Еще не договорила неприметная, как нарядная опять выскочила вперед.
— Видишь ли, — говорит, — Геркулес, на какую трудную дорогу она хочет увести тебя. Труды, труды и труды только она и обещает тебе. А радость-то будет или нет, — не лучше ли итти со мной? Со мной не будет трудов, а с первых шагов будут только услады. Будешь сладко есть, вкусно пить, мягко спать. Пойдем со мной, — сказала нарядная и хотела взять Геркулеса за руку.
— Погоди, — сказала неприметная. — Ты говоришь: сладко есть и пить; и думаешь, что это добро, но ты и есть-то и пить не умеешь. Ты и ешь-то и пьешь-то не во-время, не тогда, когда есть и пить хочется, а от скуки. И тебе самые редкие кушанья и дорогие вина в рот не идут. Ты обещаешь ему спать сладко, да ты и спать-то не умеешь; ты, чтобы заснуть, подкладываешь под себя мягкие перины, подушки, но и на них заснуть не можешь, потому что ты ложишься спать от скуки. Заснешь хорошо только поработавши, а тебе не от чего отдыхать. Знаю я тебя и знаю тех несчастных, которых ты погубила своими соблазнами праздной и сладкой жизни. Мало ли их теперь на тебя плачется за то, что растратили беспутно с тобой молодые годы? За то-то и гонят тебя все честные люди и называют и Роскошью и Развратом. Я же не обманула никого из тех, кто пошел за мной. Все те, кто с молодых лет пошел за мной, все они окрепли душой и телом, все они нашли на пути моем больше радости, чем горя, всех их любят и почитают люди, все они радостно вспоминают прожитой трудовой век и спокойно ждут смерти. На тебя ропщут, а меня никто никогда не упрекал за обман, и все чтут меня и называют все одним именем — Праведность. Вот на какую жизнь зову я тебя, Геркулес!
Не стал более раздумывать Геркулес и пошел за Праведностью. Пошел за Праведностью в жизни и потрудился для людей и угодил людям и богам и себе нашел благо.
Кончил Сократ и говорит Аристону:
— Подумай и ты, Аристон, с кем из двух пойти — с Роскошью или с Праведностью. Решайся, пока есть время, чтобы на старости не каяться на свою глупость и не помереть, не угодив ни себе, ни людям, ни Богу.
III. Как надо управлять народом?
Услышал раз Сократ, что один богатый человек, звали его Главконом, добивается быть начальником. Сократ знал его, что он человек неопытный и беспечный, и захотел Сократ уличить его.
Встретил его раз Сократ на городской площади. Стоял Главкон посреди народа, и люди с почтением говорили с ним. Все ждали, что он скоро будет начальником, и тогда каждому до него нужда будет. Главкон ждал, что его выберут, и гордился перед народом. Подошел и Сократ.
— Здравствуй, Главкон! — сказал он. — Я слышал, что ты будешь у нас правителем.
— Да, надеюсь, что так, — ответил Главкон.
— Что ж, дело хорошее. Когда получишь должность, многое будет в твоей власти: можешь много людям добра сделать. И слава твоя далеко пройдет.
— Да отчего же и не так? — сказал Главкон. — Отчего же мне и не быть хорошим правителем?
— Хороший правитель тот, — сказал Сократ, — и слава про того хорошая, кто своему народу много пользы сделал. Не так ли?
— Разумеется, — отвечал Главкон.
— Так, пожалуйста, не скрывай, расскажи же нам: какую ты думаешь сделать пользу народу, с чего ты начнешь?
Главкон замешкался и не сразу ответил. Он не придумал, с чего начать. Пока он думал, Сократ сказал:
— Что же ты задумался, ведь нетрудно понять, чем народу пользу сделать. Народ ведь такие же люди, как и мы все. Если бы ты своему приятелю желал бы добро сделать, ведь первое дело, ты бы постарался ему богатства прибавить?
— Разумеется, — ответил Главкон.
— Ну, так ведь то же самое и с народом, — сказал Сократ. — Сделать добро народу — значит, чтобы все были богаче. Не так ли?
— Как же не так, — сказал Главкон.
— Ну, а как же сделать, чтобы весь народ был богаче? — спросил Сократ. — Я думаю так, чтобы у всякого народа было больше прихода и меньше расхода. Не так ли?
— Я думаю, — отвечал Главкон.
— Скажи же мне, Главкон, откуда теперь у народа доходы и сколько их? Ты, наверное, уж всё это знаешь.
Нет, я этого не знаю, — сказал Главкон, — не подумал еще об этом.
— Ну, об этом ты не подумал, — сказал Сократ, — так зато ты уж, верно, подумал, сколько на нужды надо расходов. И если теперь расходы лишние, ты верно придумал, как их скинуть.
— Нет, — сказал Главкон, — и на это ответить теперь не могу. Я и об этом еще не подумал.
— И об этом не подумал еще, — повторил Сократ. — Ну, что ж, еще успеешь. Ты, верно, всё думал о том, чем бы тебе обогатить народ? Что же ты об этом думал? Чем, ты думаешь, можно обогатить народ?
— Обогатить народ, — сказал Главкон, — я думаю, лучше всего войной. Завоевать другие народы и забрать у них всё богатство и поделить.
— Это верно, — сказал Сократ, — так короче всего обогатить народ, да только бывает и то, что не завоюешь чужие народы, а только потратишься напрасно на войну народом и деньгами, тогда ведь народ не разбогатеет, а обеднеет.
— Это так, — сказал Главкон, но войну надо начинать только тогда, когда верно знаешь, что ты победишь, а не тебя победят.
— Значит, чтобы начинать войну, надо верно знать силу своего народа и силу неприятеля? — сказал Сократ.
— Разумеется, надо знать, — сказал Главкон.
— Так скажи же мне, Главкон, какие у нас военные силы готовы для войны и какие силы у того неприятеля, с которым ты хочешь воевать?
— Верно не могу сказать этого, — сказал Главкон, — наизусть и не запомнить.
— Так у тебя, верно, есть записи, принеси их, пожалуйста, мы их прочтем, посчитаем, — сказал Сократ.
— Нет, записок у меня нет, — сказал Главкон, — да и неприятеля войска нельзя сосчитать.
— Это жалко, — сказал Сократ, — потому что если нельзя сосчитать неприятеля, да нельзя никак вперед узнать, мы ли завоюем или нас завоюют, так выходит, что твое средство обогатить народ не очень-то надежно. Обогатишь ли, нет ли — неизвестно; погубишь народа наверное много, да вместо богатства обеднеешь. Так это мы оставим, а скажи нам еще об одном, — сказал тогда Сократ. — Скажи нам, Главкон, сколько нужно хлеба на прокормление всего народа? Каков был у нас урожай в этом году, и станет ли у всех хлеба до новины? Ты, верно, обдумал это?
— Нет, я об этом еще не справлялся, — отвечал Главкон.
Замолчал Главкон, и все замолчали. Тогда Главкон сказал:
— Ты до всего так допытываешься, Сократ, что если всё так обдумывать и считать, как ты спрашиваешь, то управлять народом будет слишком трудно.
— А ты думал — легко? — сказал Сократ. — Спрошу тебя последнее: я слышал, ты начал помогать дяде в хозяйстве, а потом бросил. Отчего это случилось?
— Трудно было мне, — отвечал Главкон, — и хозяйство большое, и дядя меня не слушал.
— Вот видишь, ты с одним домом не управился, а целым народом берешься управлять. Браться-то можно за всякое дело, да удается оно только тому, кто его понимает. Смотри, чтобы вместо славы и почестей не нажить себе беды. Поди узнай прежде хорошенько всё, о чем я тебя спрашивал, и тогда уже думай об управлении.
Молча отошел Главкон от Сократа и перестал добиваться места управителя.
IV. Кто лучше — раб или господин?
Случилось раз, пришел к Сократу его сосед Аристарх и стал ему жаловаться на свою беду.
— Ума не приложу, как мне быть. Был я, — говорит, — богат, торговал, потом не задалась торговля — разорился. А тут еще на беду война, убили родных, пришлось взять к себе вдов и сирот. И собралось у меня теперь в доме четырнадцать душ. Каково всех прокормить! Беда к беде, и не знаю, как быть.
— Жаль мне тебя, друг, — сказал Сократ. — Как же ты думаешь теперь делу помочь?
— Хотел денег занять, опять торговлю начать, да не дают, потому знают, что дела плохи.
Покачал головой Сократ и говорит:
— Так-то так, четырнадцать душ кормить, надо припасти; да ведь вот у соседа твоего более двадцати душ, и ведь сыты. Да еще деньги наживают, — сказал Сократ.
— Вот сравнил! — сказал Аристарх. — У соседа он один, а девятнадцать душ рабов, у него рабы больше сработают, чем съедят. А у меня четырнадцать душ свободных греков.
— А свободные греки, — сказал Сократ, — чем отличаются от рабов? Ведь тем, что они лучше рабов?
— Конечно, лучше, то — свободные греки, а то — рабы.
— На словах точно выходит, — свободные лучше, — сказал Сократ, — а на деле-то не то; у соседа, говоришь, всё хорошо, потому что там рабы, а у тебя плохо, потому что не рабы, а свободные греки. Видно, рабы умеют работать, а свободные не умеют.
— И мои бы сумели, коли бы их заставить, — сказал Аристарх, — да не могу же я их заставлять работать! Ведь они знатного рода и родные мне, как их заставить работать? Обидишь их, начнутся попреки, недовольство, нельзя это.
— Ну а теперь у тебя нет попреков, недовольства? — спросил Сократ. — Все в согласии живете?
— Какое согласие! — отвечал Аристарх, — только и слышишь попреки да ссоры.
— Так вот что, — сказал Сократ, — и без работы у вас согласия нет и кормиться нечем. Ведь родных твоих знатность и благородство не кормят и согласие не дают. Так не сделать ли тебе вот что: не дать ли тебе им какую работу по силам? Не лучше ли будет, когда станут работать?
— Я бы сделал так, — сказал Аристарх, — да не понравится им это. Да и в городе меня, пожалуй, люди осудят.
— А теперь не осуждают? — спросил Сократ.
— И теперь есть добрые люди, осуждают за бедность; осуждают, а денег не дают, чтобы мне поправиться.
— То-то и есть! — сказал Сократ. — Так ведь всех пересудов не переслушаешь; а попытайся-ка, посади их за работу, может, лучше дело-то будет.
И послушался Аристарх Сократа. Через полгода встретил опять Сократ Аристарха и спросил, как живет. И говорит Аристарх:
— Хорошо живу и всё тебя благодарю. Послушался я тебя тогда и теперь совсем делами поправился. Поверил мне один человек шерсти в долг, домашние мои эту шерсть спряли, соткали сукна, потом нашили на продажу платья мужского и женского. Продали — не только за шерсть деньги выручили, а и барыши взяли. С тех пор стали этим делом заниматься, и все мы сыты, и ссор у нас нет, и деньги заводятся.
— А люди что говорят? — спросил Сократ.
— Да и люди не бранят, — отвечал Аристарх и засмеялся.
Увидал раз Сократ, лежит на площади развалясь молодой господин и обмахивается от жара.
— Отчего же это ты так уморился? — спросил его Сократ.
— Как не умориться, я нынче из деревни верст десять пешком прошел.
— Что ж уж очень уморился? Разве что тяжелое нес?
Молодой человек обиделся.
— Зачем я понесу? На то раб есть; он нес, что со мной было.
— А он что ж, уморился или нет?
— Что ему делается! Он здоровый, всю дорогу шел — песни пел, даром что с ношей.
— Жаль мне тебя, — сказал Сократ; — выходит, что твой раб и тебе и всякому человеку и себе служить может, а ты ни другим людям, ни себе даже служить не можешь.
Другой раз увидал Сократ, что один хозяин бьет плетью своего раба.
— За что ты его так больно бьешь? — спросил Сократ.
— Как его не бить, — отвечал хозяин, — он обжора, лентяй, только и думает о том, чтобы ему спать да веселиться, да послаще поесть. Ему и ста ударов плетей мало!
Сократ отозвал хозяина в сторону и говорит:
— Ну, а ты о чем думаешь, кроме как о том, чтобы тебе помягче поспать, послаще поесть и повеселиться?
Хозяин ничего не ответил.
— А если ты сам только об этом думаешь, то сколько же тебе плетей самому следует за то самое, за что ты наказываешь раба? Не с тебя ли он и пример-то берет?
Обиделся этот хозяин, ушел от Сократа.
Как жить в семье.
Когда Сократ стал отрываться от своей каменотесной работы, чтобы ходить на площадь, учить народ, жена его обиделась, думала, что убытки будут; но когда стало собираться к Сократу много народу, утешилась, подумала. «За ученье хорошо платят, учителя живут в довольстве; будем так жить и мы». А Сократ думал не так. Он думал: «Не могу я брать платы за ученье, — я учу тому, что мне голос Бога говорит, учу праведности. Как я за это деньги буду брать?» Хоть и много собиралось народа слушать Сократа, но он ни с кого не брал денег. А на содержание семейства зарабатывал своим мастерством: только бы хватало на необходимое. Жене Сократа жить бедно казалось и тяжело, и стыдно. Часто роптала она на то, что муж за ученье не берет денег. Доходило дело иногда и до слез, и попреков, и брани. Жена Сократа — звали ее Ксантина — была женщина вспыльчивая. Когда рассердится, то рвет и бросает всё, что под руки попадается.
Доставалось от нее и детям и больше всего самому Сократу. Но он не сердился и или молчал или уговаривал ее.
Раз она бранилась, бранилась, а Сократ всё молчит; досадно ей стало, и она со злобы вылила на него ушат помой.
— Ну, так и есть, — сказал Сократ, — был гром, а после грома дождь. — И стал вытираться.
Так сам делал Сократ и тому же учил сыновей. Один раз старший сын нагрубил матери. Сократ и говорит:
— Что ты, — говорит он сыну, — думаешь о тех людях, которые добра не помнят? Хороши ли такие люди?
— Если люди не хотят делать доброго тем, кто им добро сделал, — я думаю, что это самые дрянные люди, да так и все думают.
— Это ты верно рассудил, — сказал Сократ. — Ну, а теперь скажи, что если один человек другого, когда у него нет силы, носит с места на место, кормит, обшивает, одевает, спать кладет, поднимает, за больным ходит, болезни за него принимает, его злобу с любовью переносит. Что — такой человек сделал добро другому?
— Сделал большое добро, — сказал сын.
— Ну, ведь вот это самое, еще больше того, сделала для тебя твоя мать. Она и носила, и кормила, и ночи не спала, и не знала сама, дождется ли она когда-нибудь от тебя благодарности или помощи. А ты что ей за это воздаешь и почитаешь ли ее, как следует благодарному человеку?
Смутился сын, но не хотел покориться и стал оправдываться:
— Я бы ее почитал, если бы она была другая, а то накричит, обидит ни за что. Вот и не выдержишь.
— А ты, когда маленький был, всё по делу кричал? А переносила же она, и любила тебя, и ухаживала за тобой. Так-то и тебе делать надо, — сказал Сократ.
VI. Почему Сократу не нужно было ни дорогой пищи, ни дорогой одежды.
Пришел к Сократу раз один учитель, посмотрел на его жизнь и говорит:
— Ну, видел я теперь твою жизнь, Сократ; ешь ты самую грубую пищу, одежду носишь тоже самую простую, да и без перемены, ту же и зимой и летом; а обуви у тебя и вовсе нет. Для чего же тебе твоя мудрость, если от мудрости твоей жизнь твоя тяжелая?
— А ты слышал ли, чтобы я когда жаловался? — спросил Сократ.
— Нет, не слыхал; ты не жалуешься. Да всё-таки житье твое неприятное. Пищи и питий у тебя вкусных нет, и не знаешь ты удовольствия.
— Нет, — сказал Сократ, — никто так приятно не ест и не пьет. А отчего? Я тебе сейчас скажу. Ты сам знаешь, что самая простая пища кажется вкусней самой дорогой, когда проголодаешься; ну, вот я так и делаю, не ем, пока не голоден, не пью, пока пить не хочется, так на что мне дорогие кушанья и напитки? Мне простое вкусней дорогих. А об одежде скажу тебе, что никакой другой мне не нужно. Ты знаешь, что у людей две одежды — одна на зиму, другая на лето, потому что им летом в зимней жарко, а зимой в летней холодно. Ну, вот я так приучил свое тело, — сказал Сократ, — что мне летом не жарко, а зимой не холодно. И по жаре и по холоду иду куда мне следует. Так зачем же мне заводить другую одежду?
— Положим, ты так приучил себя, — сказал учитель, — а зачем другим людям так жить, как ты живешь?
Сократ сказал ему:
— А вот послушай. Придет ко мне человек в нужде и к тебе и скажет: помоги мне. Кому из нас легче помочь ему — тебе или мне? Ты подумаешь: и рад бы помочь, да самому много надо. Отдал [бы] ему — сам буду нуждаться. Помог бы ему в работе — времени жаль; подумаешь: я за это время сколько могу заработать для себя. А вот мне — другое дело. Я всегда готов помочь другому, потому что мне для себя немного нужно. И времени не жалею, потому что денег за него не беру: учу даром.
— Это так, — сказал учитель.
— Или вот еще, — опять сказал Сократ, — положим, пришло трудное время для народа, нужно послужить обществу. Ты подумаешь: как бы только меня не выбрали, потому в своих делах мне тогда будет убыток. А меня ничто не держит, я с радостью иду служить.
— Твоя правда, — сказал учитель, — а всё же я лучше бы согласился умереть, чем жить, как ты. Удивляюсь, что находится столько охотников слушать тебя.
— Слушают-то многие, да исполняют немногие, — сказал Сократ. — Иные послушают-послушают, да и уходят на прежнюю жизнь. А есть и такие, что остаются и живут так, как я советую, и так же, как и я, не жалуются и говорят, что стали счастливее, чем прежде. Мы знаем ваше счастье, потому что мы от него пришли к своему, а вы нашего не знаете, потому что вы его не испытали.
Пошел от Сократа учитель и рассуждал сам с собой: «Как же мне теперь думать о Сократе? Многие считают его полуумным чудаком, осуждают его, смеются над ним, а мне теперь кажется, что он хороший, справедливый человек».
VII. О братском житье.
Узнал раз Сократ, что один богатый купец разошелся с своим братом родным. Встретил он этого купца и стал ему говорить:
— Удивляюсь, — говорит, — тебе: ты человек умный, хозяйственный, стараешься побольше нажить, нанимаешь приказчиков, ищешь в свое дело товарищей, а с братом своим разошелся. Разве худо жить с братом в согласии?
— Жить с братом хорошо, — отвечал купец, — только с каким братом? Мой вот брат с чужими хорош, а я от него ничего хорошего не видал.
— Так ты сам, может быть, с ним дурно обходишься? спросил Сократ.
— Я умею ласково говорить с тем, кто ко мне ласков, и делаю добро тому, кто ко мне добр; а быть добрым к тому, кто словом и делом старается мне сделать неприятность, я не могу и не намерен, — с огорчением отвечал купец.
— Скажи же мне, — сказал Сократ, — как поступил бы ты с человеком, если бы хотел с ним подружиться?
— Да как поступил? — сказал купец, — как все поступают, — делал бы ему всё приятное: звал бы его к себе, угощал тем, что есть лучшего, помогал бы во всяком деле, давал бы денег, если ему нужны.
— Так ты вот это самое и сделай для брата и увидишь, что он к тебе переменится.
— Стану я ему первый кланяться, а он еще, пожалуй, отвернется. Только перед людьми стыдно будет.
— Поступать хорошо никогда не стыдно, — сказал Сократ, — и хорошие люди не посмеются над этим. А если брат и тогда не станет с тобой жить по-братски, то ты будешь знать, что ты сделал что следует и что брат твой один виноват. Да и не будет этого, — сказал Сократ. — Ты только сделай так. Я знаю, как твой брат дружно умеет жить с людьми. Начните новую братскую жизнь и будете счастливы, потому что будете жить, как Бог велел.
— Два брата, — сказал Сократ, — всё равно, что два глаза, две руки, две ноги у человека. Руки назначены Богом для помощи друг дружке, так же и брат брату. Что бы было, если бы одна рука стала мешать другой? А ты знаешь, руки не мешают, а помогают друг дружке. На то руки. И тем есть польза друг от друга. А брату от брата еще гораздо больше пользы, чем руке от руки, глазу от глаза, ноге от ноги: руки и ноги могут помогать друг другу только вблизи, немного дальше аршина, а брат помогает брату, хоть будь он на другом конце света. Оба глаза могут смотреть только в одну сторону, а брат более всего полезен брату там, где своими глазами он досмотреть не может. Братски Бог велел жить со всеми людьми, и уж кто со своим родным братом не живет по-братски, тот не исполняет закона божеского.
VIII. Как людям жить вместе?
Приходили слушать поучения Сократа не только жители Афин, но и из других городов и даже из чужих земель. Приходили слушать Сократа или к нему на дом или ждали, чтобы он вышел на городскую площадь, и там окружали его. Собралось как-то к Сократу много народу, и старые, и молодые, и свои горожане, и чужеземцы. Сократ не любил долго говорить сам, а всё спрашивал у других. Он говаривал, что как его матушка не сама рожала, а только другим помогала рожать, так и он сам ничему не учит, а только помогает другим самим научиться. Так и в этот раз. Сел Сократ на скамью, а вокруг него народ. Положил Сократ руки на колени, опустил голову и задумался. Все ждали, о чем он спросит. Поднял голову Сократ и говорит:
— Скажите вы мне вот что: отчего это люди живут вместе, а не в одиночку? Теперь вот между людьми несогласие, вражда, а то жил бы каждый сам по себе, и не с кем было бы раздоры заводить. Пожалуй, лучше бы было.
Вот и стали все говорить. Один сказал: оттого, говорит, живут люди вместе, что вместе жить выгоднее. Одному человеку и работать неспоро. Сообща больше сделаешь.
Другой сказал: одному жить было бы страшно, обороняться трудно.
Третий сказал: скучно жить человеку одному, с людьми веселей.
Четвертый сказал: да и Богом положено человеку жить не одному, а с людьми.
— Верно, — сказал Сократ. — Но жить-то людям как выгоднее — в мире или во вражде?
— Конечно, в мире, — отвечали все.
— Вот и вы думаете, и Бог так велел, а у нас идет не то. Отчего бы это так?
Замолчали все и не знали, что ответить. И опять заговорил Сократ:
— Я ведь и сам не знаю, — не доберемся ли как вместе. Давайте я переспрошу вас, а вы отвечайте. Первое дело, скажите: от кого человеку больше пользы, от раба-наемника или от друга-товарища?
— Известно, от друга-товарища, — отвечали все.
— Раб-наемник думает о своей пользе, а не о хозяйской пользе, — сказал один, — а друг-товарищ заботится об тебе, как о самом себе.
— Раб-наемник у тебя пока деньги, или до срока, а срок кончится или нечем тебе платить, и останешься ты один, — сказал другой.
— А друг-товарищ тем дорог, что в беде он тебя не оставит, последним своим поделится, — сказал третий.
— С хорошим товарищем и сам лучше станешь, — сказал четвертый.
— Вот вы и все согласны, — сказал Сократ, — что друг-товарищ дороже раба-наемника, что богат и силен, и весел, и радостен, и спокоен не тот, у кого много наемников, а тот, у кого живет много друзей. У вас у всех, верно, больше друзей, чем рабов?
— Надо бы так, а на деле выходит не так, — сказал один.
— Коли спросишь ты, врагов сколько у каждого из нас, мы сейчас же перечтем, — сказал другой, — и рабов и наемников тоже начтем не мало, а друзей-товарищей верных у кого найдется два или один, так и то хорошо.
— Отчего же это так? — спросил Сократ. — Сами говорите, что друг-товарищ самое первое дело, а не заводите друзей. Коли мы знаем, что быки нужны для нас, мы их заводим много. Отчего же вы не заводите друзей, коли знаете, что от них польза, и радость, и опора в несчастьи?
— А оттого, — сказал один, — что быков хороших много бывает, а людей хороших мало. Понадобился бык в плуг, выберешь хорошего и купишь; а друг понадобится, где найдешь хорошего? Людей-то много, да хороших мало.
— Это верно, — сказал Сократ, — а быка в плуге какого ты называешь хорошим?
— А такого, который пашет, и силен, и смирен.
— Ну, а человека в друзья какого ты назовешь хорошим? — спросил Сократ.
— А такого, который не об себе одном, но и о другом думает, который если услышит, что друг заболел, пойдет узнать, не нужно ли ему чего, и если понадобится, то поможет по хозяйству, чтобы ему за болезнь его не было бы убытку. Понадобятся деньги — даст. Вот какого я назову другом.
— Ну, а как ты узнаешь про человека, такой ли он или нет?
— А по его добрым делам.
— А тебя он почему узнает? — спросил Сократ.
— Да, должно быть, по тому же.
— А дружить-то ты когда станешь, — спросил Сократ, — когда тебе нужда будет или когда нужда ему?
И замолчали все и не знали, что отвечать.
— Да как же вы не знаете? — сказал Сократ. — Переехал к тебе сосед, ни он тебя, ни ты его не знаешь; как тебе узнать, будет ли он хорошим другом: ждать ли, чтобы он тебе помог, или тебе помочь ему?
— Да, я думаю, лучше подождать, что от него будет, — сказал один.
— А он скажет, что и ему лучше подождать, что от тебя будет. Тогда уж вы никогда друзьями не будете.
— Правда твоя, Сократ, — сказал другой.
— Все мы хотим, чтобы нам люди добро делали, а сами начать не хотим, — сказал третий.
— Оттого-то и говорим, что быков хороших много, а людей мало. Да и как же им быть хорошими, коли мы сами не хотим быть хорошими и за то других укоряем, — сказал четвертый.
И сказал Сократ:
— Сами говорим мы, что людям вместе жить лучше. И вместе жить лучше в дружбе, чем в ссоре. Говорите, что дружба между людьми дороже всего, что дружба в том, чтобы делать добро людям. А делать сами добро не хотим, а только хотим, чтобы нам добро делали. От этого и живем мы вместе не в мире и радости, а во вражде и горестях.
IX. Что нужно знать каждому человеку?
Возвращался раз Сократ с работы и увидал, что в холодке собрался народ и много знакомых. Подошел к ним Сократ, поздоровался.
— А мы давно поджидаем тебя здесь, — сказали ему. — Садись: нужно нам с тобой поговорить.
Не успел Сократ присесть, как стали люди собираться к нему со всех сторон: кто шел мимо, останавливался; кому сказали на улице, что Сократ учит у стены, а кто и сам увидел и подошел. Мастеровые оставляли работу и шли на то место, где учил Сократ.
Стали четыре человека спрашивать Сократа, чему обучать детей.
— Посоветуй, — говорят, — Сократ, чему нам учить сыновей. Подросли, хочется, чтобы из них люди были. Научи, как и чему их учить?
— А чему думали вы их учить? — спросил Сократ.
— А вот я думал отдать сына обучиться кузнечному ремеслу, — сказал один.
— А я своего к каменотесу. Вот и ты, Сократ, этим мастерством занимался.
— А я всю жизнь на земле работал; хотелось бы, чтоб и сын со мной работал.
— Мой сын к учению прилежен; желает учиться лекарству.
— Всё это хорошо, — сказал Сократ, — каждому человеку нужно работать на пользу людям, и одному — одно, другому — другое. Да так ли? — спросил Сократ. — Если у нас все мастерства будут, всё ли у нас будет, что нужно? чего же еще? Понадобится дом, храм, пойдем к каменотесу, к плотнику; понадобятся новые корабли строить, пойдем к плотникам. Ну, а понадобится жить мужу с другой женой, сыну со скупым отцом, брату с сердитым братом, соседу с злым соседом, хозяину с гордым гостем, человеку с чужим человеком. Какого мастера звать?
— На это мастерства нет, тут нужно только быть справедливым человеком, — сказал один.
— Тут годится и каменщик, и плотник, и лекарь, — сказал другой.
— Это дело всякий хороший человек понимать должен, — сказал третий.
— Так и выходит по-твоему, — сказал четвертый, — что, кроме своего мастерства, каждый человек должен еще понимать, как всякому человеку с людьми жить.
— Так и выходит, — сказал Сократ, — что кроме своего мастерства еще одно дело есть такое, что надо знать каждому человеку.
— Это дело уж как кому дано понимать, — сказал один. Один умеет, другой нет.
— Этому не научишься, как мастерству, — сказал другой.
— Да и как научиться этому? — сказал третий.
— Этому нельзя научиться, — сказал четвертый.
— Удивительное дело, — сказал Сократ, — что нельзя того-самого, что нужнее всего. Скажи хоть ты, что тебе дороже — хорошо с женой жить или хорошие башмаки?
— Да я готов всю жизнь босиком ходить, только бы жить всегда согласно с женой.
— Ну, а что хуже — в ссоре с отцом быть или не носить богатого платья?
— Да, известно, что от всякого платья откажешься, только бы не было ссоры.
— А какая болезнь хуже — лихорадка или то, что тебя все люди не любят?
— Да уж хуже этой болезни нет.
— Ну, так и выходит, что то дело, которое всякому знать надо, дороже всех других дел, дороже и башмачного, и портняжного, и лекарского; и тем всем делам учиться можно, а этому, самому нужному и дорогому делу, и научиться нельзя. Звезды счесть и травы все узнать человек может, а как ему с людьми жить, этого не может узнать. Так ли это?
— Да, должно быть, что-нибудь не так, — отвечали Сократу.
— И я также думаю, — отвечал Сократ. — Жили люди прежде нас, — не сказали ли они что об этом? Да вот хоть бы надпись на храме. Что там написано? Написали это в старину. Не про то ли самое, про что мы толкуем, как человеку с людьми жить?
— Там написано: «Узнай самого себя», а не про то, как людям жить, — отвечали Сократу.
— А, может, и про то сказали: «Узнай самого себя». Может быть, если мы узнаем самих себя, то и узнаем, как нам жить.
— Растолкуй нам это, Сократ, — сказал один.
— Вы знаете, я не умею толковать, — сказал Сократ, — я только умею спрашивать, а вы мне сами растолкуете. Вот везут быки виноград. Ну, вот скажите мне: кто знает быков и кто знает виноград? Тот ли, кто будет есть говядину и виноград, или тот, кто знает, как водить быков и виноградники?
— Разумеется, тот, кто умеет водить.
— Ну, а чтобы хорошо водилась скотина и хорошо родился виноград, что надо знать?
— Надо знать, когда кормить, когда копать, когда подвязывать.
— А чтобы это делать хорошо, нужно знать, что нужно скотине и что нужно винограднику. Не так ли? Не то ли же и про себя? Мы знаем себя, когда знаем, что нам нужно. Знаем ли мы, что нам нужно?
— Как же не знать, что нам нужно? Это мы все знаем, — сказал один.
— Нет человека, который не знал бы, что ему нужно, — сказал другой.
— Теперь тебе что нужно? — спросил Сократ.
— Мне многое нужно, но нужнее всего мне богатство. Было бы у меня богатство, всё бы было.
— Если бы у меня спросил, Сократ, я бы сказал не богатство, — сказал другой, — а власть над людьми. Была бы у меня власть, у меня было бы и богатство.
— А мне, — сказал третий, — ни богатства, ни власти не нужно, мне нужно только жить безбедно и заниматься науками, и никто б мне не мешал и не отрывал меня от моего дела.
— А мне, — сказал четвертый, — нужно только то, чтобы я был славен и все почитали бы меня.
— Что ж это? — сказал Сократ. — Спрошу, что нужно, чтобы быки были сыты и виноградник хорош, — все скажете одно. А вот спросил, что человеку нужно, — все сказали розно. Вот видите, что не знаем мы сами себя, потому что узнать самого себя — значит узнать, что человеку нужно, да так, чтобы все были согласны. Ты говоришь, богатство нужно, — сказал Сократ. — Ну, мы все согласны с тобой. И нам нужно будет богатство. Как же мы разделим его? Согласен ты поровну разделить всё?
— Нет, какое же это будет богатство? — сказал первый.
— Стало-быть, нам и нельзя с тобой согласиться, — сказал Сократ. — Не согласимся ли во власти? Если нужна власть тебе, так и мне то же нужно. Как же мы с тобой будем властвовать друг над другом?
— Нельзя и нам разделиться, — сказал другой и засмеялся.
— Так и с тобой не разделим, — сказал Сократ. — Давай же разберем с тобой, — обратился он к третьему, — можно ли по-твоему нам хорошо прожить. Ты говоришь, что тебе только нужно жить безбедно и заниматься наукой, потому что ты ее любишь. А мне вот нужно играть на флейте. Я это люблю. Хочу есть, пить, когда мне хочется, играть на флейте и слушать хороших игроков, да так, чтобы мне никто не мешал. Что коли я с тобою буду рядом жить? Как бы я не помешал тебе? Да и ты, когда станешь вслух говорить стихи, как бы ты не помешал мне? Ну, да, положим, мы разойдемся, но беда в том, кто нас с тобой кормить будет? Ты не станешь мне готовить, потому что ты любишь науки, и я тебе не стану готовить, потому что люблю флейту. Ты скажешь: мы рабам велим готовить. Да ведь и рабы захотят тоже на флейте играть и звезды считать. Как нам тогда быть? Не подходит и твое дело. То, что тебе нужно, не всем людям нужно. И потому мы не узнали еще человека.
— Ну, а про мое что ты скажешь, Сократ? — сказал четвертый.
— Да твое слово хорошее, — сказал Сократ, — и ближе всех к делу. Ты говоришь, что тебе нужно только то, чтобы почитали тебя все люди. Это правда, и это всякому человеку нужно. Тебе нужно, чтобы я тебя почитал, а мне нужно, чтоб ты меня. Так и с другими. А как заставить людей почитать себя?
— Вот это-то и трудно, — сказал один.
— Да, это трудно, — сказал Сократ, — но в этом-то всё и дело. Всё, что вы скажете, всё ведь сходится к одному: к тому, чтобы люди делали нам добро и не мешали бы нам жить в свое удовольствие. Так ли?
— Так именно, — подтвердили все.
— Ты сказал, что тебе нужно богатство, ты сказал — власть, ты сказал — свободно заниматься наукой, ты сказал — почести. Все вы хотите, чтобы люди не мешали вам жить, делали вам добро, и всем другим то же нужно; стало-быть, надо, чтобы добро для вас не мешало бы добру других. Мы заговорили про быков и про виноград. Если ты говоришь, что быку водопой нужен, то ведь ты не говоришь, чтоб ему нужно было затоптать колодец, так, чтобы другим пить мутную воду, и не говоришь, чтобы ему нужно было сбить весь корм под ноги, так, чтобы другим есть корм с навозом. Если ты говоришь, что виноградной лозе нужны простор и окопка, то ты не говоришь, чтобы надо было срезать и выкопать все соседние лозы.
Так же и с людьми. Если мы узнаем человека и то, что ему нужно, то мы узнаем, чего ему не нужно делать. Не нужно ему делать всего того, что мешает и вредит другим. Не так ли?
Все согласились.
— Точно так же мы узнаем и что нужно делать человеку. Все мы хотим, чтобы нам делали доброе, а доброе нам делают кто?
— Люди, — отвечали Сократу.
— А мы кто?
— Тоже люди. Так что же нам нужно делать?
— Добро людям. Вот мы и договорились, — сказал Сократ. — Мы спросили себя: кто мы? И решили, что, чтоб узнать это, надо узнать, что нам нужно. Стали разбирать, что нам нужно, и все согласились в том, что нам нужно первое: чтоб люди нам не мешали жить, а второе — делали бы нам добро. А чтобы люди делали добро людям, надо нам делать добро людям. Так вот это начало ученья о том, что всякому человеку знать надо.
— Так-то так, — сказал один человек, — да не всегда можно узнать, каким делом помешаешь другому и какое дело будет добро, а какое зло.
— Правда твоя, — сказал Сократ. — В этом мы часто ошибаемся; но и ученики у кузнеца и у сапожника часто ошибаются, когда учатся, но мастера учат их тому, что они сами узнали и что узнали от своих учителей. Вот и я сам учусь этому делу, какое всем нужно знать, и учу других так, как меня научили мои учителя и голос Бога, который я слышу в душе своей. Этот голос совести слышит каждый в себе, если только он прислушается к нему. А если будет прислушиваться, то и научится от учителей и сам от него. Люди не оставлены без руководства в самом важном деле; а с тех пор, как есть люди, они учатся, как жить вместе, и в каждого вложен один и тот же голос, который каждого учит тому же. Всякому делу учиться хорошо, но нужнее всего — учиться жить, не мешая людям и делая им добро.
X. Суд над Сократом.
Так учил Сократ, и много было у него друзей и преданных учеников, но много было и врагов. Да и как было не быть врагам? Ученье Сократа приходилось многим не в бровь, а прямо въ глаз. И все богачи не любили его. Сократ учил, что позорен не труд, а праздность, что только трудящимся Бог посылает истинное благополучие. А богачи жили праздно и чванились своею праздностью. Сократ учил, что хороший человек думает не о том, чтобы прожить роскошно, а о том, чтобы прожить справедливо, и только безрассудные люди всю жизнь заботятся о собирании богатства. А богачи только и думали о наживе, только въ роскоши и богатстве видели счастье для человека.
Враги9 Сократа говорили между собой: «Беспокойный человек этот Сократ, только смущает народ своим ученьем, настраивает против нас детей наших. Они ему верят больше, чем нам». Самые злые из врагов10 Сократа порешили, что надо как-нибудь избавиться от него,11 потому что он только мешаетъ людям жить беспечно и пользоваться всеми благами жизни.
— Надо взвести на него что-нибудь такое, за что бы можно было притянуть его въ суд, — рассуждали враги Сократа.
И придумали они потянуть его в суд за то, что он не верит богам и развращает народ.12
И объявили Сократу, что он преступник и будет судиться.13 Ученикам Сократа это очень было обидно и горько, потому что они хорошо знали, что учитель ихъ ничего дурного не сделал. Собрались они к Сократу и стали его просить:
— Смотри, обдумай хорошенько, учитель, что будешь говорить судьям въ свою защиту.
Один богатый ученик сказал:
— Если ты встревожен, не можешь хорошо обдумать, что говорить, позволь пойти к одному человеку. Он за хорошую плату напишет все, что ты должен сказать на суде. Ты дома прочитаешь, а потом в суде скажешь судьям, и тебя наверно оправдают.
Сократ отвечал ученикам:
— Успокойтесь, друзья мои. Никаких речей в свою защиту я говорить не буду.14 Моя жизнь15 мне защитой.
А ученик Ермоген сказалъ на это:
— Разве ты не знаешь, Сократ, как помогают на суде хорошие речи? Разве не случалось, что судьи оправдывали виновного, если он умел красиво и ловко оправдаться, и осуждали на казнь невинных, которые не умели разжалобить судей, защищая себя?
— А меня, — сказал Сократ, — пусть судят по делам всей моей жизни, я ничего не боюсь. В душе своей я чувствую божеское внушение о том, что пора мне умирать. До сих пор у меня были силы воздерживаться от всего дурного, приносить пользу людям, а теперь уж наступает для меня глубокая старость, дряхлость. Боюсь ослабеть не только телом, но и духом. Лучше умирать.
Призвали Сократа на суд.
Судить Сократа собрались более пятисот судей.
Явились обвинители, пришел и Сократ.
Судебные дела разбирались въ Греции на городской площади, и слушать разбирательство собиралось всегда великое множество народа.
Так было и в этот раз.
Выступили обвинители и сказали:
— Сократ виновен в том, что не признает наших богов, а проповедует о новом Боге.
— Судьи и граждане! — сказал на это Сократ. — Я прожил в Афинах шестьдесят девять лет. Жизнь моя у всех была на виду: я учил на площадях, у храмов; если кто слышал от меня что-нибудь безбожное или видел, что я сделал что дурное, пусть скажет.
Все молчали.
— Чтобы узнать волю богов, у нас употребляют священные гадания, а я говорил вам, что волю Божества мы можем также узнать, если будем прислушиваться к голосу своей души, потому что она передает нам внушение Божества.
И на это ничего не отвечали Сократу.
Тут заговорили опять обвинители:
— Сократ еще виновен в том, что своим учением развращает молодежь.
— Граждане! — отвечал на это Сократ. — Я учил детей ваших тому, что необходимо знать каждому человеку. Учил их понимать Голос Бога, в чем благоразумие и безрассудство, в чем правда16 и в чем ложь,17 в чем добро и в чем зло.18 Я говорил и старому и молодому: не ищите богатства и славы, не думайте прежде о теле, как бы его ублажить, а думайте о душе. Думайте о том, как приносить пользу другим людям, и выше всего ставьте праведную жизнь. Я учил так, как мне внушал голос Бога, и за свое учение я готов претерпеть не одну, а тысячу смертей.
Замолчал Сократ; не знали, что говорить и обвинители.
Тогда Сократ сказал:
— Я ничего не могу больше сказать в свое оправдание. Я знаю, что многие говорят длинные речи в надежде разжалобить судей, приводят в суд своих родственников, чтобы их слезы и просьбы тронули сердца судей, но я этого не делаю. Не потому, что19 некому просить за меня.20 Ведь и я не от камня и не от дуба рожден: есть и у меня родные, жена, дети, есть преданные друзья. Но я не призову их сюда просить вас за меня, потому что считаю это унизительным для вас, судей. Вы должны постановлять приговор не из жалости, а по справедливости. К тому обязывает вас совесть, на то установлены законы.
Стали судьи совещаться между собой. Враги затеяли суд над Сократом,21 и врагов22 было много и среди судей, а все же почти половина судей решила,23 что не за что признать Сократа виновным.
Однако одолели противники,24 и судьи сказали:25
— Сократ виновен.
Обвинители сказали:
— Виновен и заслуживает смерти.
Спокойно выслушал это Сократ и сказал судьям:
— Обвинители требуют моей смерти, но закон дает мне на выбор другие наказания; так выслушайте меня. Я бы мог просить, чтобы вместо смертной казни меня заточили на всю жизнь в темницу. Но для чего послужит такая жизнь? Бесполезна она будет для других, тягостна для меня. Я мог бы по закону избрать для себя ссылку в чужие земли.26 Но каково это будет для меня, старика, скитаться27 по чужим краям? Закон дозволяет мне еще внести за себя большой денежный штраф. Сам я не имею денег, но мои друзья и ученики, Платон, Критон и другие, охотно внесут за меня сколько следует. Согласны ли вы на это, судьи-граждане?
Судьи ничего не отвечали ему, и тогда Сократ сказал:
— Если бы я чувствовал себя виновным, то готов был бы нести самое тяжкое наказаніе, но совесть моя чиста. Я никому не делал зла, честно служил отечеству. За мои заслуги и труды на общую пользу вы должны были бы удостоить меня высшей награды, какая полагается у вас для заслуженных граждан, а именно: содержать меня до конца моей жизни на общественный счет. А вы, граждане, вместо этого призвали меня на суд, поверили словам моих врагов, забыли о моих заслугах.
Судьи обиделись.
— Что это Сократ вздумал упрекать нас, как нам поступать? Это мы и без него знаем, — заговорили они между собой.
— А вы больше слушайте его, — стали подзадоривать враги, — или тоже хотите сделаться его учениками?
— И в самом деле, пора кончать суд, — зашумели судьи.
Посовещались они еще недолго между собой и объявили такой приговор:
— Присуждаем Сократа к смертной казни. Он должен выпить чашу яда.
Сократ выслушал приговор, не изменившись в лице, и сказал судьям:
— Скорблю не о том, что предстоит мне, а о том, что вы опозорили себя и народ ваш за то, что28 осудили29 невинного. Поторопились вы, граждане, избавиться от беспокойного человека, который никому не боялся говорить правду. Напрасно торопились: смерть и без того уже шла за мной, стариком. Прошу вас об одном: когда дети мои вырастут, учите их тому, чему я учил вас. Если заметите в них жадность к богатству и почестям, укоряйте их за это так, как я укорял вас и детей ваших. Этим вы окажете им величайшее благо и отплатите мне тем, что я делал для вас. А теперь прощайте, настала пора нам расстаться: вы остаетесь жить, я иду умирать. Кому из нас будет лучше, о том ведает Бог.
XI. Сократ в тюрьме.30
В обыкновенное время осужденных казнили на другой день после суда, но суд над Сократом пришелся накануне праздничных дней, когда считалось грехом исполнять смертную казнь. Сократа на все это время отвели в тюрьму. Там он провел в ожидании смерти тридцать последних дней своей жизни.
Каждый день приходили в тюрьму навещать Сократа его31 ученики, и он продолжал поучать их, а когда оставался один, сочинял стихи. Не чувствовал он ни уныния, ни страха смерти.
Праздничные дни приходили к концу. Горько было ученикам думать, что скоро они навсегда лишатся дорогого учителя. «Нельзя ли как-нибудь спасти его?», говорили они между собой.
И решили подкупить тюремного сторожа, ночью вывести Сократа из тюрьмы и увезти тайком в чужую32 землю.
Говорить об этом с Сократом вызвался ученик Критон. Осталось всего два дня до конца праздников, нельзя было медлить. Поздно вечером разошлись ученики и решили,33 чтобы Критон завтра же утром, как можно раньше, пошел34 уговаривать Сократа.
Не спалось Критону. Не давала ему заснуть радостная мысль, что есть еще средство спасти от смерти дорогого учителя. Как только стало светать, он встал, оделся, и пошел к тюрьме. Сторож знал его, а потому согласился тотчас же пустить Критона к Сократу.
Сократ еще спал. Критон осторожно вошел и сел у его постели. Долго не просыпался Сократ, и Критон, глядя на него, дивился, как может так спокойно спать человек накануне казни.
Когда Сократ открыл глаза, он очень удивился, увидав Критона.
— Уж верно поздно, — сказал он. — отчего ты не разбудил меня, Критон?
— Нет, еще очень рано, — отвечал Критон, — солнце еще не взошло. Я любовался твоим спокойным сном и радовался за тебя, что ты можешь забыть во сне о постигшем тебя несчастье, об ожидающей тебя смерти. Удивлялся я всегда твоему спокойствию, но не ожидал, что спокойствие не оставит тебя и в эти страшные дни.
Сократ улыбнулся и сказал:
— Мало же ты знал своего учителя. А скажи, зачем пришел так рано сегодня? Не для того же только, чтобы посмотреть на меня спящего?
— Нет. У меня есть до тебя большая просьба, не моя только, а многих тебе преданных людей, — несмело начал Критон.
— Говори скорей! — с горячностью сказал Сократ.
— Мы решили спасти тебя от смерти, Сократ. Есть средство: тебя можно тайком ночью увести из тюрьмы.
Лицо Сократа омрачилось, он грустно и строго посмотрел на Критона.
— Выслушай меня, учитель, — сказал Критон. — Ты ведь осужден несправедливо. Вспомни, сколько ты еще можешь добра сделать людям. Пожалей своих малолетних детей, пожалей нас, — согласись бежать из тюрьмы. Мы уж всё это устроили. Сторожей можно подкупить, тебя переодетым провезти в соседнюю землю. Там у меня есть знакомые люди, они с радостью примут тебя к себе. Мы перевезем туда и твоих детей. Они будут вырастать при тебе, а не сиротами. Денег у нас достаточно. Я отдам тебе всё, что имею. Ты знаешь — я богат, а кроме меня и другие твои ученики приготовили денег, чтобы спасти тебя, потому что ты нам дороже всего. Умоляю тебя, соглашайся бежать. Раздумывать некогда: только сегодня ночью и можно это сделать. Ведь это последняя твоя ночь перед казнью.
Критон говорил горячо, со слезами, но по лицу Сократа он видел, что учитель не поддавался на его слова.35 Когда Критон кончил говорить, Сократ сказал:
— Благодарю тебя, Критон.36 Я знаю, что на всё это ты решился из доброго чувства ко мне. Знаю, что все меня вы любите и благодарны мне. Но не одно чувство должно быть нам советником. Для спасения своего я должен буду употребить обман, нарушить свое слово. На суде я сказал, что подчиняюсь приговору, что готов пострадать за свое учение, и никакие мучения не должны заставить меня отказаться от этого. Положим, вы выведете меня из тюрьмы живым; живым — но уж не тем человеком, каким я вошел в нее, а выведете обманщика.37 Этого ли вы хотите?
Чувствовал Критон, что Сократ прав, но не мог еще отказаться от мысли спасти его.
— Кто тебя знает, тот не поверит тому, что ты обманщик; ты обманешь только тех дурных людей,38 которые несправедливо осудили тебя, — сказал Критон. — Другие же только будут радоваться твоему спасению.
— Нет, Критон, — твердо отвечал Сократ. — Я обману39 не только врагов своих, но и всех людей40 и изменю своей совести. Я всю жизнь учил, что человек никогда не должен поступать несправедливо; если же я сам так поступлю, то кто же потом поверит мне, поверит тому, чему я учу? Я уйду от тюрьмы, от врагов, но куда я уйду от голоса своей совести? Оставь несбыточное намерение, друг Критон, будем вместе мужественно готовиться к неизбежному.
Понял Критон, что не спасти им учителя, и с грустью пошел сказать об ответе Сократа другим ученикам.
XII. Последняя беседа Сократа.41
Настал день казни. По тогдашнему обычаю она совершалась перед заходом солнца. С утра собрались к дверям тюрьмы ученики Сократа. Многие из них горько плакали.
Вышел тюремный сторож и сказал ожидавшим:
— Сейчас снимут с Сократа кандалы, тогда впущу вас.
Немного спустя отворили двери тюрьмы. Ученики застали Сократа на постели, его только что расковали. Около постели стояла его жена и держала на руках младшего ребенка. Увидя учеников мужа, она рыдая сказала:
— В последний раз они идут к тебе, Сократ, в последний раз будут тебя слушать. Это последняя твоя беседа съ ними.
Жена убивалась,42 рвала на себе волосы. Сократ попросил учеников, чтобы ее увели домой.
Он захотел встать, но ноги его сильно отекли и болели от тяжелых оков. Он стал тереть их, и ему стало легче.
— Вот заметьте, друзья, — сказал он ученикам, — что от всякого страдания недалеко и утешение. Давно ли нога эта страдала от тяжести кандалов; теперь зато как хорошо, легко! Так бывает и при всяком страдании. Теперь уж я встать могу.
Ученики окружили Сократа, им хотелось и говорить и слушать его, но им трудно было промолвить слово от слез, и думать они могли только о страшном смертном часе Сократа, о горькой разлуке, но об этом не решались заговорить. Учитель понял, что у них было на душе.
— Вижу, знаю я, что вам жаль меня и не только жаль, но и страшно за меня. Как же мне вас утешить и ободрить? Посмотрите на меня. Я спокоен, ни о чем не жалею и ничего не страшусь. На душе у меня легко и светло. Жизнь свою я кончаю в темнице, присужден к казни. Люди считают это позором, но разве можно считать это позором, когда страдаешь за правду, а не за какое-нибудь дурное постыдное дело? Люди оклеветали, осудили меня, но я не могу гневаться на них, ненавидеть их. Я знаю, что они поступили так по неразумию своему. Я укорял их, указывал им на их ошибки для их же блага, а они не поняли меня и сочли это за зло с моей стороны. Они поступили как неразумные дети. Я поясню это примером. Положим, что к больным детям приставлен был человек, который исполнял все их желания, а потом пришел другой, лекарь, и стал стараться только о том, чтобы вылечить их. Кого, думаете, пожелали бы оставить при себе больные дети? Конечно, того, кто ни в чем не перечил им, а от лекаря старались бы избавиться. Они сказали бы: этот человек мучит нас, запирает, не дает нам пить и есть вволю, заливает горьким лекарством, режет, прижигает. Прогоним его, еще лучше сделаем, чтобы он никак не мог вернуться к нам. Мои противники так же не поняли меня, как дети лекаря.
Сказав это, Сократ остановился, заметив, что Критон хочет ему что-то сказать.
— Сократ, — сказал Критон, — ты знаешь, что нам дорого каждое твое слово, но просим тебя, перестань говорить. Тюремщик только что сказал нам, что если кто в последние часы много и горячо разговаривает, на того яд медленнее действует, и придется больше его выпить.
— Поблагодарите тюремщика за совет, друзья мои, — отвечал Сократ, — и попросите от меня побольше приготовить яду. Я готов выпить его не один, а два и три раза, если будет нужно. Яд сделает свое дело, когда настанет время, а до тех пор давайте мирно беседовать. Мне еще о многом хочется гово[рить с вами. Сядьте ближе ко мне.
Сократ сидел на постели, а ученики уселись вокруг него, как кто мог.
Ближе всех к Сократу сидел ученик Федон. У него были прекрасные длинные волосы, и Сократ любил во время бесед гладить и перебирать их. Так и в этот раз Федон сидел на низкой скамье у самой постели, и рука Сократа лежала на его голове.
— А что, Федон, — сказал учитель, — где будут завтра твои прекрасные волосы?
У греков был обычай в знак горести обрезывать волосы и класть их на могилу того, о ком горевали. На это и намекал Сократ. Эти слова учителя живо напомнили ученикам об ожидавшем их горе; некоторые из них заплакали.
Сократ сказал:
— Друзья, я не боюсь смерти. Страшно не умирать, а жить безумно, порочно.
XIII. Смерть Сократа.
Сократ замолк. Ученики ждали, что он будет еще говорить. Учитель сказал:
— Однако время идет. Уже не рано. Пойду обмоюсь, чтобы не утруждать потом других обмывать мое мертвое тело. А вы подождите меня здесь, побудьте со мной до конца.
Сократ вышел мыться в другую комнату, с ним пошел и Критон.
А другие ученики, ожидая его, говорили о последней беседе учителя, о его смерти, о томъ, как будут они жить осиротелые, без дорогого наставника. Наступил вечеръ. В комнату, где были ученики, сторож впустилъ родственниц, жену и детей Сократа: один был постарше, а двое — малолетки. Вошел после того скоро]43 и сам Сократ. Стал он прощаться с ними. Женщины подняли такой плач, что Сократ попросил увести их.
Ученики сказали тогда Сократу:
— Скажи нам свою последнюю волю. Может быть, ты хочешь чем распорядиться для детей? Мы с радостью сделаем для тебя всё, что прикажешь.
Сократ отвечал:
— У меня нет никакого имущества, и распоряжаться мне нечем. Поступайте, как я вас учил: в этом вся моя воля. Тогда будете знать, что сделать и для детей моих.
— А как прикажешь хоронить тебя, Сократ? — спросил Критон.
— Зачем ты меня об этом спрашиваешь? — с укором спросил его Сократ. — Разве ты не видел, что всю мою жизнь я заботился о моем теле только для того, чтобы оно служило душе, а когда душа моя покинет тело, не всё ли мне равно, что сделают с ним?
Сократ прилег на постель, собираясь начать беседу с учениками, как отворилась дверь, и вошел пристав; он приходил в тюрьму с приказаниями от судей.
— Сократ, — сказал он, — когда я приходил к другим осужденным, чтобы объявить им, что настало время исполнить приговор — выпить яд, они встречали меня бранью и проклятиями. Не того я ожидаю от тебя, потому что никогда еще в этой тюрьме не было человека добрее и справедливее тебя. Не на меня тебе гневаться, а на других, на виновников твоей смерти. Ты знаешь, с какою вестью я пришел к тебе. Прощай, старайся мужественно перенести, что не в нашей воле отменить.
Сказал это и отошел от постели Сократа, потому что не мог удержать слез.
— Прощай и ты, — отвечал Сократ уходившему приставу, — исполню всё, как следует. — А потом сказал о нем ученикам: — Какой хороший человек! Он часто приходил сюда беседовать со мной. Как искренно он жалеет обо мне! А теперь — время, друзья. Скажите, чтобы несли яд.
— Зачем торопиться, учитель? — стал уговаривать его один из учеников. — Солнце еще не зашло за горы. Другие осужденные успевают еще после захода солнца поесть, выпить и побыть с близкими. Время терпит!
— Пусть делают так другие; им, верно, дорого хоть насколько-нибудь продлить жизнь. А моя жизнь кончена, и нечего оттягивать конца, — отвечал Сократ. — Исполните, что сказал.
Один ученик сделал знак стоявшему тут сторожу, и тот пошел за ядом.
Вслед затем вошел тюремщик с чашей, в которой разведен был яд.
— Благодарю тебя, друг, — сказал ему Сократ. — Научи, что мне делать теперь.
— После того, как выпьешь яд, тебе следует ходить до тех пор, пока не почувствуешь тяжести в ногах, — отвечал тюремщик. — Тогда ложись на постель, потому что это знак, что яд начинает действовать.
Не изменившись в лице, взял Сократ у тюремщика чашу с ядом и выпил ее до дна.
Целый день крепились ученики, а тут уж не выдержали и зарыдали.44 Один Сократ не терял твердости.
— Что вы делаете, друзья? — усовещивал он их. — Я отослал женщин и детей, чтобы не видеть их малодушия, а вы поступаете не лучше их. Так-то вы меня слушаете!
Выпив яд, Сократ не переставал ходить по комнате, как сказал тюремщик. Но вотъ почувствовал он, что ноги отяжелели, и лег на спину. Ученики обступили его постель.
Тюремщик подошел и сильно сдавил пальцами ему ногу.
— Чувствуешь ли ты боль? — [спросил он.
— Нет, — отвечал Сократ.
Подавил тюремщик ногу выше, и там Сократ уж ничего не чувствовал.
— Это оттого, что тело его начинает холодеть и коченеть. Дойдет холод до сердца и тогда кончится, — сказал тюремщик ученикам.
— Друзья, умираю, возблагодарите Бога! — сказал Сократ.
Бросились ученики к учителю, припали к нему, стали его звать, но он не ответил им. Он лежал неподвижно; потом по телу его пробежала дрожь, уста и глаза остановились. Перед учениками лежало уже бездыханное тело любимого учителя. Один из них нагнулся и закрыл ему глаза.
Так жил и умер Сократ, но не умерло его учение. Лучшие из учеников продолжали его благое дело, учили людей добру и правде, а поучения своего великого учителя-мудреца записали. По их рукописям узнали и мы о нем.
Сократ жил за четыреста лет до того времени, как явился на землю Иисус Христос.
1885 г.]45
————
*** СТРАДАНИЯ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ФЕОДОРА В ПЕРГИИ ПАМФИЛИЙСКОЙ. (ПАМЯТЬ ЕГО АПРЕЛЯ 21 ДНЯ.)
В царствование Антонина, когда воевода Феодот обладал Пергиею Памфилийской, были избираемы в воинское звание, на царскую службу, юноши крепкие телом и красивые лицом. Со многими другими юношами был взят и этот Феодор и к воеводе Феодоту приведен. Воевода надел на него, как и на других юношей, воинский знак, а Феодор бросил прочь от себя этот знак, говоря: «я знаменован от чрева матери моей моим царем небесным, Господом Иисусом Христом, и не хочу быть воином никакого другого царя». Спросил его воевода: «какого-же ты царя воин?» Отвечал Феодор: «я воин Того, кто сотворил небо и землю». И тогда узнал воевода, что Феодор христианин и сказал: «не принесешь ли богам нашим жертвы?» Отвечал Феодор: «никогда богам вашим нечистым не приносил жертвы и не могу им принести». После сего воевода предал Феодора мучителям, и много и люто мучали они его. Стоял тут и жрец языческий, по имени Диоскор; он, видя многие страдания Федоровы, уверовал во Христа и небоязненно сказал воеводе, что и он сделался христианином. Тогда воевода велел положить его на большую железную раскаленную сковороду и так сжечь живого. И когда положили Диоскора на сковороду, он воскликнул громким голосом: «благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что в число рабов твоих принимаешь меня, прими с миром душу мою». И, сказав это, испустил дух.
По смерти Диоскора Феодор ввержен был в темницу. Через три дня, когда Феодора повели опять на мучение, пришла мать его, именем Филиппин. Воевода много просил ее, чтобы она уговорила сына принести жертву идолам, но она не послушала его. Тогда воевода велел распять Феодора на кресте, а матери его отрубить голову. Так скончали жизнь свою мученики эти.
**** ТРУДОЛЮБИЕ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА.
В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят. Быт. III, 19.
Таково заглавие и таковой эпиграф в сочинении Тимофея Михайловича Бондарева. Сочинение это прочитано мною в рукописи.
Труд Тимофея Михайловича Бондарева кажется мне очень замечательным и по силе, ясности, и по красоте языка, и по искренности убеждения, видного в каждой строчке, а главное, по важности, верности и глубине основной мысли.
Основная мысль этого сочинения следующая: во всех житейских делах важно бывает не то, что именно хорошо и нужно знать, а то, что из всех хороших и нужных вещей или дел — что есть самой первой важности, что второй, что третьей и т. д.
Если это важно в житейских делах, то тем более это важно в деле веры, определяющей обязанности человека.
Татиан, учитель первых времен церкви, говорит, что несчастие людей происходит не столько оттого, что люди не знают Бога, сколько оттого, что люди признают ложного Бога, считают Богом не тò, что есть Бог. То же можно сказать и про учение об обязанностях людей. Несчастие и зло людей происходит не столько оттого, что люди не знают своих обязанностей, сколько оттого, что они признают ложные обязанности, что они признают своею обязанностью не то, что есть их обязанность, и не признают своей обязанностью того, чтò и есть главная их обязанность. Бондарев утверждает, что несчастие и зло людей произошли оттого, что они признали своими религиозными обязанностями много пустых и вредных постановлений, а забыли и скрыли от себя и других свою главную, первую, несомненную обязанность, выраженную в первой главе Св. Писания: «в поте лица снеси хлеб твой».
Для людей, верующих в святость и непогрешимость слова Божьего, выраженного в Библии, заповедь эта, данная самим Богом и нигде не отмененная, есть достаточное доказательство ее истинности. Для людей же, не признающих Св. Писания, значение и истинность этого положения, если мы только без предубеждения будем рассматривать его как простое, не сверхестественное выражение человеческой мудрости, доказывается обсуждением условий жизни людей, как и делает это Бондарев в своем сочинении.
Препятствием к такому обсуждению, к сожалению, служит то, что многие из нас так привыкли к превратным и бессмысленным толкованиям богословами слов Св. Писания, что одно упоминание о том, что известное положение совпадает со Св. Писанием, уже служит поводом к тому, чтоб с презрением относиться к такому положению.
«Что для меня значит Св. Писание! мы знаем, что на нем можно основать все, что хочешь, и что там всё — вранье». Но это несправедливо: ведь Св. Писание не виновато в том, что люди ложно толковали его, и человек, высказывающий истину, не виноват в том, что он говорит ту самую истину, которая сказана в Св. Писании.
Надо не забывать того, что если допустить, что то, что называется Св. Писанием, не есть произведение Бога, а людей, то что именно это людское писание, а не какое-нибудь другое, принято людьми за писание самого Бога, имеет же какую-нибудь причину.
И причина эта ясна.
Писание это названо суеверными людьми Божьим потому, что оно выше всего того, что знали люди; и потому тоже, что Писание это, несмотря на то, что его постоянно отрицали люди, дошло до нас и продолжает считаться божеским. Писание это названо божеским и дошло до нас только потому, что в нем заключается высшая человеческая мудрость. И таково во многих местах своих Писание, называемое Библией.
И таково в этом Писании то забытое, пропущенное и непонятое в его настоящем смысле изречение, которое Бондарев изъясняет и ставит во главу угла.
Изречение это и весь миф райской жизни, обыкновенно, понимаются в прямом смысле, именно в том, что всё действительно так было, как это описывается, а между тем смысл всего этого места тот, что оно в образной форме представляет те противоречивые стремления, которые находятся в человеческой природе.
Человек боится смерти и подлежит ей; человек, не знающий добра и зла, кажется счастливее, но он неудержимо стремится к этому познанию. Человек любит праздность и удовлетворение похотей без страданий, и вместе с тем только труд и страдания дают жизнь ему и его роду.
Изречение это важно не потому, что оно будто бы сказано Богом самому Адаму, а и потому, что оно истинно; оно утверждает один из несомненных законов человеческой жизни. Закон тяготения не потому истинен, что он сказан Ньютоном, а потому я знаю Ньютона и благодарен ему, что он открыл мне вечный закон, осветивший для меня целый ряд явлений.
То же самое и с законом: «в поте лица снеси хлеб твой». Это закон, который разъясняет для меня целый ряд явлений.
И раз узнав его, я не могу уже его забыть и благодарен тому, кто мне открыл его.
Закон этот кажется очень простым и давно известным, но это так только кажется и, чтобы убедиться в противном, стòит только оглянуться вокруг себя. Люди не только не признают этого закона, но признают как раз обратное. Люди по своей вере все, от царя до нищего, стремятся не к тому, чтобы исполнить этот закон, а к тому, чтобы избегнуть исполнения его. Разъяснению вечности, неизменяемости этого закона и неизбежности бедствий, вытекающих из отступления от него, и посвящено вышеназванное сочинение Бондарева.
Бондарев называет этот закон первородным и главою всех других законов.
Бондарев доказывает, что грех (то есть ошибки, ложные поступки) происходят только от отступления от этого закона. Из всех положительных обязанностей человека Бондарев считает главною, первою и неизменною обязанностью каждого человека работать своими руками хлеб, разумея под хлебом всю тяжелую, черную работу, нужную для спасения человека от голодной и холодной смерти, то есть и хлеб, и питье, и одежду, и жилье, и топливо.
Основная мысль Бондарева та, что закон этот (закон о том, что человек, чтобы жить, должен работать), признаваемый до сих пор как необходимость, должен быть признан как благой закон жизни, обязательный для каждого человека.
Закон этот должен быть признан как религиозный закон, как соблюдение субботы, обрезания у евреев, как исполнение таинств, поста у церковных христиан, как пятикратная молитва у магометан. Бондарев говорит в одном месте, что если только люди признают хлебный труд своею религиозною обязанностью, то никакие частные особенные занятия не могут помешать им исполнять это дело, как не могут никакие специальные занятия помешать церковным людям исполнять праздность своих праздников. Праздников насчитывается больше 80-ти, а для исполнения хлебной работы нужно, по расчету Бондарева, только 40 дней.
Как ни странно кажется сначала, чтобы такое простое, всем понятное, ничего не имеющее хитрого и мудрого средство могло бы служить спасением от существующих бесчисленных зол человечества, еще страннее, когда вдумаешься в это, покажется то, как можем мы, имея столь простое и ясное, давно всем известное средство, оставляя его, искать излечения наших зол в разных хитростях и мудростях. А вдумайтесь в дело, и вы увидите, что это так.
Человек бы не вделал дна в кадушке и придумывал бы все хитрые средства, чтоб удержать в ней воду. Это все наши заботы об излечении существующих зол.
В самом деле, отчего происходят бедствия людей, если исключить из числа бедствий те, которые люди прямо наносят друг другу убийствами, казнями, острогами, драками и всякими жестокостями, в которых они грешат тем, что не воздерживаются от насилия? Все бедствия людей, за исключением прямого насилия, происходят от голода, лишений всякого рода, отягчения в работе и рядом с этим от излишества, праздности и вызываемых ими пороков. Какая же может быть наиболее священная обязанность человека, как не та, чтобы содействовать уничтожению этого неравенства, этих бедствий нужды в одних и бедствий соблазнов в других? И чем может человек содействовать уничтожению этих бедствий, как не участием в труде, покрывающем нужду людей, и удалением от себя излишеств и праздности, производящих пороки и соблазны, то есть не тем, чтобы каждому работать хлебный труд, кормиться своими руками, как говорит Бондарев?
Мы так запутались, наставив себе столько законов и религиозных, и общественных, и семейных, столько правил, как говорит Исаия: правило на правило, правило здесь, правило там, что потеряли совершенно смысл того, что хорошо и что дурно.
Человек служит обедню, другой собирает войско или подати на него, третий судит, четвертый изучает книги, пятый лечит, шестой учит людей и под этими предлогами, освобождая себя от хлебного труда, наваливает его на других и забывает то, что люди мрут от напряжения, труда и голода и что для того, чтобы было петь кому обедню, кого защищать войском, кого судить, кого лечить, учить, надо, чтобы прежде всего этого люди не мерли с голоду. Мы забываем то, что много может быть обязанностей, но что из всех их есть первая и есть последняя и что нельзя исполнять последнюю, не исполнив первую, как нельзя бороновать не пахавши.
Вот к этой первой несомненной обязанности в области практической деятельности и возвращает нас учение Бондарева. Бондарев показывает, что исполнение этой обязанности не мешает ничему, не представляет никаких препятствий и вместе с тем спасает людей от бедствий нужды и соблазна. Исполнение этой обязанности прежде всего уничтожает то страшное разделение на два класса, ненавидящих друг друга и ласкательством прикрывающих свою взаимную ненависть. Хлебный труд, говорит Бондарев, сравняет всех и подсечет крылья роскоши и похоти.
Нельзя пахать и копать колодцы в дорогих платьях и с чистыми руками и питаясь утонченными кушаньями. Занятие одним, общим всем людям, святым делом сблизит людей. Хлебный труд, говорит Бондарев, даст разум тем, которые потеряли его, удалившись от свойственной человеку жизни, и даст счастие и довольство людям, имеющим несомненно полезное и радостное, назначенное самим Богом или законами природы дело.
Хлебный труд, говорит Бондарев, есть лекарство, спасающее человечество. Признай люди этот первородный закон законом божеским и неизменным, признай каждый своей неотменной обязанностью хлебный труд, то есть то, чтобы самому кормиться своими трудами, и люди все соединятся в вере в одного Бога, в любви к друг другу, и уничтожатся бедствия, удручающие людей.
Мы так привыкли к порядку жизни, признающему обратное, именно то, что богатство, средство не работать хлебный труд, есть или благословение Божие, или высшее общественное положение, что нам так и хочется, не разбирая этого положения, признать его узким, односторонним, пустым, глупым. Но надо серьезно разобрать дело и обсудить это положение, справедливо ли оно. Обсуживаем же мы всякого рода и религиозные и политические теории. Обсудим и теорию Бондарева, как теорию. Посмотрим, что будет, если, по мысли Бондарева, проповедь религиозная направит свои силы на разъяснение этого закона, и все люди признают священный первородный закон труда.
Все будут работать и есть хлеб своих трудов, и хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи.
Что будет тогда?
Будет то, что не будет людей, гибнущих от нужды. Если один человек, вследствие несчастных случайностей, не заработает достаточно для своего и своей семьи корму, другой человек, вследствие благоприятных условий приобретший лишнее, даст неимущему. Даст уже потому, что девать ему хлеба больше некуда, так как он не продается. Будет то, что человек не будет иметь соблазна необходимости хитростью или насилием приобрести хлеб. И, не имея этого соблазна, он не будет употреблять насилия или хитрости. Ему не нужно уже это будет, как это ему нужно теперь. Если он употребит хитрость или насилие, то уже только потому, что он любит хитрость и насилие, а не потому, что они ему необходимы, как теперь.
Для слабых же, тех, которые не в силах почему-нибудь заработать свой хлеб или которые почему-нибудь потеряли его, тоже не будет нужды продавать себя, свой труд и иногда свою душу для приобретения хлеба.
Не будет того теперешнего стремления всех избавить себя от хлебного труда и наложить его на других, стремления задавить слабых работою и освободить сильных от всякой работы.
Не будет того настроения мысли человеческой, по которому все усилия человеческого ума направляются не на то, чтобы облегчить труд трудящихся, а облегчить и украсить праздность празднующих. Участие всех в хлебном труде и признание его головой всяких дел людских делает то, что сделал бы человек с телегою, которую глупые люди везли бы вверх колесами, когда бы он перевернул ее и поставил бы на колеса. И не сломает телегу, и пойдет она легко.
А наша жизнь с презрением и отрицанием хлебного труда и наши поправки этой ложной жизни — это телега, которую мы везем вверх колесами. И все наши поправки этого дела не попользуют, пока не повернем телегу и не поставим ее, как ей стоять должно.
Такова вполне разделяемая мною мысль Бондарева.
Мысль его представляется мне еще и так: было время, когда люди ели друг друга. Сознание единства всех людей развилось до того, что это стало людям невозможно, и они перестали есть друг друга. Потом было время, что люди силою отнимали труд других и обращали людей в рабство. Сознание людей развилось до того, что это стало невозможно. Насилие, удержавшись в скрытых формах, уничтожилось в своем грубом проявлении: человек уже не завладевает прямо трудом другого. В наше время существует та форма насилия, что люди, пользуясь нуждою других, покоряют их себе. По мысли Бондарева, теперь наступает время того сознания единства людей, что людям сделается невозможным пользоваться нуждой, то есть голодом и холодом других для покорения их себе, и что для этого люди, признав обязательным закон хлебного труда для каждого, признают своею обязанностью безусловно, без продажи предметов первой необходимости, в случае нужды, кормить, и одевать, и согревать друг друга.
Еще с другой стороны я смотрю на это сочинение Бондарева так: часто приходится слышать суждения о том, что недостаточно одних отрицательных законов или заповедей, то есть правил о том, чего не должно делать. Говорят: нужны положительные законы или заповеди, нужны правила, что именно должно делать. Говорят, что пять заповедей Христа: 1) не считать никого ничтожным или безумным и не гневаться ни на кого; 2) не смотреть на совокупление как на предмет удовольствия, не покидать того супруга или той супруги, с которыми раз сошелся; 3) никому ни в чем не клясться, не связывать своей воли; 4) переносить обиды и насилия и не противиться им насилием и 5) не считать никаких людей врагами, любить врагов так же, как и близких, — говорят, что эти пять заповедей Христа все предписывают только то, чего не должно делать, а нет заповеди или закона, предписывающего, что именно должно делать.
И действительно, может показаться странным, почему нет в учении Христа таких же определенных заповедей о том, что именно должно делать. Но это может казаться странным только тому, кто не верит в самое учение Христа, заключающееся не в пяти заповедях, а в самом учении истины.
Учение истины, выраженное Христом, не находится в законах и заповедях, оно находится в одном — в смысле, придаваемом жизни. Смысл этого учения в одном — в том, что жизнь и благо жизни не в личном счастии, как это думают люди, а в служении Богу и людям. И это положение не есть предписание, которое должно исполнять для получения за исполнение награды, не есть мистическое выражение чего-то таинственного и непонятного, а есть откровение скрытого прежде закона жизни, есть указание того, что жизнь может быть благом только при таком понимании жизни. И потому всё положительное учение истины Христа выражено в одном: люби Бога и ближнего как самого себя. И никаких разъяснений этого положения быть не может. Оно одно, потому что оно всё. Закон и заповеди Христа, как законы и заповеди иудейские и буддийские, суть только указания тех случаев, в которых соблазны мира отвлекают людей от истинного понимания жизни. И потому законов и заповедей может быть много; учение же положительное о жизни, о том, что должно делать, может быть только одно.
Жизнь каждого человека есть движение куда-то; хочет — не хочет, он движется, живет. Христос указывает человеку его путь и притом показывает те повертки с истинного пути, которые могут свести его на ложный. И таких указаний может быть много; это заповеди.
Христос дает пять таких заповедей и те, которые он дал, таковы, что до сих пор нельзя ни прибавить, ни откинуть ни одной. Но указание пути дано только одно, не может быть больше одной прямой, показывающей направление.
Поэтому мысль о том, что в учении Христа есть только отрицательные заповеди, а нет положительных, справедлива для тех только, которые не знают или не верят в самое учение истины, в самое направление истинного пути жизни, указанного Христом. Люди же, верующие в истинность пути жизни, указанного Христом, не могут искать положительных заповедей в учении Христа. Вся положительная деятельность, самая разнообразная, вытекающая из учения об истинном пути жизни, ясна и всегда несомненно определена для них.
Люди, верующие в путь жизни, подобны, по изречению Христа, источнику воды живой, то есть бьющему из земли источнику. Вся их деятельность подобна течению воды, которая течет всюду, везде, несмотря на препятствия, задерживающие ее. Человек, верующий в учение Христа, так же мало может спрашивать, что ему положительного делать, как не может этого спрашивать источник воды, бьющей из земли. Он течет, напояя землю, траву, деревья, птиц, животных, людей. То же делает и человек, верующий в учение Христа о жизни.
Человек, верующий учению Христа, не будет спрашивать, что ему делать. Любовь, которая станет силой его жизни, верно и несомненно укажет ему, где и что прежде и что после делать.
Не говоря уже о тех указаниях, которыми переполнено учение Христа о том, что первое и самое настоятельное дело любви в том, чтобы накормить алчущего, напоить жаждущего, одеть голого, помочь бедному и заключенному, — и разум, и совесть, и чувство — всё влечет нас к тому, чтобы прежде всех других дел любви к живым людям поддерживать эту жизнь братьев своих, избавлять их от страданий и смерти, которые их постигают в их непосильной борьбе с природой, то есть влечет нас к первому, нужному для жизни людей делу — к самому первому, грубому, тяжелому труду на земле.
Как источник воды не может спрашивать, куда ему посылать свою воду, — вверх ли брызгать на траву и листья деревьев или вниз к кореньям трав и деревьев, так точно человек, верующий учению истины, не может спрашивать, что ему нужно прежде делать: поучать ли людей, защищать их, забавлять их, давать им приятности жизни пли поддерживать их, гибнущих от нужды жизни. И точно так же, как источник течет на поверхности и наполняет пруды, напояет животных и людей только после того, как он напоил землю, точно так же и человек, верующий учению истины, может содействовать менее настоятельным потребностям людей только после того, как удовлетворил первой потребности, то есть когда он содействовал прокормлению людей, избавлению их от погибели вследствие борьбы с нуждой. Человек, исповедующий не на словах, а на деле учение истины и любви, не может ошибиться в том, куда он должен прежде всего направить свою деятельность. Никогда человек, полагающий смысл своей жизни в служении другим, не может ошибиться так, чтобы начать служить голодному и холодному человечеству писанием резолюций, отливанием пушек, деланием изящных предметов или игрой на скрипке или на фортепьяно.
Любовь не может быть глупа.
Как любовь к одному человеку не позволит читать романы голодному или навешивать дорогие серьги холодному, так и любовь к людям не может допустить того, чтобы можно было служить им тем, чтобы веселить сытых, оставляя умирать от нужды холодных и голодных.
Любовь истинная — не на словах, а на деле — не только не может быть глупа, но только одна любовь дает истинную проницательность и мудрость.
И потому человек, проникнутый любовью, не ошибется и будет всегда прежде делать то, чего прежде всего требует любовь к людям, — то, что поддерживает жизнь голодных, холодных и удрученных, а поддерживает жизнь голодных, холодных и удрученных борьба, прямая борьба с природой.
Только тот, кто хочет обмануть себя и других, может во время опасности и борьбы людей с нуждою отстраняться от помощи, увеличивать нужду людей и уверять себя и тех, которые гибнут на его глазах, что он занят или придумывает для них средства спасения.
Ни один искренний человек, полагающий свою жизнь в служении другим, не скажет этого. И если он скажет это, то никогда в своей совести он не найдет подтверждения своему обману, он найдет его только в коварном учении о разделении труда. Во всех же выражениях истинной мудрости людской — от конфуцианства и до магометанства — он найдет одно, найдет это с особенною силою в Евангелии, найдет требование служения людям не по теории разделения труда, а самым простым, естественным и единственно нужным способом, найдет требование служения больным, заключенным, голодным и холодным.
А оказать помощь больным, заключенным, голодным и холодным нельзя иначе, как своим непосредственным, сейчасным трудом, потому что больные, голодные и холодные не ждут, а умирают от голода и холода.
Человеку, исповедывающему учение истины, самая его жизнь, состоящая в служении другим, укажет на тот самый первородный закон, который выражен в первой книге Бытия: «в поте лица снеси хлеб твой», который Бондарев называет первородным и выставляет положительным.
Закон этот, действительно, таков для людей, непризнающих того смысла жизни, который открыт людям Христом, и таков он был для людей до Христа, и таким он останется для людей, не признающих учения Христа. Он требует того, чтобы каждый, по воле Бога, выраженной и в Библии и в разуме, кормился своим трудом. Закон этот положительный. Таков этот закон до тех пор, пока людям не открыт смысл жизни людей в учении истины.
Но с высшим сознанием смысла жизни, открытого Христом, закон о хлебном труде, оставаясь столь же истинным, становится уже частью единого положительного учения Христа о служении людям и получает значение уже не положительного, но отрицательного закона. Закон этот при христианском сознании указывает только на старый соблазн людей, на то, чего не должен делать человек для того, чтобы не сойти с пути истинной жизни.
Для ветхозаветного, не признающего учение истины человека закон этот имеет такой смысл: работай своими руками хлеб. Для христианина же значение его отрицательное. Закон этот говорит: не полагай возможным служить людям, поглощая чужие труды и не работая сам себе пропитания своими руками.
Закон этот для христианина есть указание на один из древнейших и страшнейших соблазнов, от которого страдают люди. Против этого-то соблазна, страшного по своим последствиям и столь старого, что мы с трудом можем признать этот соблазн не естественным свойством человека, а обманом, и направлено это учение Бондарева — учение, одинаково обязательное и для верующего в Писание ветхозаветного человека, и верующего в Писание христианина, и неверующего в Писание человека, следующего одному здравому смыслу.
Я бы многое мог и многое хочется мне написать, чтобы доказать истинность этого положения и опровергнуть те разнообразные и сложные доводы против него, которые на устах каждого из нас: мы знаем, что мы виноваты и потому всегда готовы с оправданием. Но сколько бы я ни писал, как бы хорошо ни писал, как бы я ни был логически прав, я не убежду читателя, если он будет бороться своим рассудком против моего и сердце его будет оставаться холодно.
И потому я прошу тебя, читатель, хоть на время остановить деятельность твоего ума, не спорь, не доказывай, а спроси только свое сердце. Кто бы ты ни был, как бы ни был одарен, как бы ты ни был добр к людям, окружающим тебя, в каких бы ты ни был условиях, можешь ли ты быть спокоен за своим чаем, обедом, за своим государственным, художественным, ученым, врачебным, учительским делом, когда ты слышишь или видишь у своего крыльца голодного, холодного, больного, измученного, человека? Нет. А, ведь он всегда тут, не у крыльца, так за 10 сажен, за 10 верст. Они есть, и ты знаешь это.
И ты не можешь быть спокоен, не можешь иметь радости, не отравленной этим. Чтобы тебе не видать их у крыльца, тебе надо отгородиться от них, отвадить их от себя своей холодностью или уехать куда-нибудь, где их нет. Но они везде есть.
А если бы и нашлось место, где бы ты не видал их, то от сознания истины никуда не уедешь. Как же быть?
Ты сам это знаешь, и учение истины говорит это тебе.
Спустись до низу (до того, что тебе кажется низом, но что есть верх), встань рядом с теми, которые кормят голодных, одевают холодных; не бойся ничего: хуже не будет, а будет лучше во всех отношениях. Стань в ряд, возьмись неумелыми, слабыми руками за то первое дело, которое кормит голодных, одевает холодных, — за хлебный труд, за борьбу с природой, и ты почувствуешь в первый раз ту твердую почву под ногами, почувствуешь то, что ты дома, что тебе свободно, прочно, итти больше некуда, и ты испытаешь те цельные неотравленные радости, которых ты не найдешь нигде, ни за какими дверями, ни за какими гардинами.
Ты узнаешь радости, каких ты не знаешь; ты узнаешь в первый раз тех простых сильных людей, твоих братьев, которые вдалеке от тебя до сих пор кормили тебя, и ты, к удивлению своему, увидишь в них такие доблести, которых ты не знал прежде, ты увидишь в них такую скромность, такую доброту к тебе именно, которых, ты почувствуешь, ты не заслуживаешь.
Вместо презрения, насмешки, которых ты ожидал, ты увидишь такую ласку, такую благодарность, уважение к тебе за то, что ты, после того как всю свою жизнь жил ими и презирал их, что ты вдруг опомнился и неумелыми руками хочешь помочь им.
Ты увидишь, что то, что казалось тебе островком, на котором ты сидел, спасаясь от заливающего тебя моря, что этот-то островок есть болото, в котором ты потопал, а что то море, которого боялся, что это-то и есть суша, по которой ты пойдешь твердо, спокойно, радостно, как и не может быть иначе, потому что из обмана, в который ты не сам вошел, а тебя завели, ты выберешься в истину, от уклонения от воли Бога ты перейдешь к ее исполнению.
ПЕЧАТНЫЕ ВАРИАНТЫ
«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ».
Варианты текстов: журнала «Детский отдых» 1881 г. № 121, издания «Посредника» 1886 г. и «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть двенадцатая. М. 1886.
Стр. 7, строка 25.
Вместо слова: сапожной — в изд. «Посредн.»: сапожною
Стр. 7, строка 32.
Слова: на рубаху — в изд. «Посредн.» стоят после слова: надел
Стр. 8, строка 1.
Вместо: с мужиков, — в изд. 1886 г. и «Детск. отдыха» с мужика,
Стр. 7, строки 14—15.
С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши тепло было и без шубы. — Этой фразы в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 8, строки 30—31.
Вместо: за самой за часовней — в изд. 1886 г.: за самой часовней
Стр. 9, строка 17.
Слова: Повернулся Семен и пошел к человеку — в изд. «Посредн.» отнесены ко II-й главе и после них поставлена точка с запятой.
Стр. 9, строки 24—25.
Вместо: И с этого — в изд. «Посредн.»: С этого
Стр. 9, строка 34.
После: Снял, было Семен — в «Детск. отд.»: шапку рваную картуз — в изд. «Посредн.»: с головы
Стр. 10, строки 7—8.
Вместо: Раскачивайся-ка! — в изд. «Посредн.»: Раскачивайся!
Стр. 10, строка 24.
Вместо: так пойдем — в рукописи по ошибке переписчика: заходи. Это внесено в изд. «Посредн.» и все другие издания.
Стр. 10, строка 26.
Вместо: Идет Семен — в изд. 1886 г.: Подходит Семен ко двору.
Стр. 10, строка 36.
Слово: задумалась, — в изд. «Посредн.» один раз.
Стр. 10, строка 37.
Слово: нынче — во всех трех изданиях ныне
Стр. 11, строка 13.
Вместо: А то вот — в изд. «Посредн.»: А вот
Стр. 11, строка 33.
Вместо: собери — в «Детск. отд.»: давай
Стр. 12, строка 9.
Вместо: Трифонов — в изд. «Посредн.»: Трофимов
Стр. 12, строка 22.
Слово: всё — в изд. «Посредн.» пропущено.
Стр. 12, строка 30.
Вместо: в швах — в изд. «Посредн.»: на швах
Стр. 13, строка 6.
Вместо: изругаться, — в изд. «Посредн.»: изругнуться
Стр. 14, строка 3.
Стр. 14, строка 17.
Слова: Живы будем, сыты будем. — в изд. «Посредн.»: Живы будем и сыты будем.
Стр. 14, строка 33.
Вместо: Чего ж, — в изд. «Посредн.»: Что ж;
Стр. 15, строка 7.
Вместо: пряжу, — в «Детск. отд.» и изд. «Посредн.»: дратву не сученую
Стр. 15, строка 7.
Вместо: делать конец, — в «Детск. отд.»: сучить
Стр. 15, строка 11.
Перед: Показал ему Семен — в «Детск. отд.»: ссучил концы Михайла показал
Стр. 16, строка 19.
Вместо: плачен. — в изд. «Посредн.»: заплачен
Стр. 16, строка 26.
Вместо: ты на кого — в изд. «Посредн.»: на кого.
Стр. 16, строка 26.
Вместо: из какого — в изд. «Посредн.»: да из какого
Стр. 16, строка 38.
Вместо: чтобы год не кривились, не поролись — в изд. «Посредн.»: чтобы не кривились и не поролись.
Стр. 16, строка 39.
Вместо: Крикнул — в изд. «Посредн.» и «Детск. отд.»: Кликнул
Стр. 17, строка 11.
Слова: говорит — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 17, строка 29.
Слов: Этого долбней не убьешь. — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 19, строка 22.
Вместо: повернулся — в изд. «Посредн.»: перевернулся
Стр. 19, строка 34.
Вместо: Чтò надо — в «Детск. отд.»: Чего надо
Стр. 20, строка 1.
Вместо: да всё — в изд. «Посредн.»: да всё же
Стр. 20, строка 6.
Слово: думает, — взято из корректуры в рукописи трудно читается, поэтому в изданиях пропущено.
Стр. 20, строка 27.
Перед: его так — в «Детск. отд.»: так его так
Стр. 20, строка 36.
После: Соседи — в изд. «Посредн.»: с нами
Стр. 21, строка 11.
Вместо: девчонок — в изд. «Посредн.»: девочек
Стр. 21, строка 28.
Слова: И вздохнула Матрена и говорит: — в изд. «Посредн.» по ошибке пропущены.
Стр. 21, строки 31—32.
Слова: Поговорили они так кончая: А он сидит — берем из изд. «Посредн.». В «Детск. отд.», изд. 1886 г. и всех последующих это изложено так: Говорят они так промеж себя, и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михайла. Оглянулись все на него и видят: сидит Михайла,
Стр. 21, строка 34.
Слова: Подошел к нему Семен. Что, говорит, ты Михайла! Встал Михайла — берем из изд. «Посред.» В «Детск. отд.», изд. 1886 г. и всех последующих печаталось так: Ушла женщина с девочками, встал и Михайла.
Стр. 22, строка 3.
Слòва: тебе — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 22, строка 5.
Слòва: ты — в изд. «Посредника» нет.
Стр. 22, строки 22—23.
Словà: и ослушался Бога. Был я ангел на небе. — в изд. «Посредн.» пропущены.
Стр. 22, строка 34.
Вместо: приложил — в изд. «Посредн.»: и приложил
Стр. 23, строка 7.
Вместо: Богу — в «Детск. отд.»: к Богу
Стр. 25, строка 12.
Вместо: врозь — в изд. «Посредн.» и «Детск. отд.»: врознь
Стр. 25, строка 20.
Вместо: раздвинулся — в «Детск. отд.» и изд. 1886 г.: разинулся
Стр. 25, строка 20.
Вместо: до неба. — в изд. «Посредн.»: и до неба
————
«ИЛЬЯС».
Варианты текста: «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» часть двенадцатая. М. 1886, стр. 116—120.
Стр. 31, строка 24.
Вместо: сноха — в изд. 1886 г.: жена
Стр. 33, строка 33.
Вместо: Удивился гость, — в изд. 1886 г. и следующих: Удивились гости.
Стр. 34, строка 13.
Вместо: грешит и браниться — в изд. 1886 г. и след.: браниться, грешим.
Стр. 34, строка 17.
Слòва: нам после: заботиться — в изд. 1886 г. и след. нет.
«ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ».
Варианты текстов: «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть двенадцатая, М. 1886, стр. 91—104.
Стр. 35, строка 9.
Вместо: другой раз — в изд. 1886 г.: в другой раз
Стр. 35, строка 13:
Вместо: и обманывать — в изд. 1886 г.: обманывать
Стр. 37, строка 22.
Вместо: Прочел — в изд. 1886 г.: прочитал
Стр. 37, строка 40.
Вместо: Ты целования Мне не дал, а она с тех пор, — в изд. 1886 г. случайный пропуск строчки.
Стр. 38, строка 30.
Слòва: даже — в изд. 1886 г. этого слова нет.
Стр. 40, строка 3.
Слова: свой — в изд. 1886 г. нет.
Стр. 41, строка 40.
Вместо: стенке — в изд. 1886 г. стене
Стр. 42, строка 17.
Вместо: и опять — в изд. 1886 г.: стала опять
Стр. 42, строки 20—21.
Вместо: Перекрестилась женщина, перекрестился Авдѣичъ — в изд. 1886: перекрестился.
Стр. 43, строка 30.
Слòва: и — в изд. 1886 г. нет.
Стр. 10, строка 17.
Слòва: всё — в изд. 1886 г. нет.
Стр. 44, строка 20.
Вместо: снял — в изд. 1886 г.: взял
Стр. 44, строка 30.
Вместо: И выступила — в изд. 1886 г.: выступила
«УПУСТИШЬ ОГОНЬ — НЕ ПОТУШИШЬ».
Варианты текстов: издание «Посредника» 1886 г. и «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть двенадцатая, М. 1886, стр. 31—50.
Стр. 50, строка 37.
Вместо: поклонись! — в изд. «Посредника» поклонюсь!
Стр. 53, строка 3.
Вместо: Воздохнул — в изд. 1886 г.: Вздохнул
Стр. 53, строка 20.
Вместо: раздумал — в изд. «Посредн.» — раздумался
Стр. 55, строка 22.
Вместо: оглоушило — в изд. 1886 г.: оглушило
Стр. 55, строка 33.
Слов: Что ж это братцы! — повторил он. — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 55, строка 34.
Вместо: голоса не было — в изд. «Посредн.» не вывел голоса
Стр. 55, строка 35.
Вместо: не двигались... цеплялась — в изд. «Посредн.»: не двигаются... цепляют
Стр. 55, строки 35—36.
После: Пошел шагом — в изд. «Посредн.»: прошел шага два
Стр. 56, строка 2.
Вместо: Гаврилин — в изд. 1886 г.: Гаврилов
Стр. 56, строка 3.
Вместо: Снесло — в изд. «Посредн.»: как метлой смело
Стр. 56, строка 13.
Вместо: потащил его из огня. — в изд. 1886 г.: хотел тащить его
Стр. 56, строка 15.
Вместо: Тогда сын полез за ним — в изд. «Посредн.»: Полез за ним сын
Стр. 56, строки 26—27.
Вместо: сказал старостин... кончая: Иван — в изд. «Посредн.»: Насилу-то понял Иван.
Стр. 57, строка 10.
Вместо: батюшка — в изд. «Посредн.»: ради Христа
Стр. 57, строки 9—10.
Слова: и пал на колени... кончая: сказал — в изд. «Посредн.» после: засопел он носом
Стр. 57, строка 22.
Вместо: батюшка? — в изд. «Посредн.»: будем
Стр. 57, строка 33.
Вместо: не сказал. — в изд. «Посредн.»: не сказывает
Стр. 58, строка 1.
Вместо: норовит не другому за то выместить — в изд. «Посредн.»: норовит не выместить за то другому
«ВРАЖЬЕ ЛЕПКО, А БОЖЬЕ КРЕПКО».
Варианты изд. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая. М. 1886, стр. 107.
Стр. 59, строки 27—28.
Вместо: одежи, одежу — в изд. 1886 г.: одежды, одежду
Стр. 60, строка 35.
Вместо: уставился — в изд. 1886 г.: уставил. В поздн. изданиях: уставил глаза
Стр. 36—37.
После: и он улыбнулся — зачеркнутые в рукописи слова: и опустил глаза на Алеба — по ошибке были включены в изд. 1886 г. и позднейшие.
«ДВА СТАРИКА».
Варианты издания «Посредника» 1886 г. и «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая. М. 1886, стр. 65—90. В изд. 1886 г. указания на стихи Евангелия от Иоанна помещены перед началом каждого стиха; в изд. «Посредн.» — в конце всей цитаты. Сохраняем порядок изд. 1886 г. Украинские фразы вместо русских, помещенные в изд. 1886 г. и изд. «Посредник» и отсутствующие в рукописях, очевидно введенные в корректуре, сохраняются.
Стр. 83, строка 35.
Вместо: 100 рублей — в изд. «Посредн.»: 190 рублей
Стр. 86, строка 40.
Слова: на кровати — в изд. «Посредн.»: на полатях — в изд. 1886 г.: на полу
Стр. 87, строка 40.
Вместо: на кровати в изд. «Посредн.» и изд. 1886 г. — на полатях
Стр. 88, строка 8.
Вместо: а 4-х малых — в изд. «Посредн.» и изд. 1886 г.: а малых
Стр. 90, строка 31.
Вместо: отворил — в изд. 1886 г.: отворить
Стр. 91, строка 27.
Вместо: Петрова дни, — в изд. «Посредн.» и изд. 1886 г.: Петрова дня,
Стр. 92, строка 2.
Слов: или в Иерусалиме — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 92, строка 22.
После: никто не видал. — в изд. «Посредн.»: Научал странник Ефима, как без денег на корабле проехать да не послушал его Ефим Тарасыч. Я, — говорит, — лучше денежки отдам: на то и припасал.
Стр. 92, строки 23—25.
Слов: Выправил Ефим билет заграничный... кончая: селедок на дорогу. — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 92, строки 37—38.
Слов: Только булки белой купил — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 93, строка 6.
Вместо: на третий — в изд. «Посредн.»: на четвертый
Стр. 93, строка 6.
Вместо: по святыням — в изд. «Посредн.» и изд. 1886 г.: по святым.
Стр. 93, строки 9—16.
После: Пошли сначала... кончая: пошли в келью — в изд. «Посредн.» к утрени в патриарший монастырь, помолились, свечи поставили. Поглядели снаружи на храм Воскресения, где самый гроб Господень. Застроен весь храм так, что и не видать его. Только побывали в первый день в келье Марии Египетской, где она спасалась.
Стр. 93, строка 11.
После: молебен отслужили. — в изд. «Посредн.»: Хотели к обедни поспеть к гробу Господню, да опоздали.
Стр. 93, строка 18.
Вместо: Оттуда в Авраамов монастырь ходили — в изд. «Посредн.»: Пошли в монастырь Авраама.
Стр. 93, строка 22.
После: сколько где денег подавать надо. — в изд. «. Посредн.»: и где свечи ставить
Стр. 93, строка 22.
Вместо: К обеду — в изд. «Посредн.»: Опять
Стр. 93, строка 23.
Слова: поели — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 93, строка 38.
Вместо: На утро встали — в изд. 1886 г.: Встали перед вечером
Стр. 94, строка 5.
Вместо: собралось много — в изд. «Посредн.»: видимо-невидимо
Стр. 94, строка 6.
Вместо: Провел их — в изд: «Посредн.»: прошел
Стр. 94, строка 8.
Слов: Всё показывал и рассказывал. — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 94, строки 16—17.
Вместо: привязывали — в изд: «Посредн.» привязали
Стр. 94, строки 34—35.
Слов: где благодатный огонь горит — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 95, строка 39.
Слов: полдён — в изд. «Посредн.» нет. Вместо: полдён — в изд. 1886 г. полдень
Стр. 95, строки 4—5.
Вместо: с благодатным огнем — в изд. «Посредн.»: в святом месте
Стр. 96, строка 5.
Слов: и в восьми местах поминанья записал, — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 96, строка 24.
Вместо: а сама — в изд. «Посредн.»: и сама
Стр. 97, строка 28.
Вместо: упередил — в изд. «Посредн.»: упредил
Стр. 97, строка 36.
Вместо: малый. — в изд. «Посредн.»: сын
Стр. 97, строка 37.
После: дела̀ — в изд. «Посредн.»: всё
Стр. 98, строка 4.
Вместо: о сыне поговорить, — в изд. «Посредн.»: билет отдать
Стр. 98, строка 6.
Вместо: здорововается — в изданиях: здоровкается:
Стр. 99, строка 10.
Вместо: по смерть велел Бог — в изд. «Посредника»: велел Бог по смерть
«СВЕЧКА».
Варианты текстов: издание «Посредника» 1886 г., «Сочинения гр. Л. Н. Толстого, часть двенадцатая, М. 1886, стр. 51—61, и журнал «Книжки Недели», 1886, I, стр. 169—178.
Стр. 108, строка 39.
Вместо: с земским — в изд. «Посредн.»: с земскими
Стр. 112, строка 26.
Вместо: Крикнула на него жена: — до конца в «Книжках Недели» и в изд. «Посредн.»:
Уйди ты, пока цела, не твоего ума дело.
Так и не встал.
На утро встал, взялся за прежнее, да уж не тот стал Михаил Семеныч; видно, чуяло его сердце. Стал тосковать и не стал ни до чего доходить. Всё дома сидел.
Недолго после того и поцарствовал. Приехал Петровками барин. Нынче позовет — приказчик болен, говорят, завтра позовет — болен.
Дознал барин, что пьянствует, ссадил его с приказчиков. Стал Михаил Семеныч на дворне без дела жить. Еще больше заскучал, обовшивел весь, что было пропил, обнизплся так, что у жены платки крал, в кабак носил. Даже мужики жалели, похмелиться давали. И году не прожил после того. От вина и помер.
«СКАЗКА ОБ ИВАНЕ ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ».
Варианты издании: «Посредника» 1886 г. и «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая. М. 1886 г.
Стр. 116, строка 24.
Вместо: по любови — в изд. «Посредн.»: по любви
Стр. 116, строка 29.
Вместо: повыдрали. — в изд. «. Посредн.»: выдрали.
Стр. 118, строка 21.
Слова: что-то — в изд. «Посредн.» и изд. 1886 г. пропущены.
Стр. 121, строка 14.
Вместо: вот — в изд. «Посредн.»: вон
Стр. 127, строка 12.
Вместо: дворная — в изд. «Посредн.»: дворовая.
Стр. 128, строки 24—28.
Слов: Велел он... кончая: таких солдат много — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 128, строка 28.
Вместо: и всех обучил — в изд. «Посредн.» И всех обучил
Стр. 128, строки 28—30.
Слов: И как кто ему... кончая: как ему вздумается — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 128, строка 31.
Слов: И житье ему было хорошее. — кончая: что ему нужно — в изд. «Посредн.» исключены цензурой.
Стр. 128, строки 35—36.
Слов: Завел он: кончая: порядки хорошие — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 128, строка 38.
Слова: и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон в изд. 1886 г. исключены цензурой.
Стр. 128—129, строки 37—1.
Слов: Взыскивал он — кончая: все у него есть — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 129, строки 10—23.
Слов: Ему и говорят, — кончая: значит, ему нужно. — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 129, строка 32.
Вместо: подсоблять: — в изд. 1886 г. пособлять.
Стр. 130, строка 8.
Вместо: оборотился — в изд. 1886 г. и «Посредн.»: обратился.
Стр. 130, строки 14—17.
Слов: Первое дело — кончая: Второе дело надо — в изд. «Посредн.» нет, исключены цензурой.
Стр. 130, строка 17—18.
Вместо: Второе дело — надо ружья... завести. — в изд. «Посредн.»: Ружья... заведи.
Стр. 131, строка 14.
Вместо: Тарас-царь — в изд. «Посредн.»: Тарас
Стр. 131, строка 16.
Слов: новые затеи затевать — в изд. «Посредн.»: нет.
Стр. 131, строка 17.
Вместо: дворец — в изд. «Посредн.»: дом.
Стр. 131, строки 18—19.
Вместо: Тарас-царь — в изд. «Посредн.»: Тарас
Стр. 131, строка 28.
Вместо: Тарас-царь — в изд. «Посредн.»: Тарас
Стр. 131, строка 24.
Вместо: Тараса-царя — в изд. «Посредн.» у Тараса.
Стр. 131, строка 23.
Слова: царскую — в изд. «Посредн.» нет, исключено цензурой.
Стр. 131, строка 23.
Вместо: дворец царский — в изд. «Посредн.»: дом Тарасов.
Стр. 131, строка 25.
Слова: царь — в изд. «Посредн.» нет.
Стр. 131, строка 27.
Вместо: Тарас-царь — в изд. «Посредн.»: Тарас
Стр. 131, строка 31.
Вместо: Понадобилось Тарасу-царю — в изд. «Посредн.»: Понадобилось Тарасу.
Стр. 131, строка 33.
Вместо: царские — в изд. «Посредн.»: Тараса
Стр. 131, строка 35.
Слова: за подати — в изд. «Посредн.» исключены цензурой.
Стр. 131, строки 36—37.
Вместо: у царя... царь — в изд. «Посредн.»: у Тараса — Тарас — изменено цензурой.
Стр. 132, строка 1.
Слов: за подати — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 132, строка 3.
Вместо: Тарас-царь — в изд. «Посредн.»: Тарас
Стр. 132, строка 4.
Вместо: на самой на границе — в изд. «Посредн.»: на самой границе
Стр. 132, строка 5.
Вместо: от царя — в изд. «Посредн.»: от него
Стр. 132, строка 7.
Вместо: у царя и жену его — в изд. «Посредн.»: и самого Тараса — изменено по цензурным соображениям.
Стр. 132, строка 2.
Слов: к гузну̀ в изд. 1886 г. и изд. «Посредн.» нет.
Стр. 133, строка 12.
Слов: Пошли дураки к воеводе — кончая: в солдаты идти — в изд. «Посредн.» нет; исключены цензурой.
Стр. 134, строка 17.
Слова: начали по царскому указу делать. — в изд. «Посредн.» исключены цензурой.
Стр. 134, строка 17.
Фраза, нач. словом: Стали — в изд. «Посредн.» соединена с предыдущей.
Стр. 136, строки 4—5.
Слова: с нас платы — кончая: нейдет — в изд. «Посредн.» исключены цензурой.
Стр. 38, строка 4.
Вместо: всё еще лопочет — в изд. «Посредн.»: всё лопочет
КРЕСТНИК.
Варианты журнала «Книжки недели» 1886, апрель, стр. 121—141.
Стр. 147, строка 11.
После: Пошел — в «Кн. нед.»: он
Стр. 148, строка 5.
После: домой — в «Кн. нед.»: запрег
Стр. 148, строка 14.
Вместо: окрестили — в «Кн. нед.»: и окрестили
Стр. 148, строка 18.
После: возростать — в «Кн. нед.»: и выростал
Стр. 148, строка 26.
Вместо: И говорит ему отец: — в «Кн. нед.»: И говорит ему отец с матерью
Стр. 148, строка 32.
Вместо: Отпусти — в «Кн. нед.»: Отпустите
Стр. 149, строка 22.
После: прямо — в «Кн. нед.»: да прямо
Стр. 149, строка 25.
Вместо: палаты — в изд. 1886 г. ошибочно: палатка
Стр. 149, строки 30—31.
Вместо: Вышел на полянку и видит — среди полянки сосна, а на сосне — в «Кн. нед.»: Увидал мальчик полянку и среди полянки сосна.
Стр. 149, строка 30.
После: среди полянки сосна — в «Кн. нед.»: Пришел мальчик и стал смотреть. Видит мальчик
Стр. 149, строки 31.
После: укреплена — в «Кн. нед.»: высоко
Стр. 149 строка 31—32.
Вместо: чурбан — в «Кн. нед.»: чурбак; вместо: чурбаном — чурбаком
Стр. 149—150, строки 32, 33, 1, 2, 3 и 6.
Вместо: чурбан — в «Кн. нед.»: чурбак
Стр. 150, строка 9.
Вместо: чурбан назад — в «Кн. нед.»: назад чурбак
Стр. 150, строка 10.
Вместо: чурбан — в «Кн. нед.»: чурбак
Стр. 150, строка 11.
Слов: да пустит его... кончая: вверх — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 150, строка 13.
Вместо: чурбан — в «Кн. нед.»: чурбак
Стр. 150, строка 15.
Вместо: налетел — в «Кн. нед.»: полетел
Стр. 150, строка 15.
После: по башке — в «Кн. нед.»: череп разбил
Стр. 150, строка 29.
Вместо: печати — в «Кн. нед.»: печать
Стр. 150, строка 29.
Вместо: не велю я тебе — в «Кн. нед.»: не надо тебе в эту дверь ходить
Стр. 150, строка 29.
После: Живи ты — в «Кн. нед.»: здесь сколько хочешь
Стр. 150, строка 31.
Вместо: заказ: — в «Кн. нед.» ошибочно: закон
Стр. 150, строка 33.
После: и ушел. — в «Кн. нед.»: от крестника
Стр. 150, строка 33.
Слòва: один — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 151, строка 1.
Вместо: Толконул — в «Кн. нед.»: Толкнул
Стр. 151, строка 1.
После: отворилась дверь. — в «Кн. нед.»: легко
Стр. 151, строки 1—2.
После: Вошел крестник — в «Кн. нед.»: в двери
Стр. 151, строка 6.
Вместо: вдруг — в «Кн. нед.»: и вдруг
Стр. 151, строка 8.
После: чтò в миру люди делают. — в «Кн. нед.»: И подумал крестник: дай посмотрю, что у нас дома делается.
Стр. 151, строка 13.
Слов: что у нас дома делается. — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 151, строка 14.
После: крестцы стоят — в «Кн. нед.»: не все сложены
Стр. 151, строка 16.
Перед: родитель — в «Кн. нед.»: это
Стр. 151, строка 21.
Вместо: поеду — в «Кн. нед.»: пойду
Стр. 151, строка 28.
После: разыскала — в «Кн. нед.»: дом
Стр. 152, строка 6.
Вместо: много зла на свете прибавил. — в «Кн. нед.»: стал людей судить
Стр. 152, строки 6—7.
Вместо: Коли бы ты еще час посидел, ты бы половину людей перепортил. — в «Кн. нед.»: Медведица раз толконула чурбак — медвежат потревожила, другой раз толконула — пестуна убила, а третий раз толконула — сама себя убила. То же и ты сделал.
Стр. 152, строки 18—19.
Вместо: уж год теперь, как бросил — в «Кн. нед.»: уж год теперь бросил
Стр. 152, строки 19—20.
Вместо: а она с горя пить стала, — в «Кн. нед.»: крепилась, крепилась, да своего завела.
Стр. 152, строка 20.
Слòва: прежняя — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 152, строка 31.
Вместо: Теперь тебе — в «Кн. нед.»: Тебе теперь
Стр. 152, строка 35.
Слòва: теперь — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 152, строка 36.
После: разбойниковы грехи. — в «Кн. нед.»: Если выкупишь, так оба свободны будете. А
Стр. 153, строка 6.
Вместо: Иди ты — в «Кн. нед.»: Иди всё
Стр. 153, строка 13.
Вместо: и выпустил — в «Кн. нед.»: вывел
Стр. 153, строка 13.
После: за ворота. — в «Кн. нед.»: и затворил дверь
Стр. 153, строки 17—18.
Вместо: Как же мне делать... кончая: не снимать. — в «Кн. нед.»: Как же мне это делать, чтобы на себя зла не брать, чужих грехов не снимать?
Стр. 153, строка 25.
Слов: А на дороге — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 153, строка 28.
После: Зачем вы так делаете? — в «Кн. нед.»: Вы так никогда не выгоните.
Стр. 153, строки 32—33.
После: побежала к бабе — в «Кн. нед.»: вышла
Стр. 153, строка 34.
Вместо: и баба рада, и телушка рада. — в «Кн. нед.»: и баба и телушка рады.
Стр. 153, строки 35—36.
Вместо: то больше зла — в «Кн. нед.»: больше зла
Стр. 154, строки 10—14.
Вместо: избу, стала стол мыть... кончая: опять тоже в «Кн. нед.»: все столы и лавки и вытирает их грязными ручниками. Начнет вытирать стол; от грязного ручника полосами грязь по столу. Станет эту грязь в другую сторону стирать. Эту сотрет, новая налипнет. Бросит стол, станет лавку вытирать.
Стр. 154, строка 14.
Вместо: грязным ручником; — в «Кн. нед.»: грязными ручниками
Стр. 154, строка 15.
Вместо: говорит: — в «Кн. нед.»: и говорит
Стр. 154, строка 19.
Вместо: ручник — в «Кн. нед.»: ручники
Стр. 154, строка 19.
Вместо: тогда б — в «Кн. нед.»: тогда бы
Стр. 154, строка 21.
После: вымыла — в «Кн. нед.»: столы, лавки, всё чисто стало
Стр. 154, строка 25.
После: а обод не загибается — в «Кн. нед.»: Помогай Бог, говорит. — Спаси Христос, говорят.
Стр. 154, строка 31.
Вместо: Да вы, братцы, стуло-то укрепите, — в «Кн. нед.»: Да вы бы, братцы, стуло-то укрепили.
Стр. 154, строка 35.
Вместо: гуртовщикам — в «Кн. нед.»: пастухам
Стр. 154, строка 36.
После: разводят — в «Кн. нед.»: они
Стр. 154, строка 37.
После: зажгли — в «Кн. нед.»: и
Стр. 155, строка 1.
Вместо: сырого хворосту. — в «Кн. нед.»: сырой хворост
Стр. 155, строка 2.
Вместо: гуртовщики — в «Кн. нед.»: пастухи
Стр. 155, строка 3.
После: Долго бились — в «Кн. нед.»: так пастухи
Стр. 155, строка 25.
Вместо: гуртовщики — в «Кн. нед.»: пастухи
Стр. 155, строка 26.
Вместо: Занялся хворост, разгорелся костер. — в «Кн. нед.»: Занялись дрова, затрещали
Стр. 155, строка 19.
Вместо: старец — в «Кн. нед.»: старик
Стр. 155, строка 24.
После: как они — в «Кн. нед.»: телушку гоняют и
Стр. 155, строки 30—31.
Вместо: и про мужиков — в «Кн. нед.»: про мужиков
Стр. 155, строка 33.
Вместо: Выслушал старец, вернулся — в «Кн. нед.»: Выслушал старец. Вернулся.
Стр. 156, строка 3.
Слов: три чудака — «в Кн. нед.» нет.
Стр. 156, строка 15.
После: А стал — в «Кн. нед.»: так;
Стр. 156, строка 22—23.
Вместо: мертвый на лавочке — в «Кн. нед.»: на лавочке мертвый
Стр. 156, строка 25.
После: Только выкопал — в «Кн. нед.»: на третий день
Стр. 156, строка 28.
Вместо: старец помер — в «Кн. нед.»: помер старец.
Стр. 156, строка 29.
Похоронили люди — в «Кн. нед.»: с крестником вместе
Стр. 156, строка 29.
Вместо: крестнику — в «Кн. нед.»: ему
Стр. 156, строки 32—33.
Вместо: делает — в «Кн. нед.»: исполняет.
Стр. 156, строка 34.
Вместо: Стало к нему много народу ходить — в «Кн. нед.»: Стали к нему ходить, с ним советоваться, наставленья просить.
Стр. 156, строка 37.
Вместо: И стал так жить крестник — в «Кн. нед.»: И хорошо стало жить крестнику.
Стр. 157, строка 20.
После: А этот злом хвалится. — в «Кн. нед.»: хотел крестник прочь уйти, да подумал.
Стр. 157, строка 20.
Слов: Ничего не сказал в «Кн. нед.» нет.
Стр. 157, строка 32.
Вместо: не послушаю. — в «Кн. нед.»: не слушаю
Стр. 157, строка 37.
Вместо: И тебя бы нынче — в «Кн. нед.»: И сейчас бы тебя
Стр. 157, строка 38.
Вместо: уехал. — в «Кн. нед.»: поехал прочь
Стр. 157, строка 38.
Вместо: И не проезжал больше разбойник — в «Кн. нед.»: С тех пор стал крестник бояться разбойника. Но не проезжал
Стр. 157, строка 40.
Слов: восемь лет — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 158, строка 2.
В «Кн. нед.» глава XI начинается словами: Прожил так крестник еще восемь лет и скучно ему стало.
Стр. 158, строка 3.
Вместо: отдохнуть — в «Кн. нед.» позавтракал
Стр. 158, строка 5.
Слов: и скучно ему стало — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 158, строка 5.
После: раздумался — в «Кн. нед.» нет слова: он
Стр. 158, строка 7.
После: кормится. — в «Кн. нед.»: и обещался 2-х лишних человек убить, за то, что он ему про Бога помянул.
Стр. 158, строка 7.
Вместо: И оглянулся крестник — в «Кн. нед.»: Раздумался крестник, оглянулся.
Стр. 158, строка 15.
Слов: так, чтобы — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 158, строка 16.
Вместо: а новых — в «Кн. нед.»: новых
Стр. 158, строка 10.
Слов: от людей укрыться. — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 158, строки 24—25.
Слов: что хочет он от народа уйти в такое место, чтобы никто к нему не ходил — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 121, строка 29.
Вместо: и про пищу. — в «Кн. нед.»: про пищу.
Стр. 158, строка 40.
После: Не стал его догонять разбойник в «Кн. нед.»: обругался и уехал
Стр. 158—159, строки 40—2.
Слов: только сказал: Два раза простил тебя, старик, в третий не попадайся — убью! Сказал так и уехал. — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 159, строка 3.
Перед: Пошел вечером — в «Кн. нед.»: Перешел крестник на новое место.
Стр. 159, строка 3.
После: Пошел вечером — в «Кн. нед.» нет слова: крестник.
Стр. 159, строка 12.
После: И жил так крестник. — в «Кн. нед.»: хорошо
Стр. 159, строки 12—14.
Слов: Только одно у него горе... кончая: не успеешь грехов выкупить. — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 159, строка 17.
Вместо: свое дело исполнять — в «Кн. нед.»: к реке, набрал в рот воды, полил на головешку, пошел еще; сходил сто раз и
Стр. 159, строка 27.
Вместо: смочил — в «Кн. нед.»: мочил
Стр. 159, строка 18.
Вместо: у головешек — в «Кн. нед.»: у головешки
Стр. 159, строки 19—20.
Слов: и думает... кончая: только подумал так — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 159, строка 21.
Вместо: и думает — в «Кн. нед.»: думает
Стр. 159, строка 21.
Перед: Кроме Бога ни худого, — в «Кн. нед.»: надо схорониться за дерево. А то убьет ни за что, так не успеешь грехов выкупить. Только начал за дерево заходить, да и думает
Стр. 159, строка 21—22.
После слов: ни от кого мне не будет — в «Кн. нед.»: А куда же от него спрячешься. Вышел из-за дерева крестник, не стал прятаться
Стр. 159, строка 22.
Слов: и пошел к разбойнику навстречу — в «Кн. нед.» нет
Стр. 159, строка 25.
После: стал перед лошадью — в «Кн. нед.»: Сказал разбойник: Жив еще? или тебе смерти хочется? — Сказал крестник: (Куда ты...).
Стр. 159, строка 26.
Слòва: говорит — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 159, строка 30.
Вместо: Да не пустил крестник.... кончая: Отпусти, — говорит, — этого человека. — в «Кн. нед.»: Ухватил крестник лошадь за узду, не пускает и просит, чтобы он купцова сына пустил
Стр. 159, строка 33.
Слов: на него — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 159, строки 34—35.
Вместо: Иль, говорит... кончая: убью. Пусти. — в «Кн. нед.»: Пусти, говорит, а то и тебе то же будет. Я на твою святость не посмотрю.
Стр. 159, строка 37.
После: Не боюсь — в «Кн. нед.»: говорит
Стр. 159, строка 40.
Вместо: Отпусти человека. — в «Кн. нед.»: Не пущу, говорит.
Стр. 160, строка 6.
Слòва: еще (после: стал ему) — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 160, строка 16.
После: как они себя мучают. — в «Кн. нед.»: оттого, что Бога не знают
Стр. 160, строка 20.
Вместо: и думает: — в «Кн. нед.»: думает
Стр. 160, строка 20.
После: не поймет. — в «Кн. нед.»: А всё сказать надо — тоже человек
Стр. 160, строка 21.
Вместо: Подумал сперва так, а потом передумал. — в «Кн. нед.»: подумал так и
Стр. 160, строка 21.
После: вышел — в «Кн. нед.»: к нему
Стр. 160, строка 22.
Вместо: Едет разбойник... кончая: Поглядел на него крестник — в «Кн. нед.»: Только увидал разбойника
Стр. 160, строка 24.
Вместо: его за колено. — в «Кн. нед.»: лошадь за повод, остановил его
Стр. 160, строка 28.
Вместо: братец. Перемени — в «Кн. нед.»: понапрасну. Брось.
Стр. 160, строка 29.
Слòва: отвернулся — в «Кн. нед.» нет.
Стр. 160, строка 30.
Вместо: Отстань, в «Кн. нед.»: Пусти
Стр. 160, строки 31—32.
Вместо: Обхватил... кончая: и слезами заплакал. — в «Кн. нед.»: Не пускает крестник и слезами обливается — плачет. Братец, говорит, пожалей себя.
Стр. 160, строка 34.
После: перед крестником на колена. — в «Кн. нед.»: и тоже заплакал.
Стр. 161, строка 2.
Вместо: ты от людей уходил и узнал, — в «Кн. нед.»: увидал
Стр. 161, строка 3.
После: ничего ненужно. — в «Кн. нед.»: И стал я с тех пор тебе сухарей на сук вешать
Стр. 161, строки 8—9.
Перед: смерти не побоялся. — в «Кн. нед.»: за купцова сына послал и
Стр. 161, строка 15.
Вместо: А растаяло — в «Кн. нед.»: И растаяло
Стр. 161, строка 18.
Вместо: головешки были. — в «Кн. нед.»: две яблони были и одна головешка.
Стр. 161, строка 18.
После: Подошли они. — в «Кн. нед.»: нет головешки
Стр. 161, строки 18—19.
Вместо: а из последней головешки тоже — в «Кн. нед.»: а из нее уж третья большая
«РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН».
При ссылках на варианты печатных изданий сделаны такие сокращенные обозначения: издание Элпидина, Женева. 1891 г. обозначен цыфрой 1; Сборник «Помощь голодающим» 1892 г. — 2; изд. Черткова (английское) 1899 г. — 3; 10-е и 11-е изд. С. А. Толстой — 1899—1903 г. — 4; изд. «Свободного Слова» 1904 г. — 5.
Стр. 162, строка 21.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 162, строка 22.
Вместо: царя. — в изд. 2 и 4: воеводу
Стр. 162, строка 24.
Вместо: коляску, — в изд. 2 и 4: коня
Стр. 162, строка 28.
Вместо: царицей — в изд. 2 и 4: княгиней
Стр. 163, строка 1.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода.
Стр. 163, строка 1.
Вместо: дворец. — в изд. 2 и 4: свои палаты
Стр. 163, строка 5.
Вместо: царские царю — в изд. 2 и 4: слуги воеводе
Стр. 163, строка 6.
Слов: во дворец — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 163, строка 9.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 163, строка 10.
Слов: царский дворец, — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 163, строка 10.
Вместо: во дворе — в изд. 2 и 4: в доме
Стр. 163, строка 14.
Вместо: во дворец; — в изд. 2 и 4: в палаты;
Стр. 63 строка 14.
Вместо: царский — в изд. 2 и 4: воеводин
Стр. 163, строка 18.
Вместо: на царском — в изд. 2 и 4: на воеводином
Стр. 163, строка 24.
Вместо: за станом, тчет, — в изданиях ошибочно: за столом, шьет
Стр. 163, строка 36.
Вместо: царские — в изд. 2 и 4: воеводины.
Стр. 163, строка 39.
Вместо: делает — в изд. 2 и 4: сделает.
Стр. 163, строка 40.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода.
Стр. 164, строка 3.
Вместо: замучать — в изданиях: замучить.
Стр. 164, строка 5.
Вместо: царские слуги — в изд. 2 и 4: слуги
Стр. 164, строка 7.
Вместо: замучать — в изд. кроме 1: замучить
Стр. 164, строка 7.
Вместо: возьмешь — в изд. 1, 2 и 4: возьмем
Стр. 164, строка 8.
Вместо: всякое дело — в изд. 1, 2 и 4: всякие дела
Стр. 164, строка 8.
Вместо: метлою — в изд. 1, 2 и 4: метлами
Стр. 164, строка 9.
Вместо: не можем — в изд. 1, 2 и 4: не могли
Стр. 164, строка 12.
Слòва: есть — в изд. 3 и 5 нет.
Стр. 164, строка 13.
Слòва: было — в изд. 1, 2 и 4 нет.
Стр. 164, строка 15.
Вместо: против дворца — в изд. 2 и 4: против твоих палат
Стр. 164, строка 17.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода.
Стр. 164, строка 19.
Вместо: дворца — в изд. 2 и 4: моих палат
Стр. 164, строка 22.
Вместо: речи царские — в изд. 2 и 4: приказ
Стр. 164, строка 26.
Вместо: пропадем — в изд. 1, 3 и 5: пропадешь.
Стр. 164, строка 28.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 164, строка 32.
Вместо: у царя солдат — в изд. 2 и 4: у воеводы слуг
Стр. 164, строка 34.
Вместо: когда — в изд. 3: коли
Стр. 164, строка 37.
Вместо: Лег Емельян спать — в изд. 1, 2 и 4 слова спать нет.
Стр. 165, строка 3.
Вместо: дворца — в изд. 2 и 4: палат.
Стр. 165, строка 3.
Вместо: царь — в изд. 2, 4 и 6: воевода
Стр. 165, строка 19.
Вместо: царь заказал — в изд. 2 и 4: приказали
Стр. 165, строка 23.
Слов: от солдат — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 165, строка 28.
Вместо: ко дворцу — в изд. 2 и 4: в город
Стр. 165, строка 29.
Слов: против дворца — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 165, строка 31.
Вместо: дворца — в изд. 2 и 4: палат.
Стр. 165, строка 32.
Слов: против дворца — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 165, строка 34.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 166, строка 36.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 166, строка 1.
Вместо: выдумывали — в изд. 1, 2 и 4: выдумали.
Стр. 166, строка 3.
Вместо: придворные — в изд. 2 и 4: слуги
Стр. 166, строка 3.
Вместо: царю — в изд. 2 и 4: воеводе.
Стр. 166, строка 10.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 166, строка 15.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 166, строка 21.
Слòва: солдатской — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 166, строки 30, 31, 32.
Вместо: солдаты — в изд. 2 и 4: стрельцы
Стр. 166, строка 37.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 166, строки 38—40.
Слов: мы сами кончая: не можем найти — в изд. 2 и 4 нет
Стр. 167, строка 1.
Слов: с солдатами — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 167, строка 3.
Слòва: солдатская — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 167, строка 4.
Слов: и пальцы не во рту кончая: слезами мочит — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 167, строка 10.
Слов: к царю — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 167, строка 11.
Вместо: во дворце — в изд. 2 и 4: воеводе
Стр. 167, строка 12.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 167, строка 26.
Вместо: хватай и неси к царю — в изд. 2 и 4: схвати и неси.
Стр. 167, строка 26.
Вместо: царю — в изд. 2 и 4: воеводе.
Стр. 167, строка 30.
Слов: и мои слезы осушишь — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 168, строка 4.
Вместо: что тò такое гремит и — в изд. 2 и 4: что такое, в изд. 3 и 5: что такое это гремит: в изд. 1: что-то такое
Стр. 168, строка 11.
Вместо: она — в изд. 1, 3 и 5: эта штука
Стр. 168, строка 19.
Вместо: к царю — в изд. 2 и 4: к воеводе
Стр. 168, строка 20.
Вместо: во дворец — в изд. 2 и 4: к воеводе
Стр. 168, строка 22.
Вместо: царю доложили — в изд. 2 и 4: Доложили
Стр. 168, строки 22, 25, 26.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 168, строка 28.
Вместо: Он — в изд. 1, 3 и 5: Емельян
Стр. 168, строка 29.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 168, строка 34.
Слов: из дворца — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 168, строка 35.
Вместо: войско царское — в изд. 2 и 4: воинство воеводино.
Стр. 168, строка 36.
Вместо: на свое войско — в изд. 2 и 4: на своих стрельцов
Стр. 168, строка 37.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
Стр. 15, строка 38.
Слòва: царя (вар.: воеводы) — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 168, строка 38.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода.
Стр. 169 строка 3.
Вместо: солдаты — в изд. 2 и 4: стрельцы
Стр. 169, строка 9.
Слòва: его — в изд. 2 и 4 нет.
Стр. 169, строка 5.
Вместо: солдаты — в изд. 2 и 4: стрельцы
Стр. 169, строка 7.
Вместо: царь — в изд. 2 и 4: воевода
————
[ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ГЛАВЫ XVII «ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?»]
В заблуждение о том, что я могу помогать другим, меня ввело именно то, что я воображал себе, что мои деньги — такие же деньги, как и Семеновы. Но это была неправда.
Существует общее мнение, что деньги представляют богатство; богатство же есть произведение труда, и потому деньги представляют труд. Мнение же это так же справедливо, как и то, что всякое государственное устройство есть последствие договора (contrat social).46 Все любят верить в то, что деньги есть только средство обмена труда. Я наделал сапог, ты напахал хлеба, он выкормил овец; вот, чтобы нам удобнее меняться, мы заводим деньги, представляющие соответствующую долю труда, и посредством их промениваем подметки на баранью грудинку и десять фунтов муки. Мы посредством денег обмениваемся своими произведениями, и деньги каждого из нас представляют наш труд. Это совершенно верно, но верно только до тех пор, пока в обществе, где происходит этот обмен, не появилось насилие одного человека над другим, не только насилие над чужим трудом, как это бывает при войнах и рабстве, но даже не употребляется насилия для защиты произведений своего труда от других. Это будет справедливо только в обществе, члены которого вполне исполняют христианский закон, — в обществе, где просящему дают и где у взявшего не просят назад. Но как только в обществе употребляется какое бы то ни было насилие, так тотчас значение денег для владельца их уже теряет значение представителя труда, а получает значение права, основанного не на труде, но на насилии.
Как только есть война и один человек отнял что-нибудь у другого, так уж деньги не могут быть всегда представителями труда: деньги, которые получил воин за проданную им военную добычу и начальник воинов, — никак не произведение их труда и имеют совсем другое значение, чем деньги, полученные за работу сапог. Как только есть рабовладельцы и рабы, как это было всегда во всем мире, точно так же нельзя сказать, чтобы деньги представляли труд. Бабы наткали полотна, продали и получили деньги; крепостные наткали для барина, а барин продал их и получил деньги. И те и другие деньги одинаковы; но одни — произведение труда, другие — произведение насилия. Точно так же если мне подарил чужой или мой отец деньги, и он, давая их мне, знал, и я знаю, и все знают, что отнять этих денег у меня никто не может, что если кто-нибудь вздумал бы отнять их у меня или даже не отдать в тот срок, в который обещал, то за меня вступится власть и силой заставит отдать мне эти деньги, — то опять очевидно, что деньги эти никак не могут быть названы представителями труда наравне с деньгами, полученными Семеном за резку дров. Так что в таком обществе, в котором есть хоть какое-нибудь завладевающее чужими деньгами или хоть ограждающее от других владение деньгами насилие, там уже деньги не могут быть всегда представителями труда. Они в таком обществе иногда представители труда, иногда — насилия.
Так это было бы, когда явилось бы хоть одно насилие одного человека над другим среди совершенно свободных отношений; но теперь, когда для скопленных денег прошли столетия самых разнообразных насилий; когда насилия эти, изменяя только формы, не прекращаются; когда, что всеми признано, сами деньги в своем скоплении образуют насилие; когда деньги, как произведения прямого труда, составляют только малую часть денег, образовавшихся из всякого рода насилий, — теперь говорить, что деньги представляют труд того, кто ими владеет, есть очевидное заблуждение или сознательная ложь. Можно сказать, что это должно бы так быть, можно сказать, что это желательно, но никак не то, что это так есть.
Деньги представляют труд. Да. Деньги представляют труд, но чей? В нашем обществе деньги только в самых, самых редких случаях — представители труда владельца денег, но почти всегда — представители труда других людей, прошедшего или будущего труда людей. Они — представители установленного насилием обязательства на труд других людей.
Деньги в самом точном и вместе с тем простом их определении суть условные знаки, дающие право или, правильнее, возможность пользоваться трудом других людей. В идеальном своем значении деньги должны бы давать это право или возможность только тогда, когда они сами служат представителями труда, и таковыми бы могли быть деньги в обществе, в котором не было бы никакого насилия. Но как скоро в обществе есть насилие, то есть возможность пользоваться чужим трудом без своего труда, то эта возможность пользоваться чужим трудом, без определения лица, над которым совершается насилие, выражается тоже деньгами.
Помещик обложил своих крепостных натуральными повинностями, известным числом полотен, хлеба, скотины или соответствующим количеством денег. Один двор доставил скотину, но за полотно выплатил деньги. Помещик берет деньги в известном количестве только потому, что знает, что на эти деньги ему сработают столько же полотна (большей частью он возьмет немного больше, чтобы быть уверенным, что всегда ему сработают за это столько же), и деньги эти для помещика, очевидно, представляют обязательство на труд других людей.
Крестьянин дает деньги, как обязательство на неизвестно кого, но на таких людей, которых много и которые возьмутся за эти деньги вырабатывать столько-то полотен. Люди же, которые возьмутся выработать полотна, возьмутся потому, что они не успели выкормить баранов и за баранов им нужно заплатить деньги; мужик же, который возьмет деньги за баранов, возьмет их потому, что ему надо заплатить за хлеб, который не родился в этот год. Это самое происходит и в государстве и во всем мире.
Человек продает произведение своего труда прежнего, настоящего или будущего, иногда свою пищу, большею частью не потому, что деньги составляют для него удобства обмена, — он обменялся бы и без денег, — но потому, что с него насилием требуются деньги, как обязательство на его же труд.
Когда египетский царь требовал работы от своих рабов, то рабы отдавали ее всю, но отдавали только прошедшую и настоящую, но не могли отдавать будущей. Но при распространении денежных знаков и вытекающего из них кредита стало возможно отдавать за деньги и будущую работу. Деньги при существовании насилия в обществе представляют только возможность новой формы рабства безличного, заменяющего личное рабство. Рабовладелец имеет право на работу Петра, Ивана, Сидора. Владелец же денег, там, где деньги требуются со всех, имеет право на работу всех тех людей без имени, которые нуждаются в деньгах. Деньги устраняют всю ту тяжелую сторону рабства, при которой владелец знает свое право на Ивана, устраняют вместе с тем и всякие человеческие отношения между владельцем и рабом, которые смягчали тяжесть личного рабства.
Я не говорю о том, что такое положение, может быть, нужно для развития человечества, для прогресса и т. п., я не оспариваю этого. Я только старался уяснить себе понятие денег и той общей ошибки, в которую впал, принимая деньги за представителей труда. Я убедился на опыте, что деньги не есть представители труда, а в большей части случаев представители насилия или особенно сложных уловок, основанных на насилии.
Деньги в наше время утратили уже совершенно это желательное для них значение быть представителями своего труда; такое значение они имеют как исключение, как общее же правило они стали правом или возможностью пользоваться трудом других.
Распространение денег, кредита и всяких денежных знаков всё больше и больше подтверждает это значение денег. Деньги — это возможность или право пользоваться трудами других. Деньги есть новая форма рабства, отличающаяся от старой формы рабства только безличностью, освобождением от всяких человеческих отношений к рабу.
Деньги — деньги, ценность, всегда равная самой себе и считающаяся всегда вполне правильною и законною и пользование которою считается не безнравственным, как считалось пользование правом рабства.
В моей молодости завелась в клубах игра в лото. Все бросились играть в нее, и, как говорили, многие разорились, сделали несчастие семьи, проигрывали чужие, казенные деньги и стрелялись, и игру запретили, и она запрещена до сих пор.
Я, помню, видал старых, не сентиментальных игроков, которые говорили мне, что игра эта была особенно приятна тем, что не видишь, кого обыгрываешь, как это бывает в других играх; лакей приносит даже не деньги, а марки, каждый проиграл маленькую ставку, и его огорчение не видно. То же и с рулеткой, которая запрещена везде не даром.
То же и с деньгами. У меня волшебный, неразменный рубль; я отрезаю купоны и устранился от всех дел мира. Кому я врежу? Я — самый безобидный и добрый человек. Но это только игра в лото или рулетку, где я не вижу того, кто стреляется от проигрыша, доставляя мне те купончики, которые я аккуратно под прямым углом отрезаю от билетов.
Я ничего не делал, не делаю и не буду делать, кроме отрезывания купончиков, и твердо верю, что деньги есть представители труда. Ведь это удивительно! И говорят про сумасшедших! Да какой же пункт помешательства может быть ужаснее этого? Умный, ученый, во всех других случаях рассудительный человек живет безумно и успокаивает себя тем, что он не договаривает одного, что необходимо нужно сказать, чтоб был смысл в его рассуждении, и считает себя правым. Купончики — представители труда! Труда! Да, но чьего? Очевидно, не того, кто ими владеет, а того, кто работает.
Деньги — то же, что рабство, та же его цель и те же последствия. Цель его — освобождение себя от первородного закона, как верно называет его один глубокомысленный писатель из народа, от естественного закона жизни, как называем его мы, от закона труда личного для удовлетворения своих потребностей. И последствия рабства для владельца: зарождение, изобретение новых и новых до бесконечности потребностей, никогда не утолимых, изнеженное убожество, разврат, а для рабов — угнетение человека, низведение его на степень животного.
Деньги — это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства личного, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений.
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ
** [ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ «ДЛЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА».]
При погодѣ при прекрасной Жили счастливо всѣ въ Ясной, Жили веселясь. Вдругъ пришло на мысль Татьянѣ, Что во Ясной во Полянѣ Нельзя вѣчно жить. Говоритъ себѣ Татьяна: Нужно поздно или рано Дѣтямъ аттестатъ. Отдамъ дѣвочекъ въ науку, Произведу во всяку штуку, Будутъ за мамзель! Накупили книгь, тетрадей, Рады ль дѣвочки, не рады, Стали обучать.1 И учились безъ печали, Но когда законъ начали, Дѣло не пошло.2 Никак Маша не усвоитъ, А ужъ Вѣра въ голосъ воетъ: Не люблю законъ.3 И бѣдняжка47, разбирая Смыслъ изгнанія изъ рая, Вѣра говорить: Намъ велятъ учить законъ, Какъ Адама выгналъ вонъ Вмѣстѣ съ Эвой Богъ. А учить это обидно, Потому что очень видно, Что не надо знать.4 Вѣдь за что изгнанъ Адамъ? Говоритъ сама madame — За curiosité.48 То, что яблоко он скушал, Это б ничего. Они много ужъ узнали. Ихъ зато взашей прогнали, А я не хочу.5 И не знаетъ теперь мать, Что на это отвѣчать: Точно, мудрено!6[ВАРИАНТЫ ТЕКСТА СТИХОТВОРЕНИЯ.]
1Запасла себѣ программу, Наняла къ дѣтямъ мадаму, Стала обучать. 2Разучили дѣти штуки Всѣ про разные науки Очень хорошо И учились безъ печали, Пока ихъ не обучали Законъ Божію, А какъ стали обучать, Стала мать ихъ примѣчать, Что-то не того. 3Маша даже не усвоитъ, А ужъ Вѣра — та все воетъ: Очень мудрено. А учить это обидно, Потому что очень видно, Que ce n’est pas vrai49 4И сказала Вѣра такъ: Кто писалъ это — дуракъ Оченно большой. Прапрадѣдушка Адамъ Не глупѣй былъ, чѣмъ мадамъ, <Хотелъ много знать.> 5Если выгнали изъ сада, Намъ учить совсѣмъ не надо, А вотъ почему: Ихъ за то вѣдь и прогнали, Что они много узнали, А Богъ не хотѣлъ. Такъ идти мнѣ противъ Бога — Надо смѣлости ужъ много, J’aime à obéir.50 Яблоки всѣмъ можно кушать А не надо много слушать, Какъ бы не былъ вредъ. Вслед за этим — черта во всю ширину листа и затем: 6Вотъ насъ съ Машей осуждаютъ И къ Василью не пускаютъ Яблоки трясти. А въ раю было не то, Ничего не заперто, Кушай, сколько хошь: И всего было не то [1 неразобр.], Былъ аркадъ, была гр[ушевка?], Былъ и всякій сбр[одъ], [3 строки неразобр.] И объ яблокахъ тамъ нѣту, Какъ до насъ съ Маш[ей], запрету, Кушай — —51 Вы учить хотите насъ, А Богъ далъ одинъ приказъ — Ничего не знать.TETѢ ТАНѢ.
1
О безсмертіи души До безчувствія души.2
Что сильнѣй, чѣмъ смерть и рокъ? Сладкiй анковскій пирогъ. Поутру была какъ баба, А къ обѣду цвѣту краба. Отчего метаморфоза? Что изъ бабы вышла роза? Дѣло, кажется, нечисто: Есть участіе Капниста.[СУСОЙЧИК.]
Дьяволъ — не главный дъяволъ, а одинъ изъ ординарныхъ, тотъ, которому поручено завѣдываніе общественными дѣлами, называемый «Сусойчикъ», былъ очень встревоженъ 6 августа 1884 года. Съ утра стали являться къ нему посланные отъ Татьяны Андреевны Кузминской.
Первый пришелъ Александръ Михайловичъ, второй Миша Иславинъ, третій Вячеславъ, четвертый Сережа Толстой и подъ конецъ Левъ Толстой старшій, въ сообществѣ князя Урусова. Первый посѣтитель, Александръ Михайловичъ, не удивилъ Сусойчика, такъ какъ онъ часто, исполняя порученіе супруги, являлся къ Сусойчику.
— Что? опять жена прислала?
— Да, прислала, — застѣнчиво сказалъ предсѣдатель окружнаго суда, не зная, какъ подробнѣе объяснить причину своего посѣщенія.
— Частенько жалуешь. Что надо?
— Да ничего особеннаго, кланяться велѣла, — съ трудомъ отступая отъ истины, промямлилъ Александръ Михайловичъ.
— Ну, хорошо, хорошо, бывай чаще, она у меня работница хорошая.
Не успѣлъ Сусойчикъ проводить предсѣдателя, какъ явилась молодежь, смѣясь, толкаясь, прячась другъ за друга.
— Что, молодцы? моя Таничка прислала? Ничего, и вамъ побывать не мѣшаетъ. Кланяйтесь Танѣ, скажите, что я ей всегда слуга. Бывайте, приведется, и Сусойчикъ пригодится.
Только раскланялась молодежь, какъ явился и Левъ Толстой, старикъ, съ княземъ Урусовымъ.
— A-а, старичокъ! Вотъ спасибо Таничкѣ. Давно ужъ не видалъ старичка. Живъ-здоровъ? Чего надо?
Левъ Толстой въ смущеніи переминался съ мѣста на мѣсто.
Князь Урусовъ, вспомнивъ дипломатическіе пріемы, выступилъ впередъ и объяснилъ появленіе Толстого его желаніемъ познакомиться съ самымъ старымъ и вѣрнымъ другомъ Татьяны Андреевны:
— Les amis de nos amis sont nos amis.52
— Такъ, ха, ха, ха, — сказалъ Сусойчикъ. — За нынѣшній день надо наградить ее. Прошу васъ, князь, передайте ей знаки моего благоволенія.
И онъ передалъ ордена въ сафьяновой коробкѣ. Ордена составляютъ: ожерелье изъ хвостовъ чертенятъ, для ношенія на шеѣ, и двѣ жабы — одну для ношенія на груди, другую на турнюрѣ.
СКОРБНЫЙ ЛИСТЪ ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХЪ ЯСНОПОЛЯНСКАГО ГОСПИТАЛЯ.
№ 1. Сангвиническаго свойства. Принадлежитъ къ отдѣленію мирныхъ. Больной одержимъ маніей, называемой нѣмецкими психіатрами «Weltverbesserungswahn».53 Пунктъ помѣшательства въ томъ, что больной считаетъ возможнымъ измѣнить жизнь другихъ людей словомъ. Признаки общіе: недовольство всѣмъ существующимъ порядкомъ; осужденіе всѣхъ, кроме себя, и раздражительная многорѣчивость безъ обращенія вниманія на слушателей, частые переходы отъ злости и раздражительности къ ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятіе несвойственными и ненужными работами: чищенье и шитье сапогъ, кошеніе травы и т. п. Лѣченіе: полное равнодушіе всѣхъ окружающихъ къ его рѣчамъ, занятія такого рода, которыя бы поглощали силы больного.
№ 2. Находится въ отдѣленіи смирныхъ, но временами должна быть отдѣлена. Больная одержима маніей: Petulantia toropigis maxima.54 Пунктъ помѣшательства въ томъ, что больной кажется, что всѣ отъ нея всего требуютъ, и она никакъ не можетъ успѣть все сдѣлать. Признаки: разрѣшеніе задачъ, которыя не заданы; отвѣчаніе на вопросы прежде, чѣмъ они поставлены; оправданіе себя въ обвиненіяхъ, которыя не дѣланы, и удовлетвореніе потребностей, которыя не заявлены. Больная страдаетъ маніей Блохино-банковской. Лѣченіе: напряженная работа. Діэта: разобщеніе съ легкомысленными свѣтскими людьми. Хорошо тоже дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ въ умеренномъ пріемѣ воды кузькиной матери.
№ 3. Больной страдалъ прежде заматорѣлой mania Senatorialis ambitiosa magna,55 усложненной mania emolumentum pecuniorum,56 и находится въ процессѣ излѣченія. Страданія больного въ настоящую минуту выражаются желаніемъ соединить должность своего собственнаго дворника съ званіемъ предсѣдателя. Общіе признаки: тишина, недовѣріе къ себѣ. Частные признаки: безполезное копаніе земли и столь же безполезное чтеніе производствъ въ газетахъ и изрѣдка мрачное настроеніе, выражающееся взрывами. Лѣченіе: бо̀льшее вникновеніе въ вопросы жизни, больше сообразованія съ нею, бо̀льшая кротость и больше доверія къ себѣ во имя тѣхъ началъ, которыя онъ считаетъ истинными.
№ 4. Больная страдаетъ маніей comilfotis simplex,57 усложненной остатками «sacracordia catholica».58 Признаки болѣзни общіе: неясность взгляда на жизнь и твердость и непоколебимость пріемовъ. Поступки лучше словъ. Признаки частные: разговоры легкіе, жизнь строгая. Больная въ сильной степени заражена общей маніей Блохино-банковской (см. ниже). Лѣченіе: нравственность и любовь сына. Предсказанія благопріятны.
№ 5. Манія «seuronofilia maxima».59 Болѣзнь весьма опасная. Лѣченіе радикальное — выйти замужъ.
№ 6. Больная одержима маніей, называемой «mania demoniaca complicata»,60 встрѣчающейся довольно рѣдко и представляющей мало вѣроятности исцѣленія. Больная принадлежитъ къ отдѣленію опасныхъ. Происхожденіе болѣзни: незаслуженный успѣхъ въ молодости и привычка удовлетореннаго тщеславія безъ нравственныхъ основъ жизни. Признаки болѣзни: страхъ передъ мнимыми, личными чертями и особенное пристрастіе къ дѣламъ ихъ, ко всякаго рода искушеніямъ: [къ] праздности, къ роскоши, къ злости. Забота о той жизни, которой нѣтъ, и равнодушіе къ той, которая есть. Больная чувствуетъ себя постоянно въ сѣтяхъ дьявола, любитъ быть въ его сѣтяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ боится его. Больная въ высшей степени страдаетъ повальной маніей Блохинизма (см. ниже). Исходъ болѣзни сомнительный, потому что исцѣленіе отъ страха дьявола и будущей жизни возможно только при отреченіи отъ дѣлъ его. Дѣла же его занимаютъ всю жизнь больной. Лѣченіе двоякое: или совершенное преданіе себя дьяволу и дѣламъ его съ тѣмъ, чтобы больная извѣдала горечь ихъ, или совершенное отчужденіе больной отъ дѣлъ дьявола. Въ первомъ случаѣ хороши бы были раньше два большіе пріема компрометирующаго кокетства, два милліона денегъ, два мѣсяца полной праздности и привлеченiе къ мировому судьѣ за оскорбленіе. Во второмъ случаѣ: три или четыре ребенка съ кормленіемъ ихъ, полная занятій жизнь и умственное развитіе.61 Діэта — въ первомъ случаѣ: трюфели и шампанское, платье все изъ кружевъ, три новыхъ въ день. И во второмъ: щи, каша, по воскресеньямъ сладкія ватрушки и платье одного цвѣта и покроя на всю жизнь.
№ 7. Больной одержимъ маніей, называемой «пустобрехъ universitelis libertatis».62 Больной принадлежитъ къ отдѣленію не вполнѣ смирныхъ. Признаки общіе: желаніе знать то, что знаютъ другіе люди и чего ему самому не нужно знать, и нежеланіе знать то, что ему нужно знать. Признаки частные: гордость, самоувѣренность и раздражительность. Больной не вполнѣ еще изслѣдованъ, но подверженъ, кромѣ того, въ сильнѣйшей степени маніи князя Блохина (см. ниже). Лѣченіе: вынужденная работа, а главное — служба или любовь, или то и другое. Діэта: меньше довѣрія къ знанію и больше изслѣдованія пріобрѣтенныхъ знаній.
№ 8. Mania Prochoris egoistica complicata.63 Больной принадлежитъ къ разряду не безопасныхъ. Пунктъ помѣшательства въ томъ, что весь міръ сосредоточивается въ немъ и что чѣмъ ниже и безсмысленнѣе тѣ занятія, которыми онъ занятъ, тѣмъ озабоченнѣе весь міръ этими занятіями. Признаки общіе: больной не может ничѣмъ заниматься, если не присутствуетъ удивляющійся Прохоръ. Но такъ какъ удивляющихся Прохоровъ тѣмъ меньше, чѣмъ выше разрядъ занятій, то больной постоянно спускается на низшую степень занятій. Признаки частные: больной возбуждается до самозабвенія всякимъ одобреніемъ и падаетъ до апатіи безъ одобренія. Больной въ сильнѣйшей степени зараженъ блохинской эпидеміей. Болѣзнь опасная: исходъ двоякій: первый — или больной привыкнетъ подчиняться суду низшаго сорта Прохоровъ, постоянно понижаясь по мѣрѣ легкости ихъ одобренія, второй же — это можетъ отвратить больного, и онъ попытается найти интересъ въ дѣятельности самоудовлетворяющей и независимой отъ Прохоровъ. Леченіе невозможно. Діэта: воздержаніе отъ общества людей, стоящихъ ниже по образованію.
№ 9. Больной одержимъ сложной болѣзнью, называемой mania metaphisica,64 усложненной гипертрофіей разложившагося честолюбія vanitas diplomatica highlificos.65 Больной страдаетъ постоянно несоотвѣтствіемъ своихъ привычекъ съ міросозерцаніемъ. Признаки общіе: уныніе и желаніе казаться веселымъ и бодрымъ, любовь къ уединенію. Признаки частные: впаденіе въ старыя привычки и недовольство собой, излишняя раздражительность и возбужденіе при передачѣ своихъ мыслей. Лѣченіе одно и несомнѣнно дѣйствительное: соединеніе съ семьей.
№ 10. Больная поступила недавно въ Ясную Поляну, потому еще мало изслѣдована, но данныя діагноза слѣдующія: mania Капнисто-Мещеріано Петеребуржіана, усложненная гипертрофіей modesticae.66 Признаки общіе: безжизненность, вялость и мечтанія о кавалерахъ. Тѣ же судоржныя движенія ногъ при звукахъ музыки, хотя и безъ искривленія тѣла. Въ сильной степени подвержена Блохинскому simplex (см. ниже). Лѣченіе радикальное: воды кузькиной матери, сильная любовь къ хорошему человѣку.67
№ 11. Больной находится на испытаніи. До сихъ поръ въ больномъ очень выразились признаки маніи, называемой русскими психіатрами «ёрностифихотность», т. е. пунктъ его помѣшательства состоитъ въ томъ, что нужно не самое дѣло, не самое чувство, не самое знаніе, а что-то такое, что было бы похоже на дѣло, на чувство, на знаніе. Признаки частные: желаніе казаться все знающимъ и быть замѣченнымъ всѣми. Болѣзнь не очень опасная. Лѣченіе, къ которому и приступлено, — униженіе.
№ 12. Больная находится на испытаніи. Принадлежитъ къ разряду вполнѣ смирныхъ. Признаки, заставляющіе держать больную въ госпиталѣ, только слѣдующіе: пристрастіе къ лампадкамъ, узкимъ носкамъ, ленточкамъ, турнюрамъ и т. д., заражена эпидеміей кн. Блохина. Лѣченіе не нужно, только діэта: разобщеніе съ поврежденными, и больная можетъ быть совершенно выписана.
№ 13. Опасная. Больная страдаетъ маніей, называемой португальскими психіатрами: «mania grubiana honesta maxima».68 Пунктъ помѣшательства: наружность и мысль, что всѣ заняты этой наружностью. Признаки: робость, тишина и взрывъ грубости. Эпидемія кн. Блохина въ сильной степени. Лѣченіе: нѣжность и любовь. Предсказанія благопріятныя.
№ 14. Больная страдаетъ маніей, называемой англійскими психіатрами: «mania anglica as you like-ность».69 Пунктъ пoмѣшательства: что надо дѣлать не то, что самой хочется, а что хочется другимъ. Эпидемія кн. Блохина въ малой степени. Лѣченіе: довѣріе къ тому, что въ глубинѣ души совѣсть считаетъ хорошимъ, и недовѣріе къ тому, что считается таковымъ другими.
№ 15. Больной находится на испытаніи. Пунктъ помѣшательства: рубли и дядя Ляля. Принадлежитъ къ разряду вполнѣ безопасныхъ. Отчасти только зараженъ блохинизмомъ. Исцѣленіе возможно.
№ 16. На испытаніи. Пунктъ: застегиваніе пуговицъ. Зараженіе блохинизмомъ.
№№ 17, 18, 19. На испытаніи, только слабо заражены блохинизмомъ.
№ 20. Находится у кормилицы. Вполнѣ здорова и можетъ быть безопасно выписана. Въ случаѣ же пребыванія въ Ясной Полянѣ тоже подлежитъ несомнѣнному зараженію, такъ какъ скоро узнаетъ, что молоко, употребляемое ею, куплено отъ ребенка, рожденнаго отъ ея кормилицы.
№ 21. Князь Блохинъ. Военный князь, всѣхъ чиновъ окончилъ, кавалеръ орденовъ Блохина. Пунктъ помѣшательства одинъ: что другіе люди должны работать для него, а онъ — получать деньги, открытый банкъ, экипажи, дома, одежду и всякую сладкую жизнь и жить только для разгулки времени. Больной не опасный и вмѣстѣ съ № 20 можетъ быть выписанъ. Что жизнь его, кн. Блохина, для разгулки времени, a всѣхъ другихъ трудовая, объясняетъ князь Блохинъ весьма послѣдовательно тѣмъ, что онъ окончилъ всѣхъ чиновъ, жизнь же праздная другихъ ничѣмъ и никакъ не объясняется.
№ 22. Больной изслѣдованъ уже прежде и вновь поступилъ въ яснополянскій госпиталь. Больной не безопасенъ. Больной страдаетъ маніей, называемой испанскими психіатрами «mania Katkoviana antica nobilis Russica»70и застарѣлой бетховенофобіей.
Признаки общіе: больной послѣ принятія пищи испытываетъ непреодолимое желаніе слушать «Московскія Вѣдомости» и не безопасенъ въ томъ отношеніи, что при требованіи чтенія «Московскихъ Вѣдомостей» можетъ употреблять насиліе. Послѣ же вечерняго принятія пищи при звукахъ «Пряхи» становится тоже не безопасенъ, топая ногами, махая руками и испуская дикіе звуки. Признаки частные: не можетъ брать картъ всѣ вмѣстѣ, а беретъ каждую порознь. Каждый мѣсяцъ, неизвѣстно для чего, ѣздитъ въ мѣстечко, называемой «Крапивна» и тамъ проводитъ время въ самыхъ несвойственныхъ ему и странныхъ занятіяхъ. Озабоченъ красотой женщинъ. Лѣченіе: дружба съ мужиками и общеніе съ нигилистами. Діэта: не курить, не пить вино и не ѣздить въ циркъ.
ИЗЪ АПРЕЛЬСКАГО НОМЕРА РУССКОЙ СТАРИНЫ 2085 ГОДА.
Жизнь обитателей Россіи 1885 года можно по дошедшимъ до насъ богатымъ матерьяламъ этаго времени возстановить приблизительно въ слѣдующемъ видѣ. Возьмемъ хоть ту мѣстность Ясной Поляны, въ которой теперь находится домъ собранія. Мѣстность эта была обитаема въ 1885 году 70-ю семействами благородныхъ тружениковъ, поддерживавшихъ въ то время, несмотря на тяжесть условій, свѣтъ истиннаго просвѣщенія, науки, общежитія и труда для другого, и искусства воздѣлыванія полей, постройки жилищъ, воспитыванія домашнихъ животныхъ, и двумя семействами совершенно одичавшихъ людей, потерявшихъ всякое сознаніе не только любви къ ближнему, но и чувства справедливости, требующей обмѣна труда между людьми. 70 семействъ просвѣщенныхъ по тому времени людей жили на тѣсной улицѣ, работая, и старый и малый, съ утра до вечера и питаясь однимъ хлѣбомъ съ лукомъ, не имѣя возможности заснуть въ день болѣе трехъ, четырехъ часовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отдавая все, что у нихъ требовали, тѣмъ, которые брали это у нихъ, кормя и помѣщая у себя странниковъ и прохожихъ людей и развозя больныхъ и отдавая своихъ лучшихъ людей в солдаты, т. е. въ рабство тѣмъ, которые этого у нихъ требовали. Два же дикихъ семейства жили отдѣльно отъ нихъ, среди просторныхъ тѣнистыхъ садовъ, въ двухъ огромныхъ домахъ, равняющихся величинѣ 15-ти домовъ образованныхъ жителей, и держали себѣ до 40 человѣкъ людей, занятыхъ только тѣмъ, чтобы кормить, возить, одѣвать, обмывать эти два дикія семейства.
Занятія дикихъ семействъ состояли преимущественно въ ѣдѣ, разговорахъ, одѣваніи, раздѣваніи, играніи.
————
Одна дама садилась въ пролетку и была въ затрудненіи куда положить пальто, такъ какъ было жарко. Замѣтивъ это, кучеръ сказалъ:
— Пожалуйте, сударыня, мнѣ.
— Куда?
— Подъ ж...у.
Всѣ присутствующіе застыдились. Дамы въ 1885-мъ носятъ турнюры и не стыдятся.
————
Одинъ помѣщикъ взялъ изъ деревни лакея для выѣзда и гулянья въ ливреѣ за барышнями. Выйдя изъ магазина съ бывшими съ ними кавалерами, барышни не нашли бывшаго лакея. Они стали оглядываться и дожидаться. Лакей вышелъ изъ воротъ.
— Гдѣ ты былъ? — спросила одна дѣвица.
— Для сабѣ ходилъ, — отвѣчалъ лакей.
Барышни чуть не умерли отъ стыда.
Дамы, дѣвицы, господа, женатые и холостые, предоставляютъ чужимъ людямъ убирать свои комнаты со всѣмъ, что включается въ это понятіе, и не стыдятся.
————
«Старый хрѣнъ» продолжаетъ спрашивать:
Почему, когда въ комнату входитъ женщина или старикъ, всякій благовоспитанный человѣкъ не только проситъ ихъ садиться, но уступаетъ имъ мѣсто?
Почему пріѣзжаго Ушакова или сербскаго офицера не отпускаютъ безъ чая или обѣда?
Почему считается неприличнымъ позволить болѣе старому человѣку или женщинѣ подать шубу и т. д.?
И почему всѣ эти прекрасныя правила считаются обязательными къ другимъ, тогда какъ всякій день приходятъ люди, и мы не только не велимъ садиться и не оставляемъ обѣдать или ночевать и не оказываемъ имъ услугъ, но считаемъ это верхомъ неприличія?
Гдѣ кончаются тѣ люди, къ которымъ мы обязаны?
По какимъ признакамъ отличаются одни отъ другихъ?
И не скверны ли всѣ эти правила учтивости, если они не относятся ко всѣмъ людямъ? Не есть ли то, что мы называемъ учтивостью, обманъ, и скверный обманъ?
Спрашиваютъ:
Что ужаснѣе: скотскій падежъ для скотопромышленниковъ или творительный для гимназистовъ?
Просятъ отвѣтить на слѣдующіе вопросы:
Почему Устюша, Маша, Алена, Петръ и пр. должны печь, варить, мести, выносить, подавать... а господа ѣсть, жрать, сорить, дѣлать нечистоты и опять кушать?
Скоро ли наступитъ то время, что женщины будутъ равноправны съ мущинами?
Какая бы была разница, если бы Илья <и Головинъ> не бѣгалъ за лисицами и волками, а лисицы и волки бѣгали бы сами по себѣ, а Илья <и Головинъ> бѣгалъ бы по дорожкѣ отъ флигеля до дома? Никакой, кромѣ удобства и спокойствія лошадей.
Каких лет следует жениться и выходить замуж?71
Такихъ лѣтъ, чтобы не успѣть влюбиться ни въ кого, прежде чѣмъ въ свою жену или мужа.72
Всѣ люди похожи на фрукты, ягоды или овощи.
Левъ Николаевичъ — старый хрѣнъ.
Софья Андреевна — красная слива.
M-me Seuron — кукуруза.
Князь Урусовъ — свекла.
Татьяна Андреевна — стручковый перецъ.
Александръ Михайловичъ — турецкій бобъ.
Таня — желтая слива.
Сережа — недоспѣлая антоновка.
Илюша — турецкій огурецъ.
Alcide — буравинка.
Ольга Дмитріевна — черная смородина.
Little73 Маша — бѣлая смородина.
Big74 Маша — вишня.
Миша Иславинъ — черника.
Екатерина Николаевна — морошка.
Вѣра — кизилъ.
Лазаревъ — гнилая дыня.
Леля — корнишонъ.
————
** [РЕЧЬ О НАРОДНЫХ ИЗДАНИЯХ.]
Вотъ что: давно уже — какъ я запомню — лѣтъ 30, завелись люди, которые занимаются тѣмъ, чтобы сочинять, переводить и издавать книги для грамотнаго простонародья, — т. е. для тѣхъ людей, которые и по малограмотности и по тому обществу, въ которомъ они живутъ, и по бѣдности не могутъ выбирать книги, а читаютъ тѣ, которыя попадаютъ имъ въ руки. Людей, такихъ издателей, — было довольно много и прежде — особенно развелось ихъ много послѣ воли, и съ каждымъ годомъ, по мѣрѣ того, какъ увеличивалось число грамотныхъ, увеличивалось и число сочинителей, переводчиковъ и издателей, и теперь дошло до огромнаго количества. Сочинителей, составителей, издателей народныхъ книгъ теперь бездна, но какъ было и прежде, такъ и теперь еще не установилось правильное отношеніе между читателями изъ бѣднаго народа и сочинителями и издателями. Какъ прежде чувствовалось, что тутъ что-то не то, такъ и теперь, несмотря на то, что масса книгъ издается для народа, чувствуется, что если не всѣ эти книги, то большинство не то, что сочинители, составители и издатели не достигают того, чего хотятъ, и читатели изъ народа не получаютъ того, чего хотятъ.
Нельзя ли поправить это дѣло?
Прежде чѣмъ говорить о томъ, какъ, я думаю, можно попытаться поправить это дѣло, надо уяснить себѣ хорошенько и самое дѣло и въ чемъ оно состоитъ.
<Дѣло это, по моему, самое важное въ мірѣ, которому только можетъ разумный человѣкъ посвятить свои силы. Дѣло — въ духовномъ общеніи людей. Дѣло въ распространеніи свѣта истины. Дѣло — въ единеніи людей около единой истины.
Дѣло это состоитъ изъ двухъ дѣятельностей: изъ желанія людей, знающихъ больше другихъ, сообщить свои знанія не знающимъ и изъ желанія незнающихъ узнать.>
Дѣло несомнѣнно состоитъ въ томъ, что одни люди, знающіе, богатые и переполненные знаніемъ, желаютъ сообщить это свое знаніе другимъ — лишеннымъ его. <Съ другой стороны> и незнающіе ничего или очень мало люди сидятъ съ раскрытыми на всякое знаніе ртами и готовы проглотить все, что имъ дадутъ. Чего же казалось бы лучше? Люди просвѣщенные хотятъ подѣлиться съ другими, да еще такимъ добромъ, которое не уменьшается отъ того, что его раздаютъ другимъ. Казалось бы, только пожелай дѣлиться просвѣщенные, и голодные будутъ довольны. А въ дѣлѣ передачи знающимъ знаній выходитъ совсѣмъ не то. Сытые не знаютъ, что давать, пробуютъ то то, то другое, и голодные, несмотря на свой голодъ, отворачиваютъ носы отъ того, что имъ предлагаютъ. Отчего это такъ? Я вижу только три причины: одна, что сытые не накормить хотятъ голоднаго, а хотятъ настроить голоднаго извѣстнымъ, для сытыхъ выгоднымъ образомъ; другая, что сытые не хотятъ давать того, что точно ихъ питаетъ, а даютъ только ошурки, которые и собаки не ѣдятъ; третья, что сытые совсѣмъ не такъ сыты, какъ они сами воображаютъ, а только надуты, и пища-то ихъ самихъ не хороша.75
Только этими тремя причинами можно объяснить тѣ неудачи, которыя до сихъ поръ всегда сопутствовали попыткамъ изданія народныхъ книгъ.
По разрядамъ этихъ причинъ можно подраздѣлить всѣ неудачныя, издававшіяся и издающіяся до сихъ поръ книги.
Одни не знанія хотятъ сообщить народу, а хотятъ возбудить въ нихъ извѣстное настроеніе, почему нибудь желательное для издателей. Это всѣ 2-й, 3-й и 10-й руки религіозныя изданія — монастырей, Исакіевскаго собора, Петровскаго монастыря, Пашковскія, распространенія душеполезныхъ и т. п. Всѣ книги эти не передаютъ никакихъ знаній и не захватываютъ интереса читателя — потому именно, что авторы ихъ не передаютъ тѣхъ основъ, которыя привели ихъ къ извѣстному настроенію, а прямо <и большею частью бездарно и глупо> передаютъ самое настроеніе. Лучшимъ образцомъ этаго страннаго уклоненія отъ цѣли и совершенной безполезности могутъ служить Пашковскія изданія, — какъ умирающему сказали: «Кровь Христа спасла тебя», и онъ обрадовался и умеръ счастливый и т. п. <Надо передать народу въ книгѣ тѣ основы, то ученіе, которое приводитъ къ такому настроенію, а не самое настроеніе.> Ошибка всѣхъ этаго рода книгъ въ томъ, что <извѣстное такое или иное религіозное настроеніе, вытекающее изъ чтенія священнаго Писанія,> можетъ быть передаваемо только художественнымъ произведеніемъ, не есть дѣло знанія, которое можетъ быть передаваемо книгой, но есть дѣло жизни. — Все же, что можетъ быть передаваемо книгой, есть самое священное писаніе Отцевъ церкви, религіозныя изслѣдованія, а не настроеніе; настроеніе можетъ быть передаваемо только художественнымъ произведеніемъ. Всякая книга необходимо должна быть или разсужденіе, или сообщеніе знаній, свѣденій, или художественное произведеніе. Эти же книги — ничего. Все ихъ право на существованіе есть какое-нибудь часто очень странное настроеніе автора и наивное убѣжденіе, что настроеніе это можетъ быть передано первыми попавшимися словами и образами. — Очень понятно, что голодные никакъ не хотятъ принимать то подобіе пищи, которое бьетъ на то, чтобы ихъ какъ-то настроить по новому, непривычному имъ.
Другой разрядъ книгъ, и самый большой, это ошурки — та пища, которая не годится сытымъ, — «отдать ее голоднымъ». Къ этому разряду принадлежатъ, во первыхъ, всѣ Прѣсновскія изданія — Весельчаки разные, <стихотворныя пакости>, Похожденія Графа и, во вторыхъ, — отчего же не сказать правду, — все рѣшительно, все забракованное для насъ, сытыхъ. Вѣдь это не шутка, а каждому случалось слышать: я никуда не гожусь, не попробовать ли писать для народа? Въ этомъ разрядѣ есть прямо книги, невольно попадающія въ народъ вслѣдствіи ходовъ народной книжной торговли, но большая часть сознательно пишется нами для народа, т. е. пишется людьми, забракованными для насъ, но для народа считающимися годными. — Въ этомъ отдѣлѣ вся педагогическая народная литература — разныя исторіи и разсказы, — всѣ составленные тѣми людьми, которые очень хорошо знаютъ про себя и про которыхъ другіе знаютъ, что они для насъ не годятся, а для народа — нетолько сойдетъ, но даже прекрасно. Мы такъ привыкли къ этому, что для народа сойдетъ то, чего мы не ѣдимъ, что многіе, и я въ томъ числѣ, и не замѣчаемъ всю нелѣпость такого сужденія. То, что для насъ, десятковъ тысячъ, не годится, то годится для миліоновъ, которые теперь сидятъ съ разинутыми ртами, ожидая пищи. Да и не въ количествѣ главное дѣло, а въ томъ, при какихъ условіяхъ находимся мы, не признающіе годными для себя это кушанье, и въ какихъ условіяхъ они, для которыхъ мы признаемъ кушанье годнымъ? Мы, не признающіе этихъ ошурковъ, напитаны уже хорошо. Мы и учились, и ѣздимъ, и языки знаемъ, и выборъ, и разборъ книгъ передъ нами; если мы и проглотили немножечко ядку, нашъ организмъ справится съ нимъ. А они, <голодные>, — дѣвственны — ядокъ во всѣхъ формахъ — и лжи художественной, и фальши всякаго рода, и логическихъ ошибокъ — попадаетъ въ пустой желудокъ. Имъ — ничего: сойдетъ! Въ бочкѣ меду такая грубая вещь, какъ ложка дегтя, испортитъ все дѣло, а въ дѣлѣ духовномъ эта ложка дегтя еще мельче и еще ядовитѣе. Ауербахъ, помню, сказалъ очень хорошо: для народа — самое лучшее, что только есть, — только оно одно годится. Точно также какъ для ребенка годится только самая лучшая <и нѣжная> пища.
Третій разрядъ книгъ — эта наша самая пища, но такая, которая годится намъ, сытымъ съ жиру, которая надуваетъ насъ, но не кормитъ и отъ которой, когда мы предлагаемъ ее народу, онъ тоже отворачивается. Эти книжки это: Пушкинъ, Жуковскій, Гоголь, Лермонтовъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Толстой — съ прибавленіемъ историковъ и духовныхъ новѣйшихъ писателей — наша новая литература за послѣднее 50 лѣтіе. Мы питаемся этимъ, и намъ кажется, <что> это самая настоящая пища, а онъ не беретъ. Тутъ есть недоразумѣніе, и это-то приводитъ меня къ главной моей мысли, и поэтому объ этомъ надо поговорить поподробнѣе.
Всегда ли это такъ было или только въ наше время, но вотъ что случилось теперь. Всѣ мы, образованные люди, очень образованы, и мы все знаемъ и не запнемся, или рѣдко, передъ какимъ нибудь именемъ великаго человѣка мысли и не скажемъ фразу, которая покажетъ, что мы ужъ давно хорошо знаемъ то, что сдѣлалъ этотъ человѣкъ, и повторять, что мы всѣ знаемъ, излишне. Но я теперь убѣдился, что изъ 10 случаевъ 9, если два собесѣдника упомянули о Сократѣ, о книгѣ Іова, объ Аристотелѣ, объ Эразмѣ (несмотря на то, что прибавятъ: Ротердамскій), о Монтеньѣ, о Дантѣ, Паскалѣ, Лесингѣ и продолжаютъ говорить, предполагая, что оба знаютъ то, о чемъ упомянули, подразумѣвая извѣстныя мысли, что если ихъ спросить, что они подразумѣваютъ, они не будутъ знать — ни тотъ, ни другой. (Я по крайней мѣрѣ былъ въ такомъ положеніи 1000 разъ.) Я убѣдился, что въ наше время мы, образованные люди, выработали (въ особенности школой) искусство притворяться, что мы знаемъ то, чего не знаемъ, дѣлать видъ, что вся духовная работа человѣчества до насъ намъ извѣстна; выработалось искуство освободиться отъ необходимости знанія прошедшаго, и живемъ только крохотнымъ знаніемъ настоящей дѣятельности человѣческаго ума или послѣдняго — много, много — пятидесятилѣтія. У насъ выработалось искусство быть вполнѣ невѣжественнымъ съ видомъ учености. Мы знаемъ десятыя, двадцатыя, уменьшенныя, исправленныя отраженія мыслей великихъ умовъ и совсѣмъ не знаемъ ихъ и считаемъ даже, что ихъ и не нужно знать. Что теперь, nous avons changé tout ça,76 какъ говорилъ мнимый докторъ у Мольера, оправдываясь въ томъ, что печень оказалась не на той сторонѣ, гдѣ нужно. — Мы, образованные люди, ужасно озабочены о томъ, чтобы узнать, что въ прошломъ мѣсяцѣ написано: такой-то и такіе-то нами любимые писатели или ученые въ Европѣ, мы считаемъ стыднымъ не знать того, что было написано ну двадцать, ну 30 лѣтъ тому назадъ, но дальше мы уже нейдемъ. Да и невозможно — некогда. Мы, какъ такой чудный географъ, который бы изучилъ всѣ ручейки и холмики своей волости, не имѣетъ понятія объ Амазонкѣ, рѣкахъ и Монбланахъ всего міра, и воображаетъ, что знаетъ всѣ рѣки и горы. Я убѣдился, что мы извѣстными пріемами образованія, культурой заслоняемъ отъ себя всю огромную область истиннаго образованія и, копошась въ маленькомъ заколдованномъ кружкѣ, очень часто открываемъ съ большимъ трудомъ и гордостью то, что давно открыто моряками. Мы стали ужасно невѣжественны. (Какъ ни странно сказать, внѣшнее класическое образованіе много способствовало этому. Голову даю на отсѣченіе, если хоть одинъ ученикъ классической гимназіи прочелъ для себя, для удовольствія, Ксенофонта или Цицерона, на которомъ его мучали 8 лѣтъ.)
77Мы стали невѣжественны потому, что навсегда закрыли отъ себя то, что только и есть всякая наука — изученіе тѣхъ ходовъ, которыми шли всѣ великіе умы человѣчества для уясненія истины. Съ тѣхъ поръ, какъ есть исторія, есть выдающіеся умы, которые сдѣлали человѣчество тѣмъ, что оно есть. Эти высоты умственные распредѣлены по всѣмъ тысячелѣтіямъ исторіи. Мы ихъ не знаемъ, закрыли отъ себя и знаемъ только то, что вчера и третьяго дня выдумали сотни людей, живущихъ въ Европѣ. Если это такъ, то мы и должны быть очень невѣжественны; а если мы невѣжественны, то понятно, что и народъ, которому мы предлагаемъ плоды нашего невѣжества, не хочетъ брать его. У него чутье не испорченное и вѣрное. —
Мы предлагаемъ народу Пушкина, Гоголя, не мы одни: Нѣмцы предлагаютъ Гете, Шиллера, Французы — Расина, Корнеля, Буало, точно только и свѣту, что въ окошкѣ, и народъ не беретъ. И не беретъ, потому что это не пища, а это hors d’oeuvres, десерты. Пища, которой мы живы, не та — пища эта — всѣ тѣ откровенія разума, которымъ жило и живетъ все человѣчество и на которомъ выросли Пушкины, и Корнели, и Гете. И если изъ насъ кто сытъ, то сытъ только этимъ, и этимъ только можно питаться не народу одному, но всякому человѣку.
И вотъ это то разсужденіе приводитъ меня къ началу — къ тому, какъ поправить то дѣло, что люди знающіе хотятъ передать свои знанія народу, а народъ не беретъ. Чтобы поправить это дѣло, надо, первое, перестать дѣлать то, что не нужно и вредно. Надо признать невозможность передачи черезъ книги извѣстнаго настроенія народа, надо понять, что только поэзія, которая независима отъ цѣлей, можетъ передавать настроеніе, a дидактическія, не имѣющія ни разумнаго, ни научнаго, ни художественныхъ достоинствъ, не только безполезны, но вредны, возбуждая презрѣніе къ книгѣ.
Надо признать то, что народъ есть люди такіе же, какъ мы, только ихъ больше насъ и они требовательнѣе и чутче къ правдѣ, и что потому все, что не совсѣмъ хорошо для насъ, совсѣмъ дурно для народа.
И третье главное: надо признать то, что для того, <чтобы давать другимъ, надо знать, что то, что мы даемъ, хорошо и нужно. Надо признать, что мы сами невѣжественны, что намъ не учить надо какой то народъ, отдѣльный отъ насъ, а что намъ всѣмъ надо учиться, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, и чѣмъ въ большей кампаніи, тѣмъ лучше.> Народъ не беретъ нашей пищи: Жуковскаго, и Пушкина, и Тургенева — значитъ пища — не скажу дурная, но не существенная. <Есть у насъ хорошая, та самая, которая напитала насъ — дадимъ ее, онъ возьметъ, a нѣтъ, то давайте <вмѣстѣ> пріобрѣтать ее. Вся неудача происходитъ отъ путаницы понятій: народъ и мы — не народъ, интелигенція. Этаго дѣленія не существуетъ. Мы всѣ безразлично отъ рабочаго мужика до Гумбольта имѣемъ одни знанія и не имѣемъ другихъ. Одинъ больше имѣетъ и больше ему недостаетъ. Другому больше недостаетъ, и онъ меньше имѣетъ.78 Разница между людьми состоитъ только въ томъ, что однимъ болѣе, другимъ менѣе доступно знаніе.
Надо найти ту, которая существенна. Если мы найдемъ ее, то всякій голодный возьметъ ее. — Но мы такъ пресыщены, что намъ трудно изъ всей массы нашей пищи выбрать существенное. И вотъ этотъ-то выборъ и сдѣлаетъ тотъ, кто голоденъ. Онъ не станетъ отворачиваться отъ настоящей пищи изъ каприза. Если онъ возьметъ пищу, значитъ это настоящая. Но у у насъ мало этой пищи — мы сами бѣдны. Мы забыли все то, чѣмъ вскормлены, все существенное и пробавляемся hors d’oeuvre’oмъ. Давайте искать ее. Если мы признаемъ, что мы сами невѣжественны, то мы поймемъ, что намъ не учить надо какой-то отдѣльный отъ насъ народъ, а что намъ всѣмъ надо самимъ учиться, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, чѣмъ въ большей компаніи, тѣмъ лучше. Пускай исчезнетъ прежде всего это искуственное дѣленіе: народъ и не народъ, интелигенція (этаго дѣленія и не существуетъ; сколько я знаю грамотныхъ мужиковъ, несомнѣнно болѣе способныхъ учиться, чѣмъ кандидаты университета), а будетъ учиться не въ маленькомъ классѣ, у маленькаго учителя и вмѣстѣ въ миліонномъ классѣ у великаго вѣковаго учителя, и будетъ учить не десятокъ приготовленныхъ студентовъ въ маленькой аудиторіи, a миліоны всѣхъ читающихъ. Эта то общность ученія и будетъ главнымъ ручательствомъ его существенности, будетъ провѣркой, откидывающей все ложное, искуственное, временное.
Учить и учиться? Но какъ?
<Прежде всего, сообщая другъ другу всѣ тѣ мысли и знанія великихъ умовъ, которыя были, излагая ихъ книги доступнымъ языкомъ.>
79Соберемтесь всѣ тѣ, которые согласны въ этомъ, и будемъ, каждый въ той области, которая ему больше знакома, передавать тѣ великія произведенія ума человѣческаго, которыя сдѣлали людей тѣмъ, чѣмъ они есть. Соберемтесь, — будемъ собирать, выбирать, групировать и издавать это.
————
* НАГОРНАЯ ПРОПОВѢДЬ.
Проповѣдь къ народу Господа нашего Іисуса Христа.
Іисусъ вышедши увидѣлъ множество народа и сжалился надъ ними, потому что они были какъ овцы безъ пастыря, и началъ учить ихъ много. Мф. VI, 34.
Вся земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа проходила въ томъ, что онъ училъ людей80 всѣми дѣлами своими, всею жизнью своей.81 Он училъ ихъ въ синагогахъ — и въ Назаретѣ, и въ Капернаумѣ, и въ Іерусалимѣ, въ храмѣ и на берегу моря, и на лодкѣ, и на горѣ, и въ городахъ и селеніяхъ. Онъ училъ ихъ, и дивились Іудеи ученію (I. VII, 15). И дивились ученію Его, ибо Онъ училъ ихъ какъ власть имѣющій, а не какъ книжники (Мф. VI, 22), такъ что они дивились и говорили: откуда у него такая премудрость и сила? (Мф. ХІІІ. 54.) Утромъ пришелъ въ храмъ, и весь народъ шелъ къ нему. Онъ сѣлъ и началъ учить ихъ. (I. VII, 2.)
Чему же училъ Іисусъ? Неужели все ученіе Его для насъ только то, что онъ отвѣчалъ на злые вопросы книжниковъ и фарисеевъ? Только то, что онъ отвѣчалъ на сомнѣнія учениковъ, тѣ притчи, кот[орыя] онъ говорилъ народу и потомъ наединѣ разъяснялъ ученикамъ? Неужели не дошло до насъ все то ученіе, которому дивился народъ и которымъ онъ проповѣдывалъ Евангеліе Царствія всѣмъ простымъ людямъ. Неужели только тѣ счастливы, которые жили при немъ и слышали Его, знаютъ все Его ученіе, а мы только можемъ догадываться о немъ и понимать Его черезъ толкованіе такихъ же грѣшныхъ и слабыхъ людей, какъ мы? Неужели Богъ, сойдя на землю, чтобы спасти насъ, не далъ намъ возможности услыхать Его божественный голосъ? Этаго не могло быть и этаго нѣтъ. Богъ сошелъ на землю и открылъ истину всѣмъ намъ? и мы слышимь, если у насъ есть уши слышать, Его божественный голосъ. Много разъ Христосъ говорилъ о своемъ ученіи въ притчахъ, какъ о понятномъ уже Его ученикамъ, много разъ Онъ разъяснялъ то изъ Его ученія, что было непонятно, много разъ говорилъ о насъ по случаю исцѣленія слѣпаго или воскрешенія Лазаря, говорилъ по случаю посланія ученикамъ, но говорилъ не полно, какъ людямъ уже знающимъ его.82 А Сынъ Божій сказалъ не то. Онъ сказалъ (Мф. XI, 28, 29, 30): «Прийдите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня: ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой душамъ вашимъ. Онъ сказалъ: иго Мое благо, и бремя Мое легко. Какже мы говоримъ — трудно. — Кто жъ не правъ: Онъ или мы? Онъ будетъ судить насъ, да онъ и теперь судитъ и обличаетъ насъ. Мы говоримъ — трудно, да знаемъ ли мы то бремя и то иго, какое Онъ велѣлъ намъ взять на себя? Мы пальцемъ не притронулись къ этому игу, а говоримъ, что оно трудно. Какое иго Онъ хотѣлъ, чтобы мы взяли на себя? Заповѣди Его — гдѣ же они?.
————
* КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ.
КНИГИ КОНФУЦЫ.
Китайцы самый старый народъ на свѣтѣ. Китайцы самый большой народъ на свѣтѣ. Ихъ 450 милліоновъ, чуть не въ двое больше, чѣмъ всѣхъ вмѣстѣ русскихъ, нѣмцевъ, французовъ, итальянцовъ, англичанъ. Китайцы самый мирный народъ на свѣтѣ. Имъ чужаго не нужно, и они не любятъ воевать. Китаецъ хлѣбопашецъ. Царь ихъ самъ запахиваетъ. И отъ того китайцы самый мирный народъ на свѣтѣ.
Они говорятъ: если человѣкъ говоритъ, что онъ умѣетъ хорошо воевать, знай, что этотъ человѣкъ большой преступникъ.
Китайцы живутъ по своему, не по нашему. Они знаютъ, какъ мы живемъ, и не перенимаютъ нашей жизни. Они считаютъ, что ихняя жизнь лучше. Ни французъ, ни русскій, ни нѣмецъ, ни турокъ, никакой народъ на свѣтѣ не выдержитъ въ работѣ противъ китайца, чтобъ такъ мало съѣсть и такъ много сработать, зато ни одинъ народъ на свѣтѣ не можетъ противъ китайца сработать землю и прокормиться на ней. Гдѣ на десятинѣ прокормится одинъ русскій, два нѣмца, тамъ на той же десятинѣ прокормится 10 китайцевъ.
Китайцы стали теперь наѣзжать въ Америку, и американцы работники не знаютъ, какъ быть.
Китайцы дешевле, лучше, честнѣе работаютъ противъ ихнихъ, а берутъ меньше и сбили на всѣ работы цѣны. Одни американцы говорятъ: надо ихъ брать, другіе говорятъ: надо ихъ гнать. А думай, не думай, работу заберетъ тотъ, кто лучше работаетъ. И лучше человѣкъ тотъ, который другимъ зла не дѣлаетъ, меньше себѣ беретъ, а больше другимъ даетъ. Китайцы зла не дѣлаютъ, ни съ кѣмъ не воюютъ и больше даютъ и меньше берутъ. Стало, они лучше. А если лучше, надо узнать, въ чемъ ихъ вѣра.
Вотъ ихъ вѣра: Они говорятъ (это говоритъ ихъ учитель Чу-хи):
Люди всѣ произошли отъ Отца Небеснаго, и потому нѣтъ ни однаго человѣка, чтобы въ сердцѣ ему не было заложено любви, добродѣтели, правды, обходительности и мудрости. Но хоть и во всѣхъ людяхъ есть отъ рожденія природное добро, только рѣдкіе изо всѣхъ могутъ это добро въ себѣ воспитать и возрастить до конца. Отъ этаго то и бываетъ, что не всѣ люди знаютъ, могутъ знать то добро, которое есть въ нихъ, и не могутъ его въ себѣ возрастить. Но за то люди съ болышимъ смысломъ, умомъ и мудростью природной могутъ возрастить въ себѣ свое душевное добро, и эти то отличаются отъ толпы другихъ людей. Вотъ этимъ то людямъ Отецъ Небесный и далъ приказъ быть вожаками, учителями людей, изъ рода въ родъ приказалъ имъ управлять ими и научать ихъ, съ тѣмъ чтобы и всѣ вернулись къ своей природной чистотѣ.
Вотъ такъ то Фу хи, Чанпунчъ, Гоанти, Іао и Чунъ и получили отъ отца Небеснаго высшій санъ, и такъ то ихъ помощники исполняли ихъ приказы. И оттого вездѣ разошлись ихъ поученія.
И вотъ дошло до того подъ конецъ, что во дворцахъ царей и въ самыхъ послѣднихъ деревушкахъ не было такого мѣста, гдѣ бы не учились. Какъ только мальчику равнялся 9-й годъ — будь онъ царскій, княжескій сынъ или простаго мужика, — они поступали въ малое училище, и тамъ ихъ учили сажать, поливать, окапывать, чистить, учили, какъ отвѣчать учтиво тѣмъ, кто ихъ спрашивалъ, учили, какъ входить и здороваться, учили, какъ принимать гостей и какъ провожать. Учили ихъ, какъ ѣздить на лошади, какъ стрѣлять изъ лука и учили ихъ читать, писать и считать.
ВЕЛИКОЕ УЧЕНІЕ.
(Книга эта написана китайскимъ учителемъ Конфуціемъ и считается ими столь священною и божественно-мудрою, какъ евреями Книги Моисея и нами Евангеліе.)
1) Великое ученіе, иначе сказать, мудрость жизни, въ томъ, чтобы раскрыть и поднять то начало свѣта разума, которое мы всѣ получили съ неба. Оно состоитъ въ томъ, чтобы обновить людей, оно состоитъ в томъ, чтобы свое послѣднее назначеніе полагать въ совершенствѣ, иначе сказать, въ совершенномъ благѣ.
2) Прежде всего надо знать цѣль, къ которой надо направляться, иначе сказать, свое послѣднее назначеніе, а потомъ уже избрать путь. Тотъ, кто избралъ путь, тотъ можетъ послѣ этаго успокоиться духомъ и можетъ уже пользоваться той душевной ясностью, которую ничто не можетъ нарушить. Тотъ, кто достигъ душевной ясности, которую ничто не можетъ нарушить, тотъ можетъ уже обдумать и обсудить сущность вещей. А обдумавъ и обсудивъ сущность вещей, онъ можетъ достигнуть до того совершенства, къ которому онъ стремится.
3) Все, что бываетъ въ мірѣ, имѣетъ свою причину и производитъ свое дѣйствіе. Всѣ дѣла людскія имѣютъ свое начало (основу) и свои послѣдствія. Познавать причины и дѣйствія, познавать начала и послѣдствія — значитъ приближаться къ тому разумному знанію, черезъ которое достигается совершенство.
4) Древніе цари, тѣ, которые желали раскрыть и поднять въ своихъ народахъ начало свѣта разума, то, которое мы всѣ получили съ неба, прежде всего старались хорошо управлять своими царствами. Тѣ, которые старались хорошо управлять своими царствами, прежде всего желали учредить порядокъ въ своихъ семьяхъ. Тѣ, которые желали учредить порядокъ въ своихъ семьяхъ, старались прежде всего исправить самихъ себя. Тѣ, которые старались исправить самихъ себя, старались прежде всего установить правду у себя въ сердцѣ. Тѣ, которые старались установить правду у себя въ сердцѣ, старались прежде всего о томъ, чтобы желанія ихъ были чисты. Тѣ, которые желали, чтобы желанія ихъ были чисты, старались прежде всего о томъ, чтобы усовершенствовать свои сужденія о добромъ и зломъ. Усовершенствованіе сужденія о добромъ и зломъ состоитъ въ томъ, чтобы углубиться и проникать въ начала причины поступковъ.
5) Когда углубишься и проникнешь въ причины поступковъ, тогда сужденія о добромъ и зломъ доходятъ до совершенства. А когда сужденіе о добромъ и зломъ доходитъ до совершенства, то и желанія становятся чистыми. А когда желанія чисты, сердце дѣлается правдивымъ. А когда сердце правдиво, то человѣкъ исправляется и становится лучше. А когда человѣкъ становится лучше, то и въ семьѣ учреждается порядокъ. А когда въ семьѣ порядокъ, то и народы хорошо управляются. А когда народы хорошо управляются, то и весь міръ будетъ жить въ мирѣ и согласіи.
6) Отъ царя и до послѣдняго мужика одна обязанность для всѣхъ: исправлять и улучшать самаго себя, иначе сказать — самосовершенствованіе. Это основанiе, на которомъ строится все зданіе улучшенія людей.
7) Не можетъ того быть, чтобы зданіе было въ порядкѣ, когда основаніе, на которомъ оно стоитъ, въ разстройствѣ.
Пренебрегать главнымъ, кореннымъ, первостепеннымъ и заботиться о томъ, что не важно и второстепенно, — этаго никогда не надо дѣлать.
КНИГА ПУТИ И ИСТИНЫ, НАПИСАННАЯ КИТАЙСКИМЪ МУДРЕЦОМЪ ЛАОЦЫ.
Тотъ Богъ, котораго можно назвать словомъ, не есть Богъ вѣчный. Имя, которое можно назвать, не есть имя вѣчное.
То, что безъ имени, то есть начало неба и земли. То, что съ именемъ, то есть мать всего міра.
Оно и есть существо непостижимое. Оно было прежде неба и земли.
Оно пребываетъ неизмѣннымъ. Оно проникаетъ всюду и нигдѣ не задерживается.
Намъ оно представляется какъ мать міра. Я не знаю его имени.
Чтобы дать ему имя, я называю его Богъ.
Человѣкъ подобенъ землѣ, земля подобна небу; небо подобно Богу. Богъ подобенъ самъ себѣ.
————
Только тотъ, кто не имѣетъ страстей, можетъ видѣть сущность Его. Тотъ, кто волнуется страстями, видитъ Его не вполнѣ.
И потому тотъ, кто хочетъ быть святъ, старается о томъ, чтобы не отдаваться страстямъ и дѣламъ личной жизни.
Святой поучаетъ другихъ молчаніемъ. Онъ производить все истинное и ничего не присваиваетъ себѣ.
Онъ усовершенствуетъ себя и не надѣется на свои совершенства.
Онъ доводитъ до совершенства свои достоинства и не дорожитъ ими.
Онъ не дорожитъ своими достоинствами, и достоинства его не оставляютъ его.
————
Восхваленія мудрецовъ производятъ споры въ народахъ.
Высокая оцѣнка легкаго пріобрѣтенія производить воровство въ народѣ.
Разсматриваніе предметовъ, возбуждающихъ похоть, производитъ смуты въ народѣ.
И потому святой, чтобы управлять народомъ, освобождаетъ свое сердце отъ желаній, уничтожаетъ свою волю и укрѣпляетъ свою силу тѣла.
————
** [О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.]
Издатель «Дѣтской Помощи», имѣя въ виду написанную мною въ 1882 г. статью въ газетахъ о помощи бѣднымъ во время переписи, просилъ меня участвовать въ его изданіи. Въ то самое время, какъ я получилъ это заявленіе, я доканчивалъ статью въ «Русскую Мысль», служащую продолженіемъ моей статьи о переписи. Я писалъ именно о томъ предметѣ, которому посвящено изданіе.
Я излагалъ въ этой послѣдней статьѣ подробно тѣ опыты, черезъ которые я прошелъ вслѣдствіе моей попытки благотворительности во время переписи, и тѣ выводы, къ которымъ я пришелъ. Статья эта не могла быть напечатана. Попытаюсь еще разъ вкратцѣ изложить теперь нѣкоторыя изъ тѣхъ мыслей, особенно тѣхъ, которыя относятся собственно къ благотворительности.
Выводы, къ которымъ я пришелъ относительно благотворительности, слѣдующіе:
Я убѣдился, что нельзя быть благотворителемъ, не ведя вполнѣ добрую жизнь, и тѣмъ болѣе нельзя, ведя дурную жизнь, пользуясь условіями этой дурной жизни, для украшенія этой своей дурной жизни дѣлать экскурсіи въ область благотворительности. Я убѣдился, что благотворительность тогда только можетъ удовлетворить и себѣ и требованіямъ другихъ, когда она будетъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ доброй жизни; что требованія этой доброй жизни очень далеки отъ тѣхъ условій, въ которыхъ я живу. Я убѣдился, что возможность благотворить людямъ есть вѣнецъ и высшая награда доброй жизни и что для достиженія этой цѣли есть длинная лѣстница, на первую ступень которой я даже и не думалъ вступать. Благотворить людямъ можно только такъ, чтобы не только другіе, но и сами бы не знали, что дѣлаешь добро, — такъ, чтобы правая рука не знала, что дѣлаетъ лѣвая; только такъ, какъ сказано въ ученіи 12 апостоловъ: чтобы милостыня твоя пòтомъ выходила изъ твоихъ рукъ, такъ, чтобы ты и не зналъ, кому ты даешь. Благотворить можно только тогда, когда вся жизнь твоя есть служеніе благу. Благотворительность не можетъ быть цѣлью, — благотворительность есть неизбѣжное послѣдствіе и плодъ доброй жизни. А какой же можетъ быть плодъ на сухомъ деревѣ, у котораго нѣтъ ни живыхъ корней, ни живой коры, ни сучьевъ, ни почекъ, ни листьевъ, ни цвѣту?
Можно привѣсить плоды, какъ яблоки и апельсины на ленточкахъ къ рождественской елкѣ, но елка не станетъ отъ этого живою и не будетъ родить апельсиновъ и яблокъ. Прежде чѣмъ думать о плодахъ, нужно укоренить дерево, привить и возрастить его. А чтобы укоренить, привить и возрастить дерево добра, обо многомъ надо подумать и надъ многимъ потрудиться, прежде чѣмъ радоваться на плоды добра, которые мы будемъ давать другимъ. Можно раздавать чужіе плоды, навѣшенные на сухое дерево, но тутъ нѣтъ ничего похожаго даже на добро. Надо многое и многое сдѣлать прежде.
————
* МАЯ 18. СТРАДАНІЕ СВЯТЫХЪ ПЕТРА, ДІОНИСІЯ, АНДРЕЯ, ПАВЛА И ХРИСТИНЫ.
Было время, когда мучали и убивали христіанъ. Въ то время жилъ молодой человѣкъ Петръ христіанинъ. Онъ былъ силенъ, красивъ, уменъ, крѣпокъ духомъ. Его взяли въ Гелеспонтскомъ городѣ Лампсакѣ и привели на судъ къ начальнику Опитиму. Начальникъ спросилъ его: «христіанинъ ты?» Петръ отвѣчалъ: «да». Тогда Опитимъ сказалъ ему: «вотъ прочти указъ непобѣдимыхъ царей о томъ, что всѣ должны поклоняться нашимъ богамъ; поди поклонись богинѣ Венерѣ». Петръ отвѣчалъ: «удивляюсь тому, что ты, начальникъ другихъ людей, можешь уговаривать меня къ тому, чтобы я поклонился идолу гадкой женщины. Вы сами разсказываете про вашу богиню, что она дѣлала такія гадкія дѣла, про которыя и говорить стыдно; и идолу этой женщины ты велишь мнѣ поклониться. Я поклоняюсь только одному своему Богу Христу».
Услыхавъ такія слова, Опитимъ велѣлъ тотчасъ же растянуть Петра и бить его, драть ему тѣло и ломать ему кости. И все время, пока его мучали, Петръ только молился Богу и просилъ крѣпости духа, чтобы не ослабѣть отъ мученій и не отречься отъ Бога. И Богъ далъ ему крѣпость духа, и онъ не покорился начальнику и не отрекся отъ истиннаго Бога. Тогда начальникъ, увидавъ, что онъ побѣжденъ Петромъ, велѣлъ ему отрубить голову. Окончивъ это дѣло, начальникъ хотѣлъ уже уѣзжать изъ Лампсака, какъ вдругъ къ нему привели еще трехъ христіанъ: Андрея, Павла и Никомаха. Никомахъ громко кричалъ: «я христіанинъ». Узнавъ то, что Никомахъ называетъ себя христіаниномъ, начальникъ спросилъ Павла и Андрея, признаютъ ли и они себя христіанами. Они сказали: «и мы христіане». Тогда начальникъ сказалъ: «Ну такъ подите поклонитесь богамъ по указу царя». Никомахъ сказалъ: «зачѣмъ ты говоришь это? Ты знаешь, что христіане не кланяются идоламъ». Тогда начальникъ велѣлъ раздѣть Никомаха и бить его и драть ему тѣло. Никомахъ долго держался и не отрекался Христа; но подъ конецъ ослабѣлъ и сказалъ: «нѣтъ, я не христіанинъ и готовъ поклониться богамъ». И тотчасъ же начальникъ велѣлъ отвязать Никомаха и пустить его. Но Никомахъ уже былъ такъ изуродованъ, что, недолго помучавшись, тутъ же умеръ. Увидала это дѣвица 16-ти лѣтъ Христина и вышла изъ народа и сказала: «несчастный, за что онъ погубилъ себя? Изъ за одного часа мученій потерялъ свою душу». Начальникъ велѣлъ взять ее и спросилъ, что она говоритъ. Она сказала: «я христіанка и плачу о погибели этаго человѣка, что онъ не умѣлъ потерпѣть часа, чтобы получить жизнь». И сказалъ ей начальникъ: «вотъ мы сейчасъ увидимъ, какъ ты перетѣрпишь. Поди поклонись богамъ, а если не поклонишься, то я велю огнемъ жечь тебя». Тогда Христина отвѣчала ему: «Мой Богъ больше тебя, и Онъ дастъ мнѣ терпѣніе, потому не боюсь ни тебя, ни мукъ твоихъ».
Въ это время подошелъ къ начальнику народъ и сталъ говорить ему, что, кромѣ этихъ двухъ христіанъ, Павла и Андрея, и этой Христины, еще сидитъ въ тюрьмѣ Діонисій, что всѣ они ругаются надъ богами, и что всѣхъ ихъ пусть начальникъ отдастъ имъ, и они сами убьютъ ихъ. Начальникъ послушалъ народа и велѣлъ привести еще Діонисія. Когда его привели, начальникъ сказалъ имъ всѣмъ: «Если не хотите погибнуть въ мученіяхъ, поклонитесь богамъ а не поклонитесь, я отдамъ васъ народу, и онъ побьетъ васъ».
Тогда христіане въ одинъ голосъ сказали: «мы одного Бога Христа знаемъ и одному Богу кланяемся, а вашихъ боговъ и никакихъ бѣсовъ не знаемъ и знать не хотимъ». Когда народъ услыхалъ это, то онъ еще громче закричалъ: «отдай ихъ намъ, мы расправимся съ ними, за то что они хулятъ боговъ нашихъ». Начальникъ велѣлъ бить мучениковъ, а потомъ отдалъ ихъ народу. Народъ привязалъ Андрея, Павла и Діонисія за ноги веревками и выволокъ за городъ и сталъ побивать камнями. Когда ихъ стали побивать камнями, Христина выбѣжала впередъ и пала на тѣла мучениковъ, чтобы и ее побили съ ними вмѣстѣ. Тогда изъ народа пошли и сказали начальнику, что дѣвица Христина легла на тѣла мучениковъ и хочетъ, чтобы ее побили съ ними вмѣстѣ. Услыхавъ это, велѣлъ начальникъ оттащить ее особо и мечомъ отрубить ей голову, а тѣхъ добить камнями. И такъ эти святые мученики вмѣстѣ боролись противъ діавола и міра и начальника Опитима, вмѣстѣ и сдѣлались побѣдителями — Петръ разными муками, Діонисій, Андрей и Павелъ камнями, а дѣвица Христина мечемъ.
Было это въ Лампсакѣ въ царство Декеево.
————
** СИДДАРТА, ПРОЗВАННЫЙ БУДДОЙ, Т. Е. СВЯТЫМЪ.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ ЕГО.
Если идти изъ середины Россіи на зимній восходъ всё прямо, то тысячъ за десять верстъ отъ насъ, черезъ Саратовъ, Уральскъ, Киргизскую степь, Ташкентъ, Бухару, придешь къ высокимъ снѣговымъ горамъ. Горы эти самый высокія на свѣтѣ. Перевали черезъ эти горы, и войдешь въ Индійскую землю.
Индійская земля меньше русской втрое; но земля тамъ плодородная и теплая — зимы нѣтъ; такъ что народу на этой землѣ кормится втрое больше, чѣмъ въ Россіи: народа считается въ Индіи числомъ до 240 милліоновъ. Теперь управляются индусы англичанами: 150 лѣтъ тому назадъ англичане завоевали Индію. Но до этого времени индусы жили свободно и управлялись сами своими царями.
Въ этой-то землѣ и среди этого народа родился, безъ малаго за 2500 лѣтъ тому назадъ, за 600 лѣтъ до Р. X. святой Сиддарта Будда; и отъ него пошла великая буддійская вѣра, — та, въ которую вѣруетъ теперь третья часть всѣхъ людей на светѣ, болѣе 400 милліоновъ людей.
Въ то время, когда родился Будда, индусы вѣрили въ свою старинную вѣру. Ученіе этой вѣры было записано у нихъ въ книги больше 3000 лѣтъ тому назадъ, а началась она какъ только запомнятъ себя индусы. Книги браминовъ называются на ихъ санскритскомъ языкѣ Ведами и считаются откровеніемъ свыше. Индусы говорятъ, что Веды написаны не людьми, а что они всегда были въ умѣ Божества. Вѣра индусская была та же одна вѣра, которая записана въ сердцахъ всѣхъ людей и безъ которой не бываетъ человѣкъ на свѣтѣ. Вѣра индусовъ была такая же, какъ и вѣра всѣхъ народовъ — и персовъ, и китайцевъ, и египтянъ, и грековъ, и всѣхъ людей, какіе живутъ на свѣтѣ, — вѣра въ то, что человѣкъ живетъ и умираетъ по волѣ Бога, и что тому, кто будетъ исполнять волю Бога, будетъ хорошо, а тому, кто не будетъ исполнять ее, будетъ дурно. Всегда и теперь въ этомъ одномъ всѣ вѣры людскія. Всѣ онѣ согласны въ томъ, что живемъ мы не сами по себѣ, а по волѣ Бога, что Богъ — благой, и что для того, чтобы дѣлать волю Бога, надо не дѣлать зла, а дѣлать добро. Такова же была и вѣра индусская.
Они разно называли Бога: то Агни, то Варуна, то Индра, то Брама; но знали, что Богъ единъ. Волю же единаго Бога они понимали такъ же, какъ ее понимаютъ всѣ люди, какъ она записана въ сердцахъ людей. Они знали, что воля Бога — добро и что дѣлать зло — значитъ противиться волѣ Бога. Знали они и то, въ чемъ добро и въ чемъ зло такъ же, какъ это знаютъ всѣ люди. Такъ въ одной изъ древнихъ книгъ написано, что люди должны воздерживаться отъ убійства не только людей, но и всего живого, отъ гнѣва, отъ прелюбодѣянія, отъ пьянства, обжорства, отъ лѣни, отъ лжи, отъ осужденія другихъ и должны быть смиренны, воздержаны, честны, правдивы, чисты и должны воздавать добромъ за зло. Все это знали индусы и въ этомъ полагали основаніе воли Бога.
Въ книгахъ Ведъ много высокаго и божественнаго; но со временемъ къ книгамъ этимъ стали прибавлять много пустого и лишняго. Случилось такъ, что между учителями, людьми, поучавшими божеской волѣ, завелись люди лживые и корыстные; эти люди стали учить индусовъ о томъ, что воля Божія не состоитъ въ одномъ воздержаніи отъ зла и исполненія добра, но и во многомъ другомъ, нужномъ для Бога. И стали ихъ учители, жрецы-Брамины, вводить въ ученіе о волѣ Бога много лишняго, ненужнаго и вреднаго для людей, но полезнаго для нихъ. Ввели жертвоприношеніе, порядки молитвъ, омовенія, очищенія, ввели раздѣленіе людей всѣхъ на разныя породы, увѣривъ людей, что это все дѣлается по волѣ Бога, и затемнили все истинное ложью и обманомъ. Жрецы-Брамины учили тому, что жертвоприношенія спасаютъ отъ всѣхъ золъ и грѣховъ; они учили тому, что спасаться отъ грѣховъ надо тѣмъ, чтобы уходить въ лѣса и тамъ мучать свою плоть постомъ и всякими страданіями. И сдѣлалось то, что свѣтскіе люди жили по-звѣрски, выкупая свои грѣхи жертвами, а монахи уходили отъ міра и въ пустыняхъ убивали свою плоть и жили безъ пользы для людей. Вѣра въ истину ту, которая была въ ихъ священныхъ книгахъ, все больше и больше ослабѣвала. И тогда-то родился, возросъ и сталъ проповѣдовать свое ученіе святой Сиддарта Будда.
Въ то время, когда родился Сиддарта Будда, индускій народъ весь былъ раздѣленъ на много маленькихъ царствъ. Всѣ они жили отдѣльно и то дружили, то воевали другъ съ другомъ. На полдень отъ Гималайскихъ горъ текутъ и теперь рѣчка Рапти и другая рѣчка Рошни. Между этими-то рѣчками и началомъ горъ Гималайскихъ было за 2500 лѣтъ тому назадъ небольшое, но богатое царство царьковъ Шакіевъ. Владѣли они округомъ тысячъ въ 30 десятинъ плодородной темной земли. Управленіе въ ихъ царствѣ отъ дѣдовъ и отцовъ шло хорошее.
Народъ сѣялъ на заливныхъ земляхъ рисъ, торговалъ и платилъ богатыя дани царямъ. Цари были очень богатые и жили роскошно. Вотъ изъ этого-то рода царей и былъ царь Судогдана, отецъ Сиддарты Будды.
1.
600 лѣтъ до Рождества Христова царствовалъ царь Судогдана. Женился онъ въ молодости на красавицѣ, царской дочери, по имени Маія. И не было у царя дѣтей. И на одиннадцатомъ году увидала царица Маія сонъ. Увидала она, что будто лежитъ она на своемъ ложѣ подлѣ царя, своего супруга, и разверзлись потолокъ и крыша и надъ нею — звѣздное небо. И глядитъ она на небо и видитъ — изъ самой глубины неба, изъ-за всѣхъ другихъ звѣздъ выходитъ одна, становится все больше и больше, и видитъ царица, что идутъ изъ звѣзды этой шесть лучей свѣтлыхъ. И ярче и ярче становится звѣзда, и падаетъ звѣзда ниже и ниже. И видитъ Маія — въ серединѣ звѣзды печать — бѣлый слонъ съ шестью клыками, и отъ каждаго клыка — лучъ. Только разсмотрѣла это Маія, полетѣла звѣзда еще быстрѣе, ослѣпила, обожгла ее и, какъ стрѣла, вонзилась ей съ лѣвой стороны подъ сердце. Ужаснулась Маія, проснулась и разсказала мужу свой сонъ.
Позвалъ царь сногадателей и спросилъ у нихъ, что значитъ сонъ царицы? И сказали сногадатели:
— Сонъ къ великому благу; сонъ означаетъ то, что родитъ царица сына, и будетъ тотъ сынъ великой святости и мудрости на пользу всѣмъ людямъ. Онъ освободитъ міръ отъ заблужденій и будетъ властвовать надъ людьми.
И точно — понесла съ того дня Маія; и когда пришло ей время, родила сына необыкновенной красоты.
2.
Обрадовался царь, что сбылось предсказаніе волхвовъ, и ждалъ теперь, что сбудется и предсказаніе о томъ, что сынъ этотъ будетъ властвовать надъ людьми. Царь понималъ такъ, что его сынъ будетъ великимъ воиномъ, завоюетъ другихъ царей и будетъ царемъ надъ всѣмъ міромъ. Обрадовался царь и велѣлъ праздновать рожденіе сына по всему своему царству.
И стали сходиться со всего царства люди, чтобы поклониться младенцу. Пришелъ съ другими и старецъ-пустынникъ, 50 лѣтъ не выходившій изъ своей пустыни. Пришелъ старецъ, и всѣ узнали его и разступились передъ нимъ, и царь встрѣтилъ его. Когда же старецъ вошелъ къ родильницѣ, она сказала женщинамь:
— Положите младенца Сиддарту къ ногамъ старца!
Взглянулъ старецъ на младенца и сказалъ:
— Не трогайте младенца: не ему лежать у моихъ ногъ, а мнѣ.
И самъ распростерся на землѣ передъ младенцемъ. И, вставъ, сказалъ:
— На деревѣ человѣческаго рода только одинъ разъ въ тысячу лѣтъ зацвѣтаетъ цвѣтъ, тотъ цвѣтъ, который, распускаясь, наполняетъ міръ благоуханіемъ мудрости и любви. На твоей вѣткѣ, царица, распустился этотъ цвѣтокъ. Но ты сдѣлала свое дѣло и умрешь черезъ семь дней.
Ушелъ старецъ. И точно — царица тихо умерла, назначивъ сыну въ кормилицы служанку свою Магапру.
Огорчился царь Судогдана о смерти жены своей, но утѣшался сыномъ и тѣмъ, что было предсказано ему.
Росъ сынъ и тѣломъ и духомъ; и пришло время учить его. Пригласилъ царь самаго ученаго человѣка своего царства — Висвамитра, чтобы обучить сына. И переѣхалъ Висвамитръ во дворецъ царскій и сталъ учить молодого Сидарту.
————
[ВАРИАНТЫ РАССКАЗА «ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ»].
АНГЕЛЪ НА ЗEMЛѢ.
* № 1.
Поѣхалъ рыбакъ въ море. Нашла буря на море, опрокинула лодку. И сталъ рыбакъ тонуть. Призываетъ Господь Ангела. Рыбакъ въ морѣ тонетъ, поди вынь душу изъ человѣка. Слетѣлъ Ангелъ на море, вынулъ душу изъ рыбака и пошло тѣло рыбамъ на съѣденье, а душа къ Богу. Принялъ Господь душу и посылаетъ Ангела въ село: жена того мужа одна въ избѣ умираетъ, поди вынь изъ жены душу. Слетѣлъ ангелъ въ село, влетѣлъ въ избушку. Лежитъ жена на кровати, родила двойню, двѣ дѣвочки; жена мечется на кровати. Одну дѣвочку ухватила къ груди, другую столкнула на землю. Взялъ ангелъ дѣвочку съ полу и видитъ — у ней ножка виситъ переломлена. Поднялъ ангелъ дѣвочку съ <полу>,83 положилъ къ груди и улетѣлъ на небо. Не вынулъ изъ родильницы душу. Влетѣлъ Ангелъ на небо и говоритъ Господь: что жъ не вынулъ изъ родильницы душу. И сказалъ Ангелъ: не могъ, Господи, вынуть изъ родильницы душу. Лежитъ одна и два младенца при ней. Одинъ упалъ съ кровати и ногу сломалъ. Не могла мать поднять, я положилъ его къ груди. Погибнутъ безъ отца, матери ангельскія душки. И сказалъ Господь: поди вынь изъ родильницы душу и узнай, чего людямъ знать нельзя, безъ чего людямъ жить нельзя и чѣмъ человѣческая жизнь крѣпка.
Полетѣлъ ангелъ въ село, влетѣлъ въ избушку. Оба младенца у груди лежатъ, присосались, а мать затихла, лежитъ, только грудью носитъ. Подошелъ ангелъ къ головамъ, вынулъ изъ родильницы душу, и остались младенцы на мертвомъ тѣлѣ. И полетѣлъ ангелъ съ душою на небо. Взмахнулъ крылами, поднялся высоко надъ селомъ, и вдругъ крылья ослабли, повисли, отпали. Полетѣла душа одна къ Богу, а Ангелъ упалъ на песокъ о <край>84 берега моря.
Жилъ на селѣ сапожникъ (чеботарь) съ женою. Понесъ сапожникъ работу въ городъ. Сдалъ работу, купилъ товару и идетъ по дорогѣ. Смотритъ сапожникъ — побочь дороги сидитъ на пескѣ человѣкъ. Подивился сапожникъ. Под<о>шелъ ближе: видитъ человѣкъ весь нагой сидитъ, глядитъ на небо и плачетъ. Подивился сапожникъ: какой человѣкъ? Если пьяница — не похожъ, лицомъ чистый и бѣлый. Если странній человѣкъ, разбойники обобрали — все бы не нагимъ его оставили; если бы изъ моря приплылъ, быль бы мокрый. И раздумался сапожникъ: подойти разспросить или мимо пройти. Подойти распроcить — задержишься, ночи захватишь да надо помощь подать. А помощь подать — я и самъ не богатъ и старуха забранитъ, а мимо пройти — и скорѣе домой придешь и хлопотать за чужой бѣдой не будешь и съ старухой спору не будетъ. И пошелъ сапожникъ дорогой, не хотѣлъ оглядываться. 10 шаговъ ступилъ, точно силомъ заворотилъ кто ему голову — оглянулся. Человѣкъ сидитъ, плачетъ и что то шепчетъ. И повернулось у сапожника сердце. Бросилъ товаръ на дорогѣ и побѣжалъ къ человѣку. Эй, добрый человѣкъ, что сидишь, что горюешь. Люди людямъ вѣкъ помогаютъ. Надо къ ночи въ село, надо тѣло одѣть и брюхо кормить.
Поглядѣлъ на сапожника нагой человѣкъ и тихо сказалъ: Богъ наказалъ [1 неразобр.] сапожникъ и говоритъ: ну, горевать нечего. Надо исправляться какъ нибудь.
— Гдѣ же я чего возьму. Я ничего не знаю. Богъ наказалъ. И опять заплакалъ человѣкъ. Подумалъ сапожникъ: голодный поле перейдетъ, а голый изъ печи не вылѣзетъ. Схватилъ съ себя сапожникъ шапку, бросилъ на земь, распоясался, кинулъ кафтанъ на песокъ, сѣлъ на него, разулся, портки сдернулъ, перетянулъ рубаху черезъ голову, вскочилъ босикомъ, надѣлъ кафтанъ на голое тѣло, подпоясалъ, а шапку, рубаху, портки, сапоги, подвертки собралъ въ охапку, швырнулъ къ голому человѣку. Взялъ человѣкъ одежу и сталъ кланяться. А сапожникъ повернулся и босикомъ выбѣжалъ на дорогу. Подхватилъ товаръ и пошелъ къ дому.
И задумался сапожникъ: какъ вспомнитъ нагого человѣка, какъ онъ одежу взялъ и умильно взглянулъ на него, такъ у него весело на сердцѣ станетъ; какъ подумаетъ, какъ ему черезъ село босикомъ безъ шапки пройти и какъ старухѣ показаться, такъ его оторопь возьметъ.
Думай не думай, а ноги несутъ, и пришелъ сапожникъ къ селу. Увидали его ребята, закричали: дядя Марей безъ шапки босикомъ идетъ. Услыхали бабы, увидали мужики. Аль загулялъ, дядя Марей. Зарокъ не сдержалъ. Шапку пропилъ, сапоги прогулялъ. Прохладно ходишь сапожникъ босикомъ. Сыграй пѣсню. А то пропилъ много, а не веселъ идешь. Нечего дѣлать Maрею, притворился пьянымъ, сталъ руками махать, подпрыгивать. Что дѣлать, братцы, загулялъ, мой грѣхъ! Захохоталъ народъ, зацыкали ребята, собаки чуть голеняшки не обкусали, прибѣжалъ Марей ко двору. Увидала его старуха, такъ и ахнула: видитъ, что и рубахи новой и портокъ нѣтъ, начала его ругать, за воротъ въ избу впихнула. Гдѣ пропилъ? Съ кѣмъ гулялъ? Растащиха ты, бездомовникъ, уйду я отъ тебя.
* № 2. Архангелъ.
<Жилъ у моря мужъ съ женою. Поѣхалъ мужъ въ море за рыбой. Нашла погода, взбугрилось море, подхватило лодку; и опрокинуло; ухватился мужъ за обшивку и ждетъ смерти. Призываетъ Господь Архангела. На море человѣкъ тонетъ, поди вынь изъ него душу. Спустился Ангелъ на море, видитъ, лодку валами швыряетъ, мужикъ за обшивку держится. Окостенѣли у мужика руки, оторвалась лодка, взмыла одна на волну, а мужикъ пошелъ ко дну. Спустился ангелъ, вынулъ изъ мужика душу и понесъ къ Богу. Говоритъ Господь Ангелу: осталась у того мужа жена. Лети въ городъ, вынь и изъ ней душу. Спустился Ангелъ въ городъ, влетѣлъ къ женѣ въ домъ. Видитъ — лежитъ на кровати жена, родила двойни.85 Тяжко женѣ, огнемъ жжетъ ее, головой съ стороны на сторону перекидываетъ, а младенцовъ къ грудямъ прижимаетъ. Младенцы плаваютъ у грудей, чмокаютъ, во рту грудей не удержатъ. Увидала жена ангела. Господи, батюшка, не вели изъ меня души брать. Родила я 2хъ дѣвочекъ. Не дай ангельскимъ душкамъ безъ матушки завянуть, не давалъ бы ихъ мнѣ. Дай мнѣ сроку ихъ вскормить возрастить. Тогда возьми мою душеньку. Не вынулъ ангелъ душу, полетѣлъ назадъ къ Богу. Прилетѣлъ къ Богу и говоритъ: родила та жена двойню. Лежитъ одна на кровати, голову съ стороны на сторону переметываетъ, младенцовъ къ грудямъ прижимаетъ — младенцы по грудямъ плаваютъ, сосковъ не удержатъ. И молитъ жена: Не бери ты, Господи, моей душеньки, не дай ты замлѣть ангельскимъ душкамъ. (Дай хоть вскормить, на ножки поставить, тогда возьми мою душеньку. Жаль мнѣ стало сиротъ), какъ они проживутъ безъ отца матери прожить. Не могъ изъ родильницы души вынуть. И сказалъ Богъ. Безъ отца матери проживутъ, безъ божьей милости не проживутъ. Поди вынь изъ родильницы душу.>
————
* № 3.
Призываетъ Господь Архангела и говоритъ ему: На море человѣкъ тонетъ, поди вынь изъ него душу. Спускается Ангелъ на море, видитъ — по морю лодку вверхъ килемъ волнами швыряетъ. За лодку ухватился человѣкъ, руками за киль держится, съ бѣлымъ свѣтомъ прощается. Подняло лодку на валъ, довело до гребня и съ гребнемъ сорвалась лодка внизъ. Хотѣлъ перехватиться, выпустилъ изъ одной руки киль, оторвалась и другая рука, и пошла на верхъ одна лодка, а человѣкъ пошелъ ко дну. Спустился Ангелъ, вынулъ изъ человѣка душу и понесъ къ Богу, а тѣло всплыло вверху и пошло кланяться по валамъ за лодкой.
Принялъ Господь душу у Ангела и говоритъ: Въ городѣ того мужа жена скорбна лежитъ, вынь и изъ нея душу. Полетѣлъ ангелъ въ городъ въ жило и сталъ въ головахъ. Лежитъ жена на кровати, съ сторону на сторону мечется, у обѣихъ грудей по младенцу. Младенцы ползаютъ, не могутъ грудей ухватить, жалуются. И говоритъ жена. Господи милостивый, не бери ты мою грѣшную душу, не дай ты ангельскимъ душкамъ безъ матерняго молока замлѣть.
Не вынулъ ангелъ душу изъ родильницы, полетѣлъ назадъ къ Богу.
————
Спустился Ангелъ, сталъ въ головахъ. Видитъ — жена поперекъ кровати лежитъ, голову запрокинула, ухватила одну дѣвочку, къ груди прижимаетъ, другая съ кровати свалилась. Вынулъ Ангелъ изъ родильницы душу, разошлись ея руки, выпала дѣвочка, на полъ свалилась и затихла жена, только младенцы какъ мышенята въ соломѣ шевелются. Поднялся Ангелъ съ душою къ небу. Чуетъ — нѣтъ силы летѣть. Душа одна полетѣла къ Богу. А у Ангела крылья отпали, и упалъ онъ на край моря.
————
Понесъ сапожникъ работу. Хотѣлъ рано домой быть да зашла погода. Зашелъ сапожникъ въ кабакъ, пока выпилъ да переждалъ погоду, и обмеркъ на пути. Дорога шла возлѣ моря. Идетъ онъ по лужамъ, пошатывается. Видитъ — на берегу что то чернѣется, ни камень, ни кустъ и на нагого человѣка похоже. Зачѣмъ ночью человѣку купаться. Подошелъ ближе сапожникъ — человѣкъ нагой сидитъ, на самомъ берегу отъ моря отсвѣчиваетъ. Окликнулъ сапожникъ. Не отвѣтилъ. Подошелъ вплоть сапожникъ: человѣкъ нагой сидитъ, закрылъ глаза руками и плачетъ. Оглядѣлся кругомъ сапожникъ — ни лодки ни одежи — ничего нѣтъ, сидитъ одинъ человѣкъ какъ мать родила, и плачетъ. Что жъ или у тебя ничего нѣтъ? Покачалъ головой молодецъ. О чемъ плачешь, молодецъ? Молчитъ. Что жъ это какъ тебя Богъ наказалъ. Закивалъ головой молодецъ и заплакалъ. Жаль стало сапожнику молодца. Запало ему въ сердце. Ну, думаетъ, сердись, не сердись старуха, а нагого одѣнь, голодного накорми. Скинулъ сапожникъ шапку объ землю, распоясалъ кафтанъ, долой [снялъ], сѣлъ на землю, размоталъ оборку, разулся, изъ портокъ ноги [1 неразобр.], рубаху черезъ голову стащилъ, рукава выворотилъ. Вскочилъ босикомъ, надѣлъ кафтанъ, подпоясался. Собралъ рубаху, портки, онучи, бахили, шапку поднялъ, подаетъ молодцу.
Прикрой голое тѣло, добрый человѣкъ. Люди вѣкъ людямъ помогаютъ. Повернулся и пошелъ къ городу. По городу народъ еще ходитъ. Увидали сапожника — идетъ одно тулово одѣто, а голова и ноги раздѣты. Аль загулялъ! Шапку и сапоги пропилъ! Пропилъ, братцы, мой грѣхъ. Подошелъ сапожникъ къ дому и заробѣлъ. Какъ я старухѣ скажу. Добро бы пьяный былъ. Смѣлость бы была. А то загрызетъ она меня за рубаху, за портки, за шапку. Дѣлать нечего, взялся за кольцо, погрохалъ. Слышитъ, старуха идетъ отпирать. Глядь — гдѣ ни взялся молодецъ въ его рубахѣ и шапкѣ подлѣ него стоитъ. Поклонился: пусти ночевать. Чтожъ, заходи. Вышла старуха, отперла, видитъ [1 неразобр.] чей то чужой идетъ. Это чей? Дальній, ночевать попросился.
————
** № 4.
АРХАНГЕЛЪ.
Жилъ мужъ съ женою на краю города подлѣ моря. Собрался мужъ въ море за рыбой. Осталась жена одна въ домѣ. Нашла на море буря, залило водой лодку и сталъ мужикъ тонуть. Призываетъ Господь Богъ Архангела: поди на море, человѣкъ тонетъ, вынь изъ него душу. Съ моря поди на край города, въ избушкѣ живетъ одна жена, вынь и изъ ней душу. Слетѣлъ Архангелъ на море, вынулъ изъ человѣка душу и пошла душа къ Богу. Слетѣлъ Архангелъ въ избушку, видитъ — лежитъ на кровати жена, родила двойню. Дѣвочки по грудямъ плаваютъ, а жена мечется, стонетъ: Господи Батюшка не меня пожалѣй — сиротъ моихъ. Дай мнѣ вскормить, на ноги поставить не присылай по душу. Сталъ Архангелъ въ головахъ, поглядѣлъ на младенцовъ, вышелъ и поднялся на небо къ Богу. Вынулъ изъ мужа душу, прилетѣлъ къ женѣ — два младенца по грудямъ плаваютъ, сама стонетъ: не меня пожалѣй, Господи батюшка, а сиротокъ моихъ — дай вскормить, на ноги поставить, а тогда возьми мою душу. Пожалѣлъ сиротокъ, не могъ вынуть изъ родильницы душу. И сказалъ Богъ: Безъ отца матери проживутъ, не проживутъ безъ Божьей милости; поди, вынь изъ родильницы душу.
Полетѣлъ ангелъ назадъ въ избушку. Сталъ въ головахъ. Родильница слабѣй стала, младенцовъ руками ловитъ, не попадаетъ и все Бога молитъ: не бери мою душу, пожалѣй сиротокъ. Заплакалъ Архангелъ, а вынулъ изъ жены душу и пошла душа къ Богу. Вышелъ Архангелъ изъ избушки, воздохнулъ и хотѣлъ подняться на небо. Не можетъ летѣть. Крылья отпали. И заплакалъ Архангелъ объ своемъ грѣхѣ, что не послушался Бога.
Жилъ въ городѣ старикъ съ старухой. Старикъ сапоги шилъ. Услыхала старуха, что рыбакъ потонулъ на морѣ, а рыбакова жена родила двойню, и говоритъ старику: жалко сиротокъ. Пойду провѣдаю. Коли мы горькихъ забывать будемъ и насъ Богъ забудетъ. — Пошла старуха, а старикъ пошелъ проводить ее до избушки. Дошли они до моря. Старуха пошла въ избу, а старикъ остался на улицѣ. И слышитъ старикъ — за дворомъ кто то плачетъ. Прислушался старикъ и пошелъ поглядѣть. Зашелъ за дворъ, видитъ — стоитъ юноша нагой весь, прижался къ забору, закрылъ лицо руками и плачетъ. — Чей молодецъ, объ чемъ плачешь.
Богъ меня наказалъ — нельзя мнѣ не плакать.
Полюбился старику юноша. Постоялъ онъ, посмотрѣлъ и говоритъ: Богъ накажетъ, Богъ и проститъ. Пойдемъ ко мнѣ. Какъ сказалъ это старикъ, юноша упалъ на землю и залился [?]. Отошелъ старичекъ за уголъ, снялъ кафтанъ, рубаху, портки, сѣлъ, разулся, чулки снялъ, и надѣлъ на голое тѣло кафтанъ, на голые ноги бахилку, а рубаху, портки и чулки сложилъ и принесъ къ юношѣ и говоритъ: люди людямъ вѣкъ помогаютъ. Нагое тѣло прикрыть, а брюхо хлѣба проситъ. Вотъ чѣмъ прикрыться, а пойди со мной, чѣмъ Богъ наградилъ, съ старухой поужинаемъ. Допрежъ накорми, напои, а послѣ вѣстей попроси.
Поклонился низко юноша старичку, надѣлъ рубаху, портки, чулки, все какъ по немъ кроено, и вышелъ со старикомъ на улицу.
Вышла и старуха изъ избушки, подивилась, какой такой молодецъ въ мужниной рубахѣ и порткахъ стоитъ, не посмѣла спросить и пошли всѣ домой. И рассказала дорогой старушка, что померла рыбакова жена, а сиротокъ вдовая кума себѣ въ дѣти взяла.
Поужинали съ гостемъ и положили его спать. И стала старуха мужу выговаривать. Въ томъ, что чужаго человѣка въ домъ взялъ, въ томъ не смѣла, а за то выговаривала, что новую рубаху отдалъ, можно бы изъ старыхъ выбрать.
На утро спросилъ старикъ гостя, какъ звать. Михайло, говоритъ. Ну, говоритъ, Михайло, хочешь у меня жить, берись за работу. Умѣешь точать. Будешь помогать — живи. Шить не шивалъ, а покажешь — работать буду. — Далъ ему старикъ работу. Показывать много нѣтъ.... съ разу все понимаетъ.
И сталъ Михайло жить. Смѣнила ему старуха рубаху, изъ старыхъ дала, одежу сдѣлала. И живетъ Михайло, за все благодаритъ, всѣмъ доволенъ, всю недѣлю работаетъ, что нужно, дѣлаетъ, лишнихъ словъ не говоритъ, воскресенье къ обѣдни идетъ, а отъ обѣдни придетъ, сидитъ молчитъ.
Ни отъ него рѣчей, ни игръ, ни смѣху. Жилъ такъ Михайло 10 лѣтъ и ни разу не ухмылилъ. На 10-й годъ сидитъ разъ днемъ Михайло за работой у окна, а хозяинъ на лавкѣ и видитъ хозяинъ, что Михайло привсталъ, развелъ руками, смотритъ въ окно и улыбается. — Посмотрѣлъ хозяинъ, видитъ — идетъ по улицѣ вдова богатая и идутъ съ ней двѣ дѣвочки одна въ одну.
Подивился хозяинъ, ничего не сказалъ. Приходитъ въ тотъ день баринъ сапоги заказывать. Ты, говоритъ, баринъ, мнѣ такіе сшей сапоги, чтобы годъ стояли, не рвались, не кривились. Я за цѣной не стою, а проношу годъ твои сапоги, я тебѣ и напредь заказывать буду. Хозяинъ повернулся къ Михайлѣ и говоритъ: смотри Михайло хорошо сшей, а Михайло покачалъ головой, улыбнулся и ничего не сказалъ.
Подивился старикъ. Ушелъ баринъ, хозяинъ отрѣзалъ товаръ на барскіе сапоги и подаетъ Михайлѣ кроить. Смотритъ, что Михайло не то дѣлаетъ: взялъ Михайло, сложилъ товаръ, взялъ ножъ и кроитъ не по сапожному. Смотритъ, что будетъ. Выкроилъ Михайло босовики и сталъ въ одинъ конецъ шить. Подивился хозяинъ. На утро приходитъ молодецъ отъ барина, говоритъ: вамъ баринъ сапоги заказывалъ. — Заказалъ. — Такъ не нужно сапогъ, барыня прислала — баринъ померъ, — босовики на смерть сшить. —
Всталъ Михайла, подаетъ босовики. — И задумался старикъ и вечеромъ сталъ съ старухой совѣтовать: какой такой не простой человѣкъ Михайло у насъ живетъ. Живетъ 10 лѣтъ. Кромѣ хорошаго отъ него ничего нѣтъ, а барина онъ смерть угадалъ. Человѣка этаго надо ублаготворить. Мы люди старые, примемъ его замѣсто сына и добро ему все оставимъ. Старуха говоритъ: онъ того стоитъ. Доброе дѣло. Поглядѣлъ старикъ, а Михайло въ углу сидитъ, улыбается. Подивился старикъ. На утро пошелъ старикъ съ Михайлой къ обѣдни. Дорогой и говоритъ старикъ: живешь ты у меня Михайла ни много ни мало 10 лѣтъ. Если ты отъ меня добра видѣлъ, то я отъ тебя больше того. Хочу я тебѣ въ сыновья принять и все нажитое тебѣ оставить. Скажи мнѣ, какого ты рода и племени. И сказалъ Михайло. Спасибо на твоихъ добрыхъ рѣчахъ, дѣдушка. И больше ничего не сказалъ ему. Пришли они въ церковь, старикъ сталъ у паперти, а Михайло пошелъ на клиросъ. — Запѣли херувимскую и слышитъ старикъ — Михайлинъ голосъ запѣлъ. Только узналъ его, а послѣ ужъ и слышать не могъ — такой голосъ пустилъ Михайло, что задрожала церковь, затряслись стѣны, народъ весь окарачь упалъ.
Разошелся86 потолокъ у церкви и поднялся на крыльяхъ Михайло Архангелъ и улетѣлъ на небо.
Заснулъ въ эту ночь старикъ и привидѣлся ему Михайло въ ангельскомъ образѣ. Это ты, Михайло. Я Ангелъ, дѣдушка. Послалъ меня Богъ по душу, я пожалѣлъ сиротъ, Богу не повѣрилъ. Богъ сказалъ: безъ отца матери проживутъ, безъ Божьей милости не проживутъ, и я остался на землѣ. Ты взялъ меня и 10 лѣтъ я подъ наказаньемъ жилъ.
На 10 годъ сиротки выросли лучше, чѣмъ у матери, и на 10 годъ я увидалъ ихъ и Богъ простилъ меня. И я опять сталъ ангелъ. Въ тотъ день пришелъ баринъ на годъ за [1 неразобр.], а я видѣлъ, что ему умереть. Въ тотъ же день ты съ старухой мнѣ хотѣлъ имѣнье оставить, а мнѣ уже небо открылось. Не ропщи на Бога, не думай о другомъ днѣ и не полагай надежду на богатство. — Въ Богѣ живешь, въ Богѣ умрешь.
————
* № 5.
Отнесъ разъ сапожникъ работу по заказу. Сдалъ хозяину, получилъ деньги, взялъ еще работу — старые сапоги починить, и пошелъ домой. Идти было сапожнику <глухимъ мѣстомъ верстъ десять. На половинѣ дороги остановился сапожникъ, присѣлъ на камень, досталъ лепешку и хотѣлъ полудновать. Только собрался укусить, вдругъ слышитъ — не далеко отъ дороги кто то вздыхаетъ. Прислушался сапожникъ — точно вздыхаетъ и стонетъ. Постонетъ, затихнетъ и опять завздыхаетъ и застонетъ и заплачетъ. Засунулъ сапожникъ лепешку, поднялся и пошелъ по голосу. Только сошелъ къ лощинкѣ прочь съ дороги, смотритъ — человѣкъ задомъ къ дорогѣ, весь нагой и на спинѣ подъ лопатками двѣ кровавыя раны. Сидитъ обнявши руками колѣна и плачетъ. Человѣкъ, видно, молодой, тѣло бѣлое, чистое, голова опущена и по плечамъ лежатъ и напередъ висятъ русые кудрявые волосы. Подивился сапожникъ и раздумался: что за человѣкъ? Или лихой или добрый человѣкъ. Если лихой человѣкъ — какъ бы меня не обидѣлъ. Онъ молодой, я старый. А если добрый человѣкъ, свяжешься съ нимъ, надо его одѣть. Не съ себя же снять — ему отдать. Самъ думаетъ сапожникъ: лучше не подходить, а самъ идетъ къ человѣку. Подошелъ вплоть, оглядѣлъ еще — нѣтъ ни на немъ ни при немъ никакой одежи. Подивился сапожникъ, подошелъ вплоть, ударилъ по плечу и говоритъ: здорово, милый человѣкъ. Что сидишь одинъ въ глухомъ мѣстѣ. Дѣло къ ночи, надо къ жилью прибиваться. Пересталъ человѣкъ плакать, поднялъ голову и оглянулся на сапожника и говоритъ: Куда мнѣ идти? Къ людямъ иди. А то что же сидишь плачешь. Сколько не плачь, нагое тѣло прикрыть и брюхо кормить надо. Слезами не поправишь. Видитъ сапожникъ — лицо свѣтлое, глаза ясные. И говоритъ человѣкъ: какъ мнѣ не плакать. Чѣмъ я былъ и чѣмъ сталъ. И спрашиваетъ сапожникъ и говоритъ: Да ты кто и откуда и кто тебя обидѣлъ. И отвѣчаетъ человѣкъ: и кто я и откуда я, нельзя мнѣ сказать, а обидѣть меня — никто не обидѣлъ, меня Богъ наказалъ. Сказалъ и опять заплакалъ. И говоритъ сапожникъ: Богъ наказалъ, Богъ и проститъ. А кто ты ни будь, все равно тебѣ здѣсь ночью нагому быть нельзя, надо въ село. А тѣло прикрыть надо. Вѣкъ люди людямъ помогаютъ. Скинулъ съ себя сапожникъ кафтанъ, скинулъ сапоги новые, опорки надѣлъ и отдалъ кафтанъ и сапоги человѣку. На, надѣвай. Голодный поле перейдетъ, а голый изъ печи не вылѣзетъ. Надевай да прибивайся к жилью, а мнѣ домой надо. И пошелъ сапожникъ своей дорогой.
————
* № 6.
Жилъ въ деревнѣ у мужика сапожникъ. Лѣтомъ въ рабочую пору подсоблялъ онъ хозяину въ полѣ, а остальное время чеботарилъ: старое чинилъ, подметки подметывалъ, латки накладывал, переда переставлялъ, а когда дадутъ товаръ, и новые шилъ по заказу. Своего товара не на что купить было что заработаетъ, то и проѣстъ. Звали сапожника Семенъ, а прозывали больше Сёма, Сёмочка. Понадобилось разъ Сёмочкѣ передъ осеннимъ заговѣньемъ верстъ за 10 сапоги снести, Вышелъ Семенъ послѣ завтрака. Пока дошелъ — снесъ сапоги, пока получилъ деньги за работу, пообѣдалъ у мужика, пока зашелъ къ другому, должокъ старый получилъ, да еще взялъ старые сапоги въ починку, сталъ ужъ вечеръ. Идетъ, самъ съ собой думаетъ, свои заработки считаетъ, обдумываетъ, какъ бы какъ бы на зиму на новую шубу собрать. Другой разъ и пошелъ бы работы взять — холодно. Старая ужъ вытерлась вся, да и бабѣ нельзя безъ ней — воды ли принести или рубахи постирать. И вслухъ самъ съ собой говоритъ: 2 р. 40 за сапоги получены, говорить, Егоръ рубль съ четвертью тоже отдалъ, безъ малаго четыре, у жены въ укладкѣ 3 съ полтиной есть. Если Тихонычъ отдастъ — и шуба. Попрошу овчинника кума, онъ мнѣ овчинку по 1 35 отдастъ, больше 8 не пойдетъ. Восемь рублей, 8 четвертей, 8 гривенъ — 10 съ чѣмъ то. Ну скажемъ 11. За шитье два рубля. За котикъ. Безъ малаго 15 влѣзетъ. Все 7 рублей недохватки. Безъ шубы нельзя. Объ шубѣ думаетъ, а самъ и безъ шубы согрѣвается. Ужъ и смеркаться стало.
Пришлась по дорогѣ лощинка съ мостокъ за версту отъ дома. Только сталъ спускаться въ лощинку Семенъ, глядь — направо моста на бугоркѣ за кустомъ сидитъ что то бѣлое. Сразу не рассмотрѣлъ Семенъ въ сумеркахъ. Человѣкъ не человѣкъ, скотина — тоже не скотина, а что то чудное. Сошелъ пониже Семенъ. Что за чудо! человѣкъ голый сидитъ одинъ за кустомъ, точно прячется. Ужъ не лихой ли человѣкъ.87 Онъ молодой да разутый, мнѣ отъ него не уйти, назадъ ли бѣжать или впередъ идти, все равно догонитъ, а коли какой несчастный, тоже мнѣ съ нимъ возжаться нечего, что мнѣ съ нимъ дѣлать. Не съ себя же снять, да ему послѣдній кафтанъ отдать Подумалъ, подумалъ Семенъ и пошелъ полѣвѣе отъ мѣста на крутой всходъ, подальше отъ человѣка. Богъ съ нимъ совсѣмъ, и глядѣть не буду на него, а если вскочитъ, тогда опорки скину да побѣгу, что Богъ дастъ. Сошелъ Семенъ на ручей, перепрыгнулъ, хотѣлъ не глядѣть, да не удержался, глянулъ, видитъ — сидитъ человѣкъ все также, человѣкъ видно молодой, тѣло чистое, бѣлое, и сидитъ весь нагой, въ комочекъ собрался, точно отъ стыда укрывается, сидитъ и дрожитъ, только глядитъ на Семена. Сталъ Семенъ подниматься, опять хотѣлъ не глядѣть, опять оглянулся, видитъ — сидитъ человѣкъ, опустилъ голову и точно плачетъ. И повернулось у Семена сердце. Кубаремъ соскочилъ Семенъ съ кручи, подошелъ къ человѣку. Кто тебя обидѣлъ? Кто ты, какъ сюда попалъ? И заговорилъ тихо человѣкъ. — Нельзя мнѣ тебѣ сказать, добрый человѣкъ, кто я. Никто меня не обидѣлъ, меня Богъ наказалъ. Самъ говоритъ, а голосъ дрожитъ, точно плачетъ. Какъ услыхалъ Семенъ тихій голосъ, увидалъ лицо чистое, красивое [1 неразобр.] у него сердце. Швырнулъ Семенъ палку съ сапогами на земь, распоясался, распахнулъ, скинулъ кафтанъ и подалъ человѣку. На, надѣнь, хоть какъ нибудь къ жилью прибьешься. Сталъ было человѣкъ говорить что то, да Семенъ перебилъ его. Сапоги надѣнь. А вот
Снялъ было Семенъ и картузъ, да лысинѣ холодно стало. Думаетъ: у него волоса кудрявые, а у меня лысина во всю голову надѣлъ опять картузъ. Одѣлся человѣкъ и низко поклонился и говоритъ. Спаси тебя Господь, добрый человѣкъ, за твое добро, только скажи ты мнѣ одно: сейчасъ ты шелъ, говорилъ: какъ тебѣ надо деньги собрать, шубу сшить, а теперь ты вотъ не то что шубу шить, а послѣдній кафтанъ отдалъ. Зачѣмъ ты такъ сдѣлалъ?
И не зналъ Семенъ, что сказать.
— Будетъ толковать то. Зачѣмъ? Зачѣмъ? Коли сдѣлалъ, такъ знаю, зачѣмъ. Вотъ тебѣ и сказъ. Улыбнулся человѣкъ и еще разъ поклонился Семену.
Повернулся Семенъ, пошелъ къ дому. Въ рубахѣ ему холодно было и онъ въ припрыжку вбѣжалъ въ гору и зачастилъ по дорогѣ.
Пришелъ Семенъ ко двору, уже огни зажгли. На улицѣ никто не видалъ его безъ кафтана. Первая увидала хозяйка и такъ и ахнула на него, что онъ безъ кафтана. — Кафтанъ гдѣ?
Не пропилъ. Дай срокъ, скажу. Вотъ и деньги, вотъ и Аксюткѣ и Мишкѣ гостинцы. Досталъ деньги, отдалъ женѣ, баранки ребятамъ.
— Кафтанъ то гдѣ?
И разсказалъ Семенъ про голаго человѣка. Покачала головой хозяйка, но ничего не сказала. — Поужинали и стали считать деньги. Посчитали, посчитали. Хоть на кафтанъ поддевку купить надо, да нашлись еще нужды и вышло, что шубы заводить нельзя. Только потушили огонь, загрохало кольцо калитки.
————
И такъ раздумался сапожникъ, что и прошелъ было Никольскій повертокъ. Очнулся сапожникъ. Вишь, видно вамъ домой захотѣлось, смѣется на свои ноги, говоритъ, — нѣтъ вы, ребята, еще въ Никольское свезите. Надо забѣжать къ Егору. А то чтò баба скажетъ, какъ придешь безъ денегъ, безъ шубы. Только даромъ день пропустилъ. Остановился сапожникъ и сталъ оглядываться, гдѣ на Никольскій повертокъ пройти, глянулъ вправо. Что за чудо: на жневьи за межой что-то бѣлѣется. Межа крутая подъ гору и полынью поросла и не разберетъ сапожникъ, что такое за межой большое бѣлѣется. Камня здѣсь такого нѣтъ. Туда шелъ ничего не было. Звѣрь, такъ бѣло очень для звѣря, птица, такъ велико что то. Скотина? Такъ не похоже. Похоже на человѣчью голову, на голыя плечи. А человѣку, да голому незачѣмъ въ полѣ по осеннимъ заморозкамъ быть. Думаетъ себѣ сапожникъ: дай посмотрю поближе. Снялъ сапожникъ сапоги съ палки, взялъ въ лѣвую руку, а палку взялъ въ правую и пошелъ къ межѣ, по мерзлымъ калмыжкамъ гремитъ каблуками и палкой постукиваетъ, думаетъ: коли звѣрь или птица — вскочитъ. Подошелъ ужъ близко — не вскакиваетъ. Только вовсе за межу притаилось, не видать ничего. Заробѣлъ сапожникъ, взялъ поправѣе, чтобы не прямо на него идти, а вдоль межи посмотрѣть. Вышелъ на межу — точно, человѣкъ нагой курчавый сидитъ ужался за межой, дрожитъ, и видитъ сапожникъ, на спинѣ у человѣка двѣ раны. Остановился сапожникъ и задумался: доброму человѣку, думаетъ, не зачѣмъ тутъ быть; а должно въ плохомъ дѣлѣ попался — избили его да и бросили. Свяжешься съ нимъ, бѣды наживешь. Если лихой человѣкъ, онъ меня задушить. Онъ здоровый молодой, а я старый и не уйдешь отъ него, а если его обидѣли, что жъ мнѣ то съ нимъ связаться, не съ себя же послѣднее снять, ему отдать. Надѣлъ сапожникъ вален(ки) на палку, на плечо и хотѣлъ прочь идти. Хочетъ прочь идти, а самъ глядитъ на человѣка. Глядитъ и видитъ — поднимутся спина и плечи у человѣка и задрожатъ и станутъ спускаться — точно рыдаетъ. И защемило у сапожника сердце.
II.
И пошелъ по межѣ прямо на человѣка. Нагой человѣкъ все также сидитъ въ межѣ [2 неразобр.] обхватилъ руками колѣни и опустилъ голову. Сталъ Семенъ ближе подходить,88 видитъ — человѣкъ молодой безбородый, лицо чистое, красивое, руки и ноги не рабочія, только избитъ, напуганъ и измерзъ. Посинѣлъ весь и дрожитъ и ужалъ голову въ плечи и глядитъ на Семена какъ птица подбитая.
Эй, милая голова, что жъ сидѣть, надо къ жилью.
Задрожалъ человѣкъ еще пуще, и видитъ Семенъ — потекли у него изъ глазъ слезы и не сталъ сапожникъ больше разговаривать.
* № 8.
Жилъ въ деревнѣ сапожникъ. Была у него жена и трое дѣтей. Земли у сапожника не было и кормился онъ работой — головы приставлялъ, подметки подкидывалъ, латки накладывалъ и когда выходилъ заказъ, и новые шилъ. Своего товару купить не на что было. Кормился сапожникъ день за день, что заработает, то и проѣстъ. Вышелъ сапожнику заказъ — богатому мужику сапоги сшить изъ хозяйского товару. Сшилъ сапожникъ сапоги, отдѣлалъ, завязалъ въ узелокъ и обрѣзки товару туда же положилъ, надѣлъ суконный лучшій кафтанъ и пошелъ къ мужику. Мужикъ жилъ за 7 верстъ за рѣкою. Снесъ сапожникъ работу, сдалъ, получилъ деньги за прежнюю да за новую работу, да еще должокъ получилъ, да сапоги взялъ у мужика переда новые поставить, и пошелъ домой. Идетъ сапожникъ лѣсомъ, несетъ старые сапоги на палкѣ за плечами, идетъ, самъ съ собой говоритъ: Четыре рубля шесть гривенъ получилъ, вотъ они въ кошелѣ. Дома у старухи три съ полтиной лежать. Если съ Сидорова получу за головки — и всѣ 10. Овчинъ больше 6 не пойдетъ на тулупъ. Дядя Василій отдастъ по 1 70 гривенъ. За работу заплачу 2 р. — и шуба. Тогда горя не буду знать. Мнѣ ли выдти за работой, жена ли пойдетъ. А то бывало и взялъ бы работу, а выдти не въ чемъ. И сталъ еще считать сапожникъ, что станетъ шубу сукномъ покрыть. Насчиталъ — еще надоть 5 р. прибавить. И захотѣлось сапожнику тулупъ крытый собрать. Думаетъ, приличнѣе мастеровому. Но считалъ, считалъ— на крытый не выходитъ. Ну, думаетъ, не крытый, такъ нагольный, а все жъ нынѣ зимой въ новомъ тулупѣ пощеголяю. И не видалъ сапожникъ, какъ съ своими мыслями прошелъ полдороги и дошелъ до колодца. У колодца бывало лѣтомъ сапожникъ останавливался вздохнуть и напиться, и теперь хоть и осень была, не жарко было, по старой привычкѣ остановился сапожникъ у колодца и вспомнилъ, что дали ему въ деревнѣ лепешекъ яшныхъ. И думаетъ: дай сяду, закушу. Присѣлъ сапожникъ, бросилъ [?] сапоги на земь, досталъ лепешки изъ за пазухи, только собрался укусить, — что такое? въ лѣсу что то звучитъ. Прислушался сапожникъ — ни звѣрь, ни птица, а похоже — человѣкъ дышетъ. Послушалъ сапожникъ: точно, не далеко отъ колодца, за березками человѣкъ дышетъ. Всталъ сапожникъ, сунулъ назадъ лепешку и пошелъ искать. Только прошелъ березки, глядитъ — на полянкѣ у лещиноваго куста сидитъ къ нему задомъ человѣкъ весь нагой; сидитъ обхвативши руками нагія колѣна и <заливается плачетъ>. Человѣкъ, видно, молодой, нерабочій, курчавые русые волосы с рыжинкой, тѣло нѣжное, бѣлое и на спинѣ на лопаткахъ двѣ раны. И думаетъ сапожникъ: что за человѣкъ, одинъ среди лѣсу. Ужъ не лихой ли какой человѣкъ подманиваетъ. Подойду, а онъ вскочитъ, задушить да оберетъ. Онъ молодой, легкій, да и разутый, а я старый, съ нимъ не поправлюсь. Или, думаетъ себѣ, если самъ не лихой человѣкъ, такъ его лихіе люди обобрали, да избили, что мнѣ съ нимъ съ голымъ дѣлать. Одѣть мнѣ его нечѣмъ, я самъ чуть не голый. Какой ни есть человѣкъ, не ходить мнѣ къ нему лучше, а идти своей дорогой. Думаетъ такъ сапожникъ и хочетъ назадъ идти, а самъ стоитъ, глядитъ, что отъ человѣка этого будетъ. И видитъ сапожникъ, какъ человѣкъ воздохнетъ, воздохнетъ, задрожитъ и поднимутся плечи. И жалко сапожнику стало и закричалъ онъ громкимъ голосомъ: Эй, молодецъ. Глянь ка сюда. Чей будешь? Дрогнулъ человѣкъ, оглянулся, и видитъ сапожникъ — человѣкъ молодой, лицо бѣлое, чистое, красивое, сразу видно, что не лихой человѣкъ, а несчастный и самъ боится. Что, милый человѣкъ. Али обидѣли тебя недобрые люди.
И заговорилъ человѣкъ и сказалъ: меня никто не обидѣлъ. Меня Богъ наказалъ.
— А Богъ наказалъ, Богъ и проститъ. Какже ты сюда попалъ? Гдѣ твой домъ, семья?
— Нѣтъ у меня ни семьи, ни дома. Я одинъ остался.
— Отчего жъ ты голый?
Нѣтъ у меня ничего, я весь тутъ.
Подошелъ сапожникъ. Говоритъ человѣкъ хорошо и голосъ тихій и [?] какъ плачетъ, а не сказываетъ, кто онъ и откуда.
Не хочешь сказывать, не говори, да сидѣть то тебѣ тутъ нельзя. Дѣло къ ночи, а ты нагой. Надо тѣло прикрыть, да брюхо питать.
Куда жъ я пойду? —
И не сталъ думать сапожникъ, снялъ кафтанъ, подалъ человѣку, сдернулъ сапоги съ палки, кинулъ. Hà, одѣнь, да прибивайся къ жилью. А мой домъ 3-й на лѣвой рукѣ, ставни крашены, кожаная петля у калитки. А звать меня Семенъ чеботарь. Коли лучше не найдешь, приходи ночевать. — И самъ не знаетъ съ чего — возрадовалось сердце у сапожника, повернулъ онъ и пошелъ безъ кафтана и безъ сапогъ одинъ по дорогѣ.
————
* № 9.
Идетъ сапожникъ на легкѣ въ одной рубахѣ, все шагу прибавляетъ согрѣвается и думаетъ: Какъ вздумаетъ онъ объ томъ, какъ обрадовался человѣкъ, такъ заиграетъ въ немъ сердце, какъ вздумаетъ о томъ, какъ теперь онъ домой безъ кафтана покажется и какъ раздѣлается съ мужикомъ за старые сапоги. Сапоги бы ничего, всѣ разбиты, да голенищи новые, такъ заскребутъ у него кошки на сердцѣ. Думай не думай, а ноги все впередъ несутъ и дошелъ сапожникъ до дома. На улицѣ никто не видалъ его, только кума высунулась въ окно, подивилась, что Семенъ безъ кафтана идетъ. Подумаетъ пропилъ. Пускай думаетъ, нарочно пошатнулся Семенъ и дошелъ до дома. Погрохалъ кольцомъ. Вышла жена, отложила. Вошелъ Семенъ, не глядитъ на нее, вошелъ и сѣлъ на лавку.
— Чтожъ кафтанъ-то, или у Потапа оставилъ?
— Не оставилъ, а отдалъ.
— Кому отдалъ?
— Человѣку отдалъ.
— Какому человѣку?
— Голому человѣку, вотъ какому человѣку отдалъ. —
— Да будетъ смѣяться то что жъ ты пьяный что ль?
— Не смѣюсь. По дорогѣ шелъ, сапоги Сидоровы [?], сѣлъ у колодца, а тутъ человѣкъ, Богъ его знаетъ какой, нагой сидитъ, плачетъ. Я и отдалъ и сапоги отдалъ. Да будетъ толковать то, ты не вой [?]! Отдалъ да все тутъ. Сидитъ голый, какъ есть избитый весь. Ну и отдалъ. Кафтанъ наживемъ, а голаго одѣть надо.
Фыркнула жена, понесла ругать Семена. — Да что же ты то миліонщикъ что ли раздавать то, что у тебя одежи то что ли полна клѣть? У тебя шубы то нѣтъ. Заработалъ видно много. И такъ по днямъ не ѣмши сидятъ, а онъ увидалъ бродягу — отдалъ. Вишь благодѣтель выискался. Ты своихъ то одѣлъ бы сперва, а то ни шубы, ни одежи. Отдавальщикъ выискался. Пропилъ, не отдалъ. Не даромъ не хотѣла за тебя бродягу идти. Пойду утоплюсь съ ребятами, пропивай послѣднее.
— Будетъ, баба, право будетъ, говорить Семенъ. Но баба не унималась. У людей и шубы, и кафтаны, и скотина, а у насъ ничего, вмѣсто работы послѣднее мотаетъ.
— Будетъ, говорю. Не пропилъ. Я тебѣ сказалъ, сидитъ неизвѣстно какой человѣкъ, мерзнетъ, весь раздѣтъ. Я ему отдалъ. Буде, говорю; живы будемъ, наживемъ.
— Много ты нажилъ. А такихъ, какъ ты бродягъ много. Всѣхъ не одѣнешь. Не хочу я съ тобой жить, убѣгу. Злодѣй ты, разбойникъ, убилъ ты меня с дѣтьми малыми. Завопила баба такъ, что народъ сбѣжался. Сошлись сосѣди, опять разсказалъ все Семенъ, какъ дѣло было, подивился народъ, разошелся. Замолчала и баба, а сердце не сошло, ребятъ бьетъ и кошку въ дверь вышвырнула, выкинула мужу чашку на столъ, налила квасу и хлѣбъ бросила на столъ. Поѣлъ Семенъ и легъ на печку. Убрала баба горшки, поклала ребятъ, потушила свѣтъ и легла на лавкѣ. —
Только легла, загрохало кольцо у калитки. Услыхала баба.
— Странный, пустите ночевать.
Замолчала баба, а мужъ съ печи слушаетъ: что будетъ, ничего не говоритъ.
— Семенъ? ты что жъ молчишь. Пустить что ли?
— Да ты какъ знаешь. —
Накинула баба поддевку, пошла въ сѣни. Слышитъ Семенъ — отворила, пустила, идетъ сама босикомъ, за ней кто-то въ сапогахъ ступаетъ. — И говоритъ баба:
— Что жъ, грѣйся, ложись тутъ то. Огонь дуть не буду.
И слышитъ сапожникъ — отвѣчаетъ бабѣ голосъ тихій, нѣжный:
— Спаси тебя Господь, тетушка, я тутъ лягу.
— Ужинать хочешь, а то хлѣба.
— Нѣ, спасибо, тетушка.
И показалось Семену, что голосъ этотъ онъ слыхалъ прежде.
— Такъ я и огня дуть не буду. Ложись тутъ, сказала баба. Слышитъ, улегся странникъ на лавкѣ, а баба съ коника снялась, къ нему на печь лѣзетъ и легла подлѣ него.
Лежалъ, лежалъ Семенъ, все не спится ему, все объ томъ голомъ человѣкѣ думаетъ и какъ вспомнитъ, взыграетъ сердце, а какъ вспомнитъ объ кафтанѣ да о голенищахъ, заскребетъ на сердцѣ. Ворочается Семенъ, все думаетъ и слышитъ, и жена тоже не спитъ, все ворочается. — И заговорила жена:
— Сёма.
— А?
— Ты съ Спиридона то получилъ?
— Отдалъ.
— А Трифоновы заплатили?
— Онъ только съ извозу пріѣхалъ — отдалъ. Всѣхъ 6 съ полтиной принесъ.
Вздохнула жена, какъ разъ на тулупъ бы было. Какже намъ теперь безъ кафтана быть.
— Купить надо.
— Купить то, купить то [?]. А мука то опять дошла, да кадушку не миновать новую. — Что жъ ты и вправду нищему отдалъ?
— Да будетъ, Матрена.
— Да я не къ тому. Ты только скажи, зачѣмъ ты отдалъ.
— Зачѣмъ отдалъ? А ты зачѣмъ страннаго человѣка пустила?
— Я знаю зачѣмъ, что же ему мерзнуть какъ собакѣ: Отъ насъ не убудетъ, живы будемъ.
— Ну и я знаю.
И только (сказалъ) это Семенъ, какъ зарница освѣтила избу, показалось Семену, что его самый человѣкъ въ его кафтанѣ на лавкѣ навзничь лежитъ, глядитъ на него и улыбается. И не знаетъ самъ Семенъ, во снѣ ли ему это приснилось или на его [?] темно опять стало, повернулся Семенъ и заснулъ.
На утро проснулся Семенъ, жена ужъ съ ведрами на рѣчку шла, дѣти спятъ, а на лавкѣ одинъ вчерашній странникъ, тотъ самый человѣкъ въ его кафтанѣ сидитъ, на него смотритъ.
— Здорово, хозяинъ.
— Здорово, милая голова. Вотъ тебя куда Богъ принесъ.
— Какъ ты велѣлъ, такъ я и пришелъ. Спаси тебя Господь.
— Ну чтожъ, милая голова, затѣвать будешь? Куда пойдешь, чѣмъ кормиться будешь? По міру ли пойдешь, али на работу?
— Куда мнѣ идти. Я ничего не знаю.
— Работать можешь?
— Да я бы радъ, добрый человѣкъ, за работу взяться, кабы меня люди наставили.
— Работы вездѣ много.
— Да я ничего никогда не дѣлалъ. А что покажешь, то дѣлать буду.
Подивился Семенъ, покачалъ головой. Дѣлать, говоритъ, ничего не умѣетъ, а не похожъ на безпутнаго. Чудно что то. И говоритъ Семенъ:
— Только бы охота была. Всему люди учатся. Сапоги умѣешь шить?
— Не шивалъ, а покажи, можетъ, пойму.
Подумалъ Семенъ и говоритъ: Какъ тебя звать?
— Михайла.
— Ну ладно, Михайла, я кормить буду, живи, коли хочешь, работай, что прикажу.
Поклонился человѣкъ и спрашиваетъ:
— Что велишь работать?
А вотъ нà дратву, сучи. Подалъ Семенъ Михайлѣ дратвы, показалъ. Тотчасъ понялъ Михайла. Пришла съ ведрами жена, видитъ — странникъ вчерашній въ мужниномъ кафтанѣ сидитъ работаетъ, а хозяинъ за сапоги взялся. Поздоровавалась хозяйка, узнала свой кафтанъ и говоритъ мужу:
— Чтожъ это твой вчерашній человѣкъ?
— Онъ самый.
И стала его хозяйка спрашивать, кто онъ, откуда. Ничего не сказалъ ей Михайло, только сказалъ тоже, что вчера, что наказалъ его Богъ и что нельзя ему ничего про себя сказать. Полюбила и хозяйка странника, не стала кафтаномъ попрекать, а только вынесла ему рубаху и портки дала одѣть, а кафтанъ прибрала. И сталъ Михайла жить у Семена.
Прожилъ Михайла день и 2 и 3 й. Какую ни покажетъ ему работу Семенъ — все сразу пойметъ и съ 3 го дни сталъ латки накладывать и точать не хуже Семена. А отработаетъ, хозяйкѣ помогаетъ, дровъ нарубитъ, воды принесетъ. День деньской работаетъ безъ разгибу, ѣстъ мало, и не слыхать, не видать его; говоритъ мало, все тихо и смирно. Ни на улицу ни къ сосѣдямъ не ходитъ, ни смѣется, ни улыбается. Только работаетъ да по ночамъ спитъ, вздыхаетъ и Богу молится, такъ что и хозяйка имъ не нахвалится, только одно ей досадно, что не сказываете Михайло, кто онъ и откуда. И нѣтъ нѣтъ опять начнетъ она допытываться отъ него. А онъ ей все одно отвѣчаетъ: не могу сказать, кто я и откуда и какъ сюда попалъ, придетъ время узнаете. —
День ко дню, недѣля къ недѣлѣ, вскружился годъ. Живетъ Михайла по старому и работа его въ прокъ пошла. Прошла про Семеновы сапоги слава, какъ починитъ, не распорется, а новые сошьетъ, такъ износу нѣтъ. И сталъ у Семена достатокъ прибавляться.
Собралъ себѣ Семенъ шубу крытую, сталъ сапоги изъ своего товара шить, а подумывалъ ужъ на весну коровку купить.
Сидятъ разъ Семенъ с Михайлой работаютъ. Подъѣхалъ къ избѣ тарантасъ. Поглядѣли въ окно — высаживаетъ лакей изъ тарантаса барина. Баринъ толстый, дородный, красный, какъ говядина сырая, вошелъ въ избу, чуть насилу въ дверь пролѣзъ и чуть головой до потолка не достаетъ. Шуба на баринѣ дорогая, на толстомъ пальцѣ кольцы какъ жаръ горятъ. Встали Семенъ съ Михайлой, поклонились. Ребята со страха по угламъ забились. Баринъ оглядѣлъ всѣхъ сверху и заговорилъ, что стекла затряслись.
— Кто хозяинъ?
— Я, ваше степенство, говоритъ Семенъ
— Эй, Мишка, внеси сюда товаръ.
Вбѣжалъ лакей, внесъ узелокъ. Взялъ баринъ узелъ, швырнулъ на столъ.
— Развяжи.
Развязалъ лакей.
— Ну слушай же ты, сапожникъ. Видишь ты, прошла про тебя слава, что ты хорошо сапоги шьешь. Хочу я тебя попытать. Сшей ты мнѣ сапоги изъ этого товара, такъ, чтобы были сапоги, чтобы они мнѣ годъ носились, не рвались, не кривились. Товара ты такого и не видывалъ. Товаръ выписной, петербургскій 25 р. плаченъ. Ты понимай, что ты не мужику шьешь, не изъ <выростка> a мнѣ шьешь изъ дорогого товара. Ты слушай да понимай. Я тебѣ напередъ говорю, если можешь ты сшить сапоги, чтобъ годъ носились, не кривились, не поролись — берись и рѣжь товаръ, если же ты не можешь такъ сдѣлать, и не берись и не рѣжь товару. А если возьмешь, да распорятся они прежде году, я тебя сукина сыну туда затурю, куда воронъ костей не носилъ. — А сошьешь такъ, чтобы годъ не кривились, не поролись, я тебѣ 10 р. заплачу и не за годъ полтинникъ на водку дамъ. Смотри же какъ возьмешь товаръ да рѣзать станешь, впередъ говори, берешься ли за то, чтобы годъ не рвались, не кривились. —
Говоритъ баринъ, какъ крикомъ кричитъ, отдувается, глазами катаетъ то на Семена, то на Михайлу. Заробѣлъ совсѣмъ Семенъ, товаръ щупаетъ, на барина глядитъ <и не знаетъ>, что сказать. Оглянулся онъ на Михайлу, а Михайла стоитъ опустивъ глаза и тихо улыбается и такая же на немъ улыбка сладкая и тихая, какъ когда его въ первую ночь зарницей освѣтило. Улыбнулся Михайла и кивнулъ головой хозяину: бери молъ работу. Послушался Семенъ Михайлы взялъ работу у барина, взялся такіе сапоги сшить, чтобы годъ не кривились, не поролись. Накричалъ баринъ, оставилъ товаръ, вылѣзъ изъ двора. Посадилъ его лакей въ тарантасъ и загремѣлъ баринъ вдоль по слободѣ. —
И говоритъ Семенъ Михайлѣ: <ну братъ взялся ты за работу, какъ бы намъ бѣды не нажить. Взялъ ты работу, ты самъ и крои и точай. У тебя и глаза острѣе да и въ рукахъ то больше моего снаровки стало. Поклонился Михайла, ничего не сказалъ, взялъ товаръ дорогой, разстелилъ на столѣ, сложилъ вдвое, взялъ ножъ и началъ кроить. Глядитъ Семенъ и дивится и оторопь его взяла. Что такое Михайла дѣлаетъ. Видитъ Семенъ, что Михайла вовсе не на сапоги кроитъ, а круглые вырѣзаетъ. Хотѣлъ Семенъ поправить его, да думаетъ себѣ, что жъ мнѣ мѣшать ему, еще хуже сдѣлаю. Пускай какъ самъ знаетъ. Скроилъ Михайла пару, взялъ дратву да не два конца, а одинъ и въ одинъ конецъ сталъ сшивать не по сапожному, а какъ босовики шьютъ. Подошелъ Семенъ, но не сталъ перечить и пошелъ со двора за своимъ дѣломъ. Пришелъ на вечеръ, смотритъ у Михайлы изъ барскаго товара не сапоги, а два босовика сшиты. Увидалъ это Семенъ, такъ и ахнулъ. Какъ это, думаетъ, Михайла годъ цѣлый не ошибался ни въ чемъ, а теперь погубилъ онъ меня. Какъ я теперь раздѣлаюсь съ бариномъ. Пропали мы. Товару такого не найдешь. И подошелъ онъ къ Михайлѣ и говоритъ: ты что же надѣлалъ? Погубилъ ты меня.
Только началъ онъ выговаривать Михайлѣ, грохъ въ кольцо со двора. Глянули въ окно, верхомъ кто то пріѣхалъ, лошадь привязываетъ.
Отперли, входитъ лакей отъ барина.
— Здорово.
— Здорово. Что надо?
— Да вотъ барыня прислала. Велѣла сказать, у васъ баринъ, товаръ оставилъ, такъ вы сапоги не шейте, сапогъ не нужно, а босовики на мертваго барина нужны, нынче въ вечерни померъ баринъ.
Взялъ Михайла со стола босовики готовые, щелкнулъ другъ объ друга, подаетъ лакею.
— Возьми, босовики готовы.
Прошелъ и еще годъ и два-три. Живетъ Михайла ужъ 6-й годъ у Семена. Сидятъ разъ оба у оконъ, работаютъ. Семенъ точаетъ, Михайла каблукъ набиваетъ, хозяйка въ печь чугуны ставитъ, а ребята по лавкамъ бѣгаютъ, въ окна заглядываютъ. — Подбѣжала дѣвчонка къ Михайлѣ, оперлась на него и глядитъ въ окно. Дядинька глянь ка какая купчиха съ дѣвочками идетъ, какія дѣвочки хорошія, нарядныя. Мамушка, купи мнѣ такую шубку, какія у дѣвочекъ. Михайла сидитъ работаетъ. Хоть и заститъ ему въ окнѣ дѣвочка, слова не говоритъ и не глядитъ въ окно, только свою работу помнитъ. A дѣвочка все лопочетъ, на дѣвочекъ какихъ то показываетъ. Кричитъ: мамушка хоть ты погляди — дѣвочки какія хорошія. Подошла Матрена къ окну, поглядѣла и говоритъ: A вѣдь это Иванчины сиротки, глянь ка Семенъ. И то онѣ. Мы думали пропадутъ совсѣмъ, безъ отца матери остались, а вонъ онѣ лучше насъ живутъ. Купчиха, говорятъ, ихъ въ дѣти взяла. Поглядѣлъ и Семенъ въ окно. И точно идетъ купчиха, за ручки двухъ дѣвочекъ ведетъ. Обѣ въ платочкахъ, въ шубкахъ [1 неразобр.] румяныя, сытыя, нарядныя и обѣ въ одно лицо. Посмотрѣлъ Семенъ и говоритъ, что же они одинакія: или двойни? Какже тогда отецъ померъ:89 [?], мать родила двойню да и сама померла. А вотъ безъ отца безъ матери выходились. Да еще въ счастье въ какое попали. — Услыхалъ это Михайла, тоже оглянулся въ окно, увидалъ дѣвочекъ и вдругъ опять, какъ ночью въ первый [разъ] и какъ тогда, когда баринъ сапоги заказывалъ разсіялъ весь Михайла и улыбнулся на дѣвочекъ, всталъ съ лавки, положилъ работу, снялъ фартукъ, поклонился хозяину съ хозяйкой и говоритъ: спасетъ тебѣ Господь тебѣ Семенъ за твое добро мнѣ и тебѣ тоже, Матрена, a мнѣ идти надо. — Удивілись хозяева.
— Что же ты, или совсѣмъ?
— Совсѣмъ, хозяинушка. Мнѣ домой надо.
— Ну чтожъ, спаси тебя Господь, тебѣ меня благодарить не за что, отплатилъ ты мнѣ много. Что жъ такъ пойдешь, возьми кафтанъ, шапку, сапоги, рубахи возьми.
— Спасибо, ничего мнѣ [не] нужно, одинъ кафтанъ, тотъ дайте, что ты впервой отдалъ. Одѣлъ Михайла кафтанъ, поцѣловался съ хозяевами, съ дѣтьми и пошелъ изъ избы, а самъ весь сіяетъ, весь улыбается.
— Куда жъ ты, Михайла? проводить мнѣ тебя.
— Нельзя меня проводить.
— Ну хоть за деревню тебя выведу.
И пошелъ съ нимъ Семенъ. Вышли за околицу, остановился Михайла и сталъ прощаться. И говоритъ Семенъ.
Спрашивать тебя я не стану, что ты за человѣкъ, одно передъ прощаніемъ скажи ты мнѣ: что такое, ты у насъ 6 лѣтъ жилъ, ни разу ты не смѣялся, только 3 раза улыбнулся — одинъ разъ, когда мы съ бабой на печи про кафтанъ говорили, другой, когда баринъ сапоги заказывалъ, чтобы годъ не рвались, не кривились, 3й нынче, когда двѣ сиротки съ купчихой пришли. <Скажи мнѣ, отчего такъ. И сказалъ Михайла>.
— Хорошо, я скажу тебѣ, садись тутъ и слушай.
Сѣлъ Семенъ, а Михайла стоить передъ нимъ и улыбается; постоялъ такъ и потомъ сталъ говорить. Слушай, Семенъ, и понимай.
* № 10.
— Знаешь ты, Семенъ, про Бога?
— Знаю, Михайла,
— Знаешь ты, Семенъ, что все во власти Бога?
— Знаю, Михайла.
— Знаешь ты, что такое Ангелы Божьи?
— Знаю, Михайла, это слуги Божьи.
— Ну слушай, Семенъ.
— Призываетъ разъ Господь Ангела и говорить. Лети ты, Ангелъ, въ такое-то село. У села лѣсъ. Въ лѣсу мужики дерева рубятъ; одно древо упало, мужика разбило. Поди, вынь изъ того мужика душу. Слетѣлъ ангелъ; ангелъ видитъ — мужикъ лежитъ, все нутро отбито; подумалъ, вынулъ изъ мужика душу и принесъ къ Богу. Принялъ Господь душу и говорить ангелу: Лети въ село, противъ церкви изба, въ избѣ лежитъ жена того человѣка, больная, вынь изъ ней душу. Слетѣлъ ангелъ въ село, вошелъ въ избу. Лежитъ на кровати одна женщина, больна, родила двойню. Одна дѣвочка упала съ кровати, пищитъ, по полу ползаетъ, другая у матери подъ бокомъ чмокаетъ, ловятъ грудь, а взять не могутъ. Не можетъ [мать] собрать ихъ. Увидала жена ангела, поняла, что Богъ его по душу сослалъ и заплакала стала просить ангела: Ангелъ Божій, если ты по душу пришелъ, не бери ты мою душеньку, дай ты мнѣ прежде вспоить вскормить младенцовъ, на ноги поставить. И тогда возьми мою душеньку.
Посмотрѣлъ ангелъ и не сталъ вынимать душу и поднялъ одну дѣвочку съ полу, приложилъ къ груди, подалъ другую матери въ руки и поднялся къ Господу Богу на небо. Прилетѣлъ къ Богу и говорить: Не могъ я изъ родильницы души вынуть. Отца древомъ убило, мать родила двойню и молитъ не брать изъ ней души, говоритъ: не бери душу, дай вспоить вскормить, на ноги поставить, а тогда возьми мою душу. Не вынулъ я изъ родильницы душу. И сказалъ Господь:
Поди вынь изъ родильницы душу. И узнаешь, чего не дано знать людямъ, что дано знать всѣмъ людямъ и чѣмъ люди живы.
Полетѣлъ ангелъ назадъ въ избушку; оба младенца привалились къ грудямъ, придерживаетъ ихъ родильница, то на одного, то на другого посмотритъ.
Заплакалъ ангелъ, а вынулъ изъ жены душу. Отпали младенцы отъ грудей и закричали. Осталось на кровати мертвое тѣло, и понесъ ангелъ душу къ Богу. Поднялся ангелъ надъ селомъ, хотѣлъ летѣть на небо, подхватилъ его вѣтеръ, повисли у него крылья, отвалились и упалъ ангелъ въ лѣсу у дороги, а душа одна пошла къ Богу.
Наказалъ Богъ ангела за то, что онъ своимъ умомъ, а не по Божьи думалъ.
Сказалъ это Михайло и закрылъ лицо руками. Сталъ Семенъ понимать, кто Михайло, и нашелъ на него страхъ. Глядитъ на Михаилу, оторвать глазъ не можетъ и кажется ему, что Михайла стоитъ весь свѣтлый б[неразобр.] и стоитъ надъ нимъ огненный столпъ отъ головы и до неба. Открылъ лицо Михайла, опять улыбнулся и заговорилъ тихим голосомъ, точно не из себя говоритъ, а съ неба идетъ Михайлинъ голосъ.
— Слушай дальше, Семенъ. Остался тотъ ангелъ одинъ въ лѣсу и нагой. Не зналъ прежде90 Ангелъ ни холода, ни голода, а тутъ сталъ человѣкомъ. Проголодался, измерзъ и сидѣлъ такъ долго до вечера. Пришелъ вечеръ, сидитъ ангелъ и плачетъ и не знаетъ, что дѣлать. Вдругъ слышитъ, идетъ человѣкъ по дорогѣ, несетъ сапоги и самъ съ собой говоритъ: прислушался ангелъ и понялъ, что человѣкъ идетъ бѣдный, въ трудахъ и заботахъ и говоритъ одинъ съ собой о томъ, какъ ему свое тѣло отъ стужи на зиму шубой прикрыть. Прислушался ангелъ и думаетъ. Я пропадаю отъ стужи, а вотъ идетъ человѣкъ, только о томъ и думаетъ, какъ себя съ женой прикрыть. Всѣ они люди тѣмъ заняты. Гдѣ жъ мнѣ себя одѣть да прокормить. Поравнялся человѣкъ, увидалъ я лицо человѣческое въ первый разъ послѣ того, какъ сталъ человѣкомъ, и страшно мнѣ стало это лицо. Измученное, заботливое и сердитое. Взглянулъ я, подумалъ, не будетъ мнѣ помощи отъ нихъ, и вздохнулъ тяжело. Вздохнулъ я громко и услыхалъ меня человѣкъ. Услыхалъ, подошелъ ко мнѣ и сталъ говорить и все страшное лицо у него было. Отвѣтилъ я ему, что умѣлъ, и вдругъ увидалъ я, просіялъ на его лицѣ свѣтъ. Снялъ онъ кафтанъ, чужіе сапоги снялъ съ палки и далъ мнѣ. А еще сказалъ мнѣ, гдѣ его домъ, и ушелъ отъ меня.
* № 11.
И какъ только отошелъ человѣкъ, такъ согрѣлся и утѣшился я не кафтаномъ его, а любовью. Надѣлъ его платье и ночью пришелъ [1 неразобр.] къ его дому. И услыхалъ ангелъ подъ окномъ, что жена его бранила за то, что онъ далъ сапоги бродягѣ. Заглянулъ ангелъ въ окно и увидалъ страшное лицо женщины и сіяніе на лицѣ человѣка. Долго они спорили, спорили и сосѣди, ангелъ все слушалъ и слышалъ, что все, что они говорили о томъ, зачѣмъ не надо было давать кафтана, было разумно, но человѣкъ не слушалъ ихъ и не сдавался; онъ говорилъ свое, что онъ зналъ, что надо было дать. И сколько ни спорили, всѣ сошлись съ человѣкомъ. Потомъ они потушили свѣтъ, ангелъ постучался и жена пустила его [2 раза] и хотѣла накормить его. И тоже, когда мужъ спросилъ ея, зачѣмъ она сдѣлала это, она не съумѣла сказать, зачѣмъ, а только сказала, что знаетъ вѣрно, что надо пустить и накормить. — И ангелъ услыхалъ это, понялъ одно изъ того, что сказалъ ему Богъ: узнаешь, что одно дано знать вѣрно людямъ. Онъ понялъ, что одно дано вѣрно знать людямъ, что надо нагому съ себя послѣдній кафтанъ отдать.
И обрадовался ангелъ и улыбнулся. Но всего онъ не могъ понять еще. И сталъ ангелъ жить у людей этихъ. Мужъ былъ сапожникъ, и ангелъ выучился шить сапоги и помогалъ хозяину.
Случилось черезъ годъ, что пришелъ къ хозяину баринъ заказывать сапоги и заказывалъ такіе, чтобъ годъ носились, не рвались, не кривились, и грозилъ за то, что не проносятся годъ, и обѣщалъ награду черезъ годъ, если проносятся. Ангелъ слушалъ барина и смотрѣлъ на него и вдругъ за плечами барина увидалъ смертнаго ангела. Никто не видалъ этаго ангела, но ангелъ сапожника видѣлъ его и зналъ, что не зайдетъ еще солнце, какъ возьмется душа барина. И подумалъ ангелъ сапожника. Все думаютъ знать люди, все припасаютъ на годъ, а не могутъ знать, сапоги или босовики имъ нужны. — И вспомнилъ ангелъ то, что сказалъ ему Богъ: узнаешь еще, чего не дано знать ни одному человѣку. И понялъ ангелъ, что не дано знать ни одному человѣку того, что ему для своего тѣла нужно. И улыбнулся ангелъ. Понялъ ангелъ и то, что дано знать человѣку только то, что нужно другому и не дано знать человѣку, сапоги или босовики нужно ему самому; всего не могъ понять ангелъ.
И все жилъ ангелъ у сапожника и ждалъ, когда Богъ откроетъ ему послѣднюю тайну и проститъ его. И жилъ онъ такъ еще 5 лѣтъ. И на 6мъ году увидалъ онъ изъ окна — идутъ по улицѣ двѣ дѣвочки двойни съ богатой купчихой. И услыхалъ ангелъ, что дѣвочки эти обмерли въ селѣ и взяла ихъ богатая купчиха въ дѣти, и люди завидуютъ счастью дѣвочекъ.
Взглянулъ на нихъ въ окно ангелъ и узналъ тѣхъ дѣвочекъ, какія остались на груди мертвой матери.
И вспомнилъ ангелъ послѣднее слово Бога, чѣмъ люди живы. И понялъ онъ, что <людямъ одно нужно — любовь и жалость въ людяхъ>. Купчиха пожалѣла и полюбила дѣвочекъ и выходила ихъ. И теперь все понялъ ангелъ. Понялъ ангелъ, что людямъ не дано знать, что имъ для своего тѣла нужно — сапоги или босовики, а дано имъ знать, что имъ для души нужно, послѣдній кафтанъ нагому отдать. И что живы люди не материною грудью, а любовью. Что только любовь людей и нужна людямъ и что это одно дано знать людямъ. И тѣмъ, что люди знаютъ это и не знаютъ того, что имъ нужно, тѣмъ только и жизнь въ людяхъ крѣпка.
И пересталъ говорить Михайло и спала съ него одежда, одинъ кафтанъ онъ взялъ на руки и сталъ онъ ужасенъ и свѣтелъ и распустились у него за спиной крылья и сказалъ онъ Семену: Я ангелъ. И тронулся онъ носкомъ о землю, взмахнулъ крыльями. Задрожала земля, заиграли трубы и упалъ ничкомъ Семенъ. И когда очнулся, ужъ никого не было.
* № 12.
[Варианты к главе XII.]
Понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей то, что имъ для своей жизни нужно, а открылъ имъ то, что каждому для Бога и для всѣхъ нужно. Богъ далъ жизнь людямъ и хочетъ, чтобъ люди жили. Понялъ ангелъ, что если бы зналъ каждый, что ему нужно, то и жилъ бы каждый для себя, и нельзя бы было жить людямъ, а для того, чтобы можно было жить людямъ, надо было имъ знать то, что имъ всѣмъ нужно. И затѣмъ то скрылъ отъ нихъ Богъ, что имъ для себя нужно, а открылъ самаго себя въ сердцахъ ихъ любовью.
Понялъ ангелъ, что людямъ кажется, что они заботой о себѣ живы; а заботой о себѣ не могутъ они быть живы, потому что не дано имъ знать, что имъ для себя нужно, и не дано ни человѣку, ни ангелу знать, что для другихъ нужно, а живы они только любовью.
* № 13.
Зналъ ангелъ, что Богъ не для того далъ жизнь міру, чтобы она погибла, а для того, чтобы люди были живы, и теперь онъ понялъ, чѣмъ люди живы. Понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они живы заботой объ себѣ, а не могутъ они быть живы заботой о себѣ потому, что ни одна мать не знаетъ, чего ея дѣтищу нужно, ни одинъ человѣкъ не знаетъ, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны, а что живы они только тѣмъ, что дѣлаютъ для нихъ добро другіе люди. А дѣлаютъ люди добро людямъ потому, что Богъ открылъ себя въ сердцахъ людей любовью. Понялъ ангелъ, что если бы открыто было каждому человѣку то, что ему для своей жизни нужно, то жилъ бы каждый человѣкъ для себя и не давалъ бы жить другимъ. А Богъ скрылъ отъ человѣка, что каждому для себя нужно, а открылъ любовь, то, что каждому для себя и для всѣхъ нужно, и ею то живы люди.
* № 14.
И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а что заботой о себѣ не могутъ они быть живы, потому что не знаетъ ни одна мать, чего для ея дѣтей нужно, не знаетъ ни одинъ человѣкъ, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны. И понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ это Богъ отъ людей. Понялъ ангелъ, что если бы дано было знать каждому человѣку, что ему нужно, то жилъ бы каждый для себя и не давалъ бы жить другимъ людямъ, но Богъ далъ жизнь всѣмъ людямъ и хочетъ, чтобы всѣ люди были живы. И затѣмъ скрылъ отъ людей то, что каждому для своей жизни нужно, а открылъ самаго себя въ душѣ каждаго человѣка любовью къ людямъ, и ею только живы люди. Понялъ ангелъ, что не заботой о себѣ люди живы, а одною любовью.
Не знаетъ человѣкъ, чего ему нужно для жизни и чего другому нужно для жизни; одно знаетъ человѣкъ, что для жизни нужна любовь. Не было бы любви, не было бы жизни. Всѣ вы люди вспоены, вскормлены живой любовью такъ отдавайте любовь ту, которая дана вамъ. А тотъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ.
* № 15.
Понялъ ангелъ, что остался онъ живъ, когда пропадалъ нагой въ полѣ, тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его, и живы остались младенцы тѣмъ, что чужая женщина пожалѣла и полюбила ихъ, и живъ всякій человѣкъ тѣмъ, что другіе люди дѣлаютъ для нихъ, понялъ
Узналъ ангелъ, что не могла знать мать того, что ея дѣтищу нужно, баринъ [не] могъ угадать, чего ему нужно, что не знаетъ ни одинъ человѣкъ, сапоги или босовики ему нужно, и91 остался живъ ангелъ въ полѣ тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его, и остались живы сироты тѣмъ, что чужая женщина пожалѣла и полюбила ихъ, и что живы всѣ люди только тѣмъ, что другіе любятъ ихъ.
И понялъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а не могутъ они ею быть живы, потому что не знаетъ человѣкъ, чего ему нужно. А живы они Богомъ, потому что Богъ знаетъ, что всѣмъ людямъ нужно.
* № 16.
Понялъ ангелъ, что92 не показано ни людямъ ни ангеламъ для другихъ добро дѣлать, а показано людямъ для Бога добро дѣлать. И что живы люди только любовью, а Богъ есть любовь. И пересталъ говорить Михайло, и спала съ него одежда, сталъ онъ нагой и свѣтлый, и распустились у него за спиной крылья, и сказалъ онъ Семену: Я ангелъ. И упалъ передъ нимъ Семенъ и поклонился ему. И тронулся онъ носкомъ о землю, взмахнулъ крыльями, задрожала земля и обмертвѣлъ Семенъ. И когда очнулся, ужъ никого не было.
Понялъ ангелъ, что живетъ Богъ въ человѣкѣ и Богъ этотъ любовь людей къ людямъ. И что не заботой о самихъ себѣ живы люди, не отцемъ съ матерью живы люди, а живы люди Богомъ. А Богъ есть любовь.
Понялъ ангелъ, что не дано знать человѣку, чего ему самому нужно, не дано ни человѣку ни ангелу знать, чего другимъ нужно, а что заложена въ сердце человѣка любовь, то, что ему и другимъ нужно и что живы люди любовью. А любовь есть Богъ. И кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. Понялъ онъ, что когда есть Богъ въ людяхъ, есть въ нихъ любовь. А когда есть любовь, то есть въ нихъ все, что имъ и другимъ нужно. Въ комъ есть въ самихъ людяхъ любовь, есть въ нихъ радость. А есть въ нихъ любовь, то всѣмъ будетъ все, что имъ нужно: и кафтанъ голому, и хлѣбъ голодному, и молоко сиротамъ, и радость, и просторъ всѣмъ. И понялъ Я, что человѣку не надо знать то, что ему для своего тѣла нужно, а дано знать, что для его души нужно. А для души одно нужно, свое отдавать другому, и что потому жизнь людей не тѣмъ крѣпка, что они себя обдумаютъ, а тѣмъ, что они добро сами дѣлаютъ и отъ другихъ получаютъ. Я понялъ, что человѣку нельзя знать, что ему сапоги или босовики [нужны?]93 а дано знать, что ему послѣдній кафтанъ нагому отдать нужно, потому живы сироты не94 материной грудью,95 а любовью въ людяхъ.
* № 17.
Зналъ Ангелъ, что Богъ далъ жизнь людямъ и хочетъ, чтобы они были живы. Теперь узналъ ангелъ, чѣмъ живы люди. Понялъ онъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а не заботой они живы, потому что не знаетъ мать, чего для ея сиротъ нужно, не знаетъ ни одинъ человѣкъ, что ему къ вечеру — сапоги или босовики нужны. Понялъ ангелъ, что живы люди тѣмъ, что есть Богъ въ нихъ, а Богъ въ нихъ — это любовь къ людямъ. И понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей то, что каждому для себя нужно, а открылъ то, что для Бога и для всѣхъ людей нужно. —
Понялъ ангелъ, что если бъ открыто было людямъ то, что каждому для своей жизни нужно, то не понимали бы люди того, что вложилъ Богъ въ сердца ихъ любовь къ людямъ, и жилъ бы каждый для себя, а не давалъ бы жить другимъ, но Богъ скрылъ отъ людей то, что каждому для себя нужно, а открылъ любовь въ сердцахъ людей, то, что для всѣхъ нужно; и любовью живы люди.
Теперь узналъ ангелъ, что не могла угадать мать, чего ея дѣтямъ для жизни нужно и что не дано ни одному человѣку знать, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны; а что остался ангелъ живъ въ полѣ не тѣмъ, что онъ самъ себя обдумалъ, а тѣмъ, что былъ Богъ у прохожаго въ сердцѣ и прохожій пожалѣлъ его; что остались сироты живы не тѣмъ, что обдумала ихъ мать, а тѣмъ, что былъ Богъ въ сердцѣ чужой женщины и она полюбила сиротъ; что живъ всякій человѣкъ только потому, что есть Богъ въ сердцахъ людей и что они любятъ его.
И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они живы заботой объ себѣ, а живы они только Богомъ. А Богъ любитъ людей.
* [ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ РАССКАЗА «ДВА БРАТА И ЗОЛОТО».]
Жили въ давнишнія времена недалеко отъ Іерусалима два старца, два родные брата Петръ и Иванъ. Жили они въ горѣ и питались кореньями и тѣмъ, что имъ приносили добрые люди; <приходилъ къ нимъ нищій, то дѣлились съ нимъ тѣмъ, что у нихъ было. Старцы выходили изъ своего жилища, прощались и расходились въ разныя стороны. Въ субботу вечеромъ они сходились>. Съ утра въ понедѣльникъ старцы расходились въ разныя стороны и работали тамъ, гдѣ были измученные и утружденные работой, — гдѣ рабу былъ заданъ урокъ не по силамъ — вскопать виноградникъ или накопать камня, или нарубить лѣса — старцы приходили и день и ночь работали съ утружденными. Гдѣ вдова не могла убрать своего поля, одинъ изъ старцевъ приходилъ и убиралъ ей. Гдѣ старикъ не могъ донести дрова, одинъ изъ старцевъ приносилъ ихъ за него. Такъ проводили они всѣ дни до субботы. Въ субботу вечеромъ старцы сходились къ своему жилищу, и всякій разъ ангелъ Господень встрѣчалъ ихъ у входа и благословлялъ ихъ. Они ложились, отдыхали и въ воскресный день вставали, молились и читали слово Божіе, а на утро опять расходились на работу. Такъ жили старцы много лѣтъ, и всякую недѣлю ангелъ господень сходилъ къ нимъ.
Въ одинъ день старцы вышли на работу и остановились у выхода изъ горы, облобызались и поклонившись пошли каждый въ свою сторону. Старшаго брата звали Петромъ, меньшаго Иваномъ. Старшій братъ былъ силенъ и мужественъ и пылокъ душею, меньшій былъ тихъ и кротокъ. Старшій братъ по плоти жалѣлъ своего меньшаго брата и просилъ его не утруждать себя. Меньшой же Иванъ думалъ только о Богѣ. Только разошлись братья, какъ камнемъ кинуть, какъ подумалъ Петръ о братѣ Иванѣ, о томъ, какъ онъ худъ сталъ и блѣденъ, и жалко ему его стало и захотѣлось взглянуть на него. Остановился Петръ и сталъ смотрѣть на брата, какъ онъ тихо и слабо идетъ прочь отъ него. И вдругъ видитъ Петръ, что Иванъ тоже остановился, но не оглядывается назадъ, а пристально смотритъ на что то подлѣ дороги. И видитъ Петръ, что Иванъ стоитъ какъ окаменѣлый, глядитъ пристально на что то, потомъ перекрестился и прыгнулъ далеко прочь отъ того, на что смотрѣлъ, и побѣжалъ прочь по дорогѣ и скрылся изъ вида. — И задумался Петръ: что такъ испугало брата. Пойду посмотрю. Свернулъ Петръ къ тому мѣсту, гдѣ прыгнулъ его братъ. И подошелъ Петръ къ тому мѣсту и видитъ — блеститъ на солнце насыпана куча золота беремени на два. И подивился Петръ и на золото и на прыжокъ и на бѣгство брата своего. —
Чего онъ испугался, подумалъ Петръ. Развѣ золото дурно. Дурно, когда ему мы служимъ. А если золото служить будетъ дѣлу Божію, то золото добро будетъ. Сколько можно ранъ залѣчить и слезъ утолить и сиротъ выкормить (?).
Поглядѣлъ Петръ, хотѣлъ кликнуть брата, но его и не видать ужъ. И снялъ съ себя рясу, нагребъ въ нее сколько по силамъ золота, свернулъ и вскинулъ на плечи и понесъ въ городъ. Пришелъ Петръ въ городъ, остановился у знакомаго старца, сложилъ золото, сходилъ за остальнымъ, принесъ и тогда купилъ землю, купилъ камню, лѣсу, нанялъ рабочихъ и сталъ строить обитель для старцевъ, еще страннопріимный домъ, еще пріютъ для сиротъ, еще больницу для больныхъ.
И прожилъ Петръ въ городѣ 3 мѣсяца, построилъ всѣ свои заведенья, пріискалъ богобоязненныхъ людей, одного старца поставилъ игуменомъ въ обитель, другого поставилъ въ страннопріимный домъ, третьяго въ больницу, а еще вдову честную и милосердную поставилъ надъ сиротскимъ пріютомъ. И еще остались у него деньги и отдалъ ихъ Петръ для раздачи нищимъ. И стали наполняться народомъ его заведенія и стали его хвалить и благословлять и радовалось сердце Петра на то, что онъ столько добра сдѣлалъ, и не хотѣлось ему уходить. Но жалко было брата. И вотъ далъ всѣмъ наказъ, какъ жить безъ него, и пошелъ назадъ въ пустыню. Подходитъ Петръ къ своей горѣ и думаетъ: неправильно сдѣлалъ братъ, что испугался золота. Вотъ я взялъ его и снесъ въ городъ и роздалъ на добрыя дѣла и себѣ ничего не оставилъ, развѣ не лучше я сдѣлалъ, чѣмъ братъ. Онъ только испугался, прыгнулъ и убѣжалъ отъ золота.
И только подумалъ это Петръ, какъ вдругъ видитъ — стоитъ на пути его тотъ Ангелъ, который благословлялъ ихъ, и стоить передъ нимъ грозно и рукой указываетъ ему путь прочь отъ пустыни. И обомлѣлъ Петръ и только сказалъ: За что, Господи? Развѣ не тебѣ служилъ я и въ городѣ?
И Ангелъ открылъ уста и сказалъ: Одинъ прыжокъ брата твоего дороже всего, что ты сдѣлалъ. Иди отсюда. Ты не достоинъ быть съ нимъ. И сталъ Петръ говорить, что онъ для Бога дѣлалъ всё, но Ангелъ не слушалъ и не пускалъ его.
И только [?] когда заплакалъ Петръ и обличила его совѣсть, что не для Бога, а для славы человѣческой дѣлалъ онъ дѣла свои, только тогда Ангелъ сошелъ съ дороги и пропустилъ его.
И съ тѣхъ поръ Петръ ужъ не поддавался никакимъ соблазнамъ дьявола и зналъ, что только трудами рукъ своихъ, а не золотомъ можно служить людямъ.
* [ПЕРВЫЙ ЧЕРНОВИК РАССКАЗА «ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ»]
Дядя Мартынъ.
96Жилъ сапожникъ Мартынъ Авдѣичъ въ подвальномъ этажѣ стараго, каменнаго дома, въ одномъ изъ глухихъ переулковъ большого города.97
Горенка дяди Мартына выходила на улицу, такъ что онъ могъ98 наблюдать за прохожими, главное, изучать ихъ обувь, что особенно занимало старика; да только та бѣда, что прохожихъ было очень мало.
На бѣдность дядя Мартынъ не жаловался, концы съ концами сводилъ. Кварталъ былъ хоть и бѣденъ, а все таки каждая пара99 сапогъ, въ околодкѣ, перебывала хоть по три раза въ рукахъ Авдѣича, для починки, и всякій разъ хоть нѣсколько копѣекъ съ собой приносила.
Было время, когда Авдѣичъ былъ100 сапожникъ ученый, работалъ всякую щегольскую обувь, но старость пришла,101 глаза ослабѣли, и теперь ужъ онъ доволенъ и тѣмъ, что можетъ102 на чужую работу ставить латки и заплаты.103 Закащиковъ было сколько угодно и всѣ его работу хвалили. Изъ ближайшего народнаго училища ему то и дѣло носили истоптанные, дѣтскіе сапоги; кухарки, рыночныя торговки, ни за что къ другому башмачнику не пойдутъ. «Ужъ нечего говорить, мастеръ своего дѣла, говорили104 онѣ, его подошвы не скоро изобьешь, и по шву ни зачто не распорется, какъ у другихъ безсовѣстныхъ».105
А Авдѣичъ, кажется, наизусть зналъ каждый сапогъ и башмакъ, во всемъ106 околодкѣ и прилагалъ все свое стараніе къ тому, чтобы сапогъ или башмакъ прожилъ какъ можно дольше.
Дядя Мартынъ всегда107 любилъ ходить въ церковь и особенно внимательно и благоговѣйно вслушивался въ чтеніе Евангелія. Но, съ нѣкотораго времени, душу его какъ-то особенно потянуло ко всему небесному, и вотъ какъ это случилось.108
Лѣтъ 20 тому назадъ схоронилъ Мартынъ жену.109 Осталась послѣ нея трехлѣтняя дѣвочка и Мартынъ сталъ ей замѣсто матери. Но не пожила и дѣвочка. Подросла, стала все понимать, обо всемъ съ нимъ толковать, а тамъ и ее Богъ110 прибралъ. И грустно стало Мартыну. Жить больше не111 зачѣмъ, говорилъ Мартынъ. И просилъ Бога о смерти. Тутъ навѣстилъ его разъ сосѣдній112 священникъ старичекъ отецъ Иванъ и когда Авдѣичъ при немъ опять сталъ113 говорить: «Жить больше не зачѣмъ, хоть бы и меня Богъ прибралъ», отецъ Иванъ сказалъ: не грѣши Мартынъ, что Господь на небо взялъ, то цѣлѣе будетъ чѣмъ на землѣ. Тамъ114 и жена твоя и дѣвочка да и тамъ Самъ Господь, для Него тебѣ теперь жить надо».
Авдѣичъ115 ничего не сказалъ, покачалъ головою, а отъ души все таки116 какъ-будто отлегло. «Надо-бы божественную книгу достать», сказалъ онъ, «авось и вразумитъ она меня».
«Зайди ко мнѣ, я тебѣ дамъ Евангеліе крупной печати», сказалъ отецъ Иванъ, «читай его съ молитвой, оно тебя утѣшитъ, какъ и меня утѣшило».
Взялъ дядя Мартынъ117 Евангеліе крупной печати, — принялся читать въ свободное отъ работы время, и стало ему это чтеніе то же самое, что хлѣбъ насущный. Голодало одинокое сердце, но голодъ утолился небесною пищею, повеселѣлъ дядя Мартынъ, поднялъ118 голову и вмѣсто жалобъ часто сталъ повторять: «Слава тебѣ Господи!» Многое старое, что прежде водилось за нимъ, отошло прочь. Было время, когда онъ весь праздничный вечерокъ просиживалъ въ сосѣднемъ трактирѣ и хоть не напивался, какъ другіе, а все таки не въ полномъ разсудкѣ выходилъ. оттуда. Было время, когда онъ иной разъ въ досадѣ, бранныя слова говорилъ, ворчалъ на то или другое, но это все отошло отъ. него.119 Слышитъ онъ бывало въ лѣтнее время120 какъ въ трактирѣ кричатъ хриплые голоса,121 а въ коморкѣ Авдѣича свѣтится лампочка надъ большой книгой на столѣ, и самъ онъ, склонивъ сѣдую голову, медленно, внимательно разбираетъ святыя слова и весь погруженъ въ нихъ, а на устахъ улыбка.122
Случилось разъ зачитался дядя Мартынъ. На дворѣ123 была мятель,124 но у125 Мартына было тепло. Жарко истопленная печь еще не остыла. Поздній уже вечеръ, а онъ еще не можетъ оторваться отъ своей книги — читаетъ начало Евангелія отъ Луки, гдѣ говорится про Рождество Христово, и дошелъ до этихъ словъ: «спеленала Его и положила Его въ ясли, потому что не было имъ мѣста въ гостинницѣ». Авдѣичъ тутъ остановился и задумался. «Не было мѣста!.. Не было мѣста! Для Христа то!» Онъ посмотрѣлъ кругомъ.126 «Ужъ еслибъ я въ то время жилъ, — нашлось бы Ему у меня мѣстечко,127 весь бы уголъ Ему уступилъ, кабы Онъ только пришелъ ко мнѣ! Какъ-бы я встрѣтилъ его, какъ-бы поклонился Ему! Все бы готовъ Ему отдать съ радости, что Онъ меня, сироту, посѣтилъ. Да дать-то нечего, вотъ въ чемъ дѣло. Въ Евангеліи сказано: волхвы принесли и золото, и ладонъ, и смирну, а мнѣ гдѣ же это взять? Пастухи, положимъ, ничего не принесли, должно быть не успѣли съ собою захватить, а у меня вѣдь какъ есть и за душою ничего нѣтъ, чѣмъ бы дорогого Гостя привѣтствовать. Ничего нѣтъ, развѣ только башмачки Настины... Авдѣичъ128 потянулся къ полкѣ на стѣнѣ, гдѣ, обернутые въ129 бумагу, лежали два крошечные, дѣтскіе башмачка, искусно сработанные из мягкаго130 опойка. «Развѣ только вотъ это», договорилъ онъ, «давнишняя моя работа, за-то хороша, — нечего сказать; берегъ ихъ на память, долгое время, а ужъ Ему бы отдалъ, сейчасъ бы отдалъ — не пожалѣлъ бы». Тутъ старикъ засмѣялся: «ну что это я, съ ума сошелъ, кажется. Этакое небывалое дѣло пригрезилось мнѣ: что придетъ ко мнѣ Спаситель и башмачки мои отъ меня приметъ. Очень нужна Ему моя коморка и моя работа! Онъ Царь славы»...
И131 раздумывая такимъ образомъ привалился старикъ на локоть и задремалъ.
«Мартынъ!» послышался вдругъ около него132 тихій голосъ.
— «Кто тутъ?» закричалъ съ просонокъ133 Мартынъ: взглянулъ на дверь — никого!
— «Мартынъ, ты желалъ видѣть Господа» продолжалъ голосъ, «Онъ исполнитъ твое желаніе: завтра; цѣлый день, смотри на улицу, и постарайся узнать Его, потому что Онъ самъ тебѣ не откроется».
Голосъ замолкъ, Мартынъ134протиралъ глаза. Лампа догорѣла и погасла, въ комнатѣ135 стало темно.
— «Спаситель обѣщалъ пройти мимо моего окошка», повторялъ онъ, «не сонъ ли это! Ну, пускай сонъ, а я все таки буду ждать: всѣ глаза высмотрю. Никогда я Его не видалъ, а все таки можетъ быть и узнаю».
Чѣмъ свѣтъ поднялся Авдѣичъ, на слѣдующее утро, истопилъ печку, помолился Богу,136 поставилъ самоваръ и сѣлъ у окна работать. И столько не работаетъ, сколько въ окно смотритъ. Вотъ разсвѣло и показался на улицѣ Степанычъ, старый престарый137 старикъ. Жилъ онъ изъ милости у купца и должность ему была дана помогать дворнику съ тротуара снѣгъ счищать.
Авдѣичъ138 посмотрѣлъ на него, какъ онъ снѣгъ счищаетъ и опять взялся за работу. Поработалъ недолго опять посмотрѣлъ въ окно, видитъ Степанычъ139 положилъ лопату и140 приклонился къ стѣнѣ, отдыхаетъ и шубенку запахиваетъ.141
«Вишь, бѣдняга, и уморился и озябъ», сказалъ самъ себѣ Авдѣичъ.142 «Напоить его, развѣ, чайкомъ...», онъ постучалъ въ стекло. Степанычъ обернулся и подошелъ къ окну. Авдѣичъ поманилъ его рукой и пошелъ отворить дверь.
«Войди погрѣться», сказалъ онъ143 старику.144
— «Спасибо, сосѣдъ, прозябъ — нечего сказать», сказалъ Степанычъ.
— «А чайку стаканчикъ — выпьешь».
— «Спаси тебя Господи, какъ не выпить чайку, ужъ забылъ, когда и пивалъ-то».145
Авдѣичъ налилъ гостю стаканъ чаю, отрѣзалъ ломоть хлѣба, а самъ воротился къ окну и сталъ146 шить и поглядывать то въ ту, то въ другую сторону улицы — не идетъ ли кто.147
Степанычъ выпилъ стаканъ, перевернулъ дномъ кверху и на него положилъ огрызокъ сахару.
— Кушай еще, сказалъ Мартынъ, подошелъ налилъ еще стаканъ и опять пошелъ къ окну.
— «Кого это ты все выглядываешь Мартынъ Авдѣичъ?» спросилъ тотъ.148
— Ахъ другъ любезный и сказать совѣстно, кого я выглядываю. Ошалѣлъ видно я на старости лѣтъ. Видишь ли читалъ я вчера Евангеліе и сказано тамъ, что родился Спаситель149 въ хлѣву, потому что въ гостинницѣ мѣста не было. Слыхалъ ты я чай.
Слыхать слыхалъ, отвѣчаетъ Степанычъ, да мы люди темные,150 грамотѣ не знаемъ.151
— Ну такъ вотъ читалъ я вчера эти слова и подумалъ: какъ для Христа Спасителя мѣста не нашлось? Если бы мнѣ довелось, кажись, какъ бы принялъ къ себѣ и все бы отдалъ. Вотъ подумалъ я такъ то и задремалъ.
Задремалъ и слышу голосъ мнѣ говорить: приду къ тебѣ завтра, жди меня. Ну вотъ вѣришь ли, запало мнѣ это въ голову и самъ себя браню и все жду Его батюшку.
Степанычъ покачалъ головой и ничего не сказалъ, но только допилъ свой стаканъ и положилъ его бокомъ, но Авдѣичъ опять поднялъ стаканъ и налилъ еще.
— Кушай на здоровье. Вѣдь тоже думаю. Когда Христосъ батюшка по землѣ ходилъ, не брезговалъ онъ никѣмъ, а съ простыми людьми водился.152 Не къ Ироду ни къ Пилату ходилъ, а153 набиралъ учениковъ изъ мытарей изъ грѣшниковъ изъ рабочихъ, не хуже насъ. Кто, говорилъ, возвышается, тотъ унизится, а кто унизится тотъ возвысится.154 Вы меня, говоритъ, Господомъ называете, а я говоритъ вамъ ноги умою. Кто хочетъ, говоритъ, быть первымъ тотъ будь всѣмъ слуга. Потому что, говоритъ, блаженны нищіе, смиренные, кроткіе, милостивые. И забыль свой чай Степанычъ и все слушалъ Авдѣича и утеръ слезы.
— Ну кушай еще, сказалъ Авдѣичъ. Но Степанычъ перевернулъ стаканъ и всталъ.
— «Такъ ты Его все поджидаешь?» сказалъ155 онъ, «ну, ужъ, дождешься-ли — не знаю. А за то мнѣ ты Его своими156 рѣчами точно живого показалъ.157 Спасибо тебѣ, Мартынъ Авдѣичъ, угостилъ ты меня,158 и душу и тѣло надѣлилъ. Будетъ времячко, не взыщи, если опять приду твои рѣчи послушать, Господь тебѣ отдастъ за это».
— «Милости просимъ, милости просимъ», отвѣчалъ дядя Мартынъ.
Степанычъ ушелъ, а159 Мартынъ выпилъ стаканчикъ чайку и опять сѣлъ къ окну за работу и опять сталъ глядѣть въ окно не идетъ ли Онъ.160 Прошли161мимо окошка два пьяныхъ, должно быть прямо изъ трактира:162 идутъ шатаются и галдятъ что то, прошелъ разнощикъ163 съ яблоками, булочникъ съ корзиной164 и дядя Мартынъ165 поглядитъ и отвернется. Но вотъ прошла еще молодая женщина въ лохмотьяхъ съ ребенкомъ на рукахъ. Она была блѣдная, худая.166 И жалко ее стало Мартыну.
Авдѣичъ167 всталъ, вышелъ въ дверь и168 кликнулъ:169 «Умница, а умница». Женщина услыхала и обернулась, удивленная.
— Подойди, подойди сюда, ты должно170 нездорова.171
Авдѣичъ всѣхъ молодыхъ женщинъ называлъ умница.
— Да, я не здорова, отвѣчала молодая женщина,172 просилась въ больницу съ ребенкомъ, да тамъ не приняли: мужъ въ солдатахъ, обѣщался придти, а вотъ ужъ 4-й мѣсяцъ жду.173 А тутъ еще погорѣла. Живу теперь на квартирѣ. Не знаю что и дѣлать! Она заплакала и ребенокъ за нею.174
— Вишь сердечная, сказалъ175 старикъ, заходи176 чтоль. Кусочекъ хлѣбца съѣшь, да погрѣешься, ребенку молочка достанемъ.
Вошли въ комнату, Авдѣичъ177 досталъ хлѣбъ и молоко и селедку и поставилъ передъ женщиной.
— «Ты178 умница, покушай, сказалъ онъ,179 а180 ребеночка я подержу, — вѣдь у меня свои дѣти были — умѣю съ ними няньчиться. Славный мальчишка, право, а ножки то у него совсѣмъ голыя — какъ же это такъ?
— «Обуть не во что», отвѣчала со вздохомъ мать.
— «Постой, постой, у меня найдутся башмачки — какъ разъ будутъ ему впору». И старикъ досталъ съ полки тѣ самые башмачки, завернутые въ181 бумагу, которыми онъ любовался накануне, и надѣлъ ихъ ребенку. Они пришлись ему какъ разъ по ногѣ — точно на него и сшиты.182
Жалко стало дядѣ Мартыну своихъ башмачковъ. Жалко было потому что они для него память были о дочкѣ. — Ну да память и безъ нихъ будетъ, сказалъ онъ самъ себѣ, «мнѣ вѣдь они не нужны, пусть лучше носитъ183 христіанская душка. Христосъ съ нимъ».
Молодая женщина отогрѣлась, напоила ребенка, а дядя Мартынъ опять184 сѣлъ къ окну и185 опять сталъ смотрѣть на улицу.186
— «Что это вы тамъ все смотрите?» спросила она.187
Maртынъ и ей разсказалъ свой сонъ и какъ онъ голосъ слышалъ и какъ онъ ждетъ нынче Господа.
Женщина188 покачала головой и ничего не сказала.
— «Ты вѣдь знаешь Господа Іисуса Христа?»189 спросилъ у ней старикъ.
— «Знаю», отвѣчала она, «я190и грамотѣ знаю, я191въ школѣ была и было у меня Евангеліе,192 я читала.193 И теперь бы почитала когда, да въ пожаръ и книжки сгорѣли. Многое про Іисуса Христа затвердила я даже на память. Да почитать теперь не по чемъ.194
— Ну спасибо дѣдушка, сказала женщина, посидѣла бы съ вами, да пора идти домой, на квартиру, а то хозяйка велѣла, если не примутъ въ больницу, придти квартиру караулить, сама въ гости собирается».
Молодая женщина поднялась съ лавки,195 укутала ребенка въ изорванный платокъ и стала кланяться старику, благодаря его за196 его милость. «Такъ и нѣтъ у тебя Евангелія?» спросилъ дядя Мартынъ на прощаньи.
— «Нѣтъ, дядюшка,197 сгорѣло, а купить не на что.
Мартынъ открылъ сундучекъ, порылся и досталъ оттуда книжечку.
— «Вотъ тебѣ Евангеліе», сказалъ198 онъ, кладя ей въ руку маленькій Новый Завѣтъ, у тебя глаза молодые, ты и мелкую печать разберешь. Смотри же, читай и вникай хорошенько. Господь утѣшитъ тебя.199
Женщина ваяла Евангеліе, и все лицо ея просіяло отъ радости. Старикъ сунулъ ей въ руку еще двугривенный и обѣщалъ придти провѣдать. Она ушла, а онъ опять вернулся къ прежнему мѣсту, у окна.
Часъ проходилъ за часомъ, и дядя Мартынъ все ждалъ. Много проходило народу: старые и молодые, мастеровые, солдаты, торговцы200 и ребятишки и бабы, но все не было того, кого ждалъ Авдѣичъ. Солнце ужъ стало заходить, работать темно стало, но Авдѣичъ все не отходилъ отъ окна, а смотрѣлъ и ждалъ. И вотъ видитъ Авдѣичъ противъ самого его окна остановилась старуха торговка съ яблоками и съ201 мѣшкомъ щепокъ. Видно набрала гдѣ на постройкѣ. Сложила она мѣшокъ на панель, поставила свой латокъ на столбикъ и202 развязала платокъ, запахнулась лучше рваной203 куцавейкой и стала на себѣ платокъ перевязывать. И когда она завязывала платокъ за спиной откуда ни возьмись подбѣжалъ мальчишка, схватилъ съ латка яблоко204 и хотѣлъ убѣжать, но старуха205 увидала повернулась и поймала его за руку. Мальчикъ бросилъ яблоко закричалъ и хотѣлъ вырваться, но старуха сбила съ него картузъ и схватила его за волосы. Авдѣичъ выбѣжалъ на улицу и подбѣжалъ къ старухѣ. Мальчикъ сталъ просить защиты и говорилъ, что онъ не бралъ яблоко и только нечаянно столкнулъ его. Старуха все держала его за волосы и хотѣла вести къ городовому. Пусти его бабушка, сказалъ Авдѣичъ, прости его, Богъ велѣлъ прощать.206
Старуха пустила мальчика, а Авдѣичъ взялъ его за руку и сказалъ:
— Проси у бабушки прощенья. И впередъ не дѣлай такъ. А яблоко вотъ тебѣ. И Авдѣичъ купилъ яблоко и далъ мальчику.
— Набалуешь ты ихъ такъ мерзавцевъ, сказала старуха. Его высѣчь надо, а не наградить.
— По нашему такъ, а по Божьему не такъ. Коли его за яблоко высѣчь надо, такъ что съ нами за наши грѣхи сдѣлать надо?207
И paзсказалъ Авдѣичъ старухѣ притчу о томъ, какъ хозяинъ простилъ оброчнику весь большой долгъ его, а оброчникъ пошелъ и сталъ душить своего должника.
— Богъ велѣлъ прощать, сказалъ Ав[дѣичъ], а то и намъ не простится.
И вздохнула старуха и стала разсказывать про свою нужду и какъ она живетъ у дочери, и какъ внучата ее любятъ и какъ для нихъ работаетъ и для нихъ набрала щепокъ протопиться, и какъ Аксюша внучка всегда рада когда вернется бабушка и какъ лѣзетъ къ ней на руки. И совсѣмъ размякла старуха и сказала.208
Ну Богъ съ нимъ, пусти его, и хотѣла старуха поднимать мѣшокъ на плечи, но мальчикъ подошелъ и сказалъ:
— Дай я снесу, бабушка.
Старуха покачала головой и взвалила мѣшокъ на мальчика, а сама выбрала еще яблочко похуже и дала ему въ руку.
— Спасибо, бабушка, не надо, у меня есть, сказалъ мальчикъ.
И они пошли рядомъ по улицѣ.
Авдѣичъ стоялъ и все смотрѣлъ на нихъ и слушалъ, какъ они шли и что то все говорили. Вернулся Авдѣичъ къ себѣ и сѣлъ на свое мѣсто. Стало темнѣть, глаза старика устали209 и сердце210 стало тосковать. Вотъ ужъ и фонари стали зажигать, и въ большомъ домѣ напротивъ211 заблистали огни.212
А Господь все не являлся!
Наступила ночь, на дворѣ опять пошелъ снѣгъ, мало стало прохожихъ, да и разглядѣть ихъ было трудно; но дядя Мартынъ не отходилъ отъ окна и ждалъ.
А Господь все не являлся!
Наконецъ, старикъ, съ грустью, зажегъ лампочку и, доставь изъ печки свой ужинъ, сѣлъ за столъ. Принялся было ѣсть, но охоты не было, и голова213 опустилась. «Это былъ сонъ, только сонъ», шепталъ онъ, «а я думалъ и въ самомъ дѣлѣ»...
Онъ убралъ ужинъ214 и раскрылъ на столѣ свою любимую книгу. Но215 и читать въ эту ночь охоты не было.
«Не пришелъ!» повторялъ онъ, и наконецъ задремалъ.216 Вдругъ ему послышался шорохъ, комната какъ будто наполнилась людьми: впереди стоялъ217 Степанычъ, около него женщина съ ребенкомъ и сзади старуха съ мальчикомъ. И они спрашивали:
«Развѣ ты не видалъ Меня?»218
«Да кто же вы такіе?» вскричалъ башмачникъ, глядя на нихъ съ изумленіемъ.
Тогда ребенокъ, на рукахъ женщины, потянулся къ старику, наклонился надъ раскрытымъ Евангеліемъ219 и пальчикомъ указалъ на220 стихи.
Авдѣичъ прочелъ:
«Алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть, жаждалъ и вы напоили Меня, былъ странникомъ и вы приняли Меня... Такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ сихъ братій Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ. (Матфея 25).
————
[ВАРИАНТЫ РАССКАЗА «МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО».]
* № 1.
Жена слушала, слушала, заснула. Въ середи ночи закричала жена во снѣ и проснулась.
— Чего ты? говоритъ мужъ.
— Да что, Пахомушка, говоритъ: нехорошій я сонъ видѣла. Не ходи ты завтра землю обходить.
Засмѣялся Пахомъ.
Вона! говоритъ. Что же тебѣ привидѣлось?
— Охъ, не ходи, Пахомушка. Жутко мнѣ.
— Да что ты видѣла то?
И видѣлось мнѣ, что лежимъ мы съ тобой въ этой самой кибиткѣ и что слышу я, хохочетъ кто то у хозяина и что захотѣлось мнѣ посмотрѣть. И встала я, будто и пошла потихоньку къ той кибиткѣ. Подошла, подняла войлокъ и заглянула въ щелку. И вижу я, сидитъ этотъ самый старшина башкирскій, вотъ такъ за животъ ухватился обѣими руками, закатывается, хохочетъ. И гляжу я на него и это не онъ, а купецъ намеднишній, что къ намъ заѣзжалъ, и гляну я на купца, и опять не купецъ, а тотъ мужикъ, что къ намъ на старинѣ съ низу заходилъ. И гляжу я на мужика, и опять не онъ, а самъ дьяволъ съ рогами и съ копытами сидитъ, хохочетъ и на что-то глядитъ. Поглядѣла я, куда онъ глядитъ, а это ты лежишь кверху носомъ и бѣлый, какъ ручникъ. Испугалась я, закричала и проснулась. Не ходи ты завтра, Пахомушка, землю обходить. Не къ добру я сонъ видѣла и не къ добру на одно лицо три человѣка эти: и мужикъ съ низу, и купецъ, и старшина башкирскій. — Не ходи, батюшка.
— Посмѣялся Пахомъ. — Будетъ, будетъ толковать то. Вашихъ бабьихъ словъ не переслушаешь. Спи, еще рано. Прилегъ и Пахомъ. Да такъ и не заснулъ до разсвѣта.
* № 2.
Подбѣжала Пахомова хозяйка съ работникомъ, хотѣла поднять его, глядь, а у него изо рта кровь течетъ и онъ мертвый лежитъ. Ахнула жена, оглянулась на старшину, а онъ сидитъ такъ точно, какъ она во снѣ его видѣла, сидитъ на корточкахъ, гогочетъ. И видитъ она явственно рога изъ за скуфейки торчать и на ногахъ копыта.
Всталъ старшина, поднялъ съ земли заступъ, кинулъ бабѣ. — На, закопай! Да сестрѣ похвались, какъ мужику земля на пользу пошла.
Поднялись всѣ башкирцы и уѣхали.
Осталась вдова Пахомова въ степи съ своимъ работникомъ.
————
* [ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ РАССКАЗА «КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК».]
Жилъ <богатый и знатный> человѣкъ 70 лѣтъ. И прожилъ онъ всю свою жизнь въ грѣхахъ. Въ молодости пилъ и пьянствовалъ, въ карты игралъ и развратничалъ. Въ молодости женился, отъ жены распутничалъ. Жену въ гробъ загналъ. Дѣтей разогналъ и подъ старость жилъ съ любовницами. Никого не любилъ кромѣ своего тѣла и денегъ. Копилъ деньги и деньги въ ростъ давалъ, никого не жалѣлъ и съ бѣдной, съ сироты, съ вдовы послѣднюю рубашку и крестъ съ шеи тянулъ. И заболѣлъ этотъ человѣкъ и на смертномъ одрѣ не простилъ никому ни одной копѣйки и никого не пожалѣлъ. Пришла смерть, и только когда послѣдній часъ пришелъ, ужаснулся передъ своей жизнью человѣкъ. И только успѣлъ сказать: Господи, какъ разбойнику на крестѣ, прости мнѣ. И только успѣлъ сказать и вышла душа.
————
И пришла душа человѣка къ дверямъ царства небеснаго. Только стала подходить, видитъ, сидитъ у воротъ на скамьѣ свѣтлый мужъ, волоса по плечамъ, на головѣ вѣнецъ царскій. А въ рукахъ держитъ мужъ гусли, играетъ и поетъ псалмы, хвалитъ Бога. И узналъ человѣкъ царя Давида и подошелъ къ нему, поклонился. Царь Давидъ посмотрѣлъ на человѣка и спросилъ: Чего тебѣ, человѣче, надо? Разсказалъ [человѣкъ] свои дѣла и подалъ запись всѣхъ дѣлъ своихъ. Посмотрѣлъ царь Давидъ и сказалъ: нельзя тебѣ; жаль мнѣ тебя, человѣче, нельзя тебѣ вступить въ царство небесное — велики грѣхи твои. И показалъ ему царь Давидъ по записи всѣ грѣхи его — и пьянство, и блудъ, и жестокость, убійства, и лихоимства и сказалъ: нельзя такому великому грѣшнику войти въ царство небесное. Заплакалъ человѣкъ и сказалъ: Знаю я, что грѣхи мои велики, да велика милость Божія. Былъ ты и царемъ и пророкомъ и согрѣшилъ же ты съ Уріею и женою его и простилъ же тебя Богъ. Воздохнулъ Давидъ, всталъ съ скамьи и ушелъ, скрылся отъ грѣшника.
Подошелъ грѣшникъ къ самымъ дверямъ и сталъ стучаться: и просить, чтобы пустили его. И на стукъ его явился свѣтлый старецъ съ ключами въ рукѣ. Подошелъ. Взялъ старецъ запись изъ рукъ грѣшника и сталъ читать. И не прочелъ до конца, воздохнулъ и отдалъ назадъ запись и сказалъ: Нельзя тебѣ, человѣче, по великимъ грѣхамъ твоимъ войти въ царство это. Опять огорчился грѣшникъ, заплакалъ и сказалъ: Петро, Петро, не ты ли обѣщалъ самому Христу учителю, что не оставишь его. И пѣтелъ не прокричалъ трижды, а ты ужъ трижды отрекся отъ него. А все таки Богъ простилъ тебя. Помнишь, какъ ты плакалъ горько. Также и я плачу теперь. Отслушалъ эти слова Петръ и скрылся изъ глазъ грѣшника и остался онъ опять одинъ у дверей рая. И опять сталъ стучаться въ нихъ. И на стукъ его вышелъ свѣтлый юноша съ книгой въ рукахъ. И тотчасъ же узналъ грѣшникъ Іоанна богослова и поклонился ему. Чего хочешь, человѣче, и зачѣмъ приходишь въ царство блаженныхъ съ грѣхами своими. И не глядя на запись, перечислилъ Іоаннъ богословъ грѣшнику всѣ худыя дѣла его. Пусти меня въ рай, сказалъ грѣшникъ. Я покаялся въ грѣхахъ своихъ. Нельзя, сказалъ Іоаннъ богословъ, слишкомъ велики грѣхи твои. Пуще прежняго огорчился грѣшникъ и сказалъ: такъ что же ты Іоаннъ богословъ писалъ въ книгѣ твоей. Развѣ не ты писалъ, что Богъ есть любовь, что онъ любитъ и прощаетъ насъ. И открылъ ему Іоаннъ Богословъ двери и впустилъ его.
* [ВАРИАНТ РАССКАЗА «ТРИ СТАРЦА».]
Затихло все и задумался архіерей. Вдругъ услыхалъ онъ — говоритъ въ сторонѣ отъ него народъ и показываетъ что то. Поднялъ голову архіерей, прислушался.
— Лодка и есть, говоритъ купецъ.
— Какая же лодка, когда насъ догоняетъ. Гдѣ же лодкѣ догнать? Развѣ мы плохо идемъ? А она догоняетъ. Рыба что ль?
Поднялся архіерей, видитъ: точно, бѣжитъ что то за кораблемъ, то чернѣется, то бѣлѣется. Всталъ архіерей, подошелъ къ народу:
— Что жъ это вы думаете? — спросилъ онъ.
— Лодка на парусѣ и есть, — сказалъ купецъ.
— Да нѣтъ, во̀ позади и еще одно что то такое. Подошелъ старшой съ корабля. Взялъ трубку, посмотрѣлъ: и то, говоритъ, за нами кто то гонитъ, махаетъ человѣкъ. Маленькая лодочка! И человѣкъ. Взялъ трубу архіерей, навелъ — что за чудо: старецъ въ чемъ то плыветъ и махаетъ. Сказалъ онъ старшому. Убрали паруса, остановили ходъ корабля, стало простымъ глазомъ видно: бѣжитъ средній старецъ по водѣ, а позади и большой идетъ, а сзади всѣхъ древній поспѣваетъ. Всѣ три по водѣ, какъ по суху, бѣгутъ и ногъ не передвигаютъ. Ужаснулся народъ. Развелъ руки архіерей, смотритъ, слова сказать не можетъ. Приблизился средній старецъ къ самому кораблю, увидалъ архіерея.
— Забыли, рабъ Божій....
Подплыли и другіе два старца. Забыли, научи опять. Воздохнулъ архіерей и сказалъ:
Доходна, видно до Бога, отцы святые, и ваша молитва. Будетъ съ васъ и того. И не мнѣ васъ учить.
И поклонился архіерей въ землю старцамъ и весь народъ на кораблѣ.
Подняли опять паруса и поплыли, а старцы долго еще виднѣлись на томъ же мѣстѣ и блестѣли на мѣсячномъ свѣтѣ.
* [ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ТЕКСТА К КАРТИНЕ — «СТРАДАНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».]
Тогда отпустилъ имъ Варавву, а Іисуса, бивъ, предалъ на распятіе.
(Матѳ. XXVII, 26).Кто бьетъ и мучаетъ Христа? Не воины Пилата, а мы бьемъ, сѣчемъ, мучимъ и распинаемъ Его. Воины не знали Его и они били, а мы знаемъ и бьемъ Его. Бьемъ Его вчера и нынче, знаемъ Его и 1800 лѣтъ ругаемся надъ Нимъ и бьемъ Его.
Братья! Все, что мы сдѣлаемъ другому человѣку, мы сдѣлаемъ Ему. Кого же мы бьемъ, когда мы пожираемъ то, чего нѣтъ у голоднаго, кого мы бьемъ, когда нарушаемъ законъ супружеской съ распутницами и распутницъ еще дальше забиваемъ въ грѣхъ, кого мы бьемъ, когда ругаемся, деремся, надѣваемъ цѣпи на людей и проливаемъ кровь человѣческую?
Мы бьемъ и мучаемъ Христа хуже, чѣмъ эти воины Пилата. И грѣхъ нашъ не простится намъ, потому мы знаемъ, что мы дѣлаемъ.
* [ВАРИАНТЫ «СКАЗКИ ОБ ИВАНЕ ДУРАКЕ».]
* № 1.
Первая редакция.
Жилъ былъ старикъ съ старухой и было у нихъ три сына: Семенъ и Тарасъ умные, а третій Иванъ дуракъ. Отдалъ старикъ старшего Семена въ солдаты, а другаго купцу въ лавку, а меньшой — дуракъ остался дома работать. Пошлетъ старикъ и Ивана работать, онъ скажетъ и идетъ. И работалъ одинъ за троихъ и жилъ и безъ старшихъ сыновей старикъ хорошо; а пришли сыновья, принесли денегъ <и стали ж>ить221 еще лучше. Только женились старшіе сыновья, стали невѣстки не ладить и отдѣлилъ старикъ сыновей: старшій Семенъ солдатъ снялъ мельницу. Другой Тарасъ завелъ лавку и постоялый. А Ивану братья говорятъ: тебѣ жениться не къ чему, ты дуракъ. Живи съ отцомъ съ матерью — корми ихъ. Онъ говоритъ: ну чтожъ и сталъ жить съ отцомъ съ матерью, землю пахать. Стали разживаться братья. Позавидовалъ на ихъ жизнь чортъ, послалъ 3хъ сыновей на 3хъ братьевъ погубить ихъ. Поглядѣли 3 черта какъ живутъ братья и всякому хочется на Ивана идти; потому что легче работа. Дуракъ да и хлопотъ [меньше], можно сразу его сбить, а тѣ живутъ хорошо, за ними хлопотъ много.
Спорили, спорили, старый чортъ и говоритъ. Не дѣлю ихъ вамъ, а вы артелью на всѣхъ трехъ идите. А кто прежде кончить, другимъ помогай. Пока всѣхъ трехъ не погубите, не показывайтесь мнѣ на глаза. Ступайте. Пошли черти, кинули жеребей. И послалъ двухъ чертей къ мужикамъ чертей по мѣстамъ разставлять [1 неразобр.] три черта безъ дѣла. Вотъ и говоритъ имъ старшій дьяволъ. Есть тутъ три мужика <одинъ на мельницѣ, другой въ лавкѣ, 3й крестьянствуетъ, хорошо жить стали, подите вы къ нимъ>: одного къ Семену солдату, велѣлъ ему плотину рвать и колеса ломать, другаго къ Тарасу, велѣлъ ему товаръ гноить, мышамъ кормить, а третьяго послалъ въ стариковскую часть землю портить, чтобы раздѣлки не было, луга топтать и лѣсъ сушить. Только надо, говоритъ, разстроить ихъ всѣхъ троихъ, живите и [2 неразобр.]. Пошли черти, стали работать. Старшій чертъ у мельника кулаки съ колесъ летятъ [1 неразобр.] колеса дуромъ ведетъ и чуть дождь пройдетъ, такъ не успѣваетъ заставки отпереть, не тутъ, такъ тамъ рветъ плотину. И пересталъ народъ и стали убытки и ужъ сталъ отказываться солдатъ отъ мель<ницы>. А старый чертъ сталъ у Тараса работать. Купитъ товару свѣжаго, пересыплетъ муку, крупу, день два пройдетъ, слежится, затхнетъ, а отъ мышей черно. Столько не продастъ, сколько мыши слопаютъ. И сталъ народъ отвыкать и перестали покупать у Тараса убытки болышіе стали и сталъ Тарасъ отказываться отъ лавки. Бросилъ Семенъ мельницу, а Тарасъ лавку и дворъ и пошли опять къ отцу жить. Принялъ ихъ отецъ, только говоритъ, тѣсно у меня въ избѣ. Они говорятъ: Иванъ много мѣста беретъ, придетъ съ работы разляжется, всѣхъ тѣснитъ. Да и духъ отъ него нехорошъ. Коли его выгнать, намъ мѣсто будетъ. Ступай, говорятъ, ты Иванъ, на задворье въ закуту, тамъ спи съ скотиной, тамъ тебѣ мѣсто. Послушался Иванъ. Ну чтожъ, говоритъ. Взялъ шубу, шапку и сѣлъ въ закутку. Стали братья у отца прохладно жить, нажитое проживать, да высматривать, гдѣ бы новую мельницу и дворъ съ лавкой, а Иванъ за троихъ сталъ работать. Досадно стало чертямъ. Надо, говорятъ, въ поле пойти, Ивана окоротить, а то онъ всѣхъ еще лучше кормитъ и пивомъ поитъ. Пошли тѣ же черти въ поле, сталъ 3-й чортъ землю портить, чтобъ раздѣлки не было, стали луга топтать и лѣса сушить. Выѣхалъ разъ Иванъ въ поле пашню двоить: что за чудо не проворотишь сохи, точно не пахано, обжи трещатъ и того гляди подвои порветъ. Подивился Иванъ, сталъ пахать. Черти не пускаютъ, а Иванъ напираетъ на соху. Продралъ одну борозду, завернулся — опять тоже. Продралъ другую, третью. То бы надо полнивы до обѣда вспахать, а онъ и осьминника не переворотилъ и соху сломалъ. Поѣхалъ Иванъ домой, перемѣнилъ лошадь, взялъ соху другую, укрѣпилъ — допахалъ полнивы до вечера. Завтра, говорить, поперю еще сошники да прилажу еще получше, я ее раздеру какъ слѣдуетъ. И поѣхалъ домой. Услыхалъ чертъ, говоритъ: не одолѣть дурака этаго на землѣ, выгонитъ онъ меня. На утро опять сталъ чертъ мѣшать, не поддался Иванъ, знай воротитъ, десятину допахалъ, на другую переѣхалъ. Перешелъ чертъ на другую, десятину и тутъ не одолѣлъ. Взодралъ Иванъ все поле, осталась только полоска. Сидитъ ночью чортъ на полоскѣ и думаетъ, какъ быть. Пришли къ нему братья и стали толков(ать), какъ дѣла. Разсказываетъ старшій братъ: хорошо я слышалъ онъ женѣ говорилъ: надо бросать, къ отцу идти. И другой говоритъ: я слышалъ, онъ продавалъ и дворъ и лавку мужику за полцѣны. Наше, говорятъ, дѣло исправлено. Твоё какъ. Да что, мое совсѣмъ плохо. Изодралъ меня всего. Я подъ землей держу за сошники, а онъ то деретъ, ничего съ дуракомъ не сдѣлаешь. Вотъ только полоска осталась, коли завтра не осилю, надо съ пашни уходить въ луга. Приходите помогать, а то какъ мы его одного не осилимъ, всѣ наши труды пропадутъ, вѣдь нашъ хозяинъ всѣхъ троихъ велѣлъ разстроить, а одинъ останется — всѣмъ намъ плети.
Порѣшили такъ, чтобы приходить помогать; ты говорятъ, эту десятину ему не давай вспахать, а я какъ покончу съ Семеномъ, пойду въ луга, а я, говоритъ третій, покончу съ Тарасомъ пойду въ лѣсъ, тамъ его замучаю. На утро пріѣхалъ Иванъ. Сталъ пахать. Что за чудо — корни — не было прежде. Взялъ топоръ. Какъ зацѣпитъ, схватитъ топоръ, стукнетъ. Не успѣлъ чортъ рукъ подобрать, обрубилъ ему руки. Переползъ чертъ на послѣднюю борозду, не пускаетъ. Опять корень, думаетъ Иванъ, запустилъ руку въ борозду, ухватилъ за корень и тащитъ. Вытащилъ — коряга, думаетъ, — глядь — чортъ живой. Эхъ, думаетъ, пакость какая. [4 неразобр.] Хотѣлъ убить его. Да заговорилъ чортъ: <не убивай, говоритъ меня> Я тебѣ богачемъ сдѣлаю. Оставь только мнѣ тутъ въ полоскѣ мѣстечко, гдѣ бы проскочить сквозь землю. Иванъ говоритъ: ну чтожъ, съ паршивой собаки хоть шерсти клокъ. Чортъ и говоритъ: Когда захочешь деньги чтобы были, возьми ты съ этой полосы калмыжку, разотри въ рукахъ и сыпь — будетъ золото падать. Ишь ты, говоритъ Иванъ. Взялъ калмыжку, потеръ — посыпалось золото. Это хорошо, говорить, ребятамъ играть. Вотъ, говоритъ чортъ, только пусти меня сюда въ землю, я проскочу. Ну, говоритъ, Богъ съ тобой. Только сказалъ Иванъ про Бога, юркнулъ чортъ подъ землю, какъ камень въ воду. Только дыра осталась.
Запахалъ Иванъ до конца дѣлянку и дыру запахалъ, перевернулъ соху, хотѣлъ взять золото ребятамъ играть, да положить некуда было, такъ и оставилъ, поѣхалъ домой. Пріѣхалъ, отпрегъ, пришелъ ужинать, а оба брата [неразобр.] сидятъ съ женами и съ дѣтьми.
Свое дѣло бросили отъ убытковъ и къ отцу переѣхали жить.
Освободился въ эту ночь чертъ съ мельницы, пришелъ на пашню брату помогать. Искалъ, искалъ, не нашелъ брата. И видитъ — вся пашня Иванова вспахана. Ну, думаетъ, здѣсь не осилилъ братецъ. Надо теперь на лугахъ его донимать.
На утро отбилъ Иванъ косу, пошелъ косить. Что за чудо. Камень, гдѣ не было. Перервалъ косу. — Пошелъ домой, взялъ другую, коситъ — спутано. Сталъ заходить со стороны — рѣжетъ и рветъ. Изрѣзалъ всего чорта. Осталась дѣлянка въ болотѣ и ту выкосилъ, хвостъ отрѣзалъ. «Ишь ты, козюля мохнатая». Бросилъ. Видитъ куцый чортъ — не осилилъ, пошелъ рожь путать. Взялъ серпъ Иванъ — выжалъ все. Убѣжалъ въ овесъ, набралъ кам[ней], легъ спать. Завтра, говоритъ, я ему хоть десять косъ переломаю. Только заснулъ чертъ. Идетъ Иванъ ночью косить. Убѣжалъ чертъ въ копны. Только заснулъ. На утро запрегъ Иванъ лошадей, поѣхалъ возить. Сталъ кидать снопы, прицѣлился вилами два снопа сразу подхватить — сунуль, поднялъ — глядь, на вилкахъ что то черное. Попалъ въ жопу чорту. — Ты, говорить, опять тутъ.
— Это, говорить, я, другой, то мой братъ быль.
— Ну, говоритъ, и тебѣ тоже будетъ.
Сталъ просить чортъ, отпусти только, не буду, я тебѣ что хочешь сдѣлаю.
— Да чтожъ ты мнѣ сдѣлаешь, братъ твой сдѣлалъ мнѣ золото изъ калмыжекъ. А на что мнѣ оно.
Я тебѣ лучше сдѣлаю. Я то сдѣлаю, что что ни захочешь, все твое будетъ. Я тебѣ войско сдѣлаю, сколько хочешь, только пусти.
Ну чтожъ, сдѣлай. И научилъ его чортъ, чтобы взялъ онъ снопъ, тряхнулъ бы его о землю и сказалъ: Велитъ мой холопъ, чтобы былъ ты не снопъ, а сколько будылокъ, столько солдатъ. Иванъ. Ишь ты. Взялъ снопъ, тряхнулъ о земь и сказалъ. И разскочился снопъ и сдѣлались солдаты и впереди барабанщикъ и трубачъ играютъ, Ивана веселятъ. Посмѣялся Иванъ: это, говорить, хорошо — дѣвокъ пугать.
— Ну, говоритъ чортъ, пусти же теперь.
Нѣтъ, говоритъ, это я изъ старновки дѣлать буду, а то зерна жаль. Научи, какъ опять въ снопъ поворотить. Чортъ и говоритъ: скажи, сколько солдатъ, столько будылокъ. Велитъ мой холопъ, будь опять снопъ. Какъ сказалъ, опять сталъ снопъ. Ну, чортъ говорить, пусти же теперь.
Зацѣпилъ его Иванъ за грядку, сдернулъ съ вилъ.
Съ Богомъ, говорить. Нырнулъ чортъ подъ землю.
Пріѣхалъ Иванъ домой, а дома и другой брать. Прожился, вернулся къ отцу. И стали они жить, готовое проживать.
А Иванъ знай работаетъ. Вотъ ослобонился и третій чортъ, пришелъ своихъ [1 неразобр.] провѣдать. Искалъ, искалъ, нигдѣ нѣтъ. А видитъ, Иванъ все живетъ, не одолѣли его. Надо за него приниматься. Пошелъ послѣдній чортъ на Иванову землю его дожидаться, куда онъ работать пойдетъ. А братья перессорились, перебранились, говорятъ отцу: нельзя намъ вмѣстѣ жить, надо намъ каждому домъ строить. Строить, такъ строить. Позвали Ивана. Ты что, говорятъ, дуракъ, все болтаешься, ступай, говорятъ, руби лѣсъ на избы намъ, а мы тогда подѣлимъ, строить будемъ. Взялъ Иванъ топоръ, пошелъ въ лѣсъ. Увидалъ это бѣсъ и залѣзъ на дерево. Только что сталъ Иванъ рубить, перескочилъ бѣсъ на то самое дерево, что Иванъ рубить. Подрубитъ Иванъ дерево, валитъ въ одну сторону, а оно въ другую валится, на деревья ложится въ сучья. Бьется Иванъ, тянетъ и рочагомъ отворачиваетъ и лазаетъ. Только одно свалитъ, примется за другое, тоже самое. Не бросаетъ дѣла Иванъ, потъ съ него валитъ и паръ идетъ, а все ворочаетъ. Думалъ Иванъ хлыстовъ полсотни срубить, — и десятка не срубилъ.
Пошелъ Иванъ домой, принесъ возжи, связалъ, сталъ лазать за макушки привязывать. Подрубитъ и тянетъ. А чортъ все мѣшаетъ. Нарубилъ однако, десятка два и пошелъ домой. Пошелъ Иванъ домой, а чортъ уморился, залѣзъ на самый высокій дубъ и легъ спать. Идетъ Иванъ домой, думаетъ: чтожъ я дубовыхъ на нижніе вѣнцы не срубилъ. Забранятъ братья, пойду, вырублю. Вернулся назадъ, выбралъ самый высокій дубъ, сталъ рубить. Думаетъ: опять не повалится. Подрубилъ съ одной стороны глубоко, только тяпнулъ съ другой раза два, затрещалъ дубъ, повалился прямо на поляну, суки переломалъ и прижалъ чорта за ногу. Сталъ Иванъ обчищать, замахнулся макушку обрубить, слышитъ — пищитъ. Схватилъ его за шею, защемилъ въ дубѣ, что за пакость, ты опять тутъ. Это не я, говоритъ, я только нынче пришелъ. Отпусти меня, я тебѣ что хочешь сдѣлаю. Да что ваши дѣла всѣ пустыя. Деньги не нужны, a дѣвокъ барабаны пугать некогда, сдѣлай мнѣ что получше.
Да что ты хочешь, сдѣлаю.
Подумалъ Иванъ: чего бы отъ него взять. И заболѣлъ у него животъ съ натуги. Онъ говоритъ: У меня брюхо болитъ. Коли ты хитеръ, дай такую лѣкарству, чтобы когда что заболитъ, сейчасъ прошло.
Могу, говоритъ чортъ.
Ну что жъ, давай.
Показалъ чортъ на травку. Возьми, говоритъ, съ нея три листика. Что бы ни болѣло, скатай листикъ, проглоти — рукой сниметъ.
Взялъ Иванъ листикъ, скаталъ, проглотилъ — сейчасъ прошло. Взялъ Иванъ другіе два листика, скаталъ, въ шапку засунулъ.
Ну чтожъ, ступай съ Богомъ. Нырнулъ чортъ и не видать. Пришелъ Иванъ домой, легъ спать въ закуту. Построили братья дома, стали жить. И затѣялась у нихъ свадьба. Стали солдата женить. Пришелъ и Иванъ на свадьбу. Выпилъ вина, захмелѣлъ и велѣлъ бабамъ величать. Я, говоритъ, вамъ того дамъ, чего вы не видали. Стали его бабы величать. И смѣются. Чего же ты намъ дашь. Отвеличали бабы, говорятъ: ну, чтожъ, давай.
Сейчасъ принесу. Полну сѣвалку принесу. Ухватилъ сѣвалку, побѣжалъ въ поле. Смѣются бабы. И забыли про него. Глядь — бѣжитъ Иванъ назадъ, несетъ сѣвалку полну калмыжекъ. Ну, одѣлять чтоль. Одѣляй. То то дуракъ. Пошелъ Иванъ въ закуту, потеръ калмыжки, посыпались на землю золотые. Пришелъ въ избу, бросилъ бабамъ. Бросились подбирать. Да не давите другъ дружку, я вамъ еще дамъ. Пошелъ въ закуту, еще натеръ его, сталъ кидать. Сбѣжался народъ, вся деревня. А Иванъ вышелъ на улицы. Цыпъ, цыпъ, цыпъ, клюйте. Разсыпалъ всю сѣвалку. Окружили Ивана, просятъ еще. А Иванъ говоритъ: вся. Теперь давайте плясать, играйте пѣсни хорошія. Заиграли. Нехороши, говоритъ, ваши пѣсни.
Какія же, говорятъ, лучше. А я, говоритъ, вотъ вамъ покажу сейчасъ. Пошелъ на гумно, выдернулъ снопъ, сталъ старновать, обилъ его, поставилъ на гузо, стукнулъ; ну, говоритъ, сдѣлай холопъ, чтобъ былъ не снопъ, а каждая будылку222 солдатъ. Разскочился снопъ, стали солдаты, заиграли барабаны, трубы. Велѣлъ Иванъ солдатамъ пѣсни играть. Удивился народъ. Поиграли солдаты пѣсни, увелъ ихъ Иванъ назадъ на гумно, не велѣлъ никому за собой ходить. Опять сдѣлалъ снопомъ. На утро проснулся Иванъ на коникѣ у старшаго брата. Уложилъ его братъ и своей шубой покрылъ. Только проснулся Иванъ, сталъ его братъ угощать, Ваней называть. Ваня, говоритъ: откуда ты деньги бралъ, научи ты меня, я тебя всегда жалѣлъ, подѣлись со мной. Сталъ его просить. Не отказалъ Иванъ. Ну чтожъ, говоритъ: коли тебѣ надо, я тебѣ сколько хочешь натру.
— Батюшка, родной, не откажи.
— Ну чтожъ, пойдемъ, а то лошадь запряги, не увезешь.
Поѣхали на дѣлянку. Сталъ Иванъ натирать. Насыпалъ гору цѣлую. Цѣлый день возили, не свозили.
Будетъ чтоль.
Пока будетъ, спасибо, Иванъ.
— То то, а то мнѣ пора молотить.
И пошелъ <Иванъ молотить>.223
А неженатый братъ набралъ деньги и сталъ первый богачъ.
Какъ еще денегъ надо, придетъ къ Ивану и проситъ еще.
Иванъ скажетъ: ну чтожъ, пойдетъ и натретъ ему. Только разъ пришелъ братъ къ Ивану еще просить. Не далъ ему Иванъ. Не надо, говоритъ.
— Да отчего же не надо.
— А ты у Михайловны корову отнялъ.
Какъ отнялъ.
Отнялъ. За эти самые золотые купилъ. Не дамъ больше. Я думалъ, ты ими играть хочешь, а ты людей обижаешь. Кабы не эти деньги, она бы корову не отдала. У ребять молоко бы было, а то она польстилась, продала, да золото въ сундукъ заперла. Не дамъ. Такъ и не далъ больше.
Да ужъ и такъ у брата много было [1 неразбор.] въ дальнія земли. Переѣхалъ въ чужое царство, скупилъ половину земли и домовъ всѣхъ и сталъ жить. Узналъ царь той земли, что проявился такой богачъ, позвалъ его къ себѣ, отдалъ за него дочь — сталъ этотъ братъ царствовать.
Пришелъ и женатый солдатъ къ Ивану и говоритъ: счастливый ты человѣкъ, Иванъ. Кабы мнѣ твое счастье, кабы у меня солдаты были, какъ у тебя, я бы царемъ былъ. Дай мнѣ солдатъ, я тебя вѣкъ поминать буду. — Ну чтожъ, говоритъ Иванъ, дай обмолочу только, чтобы зерно не пропадало. А коли тебѣ надо, я тебѣ сколько хошь надѣлаю. Благо соломы нынче много. Принялся Иванъ молотить. Намолотилъ старновки возовъ 10, началъ солдатъ дѣлать. Стукнулъ снопомъ разъ, стукнулъ другой. Надѣлалъ ихъ видимо невидимо. И какъ сдѣлаетъ, такъ ихъ къ брату посылаетъ. Набралъ братъ войско большое, пошелъ воевать на сосѣдняго царя. Завоевалъ его, сталъ самъ царемъ. Захотѣлъ еще больше солдатъ. Пришелъ къ Ивану. Надѣлай мнѣ, братъ, еще солдатъ.
— Не стану больше.
— А что такъ.
— Да твои солдаты человѣка убили. Я <въ> воскресенье на базаръ ѣздилъ, вижу — везутъ раненыхъ, убитыхъ. Я спросилъ, кто ихъ изувѣчилъ. Говорятъ — солдаты. Я думалъ, тебѣ играть. А людей бить не надо. Не буду больше дѣлать. Такъ и не сталъ больше дѣлать солдатъ.
Уѣхалъ и 2 й братъ въ свое царство и сталъ царствовать. Остался Иванъ одинъ крестьянствовать, отца съ матерью кормить, въ полѣ работать. Заболѣла разъ мать, стали лѣкарей звать, не могли вылѣчить. Вотъ Иванъ и говоритъ отцу съ матерью, а у меня, говоритъ, два корешка еще остались — отъ всякой боли лѣчатъ. И послали отецъ съ матерью Ивана въ городъ, вылѣчи, говорятъ, купчиху, тебѣ подарки дадутъ, ты намъ привези. Иванъ говоритъ: ну чтожъ и поѣхалъ Иванъ въ городъ. Пріѣхалъ. Купецъ плачетъ. О чемъ ты, говоритъ, плачешь. Жена помираетъ. А я вылѣчу. Досталъ изъ шапки листикъ, вылѣчилъ купчиху. Надавали дураку всякихъ нарядовъ, сластей. Забралъ Иванъ, пріѣхалъ домой, роздалъ дѣвкамъ. И прошла про Ивана слава, что онъ отъ всѣхъ болѣзней лѣчить можетъ. Заболѣла у царя дочь и послалъ онъ кличъ кликать: кто вылѣчитъ, то онъ наградитъ, и коли холостой, дочь замужъ отдастъ. Повѣстили и у Ивана въ деревнѣ. Посылаютъ отецъ съ матерью Ивана къ царю дочь лѣчить. Собрался Иванъ ѣхать. И приходитъ къ нимъ побирушка косорукая. Слышала я, говоритъ, что ты лѣчишь. Вылѣчи мнѣ руку. Иванъ говоритъ: ну чтожъ. Досталъ корешокъ, далъ побирушкѣ. Выздоровѣла сейчасъ. Вышли отецъ съ матерью, услыхали, что Иванъ послѣдній корешокъ далъ и нечѣмъ царскую дочь лѣчить, стали ругать. Иванъ запрегъ лошадь и сѣлъ ѣхать. Да куда же ты, дуракъ? Ц[арскую] дочь лѣчить. Да вѣдь тебѣ лѣчить нечѣмъ. Ну чтожъ. Погналъ лошадь, поѣхалъ.
Пріѣхалъ на царскій дворъ. Только ступилъ на крыльцо, выздоровѣла царская дочь. Обрадовался царь, велѣлъ звать къ себѣ Ивана, одѣлъ его, нарядилъ; будь, говоритъ, ты моимъ зятемъ. — Ну чтожъ, говоритъ. Женился Иванъ, а царь вскорѣ померъ, и сталъ Иванъ царемъ — и взялъ къ себѣ старика съ старухой.
Такъ стали царями всѣ три брата. Жили и царствовали. Старшій братъ былъ всѣхъ богаче. Онъ свои деньги, что забралъ224 отъ Ивана не растратилъ, а имъ большой приростъ сдѣлалъ. Завелъ онъ у себя въ царствѣ порядки хорошіе. Деньги держалъ онъ у себя въ сундукахъ, а съ народа по силѣ его взыскивалъ деньги — по золотому съ души. И съ дыму по золотому, и съ лошади по золотому, и съ пивнаго котла по золотому и съ свадьбы по зо[лотому] и съ крестинъ, и съ похоронъ и съ проѣзда, и съ прохода [1 неразобр.], и съ [1 неразобр.] и съ лаптей, и съ онучей, и съ оборокъ. И денегъ у него много было. И что вздумаетъ, все у него есть. Всякія на него рады работы работать, чтобъ на подати деньги собрать. И въ чужихъ царствахъ что полюбитъ, то за деньги купитъ.
Хорошо жилъ и 2 й братъ, солдатъ. Завоевалъ онъ себѣ царство соломенными солдатами. Да стали у него выходить соломенные солдаты: которыхъ побили, которые померли и послалъ онъ загодя соломенныхъ солдатъ собирать въ своемъ царствѣ всѣхъ ловкихъ молодцовъ въ солдаты и всѣхъ обучилъ и всѣ также въ барабаны били, въ трубы играли, и что только велятъ, все то дѣлали. Когда перевелись всѣ соломенные солдаты, стали новые солдаты изъ своихъ забирать еще другихъ и такъ у него этаго дѣла перевода не было. И житье ему было вольное и прохладное. Что только у кого гдѣ полюбится: лошадь ли, домъ ли, жена ли, дочь ли, пошлетъ солдатъ, заберутъ что надобно. И такую силу забралъ онъ съ своими солдатами, что сталъ и у другихъ царей отбирать, что полюбится.225
Не плохо жилъ и Иванъ. Не захотѣлъ Иванъ по царски жить, и какъ только похоронилъ родителей, снялъ онъ все царское платье, женѣ отдалъ, опять надѣлъ посконную рубаху, портки и лапти обулъ и взялся за работу. Скучно, говоритъ, мнѣ и ѣды и сна нѣтъ. Ему говорятъ: да вѣдь ты царь. Ну чтожъ, говоритъ, и пошелъ пахать. Пришелъ къ нему министръ, говоритъ: у насъ, говоритъ, денегъ нетъ жалованье платить. Ну чтожъ, говоритъ, нѣтъ, такъ и не плати. Да они, говоритъ министръ, служить не станутъ. Ну чтожъ говоритъ. Пускай, говоритъ, пашутъ, а не то пускай навозъ вывозятъ, они много наготовили.
Пришли къ Ивану судиться. Одинъ говоритъ: онъ у меня деньги укралъ. А Иванъ говоритъ: ну чтожъ, ступай косить, наверстаешь.
Узнали всѣ, что дуракъ Иванъ. Жена ему и говоритъ: про тебя говорятъ, что ты дуракъ. Ну чтожъ, говоритъ. И ушли изъ Иванова царства всѣ умные, остались одни дураки. Денегъ ни у кого не было. Жили, работали да кормились.
Ждалъ, ждалъ старый дьяволъ вѣстей о томъ, что его сыновья съ мужиками подѣлали. Пошелъ самъ провѣдать, видитъ — никого нѣтъ, всѣ они провалились <и дыры нашелъ>, а мужики не то, что разбогатѣли, a всѣ три царствовать стали. И взялся старый самъ за дѣло.
Пошелъ онъ прежде всего къ богатому брату. Пошелъ онъ не въ своемъ видѣ. А оборотился въ купца аглицкаго, поселился въ городѣ, сталъ торговать, сталъ денежки выпускать. У царя денегъ много, а у дьявола еще больше. Хочетъ царь себѣ садъ насадить, даетъ деньги за работу и знаетъ, что нужда, пойдутъ, чтобы на подати выручить. Глядь — весь народъ у купца, ему прудъ роетъ. Хочетъ царь себѣ жеребцовъ купить, даетъ деньги, знаетъ, что нужно на подати. Глядь — жеребцовъ ведутъ къ купцу, онъ дороже далъ, всѣ деньги отъ него берутъ, подати очищаютъ. Что не затѣетъ царь, ничего ему не дѣлаютъ, а все дѣлаютъ купцу, а ему только купцовы деньги несутъ. И набралось у него денегъ, что класть некуда, а житье плохое стало. Стало доходить, что прислуга вся ушла, и пошлетъ купить на базаръ калачей, говядины, — нѣту, все купецъ перекупилъ, а ему только денежки несутъ. А денегъ и караулить ужъ некому, весь народъ купецъ переманилъ. Выслалъ царь купца за границу. А купецъ на самой границѣ сѣлъ, все тоже дѣлаетъ. Совсѣмъ плохо стало царю, по днямъ не ѣстъ. Сталъ ужъ онъ подумывать, какъ бы уѣхать куда, только бы живымъ остаться.
Обработалъ этаго брата старый чортъ, приставилъ одного помощника донять до шпенту царя, а самъ переѣхалъ къ солдату царю. Поворотился онъ тутъ воеводой, пріѣхалъ къ царю въ видѣ генерала. Слышалъ я, говоритъ, что ваше Величество воинъ большой, а я этому дѣлу твердо наученъ. Хочу вамъ послужить. Сталъ его распрашивать царь, видитъ — человѣкъ умный, взялъ его на службу. Сталъ новый воевода царя обучать, какъ еще сильнѣе войско собрать и всѣхъ сосѣдей повоевать.
Надо, говоритъ, всѣхъ въ солдаты забирать, какъ кому 20 лѣтъ — брать. Тогда у васъ войска въ 5 разъ больше будетъ. Послушался царь, набралъ войска видимо невидимо. Теперь, говоритъ новый воевода, надо идти воевать сосѣдей, мы ихъ заберемъ. Пошли, завоевали сосѣда. И съ нихъ солдатъ побрали. А къ нимъ войско поставили, чтобы они покорились. Повоевали еще сосѣда. Забрали 8 царствъ и всѣхъ побѣждаютъ. Стали воевать съ однимъ царькомъ и пришлось, что побили царское войско и стали ихъ земли отбирать. Только разъ побили, заговорили солдаты: да чтоже намъ мучаться и самимъ себя мучать, вѣдь мы самихъ себя мучаемъ.
Будетъ намъ этаго царя слушать. Пойдемъ къ тому, гдѣ службы нѣтъ и стали всѣ отбѣгать.
Раззорилъ старый чортъ и этаго брата. Пошелъ къ Ивану; хотѣлъ его прежде деньгами донять, поселился въ видѣ купца, объявилъ платить столько за коровъ, лошадей, овецъ, за работы, чтобы шли къ нему, будетъ золото давать. Пришелъ къ Ивану, проситъ, говоритъ, поработай, даетъ вотъ штучку. Ну чтожъ, это хорошо, ребятамъ играть. Проситъ еще. Ну чтожъ, помоги сдѣлать. Онъ самъ отработаетъ. Онъ обѣщался отработать. Пришли спрашивать, а онъ опять штучку дастъ. Чуть не померъ отъ голода, не замерзъ — убѣжалъ. Пришелъ въ видѣ воеводы. Я, говоритъ, войскомъ могу управлять и солдатъ собрать. Ну чтожъ — дѣвокъ повеселить можно, собирай. Сталъ собирать — никто не пошелъ. Видитъ не беретъ дѣло. Пошелъ къ сосѣднему царю, поддѣлался, пойдемъ, говоритъ, войной, завоюемъ. Пошелъ царь войною. Идутъ солдаты, ждутъ, скоро ли война. Нѣтъ войска. Пришли въ деревню, отняли корову, съѣли; бабы, ребята плачутъ. Затоптали рожь. Мужики плачутъ. Пришли къ Ивану, говорятъ: грабятъ. Ну чтожъ, говоритъ, пограбятъ, да и перестанутъ. Походили день, походили другой, видятъ — нѣтъ войска, а все народъ живетъ, кормится, дѣти, старики и мужики, всѣ плачутъ, говорятъ: за что обижаете. Гнусно стало солдатамъ. Не пойдемъ, говорятъ. Чтожъ ихъ какъ цыплятъ разорять.
Такъ и ушелъ старый чортъ, ничего не сдѣлалъ Ивану. Живетъ Иванъ по сихъ поръ и народъ весь отъ братьевъ валитъ въ его царство и братья пришли и ихъ онъ кормить. Скажутъ корми насъ. Ну чтожъ, говоритъ.
* № 2.
Англичанин — купец в Ивановом царстве.
Вариант к главе XII.
Хотѣлъ его прежде деньгами донять — поселился въ видѣ купца — Англичанина, объявилъ, что хочетъ жить у нихъ и за все имъ будетъ платить. А у Ивана въ царствѣ все дураки жили. Они и думаютъ, что онъ по ихнему платить будетъ работой — пустили его жить. Пришелъ Англичанинъ къ одному дураку, говоритъ: я у тебя жить буду и заплачу. Ну что жъ, говоритъ, живи; думаетъ, что онъ работой отплатитъ. А Англичанинъ пожилъ, даетъ золотой. Взялъ дуракъ, отдалъ дѣтямъ играть. Пришло время обѣдать, проситъ Англичанинъ яицъ, масла, баранины, курятины, я, говоритъ, заплачу. Далъ ему и этаго дуракъ. Выкладываетъ Англичанинъ золотой. Отдалъ дуракъ, дѣвка привѣсила на косы. На другой день говоритъ Англичанинъ: привези, говоритъ, мнѣ воды бочку, я чистоты люблю, мыться буду, я заплачу. — Надоѣло дураку, онъ говоритъ сосѣду: проситъ [?] вотъ, странный человѣкъ, говоритъ, заплачу, а только штучки даетъ. Я роздалъ ребятамъ — мнѣ не нужно, можетъ, тебѣ надо; посмотрѣлъ сосѣдъ штучки. Хороши, говоритъ, свѣтлыя, я бабѣ дамъ, правда[?] [1 неразобр.] воды на утро, проситъ опять ѣсть курятины и все заплатить обѣщаетъ, а платить не платитъ, а штучки даетъ. За эти, говоритъ, штучки тебѣ всего дадутъ. Пошелъ дуракъ [къ] кузнецу [1 неразобр.] взять, принесъ сапожнику дураку тоже: на, говоритъ, штучки, дай мне сапоги. — Не надо, говоритъ, мнѣ, у меня, говоритъ ни дѣвокъ, ни ребятъ нѣтъ. Да откуда у тебя? Да вотъ Англичанинъ проявился, все [?] беретъ, обѣщался заплатить, а только штучки даетъ. Не давай, говоритъ, ему. Это, говоритъ, умный, а пошли, говоритъ, его ко мнѣ молотомъ бить. Мой малый хвораетъ. Принесъ дуракъ штучки Англичанину, никто, говоритъ, не беретъ. Отплати же, говоритъ, за то, что ты съѣлъ, а то больше не дамъ; понесъ чортъ къ другимъ, тоже золотые раздавалъ.
Разобрали золотые ребята, дѣвки тоже. Перестали его кормить. Пошелъ къ 3му. Дошло дѣло до Ивана дурака. Пошли къ нему спрашивать, что намъ дѣлать. Проявился человѣкъ, ѣстъ, пьетъ, моется, чистится, а работать не работаетъ, а все обѣщаетъ, что за золотыя штучки все намъ воротится! Воротится или нѣтъ? Посмѣялся Иванъ. Ишь ты, говоритъ, не знаю, говоритъ. А Иванова жена и говоритъ: я, говоритъ, узнаю, вамъ все скажу. Когда, говоритъ, онъ мыться будетъ, посмотрите вы ему на руки: есть у него мозоли али нѣтъ. Есть мозоли, такъ кормите, ничего, отработаетъ, a нѣтъ мозолей, не отработаетъ. Не ждать отъ него, а Христа ради дайте. Такъ и сдѣлали. Посмотрѣли руки — нѣтъ мозолей — перестали ему давать яицъ и курятины, однаго хлѣба давали. И ушелъ чортъ, не солоно похлебалъ.
[ВАРИАНТЫ К ТЕКСТУ К КАРТИНЕ ГЕ: «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ».226]
* № 1.
Подъ картиной.
Іоан. гл.. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 .... 34, 35.
Надъ картиной.
На вечерѣ этой Христосъ далъ ученикамъ своимъ и всѣмъ людямъ новую заловѣдь любви.
35. «Потому узнаютъ, что вы мои ученики, если будете любить Другъ друга».
34. «Новую заповѣдь даю вамъ, да любите другъ друга, какъ я возлюбилъ васъ, такъ и вы любите другъ друга», сказалъ онъ и явилъ дѣломъ, какъ ученики Его должны любить другъ друга.
15. «Ибо я далъ вамъ примѣръ, говоритъ онъ, чтобы и вы дѣлали тоже, что я сдѣлалъ вамъ».
Христосъ говорилъ: вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю: любите враговъ вашихъ и благотворите ненавидящимъ васъ, и на вечерѣ этой далъ примѣръ любви и къ ближнимъ и къ врагамъ своимъ. Онъ зналъ что Іуда предастъ Его и врагъ ему, но Онъ умылъ ноги всѣмъ и ближнимъ и ученикамъ своимъ и врагу своему Іудѣ.
(Онъ подалъ чашу съ виномъ и хлѣбъ и ближнимъ и врагу своему Іудѣ и сказалъ имъ: ѣшьте и пейте всѣ.)227
Онъ своими руками омылъ ноги врагу своему <онъ изъ рукъ своихъ напоилъ и накормилъ врага своего> но не выдалъ его ученикамъ и спасъ его отъ гнѣва ихъ. Онъ не назвалъ его, но знаками указалъ на него и въ то же время сказалъ ему, чтобъ онъ удалился. Іуда всталъ и скрылся въ темнотѣ ночи. — Христосъ далъ новую заповѣдь любви и возлюбилъ сущихъ въ мірѣ и ближнихъ и враговъ своихъ до конца и на дѣлѣ явилъ, примѣромъ показалъ, какъ должны ученики его не словами только, но дѣломъ и до конца любить ближнихъ и враговъ своихъ.
* № 2.
Внизу картины.
Послѣ того какъ Iисусъ сказалъ своимъ ученикамъ, что одинъ изъ нихъ предастъ Его, и послѣ того какъ онъ сказалъ Симону Петру: что Я дѣлаю теперь, ты не знаешь, но уразумѣешь послѣ; и послѣ того какъ Онъ умылъ ноги всѣмъ ученикамъ и Іудѣ врагу своему, одинадцать учениковъ все еще не понимали того что Онъ сдѣлалъ и все спрашивали о томъ, кто же изъ нихъ предатель Его.
Тогда Іисусъ смутился духомъ и, облокотившись на руку, замолкъ. Любимый ученикъ Его молча сидѣлъ подлѣ него. Другіе десять спорили другъ съ другомъ кто тотъ, про кого сказалъ Іисусъ.
Симонъ Петръ всталъ на дальнемъ концѣ стола и сдѣлалъ знакъ любимому ученику, чтобы онъ спросилъ Учителя: кто же предатель? — И любимый ученикъ припалъ къ груди Іисуса и спросилъ Его. —
Тотъ, кому я, обмакнувъ, подамъ кусокъ хлѣба, сказалъ Іисусъ и подалъ Іудѣ.
Что дѣлаешь, дѣлай скорѣе, сказалъ ему еще Іисусъ. Іуда понялъ, что онъ отсылаетъ его по дѣлу; и другіе ученики поняли также.
И когда Іуда всталъ и сталъ одѣваться, чтобы уходить, любимый ученикъ съ ужасомъ взглянулъ на предателя и другіе ученики по взгляду этому догадались, про кого говорилъ Іисусъ.
Ученики испуганы и возмущены, но Іисусъ только скорбитъ о сынѣ погибели Іудѣ, и о всѣхъ сынахъ погибели не захотѣвшихъ придти къ Нему, чтобы имѣть жизнь. Гл. 15, 25. Да сбудется слово, написанное въ законѣ ихъ: возненавидѣли Меня напрасно.
* № 3.
Вверху картины:
Іоанн. гл. 13. — стихи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34, 35 (стихи 34 и 35 — самымъ болышімъ шрифтомъ).
Іисусъ говорилъ: — «Вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю: любите ненавидящихъ васъ». И Іисусъ явилъ дѣломъ какъ должно любить не однихъ ближнихъ, но и враговъ своихъ.
15. Я далъ вамъ примѣръ, чтобы вы дѣлали тоже, что я сдѣлалъ. Что же сдѣлалъ онъ и что велѣлъ дѣлать всѣмъ тѣмъ, которые хотятъ быть учениками Его. Іисусъ зналъ что Іуда врагъ ему и накормилъ врага своего и своими руками омылъ ноги ему и любилъ и спасалъ его до конца. Онъ одинъ зналъ во время вечери, что среди нихъ ядущій съ ними хлѣбъ былъ предатель и врагъ Его. И зная это Онъ снялъ одежду, перепоясался и сталъ омывать ноги всѣмъ ученикамъ своимъ тѣмъ, которые были чисты для того, чтобы омыть ноги и врагу своему, тому, который былъ не чистъ. Онъ сказалъ имъ всѣмъ, что не всѣ они чисты, но что одинъ изъ нихъ возсталъ противъ Него и сталъ омывать ноги всѣмъ. Симонъ Петръ не понялъ того, что Онъ дѣлалъ и хотелъ воспротивиться. Тогда Іисусъ сказалъ: что я дѣлаю теперь, ты не знаешь, a уразумѣешь послѣ. И сталъ мыть ноги всѣмъ. И Іуда далъ омыть себѣ ноги и не покаялся. Тогда Іисусъ возмутился духомъ и еще разъ яснѣе сказалъ: одинъ изъ васъ предастъ Меня. Іуда молчалъ. Іисусъ, облокотившись на руку, скорбѣлъ сердцемъ объ Іудѣ и ждалъ его покаянія.
22. Остальные ученики озирались другъ на друга, недоумѣвая о комъ Онъ сказалъ.
Симонъ Петръ всталъ на дальнемъ концѣ стола и сдѣлалъ знакъ любимому ученику, возлежавшему у груди Іисуса, чтобы онъ спросилъ Учителя. И любимый ученикъ припалъ къ груди Іисуса и спросилъ Его. Если бы Іисусъ назвалъ Іуда228 и Симонъ Петръ, тотъ который отрубилъ ухо Малху, и другіе ученики, узнавъ предателя, могъ напасть на него. Іисусъ зналъ это и, возлюбивъ сущихъ въ мірѣ и ближнихъ и враговъ, до конца возлюбилъ ихъ. Не дождавшись покаянія Іуды, Онъ хотѣлъ обличить его, велѣлъ ему [?] удалиться и спасъ его отъ гнѣва учениковъ своихъ. И на вопросъ любимаго ученика Онъ сказалъ: тотъ, кому я под: что дѣлаешь, дѣлай скорѣе. Іуда понялъ, что Онъ отсылаетъ его по дѣлу. Также поняли и другіе ученики, они думали, что Іисусъ говорилъ: купи что нибудь на Праздникъ Пасхи. Это самое изображено на картинѣ. Только любимый ученикъ знаетъ вѣрно про кого говорилъ Іисусъ и съ ужасомъ глядитъ на него; остальные по взгляду этому догадываются. Смущенный и потрясенный Іуда одѣвается. Іисусъ скорбитъ о сынѣ погибели и о всѣхъ сынахъ погибели, не захотѣвшихъ придти къ нему.
Сейчасъ выйдетъ предатель, ученики поймутъ, что это онъ, но его уже не будетъ среди нихъ и онъ скроется въ темнотѣ ночи. Іисусъ простилъ врагу своему, накормилъ, омылъ ноги ему, сдѣлалъ все, чтобы вызвать его къ покаянію, и спасъ его отъ кары людской.
И вотъ онъ поднимается, открываетъ уста свои и говоритъ:
31. Нынѣ прославился сынъ человѣческій и Богъ прославился въ немъ.
34. Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга, какъ я возлюбилъ вас
* № 4.
Вверху картины.
(Іоанна гл. XIII. Отъ 1-го стиха до 35 включительно.) (Стихи 34 и 35 самымъ большимъ шрифтомъ.)
Внизу картины.
«Вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю: любите враговъ вашихъ, сказалъ Іисусъ и на дѣлѣ исполнилъ это. Омывъ ноги двѣнадцати ученикамъ своимъ, Іисусъ сказалъ: Я далъ вамъ примѣръ, чтобы вы дѣлали тоже, что я сдѣлалъ. Чтоже сдѣлалъ Іисусъ? И въ чѣмъ тотъ примѣръ, который онъ далъ ученикамъ своимъ?
Когда Іисусъ послѣ вечери сталъ омывать ноги ученикамъ своимъ и Симонъ Петръ хотѣлъ воспротивиться, Іисусъ сказалъ ему: «что Я дѣлаю теперь, ты не понимаешь, но уразумѣешь послѣ. Не всѣ вы чисты».
Ни Симонъ Петръ, ни другіе ученики не понимали тогда, къ чему Онъ говоритъ это. Одинъ Іуда понималъ, то что дѣлалъ Іисусъ, когда онъ, стоя передъ нимъ на колѣнахъ, омывалъ его ноги. Омывъ ноги врагу своему, Іисусъ всталъ надѣлъ одежду и, опять возлегши, сказалъ: Знаете ли, что я сдѣлалъ вамъ? Вы называете меня учителемъ и правильно говорите, ибо Я точно то. —
Но они, не зная того, что Іуда былъ врагъ Іисуса, не понимали того, что онъ сдѣлалъ.
Тогда Онъ, возмутившись, сказалъ: Истинно истинно говорю вамъ, одинъ изъ васъ предастъ Меня. И опять они не поняли того, чему Онъ училъ ихъ. Они только озирались другъ на друга отъискивая того, о комъ Онъ сказалъ.
Любимый ученикъ Іисуса въ то время лежалъ у груди Іисуса. Симонъ же Петръ, поднявшись, сдѣлалъ знакъ любимому ученику, чтобы онъ спросилъ Учителя, о комъ Онъ сказалъ. —
И любимый ученикъ, припавъ къ груди Учителя, спросилъ Его. — Іисусъ зналъ, что всѣ ученики напали бы на предателя, если бы Онъ назвалъ его, и желая спасти, а не погубить Іуду, Онъ не отвѣтилъ прямо на вопросъ.
Онъ только протянулъ руку свою, взялъ кусокъ хлѣба и тихо сказалъ: тотъ, кому, обмакнувъ, подамъ кусокъ этотъ. И подавая кусокъ Іудѣ, Іисусъ сказалъ ему: что дѣлаешь, дѣлай скорѣе. Ученики подумали что словами этими Іисусъ посылаетъ Іуду купить что нужно къ празднику; но Іуда понялъ, что значили слова Іисуса. Онъ понялъ, что Іисусъ спасаетъ его отъ гнѣва учениковъ, и онъ всталъ, чтобы уйти. Это самое изображено на картинѣ. Любимый ученикъ знаетъ одинъ, про кого сказалъ Іисусъ, и, приподнявшись, съ ужасомъ глядитъ на предателя. Петръ догадывается, кто предатель, но еще не знаетъ навѣрное, другіе смотрятъ туда же, но не понимаютъ. Іуда боится оставаться и боится уйти слишкомъ скоро и больше всего боится взглянуть на Учителя. Іисусъ все также лежитъ, облокотившись на руку.
Іисусъ простилъ врагу своему, своими руками накормилъ его и своими руками умылъ ноги ему, спасъ его отъ кары людской и до конца любовью вызывалъ его къ покаянію и Іисусъ скорбитъ о немъ. Іуда вышелъ и скрылся въ темнотѣ ночи. Едва затворилась дверь, какъ всѣ ученики узнали, кто предатель. Они волнуются и негодуютъ. Но Іисусъ поднимаетъ голову. Всѣ замолкаютъ и Онъ, открывая уста, говоритъ: Дѣти! Не долго Мнѣ быть съ вами. Заповѣдь новую даю вамъ: да любите другъ друга, какъ я возлюбилъ васъ. По этому узнаютъ всѣ, что вы мои ученики, если будете любить другъ друга.
* № 5.
лежитъ, облокотившись на руку, и думаетъ: Онъ знаетъ, что пришелъ часъ его перейти отъ міра сего къ Отцу, знаетъ, что онъ явилъ дѣломъ то, что возлюбилъ сущихъ въ мірѣ, до конца возлюбилъ врага своего. Но онъ скорбитъ о жестокости сердца Іуды и о всѣхъ тѣхъ, которые не хотятъ придти къ нему, чтобы имѣть жизнь.
Сейчасъ выйдетъ предатель и дверь затворится за нимъ. Ученики всѣ узнаютъ, что это онъ; но его229 уже не будетъ среди нихъ и никто не найдетъ его въ темнотѣ ночи. —
Іисусъ простилъ врагу своему, своими руками накормилъ его, своими руками омылъ ноги ему. спасъ его отъ кары людской и до конца любовно вызывалъ его къ покаянію. — Ученики волнуются и негодуютъ на предателя. Іисусу жалко его. Но вотъ Іисусъ поднимаетъ главу свою. Всѣ замолкаютъ. И, открывая уста, онъ говоритъ: 31 ... 34 35.
* № 6.
Вверху картины.
Iоанн. 13 гл. Отъ 1-го стиха до 35 включительно. Стихи 34 и 35 самымъ большимъ шрифтомъ.
Внизу картины.
Іисусъ сказалъ: «Вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю: любите враговъ вашихъ...» Онъ сказалъ и дѣломъ показалъ это. Умывъ ноги двѣнадцати ученикамъ своимъ, онъ сказалъ: «Я далъ вамъ примѣръ, чтобы вы дѣлали тоже, что я сдѣлалъ». Что же онъ сдѣлалъ омывъ послѣ вечери ноги 12 ученикамъ своимъ? Онъ зналъ во время вечери что среди нихъ былъ предатель и врагъ Его. И зная это, Онъ изъ своихъ рукъ накормилъ и напоилъ его и потомъ снявъ одежду и перепоясавшись, припавъ на колѣни передъ нимъ, омылъ ему ноги. Когда онъ сталъ омывать ноги ученикамъ своимъ, а Симонъ Петръ хотѣлъ воспротивиться этому, Іисусъ сказалъ ему: «Что Я дѣлаю теперь, ты не понимаешь, но уразумѣешь послѣ». «Не всѣ вы чисты». Ни Симонъ Петръ ни другіе ученики не понимали тогда, къ чему Онъ дѣлалъ и говорилъ это. — Одинъ Іуда понималъ, но окаменѣло сердце его. Онъ далъ умыть себѣ ноги и, когда Іисусъ на колѣняхъ стоялъ передъ нимъ, омывая его ноги, онъ ничего не сказалъ Ему. Іисусъ надѣлъ одежду свою и, возлегши опять, сказалъ имъ: знаете ли что Я сдѣлалъ вамъ? Вы называете меня Учителемъ и правильно говорите. Ибо я точно то. Онъ сказалъ имъ еще словами писанія: ядущій со мною хлѣбъ поднялъ на меня пяту свою. И возмутившись духомъ уже прямо сказалъ: Одинъ изъ васъ предастъ Меня. Ученики не понимали. Они [не] понимали того что Онъ умылъ ноги врагу своему. Они только озирались другъ на друга недоумѣвая о комъ Онъ сказалъ. Любимый ученикъ лежалъ рядомъ съ Іисусомъ. И вотъ Симонъ Петръ поднялся и сдѣлалъ любимому ученику, лежавшему подлѣ Іисуса, знакъ, чтобы онъ спросилъ Учителя, о комъ онъ сказалъ. И любимый ученикъ припалъ къ груди Іисуса и спросилъ Его.
Іисусъ зналъ, что, если бы Онъ назвалъ предателя, то тотъ самый, пылкій Симонъ Петръ, который спрашивалъ и тотъ самый, который отрубилъ ухо Малху, и другіе ученики напали бы на Іуду, чтобы покарать его.
Но любя сущихъ въ мірѣ до конца и желая спасти, а не погубить Іуду, Іисусъ на вопросъ ученика тихо сказалъ ему: тотъ кому я подамъ, обмакнувъ, кусокъ хлѣба. И подавъ кусокъ хлѣба, поднялъ глаза свои на Іуду и сказалъ ему; что дѣлаешь дѣлай скорѣе. Всѣ ученики поняли что Іисусъ посылаетъ куда то Іуду. Они думали что Онъ велитъ идти купить что нибудь къ празднику пасхи. Но Іуда зналъ, что значатъ слова Іисуса. Онъ вскочилъ и собрался уходить. Это самое изображено на картинѣ. Любимый ученикъ знаетъ одинъ про кого сказалъ Іисусъ и приподнявшись съ ужасомъ глядитъ на поднявшагося предателя. Петръ по взгляду этому догадывается но еще не вѣритъ себѣ; другіе смотрятъ туда же, но не понимаютъ. Іуда боится оставаться и боится уходить слишкомъ скоро, и въ душѣ его черно, какъ и лицо его. Іисусъ <скорбитъ о сынѣ погибели и о всѣхъ тѣхъ сынахъ погибели, которые не захотѣли придти къ Нему>.
————
* [ВАРИАНТ СКАЗКИ «КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ВЫКУПАЛ».]
Пришелъ въ деревню и видитъ — гуляютъ мужики, вино пьютъ и говорятъ они всѣ рѣчи ласковыя и слова гладкія и масляныя и подольщаются всѣ другъ къ дружкѣ. Послушалъ нáбольшій и говоритъ чертенку: что же ты хвалишься, что заслужилъ краюшку — говорятъ они слова лживыя, масляныя. Это они и безъ вина говорятъ. Только больше лисятъ. Тутъ еще заслуги большой нѣтъ. Погоди, говоритъ чертенокъ, что дальше будетъ. Дай они по другому выпьютъ. Выпили мужики по другому и стала у нихъ рѣчь погромче и погрубѣе. Вмѣсто гладкихъ да сладкихъ стали ругаться, стали другъ на дружку обозляться, стали другъ дружкѣ носы колупать. Передрались мужики. Поглядѣлъ нáбольшій и понравилось это ему. Это, говоритъ, хорошо. А чертенокъ говоритъ: погоди еще, что будетъ, дай они выпьютъ по 3 ей. Выпили мужики по 3 му. Дрались, дрались, ужъ и силы не стало, пошли расходиться — кто порознь, кто по двое, по трое, повалялись по улицамъ, рожами въ грязь. Еще пуще понравилось это нáбольшему. Это, говоритъ, хорошее питье. И спросилъ набольшій у чертенка, какъ онъ сдѣлалъ это дѣло. А вотъ, говоритъ, какъ: сперва я въ вино лисьей крови пустилъ, потомъ пустилъ волчьей, а потомъ свиной крови. Вотъ какъ они первую выпьютъ, сейчасъ станутъ льстить другъ дружку, подольщаться другъ дружку, обманывать; какъ по другой выпьютъ, такъ станутъ злиться какъ волки, а 3 ю выпьютъ, поваляются въ лужахъ, какъ свиньи. И похвалилъ нáбольшій чертенка. — Теперь, говоритъ, заслужилъ мужикову краюшку.
* [ВАРИАНТ СКАЗКИ «РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН»]
Посидѣла, посидѣла жена, подумала и стала говорить мужу. Идти тебѣ надо далеко, къ нашей бабушкѣ къ старинной мужицкой жонкѣ, надо ея милости просить, чтобы отдала тебѣ своего внучка Аөонюшку. И съ Аөонюшкой тебѣ далеко идти надо и ничего не жалѣть, только бы ту заморскую штуку достать оттуда не знай откуда и ту не знай каку. Коли будутъ просить съ тебя за эту штуку и самаго братца Аөонюшку, отдай и его, только штуку бери. А получишь штуку, иди прямо во дворецъ, и я тамъ буду. Теперь ужъ мнѣ ихъ рукъ не миновать. Они меня силой возьмутъ, да только не надолго. Если всё сдѣлаешь, какъ тебѣ бабушка велитъ, ты меня скоро выручишь. Собрала жена мужа, дала ему сумочку, показала дорогу къ бабушкѣ и отпустила его. Шелъ, шелъ солдатъ день, шелъ другой, приходитъ въ заповѣдные луга. Видитъ — лежатъ два жандарма. Спросилъ ихъ солдатъ: не знаете ли, гдѣ идти туда, не знай куда и какъ принести того не знай чего. Услыхали это жандармы и испугались. Кто, говоритъ, тебя послалъ искать. Царь, говоритъ. — Мы, говорятъ, жандармы знаемъ, да нельзя намъ сказывать. Посидѣлъ солдатъ съ жандармами, захотѣлось ему ѣсть. Нельзя ли, братцы, поѣсть. Можно. Эй, Аөоня! Выскочилъ мужичекъ въ лапоткахъ, разстелилъ скатерть, принесъ полны чашки, три перемѣны. Поѣли жандармы съ солдатомъ. Осмѣлился солдатъ послѣ ѣды, опять сталъ спрашивать. А скажите, братцы, куда жъ мнѣ идти не знай куда и гдѣ искать того не знай чего. Опять отказали жандармы. Не можемъ, говорятъ, сказать. Одно: Аөоню проси, не укажетъ ли онъ тебѣ. Сталъ солдатъ Аөонюшку спрашивать куда идти и чего не знаю. А надо, говоритъ, бабушку спросить. Я проведу. Попрощался солдатъ съ жандармами, пошелъ. Шелъ, шелъ, приходитъ въ лѣсъ. Въ лѣсу избушка, въ избушкѣ старая, старая старуха сидитъ. Разсердилась было старуха, да разсказалъ ей все солдатъ. Помягчила старуха, говоритъ: ради дочки моей, твоей жены, послужу тебѣ. Иди ты, говоритъ, къ морю, тамъ, говоритъ, у заморскихъ купцовъ проси.
А какъ же я найду?
Я, говоритъ, съ тобой Аөонюшку отпущу. Попрощался солдатъ, пошелъ. Шелъ, шелъ, приходитъ къ морю. У моря стоитъ народъ и корабли съ товарами. <А хлѣба нѣтъ, ѣсть нечего и ждутъ всѣ корабля съ провизіей>. Подошелъ солдатъ и спрашиваетъ: что вы здѣсь дѣлаете. Да вотъ, говорятъ, вышла у насъ провизія, ждемъ корабля, a ѣсть нечего, 3-и сутки голодаемъ. <Поговорили съ нимъ.> Сталъ у нихъ спрашивать солдатъ, нѣтъ ли у нихъ того не знай чего. Не стали съ нимъ говорить. Не до торговли намъ теперь, мы 3 дни не ѣли. Велѣлъ солдатъ Аөонюшкѣ покормить ихъ. Сейчасъ разбѣгался Аөонюшка, всѣмъ хлѣба, каши принесъ, всѣхъ накормилъ. Поѣли корабельщики. Сталъ опять у нихъ солдатъ спрашивать того не знай чего. И сказали корабельщики: есть-то у насъ есть, да не продажное — только голодны мы, продай намъ Аөонюшку, мы тогда и свое продадимъ.
Подумалъ солдатъ: какъ я своего шурина, брата, вѣдь онъ женѣ братъ. Нѣтъ, говоритъ, не продажный. Услыхалъ это Аөонюшка, отозвалъ въ сторонку солдата: продай, говоритъ, меня, я убѣгу, только ничего у нихъ не бери, а только пустой барабанъ. Послушалъ солдатъ Аөонюшки, продалъ его и дали ему корабельщики пустой барабанъ. Взялъ солдатъ пустой барабанъ и пошелъ домой.
Прошелъ день, и вздумалъ: Охъ, гдѣ-то мой Аөонюшка? и его жалко, да и самому ѣсть хочется. Только подумалъ, а Аөонюшка и тутъ. Я здѣсь, зятекъ. И накормилъ его. Поѣлъ солдатъ и сталъ спрашивать: на что этотъ барабанъ. Поглядѣлъ бы, что это. Аөонюшка и говоритъ: а ты ударь по не[мъ] и вотъ увидишь. Взялъ солдатъ палочку, ударилъ, глядь — со всѣхъ сторонъ войско бѣжитъ и два жандарма прибѣжали. Ну, говорятъ, а безъ насъ досталъ ты того не знай чего. Теперь ты всему голова.
Распрощался солдатъ съ Аөонюшкой оставилъ все это войско и ушелъ отъ нихъ. Шелъ, шелъ, пришелъ домой.
* № 2.
Надо его работой замучить, чтобы онъ либо ее сюда перевелъ, либо вовсе бы въ работѣ извелся и она бы вдовой осталась. Задали Емельяну работу такую, что двоимъ впору. Захотѣлось Емельяну къ женѣ, понатужился, кончилъ къ вечеру. Увидалъ прикащикъ, что кончилъ, задалъ ему въ четверо. Прибѣжалъ Емельянъ домой, — бѣда говоритъ, замучаютъ работой. — Не робѣй, говоритъ жена, все успѣешь. Пошелъ на утро Емельянъ опять и поспѣлъ сдѣлать, пришелъ домой ночевать. А къ утру опять на работѣ. Стали еще прибавлять работы Емельяну. Да что ни зададутъ, онъ все къ сроку сдѣлаетъ.
Позвалъ царь придворныхъ. Что жъ, говоритъ, вы ничего не придумаете. Или я васъ задаромъ хлѣбомъ кормлю. Придумайте такъ, чтобы было по-моему и чтобы можно было мнѣ Емельянову жену взять. Не могу безъ нея жить. Подумали придворные и придумали и говорятъ: Вотъ что. По всему, говорятъ, мы видимъ, что въ женѣ Емельяна колдовство есть. Отъ нея у него сила берется всякую работу сдѣлать. Надо ему такое дѣло задать, чтобъ ей нельзя ему помочь. Мы вотъ что придумали. Призови ты Емельяна и вели ему въ одну ночь противъ дворца соборъ построить. Согласился царь, послалъ за Емельяномъ.
Ну, говоритъ, слышалъ я, что ты что только вздумаешь съ женой — все сдѣлать можешь.
————
[ВАРИАНТЫ К СТАТЬЕ «О ПЕРЕПИСИ В МОСКВЕ».]
* № 1.
Тутъ есть особенность. Особенность эта еще рѣзче бросается въ глаза потому, что ученый одинъ рѣжетъ лягушекъ и отравляетъ собакъ и можетъ это дѣлать, не страдая за лягушекъ и собакъ, потому что корчащаяся лягушка и препарированная живая собака даютъ ему отвѣтъ на вопросъ, годами неотступно занимающій его. Но для изслѣдованій соціологическихъ употребляются люди неученые: по переписи ходитъ молодежь-студенты. Они должны къ умирающимъ отъ нищеты и погибающимъ отъ хоть, скажемъ, равнодушія общества людямъ относиться такъ же спокойно, какъ ученые къ лягушкамъ и собакамъ. Отъ нихъ требуется, чтобы они усвоили себѣ равнодушіе ученаго, не имѣя на то права. Сравненіе между собакой, умирающей подъ ножемъ экспериментатора, и счетчика, переходящаго изъ дома милліонера въ подвалъ, гдѣ лежитъ больной солдатъ безъ хлѣба, совсѣмъ не такъ далеко, какъ кажется; оно даже вовсе не далеко, оно не сравненіе, а тождество. Экспериментатору стоитъ только вынуть капсюлю изъ горла собаки и пустить ее, а счетчику стоитъ только вынуть 3 р. и оставить на койкѣ. Экспериментаторъ не дѣлаетъ это только отъ того, что его дѣло важнѣе жизни собаки, но студентъ не можетъ этаго сказать.
* № 2.
<Скажу все, что я думаю. Это не только особенность — это безобразіе, это ужасъ, это больше этаго — это глупость.
2000 молодыхъ людей ходитъ теперь и будутъ ходить по Москвѣ, дѣлая соціологическіе исслѣдованія, и пріучаться къ тому чтобы видѣть безумную роскошь рядомъ съ еще болѣе непонятной нищетой и будутъ учтиво спрашивать: «какъ васъ зовутъ, чѣмъ занимаетесь?» «Умираю съ голоду». И слыша этотъ отвѣтъ, они учтиво будутъ проходить мимо, говоря: «сдѣлайте одолженье, умирайте съ голоду, только потрудитесь сказать, до или послѣ 12 вы умерли съ голоду». Вѣдь это больше, чѣмъ особенность. Это нехорошо.
Другая особенность — и важная — та, что то, къ чему стремится наука соціологіи, не достижимо однимъ путемъ науки. Наука стремится къ тому, чтобы, постигнувъ законы человѣческихъ обществъ, указать ихъ всѣмъ и учредить общество такъ, чтобы было наибольшее возможное благо для всѣхъ. Вѣдь цѣль эта достигается другимъ путемъ. Я не только могу себѣ представить, я знаю людей, для которыхъ смыслъ жизни только въ томъ, чтобы отдавать другимъ все и самую жизнь свою. Ну что, если бы такихъ людей было много, цѣль науки достигалась бы другимъ путемъ. Скажу прямо свою мысль. Цѣль науки соціологіи, какъ и всѣхъ наукъ, гдѣ-то впереди, и мы ее опредѣлить не можемъ. И путь этотъ короче, и путь этотъ радостенъ, и дѣло это важнѣе науки.>
* № 3.
Я близко поглядѣлся въ это зеркало, и то, что увидалъ, ужаснуло бы меня, если бы я не видѣлъ, что все, что такъ страшно, все можетъ быть исправлено. Все можетъ быть исправлено, если мы отдѣлимъ хорошенько научный интересъ отъ нашего жизненного и поймемъ, что только ученые могутъ спокойно обращаться съ цифрами, которые они вызовутъ, а что эти цифры для насъ совсѣмъ другое: они вопіютъ къ намъ и зовутъ насъ къ дѣятельности. Положимъ, мы еще не видали себя въ зеркалѣ, но зеркало уже подносятъ къ намъ, и мы знали смутно все, что мы увидали, и намъ надо поправиться.
* № 4.
Если же мы поймемъ, многіе изъ насъ, что у науки свое дѣло, а у насъ по случаю переписи свое дѣло, и мы пойдемъ къ руководителям, запишемся къ нимъ въ особые обходчики и по указаніямъ руководителей обойдемъ всѣ тѣ мѣста, гдѣ нищета, развратъ и погибель, и по мѣрѣ силъ и чуткости нашей постараемся помочь язвамъ общества, будетъ совсѣмъ другое. Будетъ то, что 1) счетчики будутъ знать, что они дѣлаютъ не дѣло машины, a дѣло человѣческое, и, дѣлая это дѣло, они полюбятъ его, потому что нельзя не полюбить то, что даетъ смыслъ жизни, и увидятъ рядомъ съ безобразіемъ жизни и красоту, а 2) мы получимъ не мертвые отчеты о томъ, сколько людей и оконъ въ Москвѣ, отчеты, нужные для спеціалистовъ, а узнаемъ, сколько людей есть несчастныхъ, отчего они несчастны и какъ помочь имъ. И изъ этаго знанія вытекаетъ для насъ важнѣйшее дѣло жизни и 3) изъ гибнущихъ не всѣ погибнутъ и изъ несчастныхъ не всѣ помрутъ.
————
* МОСКОВСКІЯ ПРОГУЛКИ.
[План.]
1) Пріемъ рекрутъ. Солдатка: «вотъ 15 лѣтъ живу». Старикъ плачетъ. Жена.
2) Ляпинскій домъ.
3) Толпа взятыхъ за прошеніе милостыни.
4) Извощикъ. Прошеніе милостыни.
5) Старуха упала. «Живая баба». Гимназисты.
6) Споръ у Охотнаго ряда.
7) «Сосновка». Иверская. Крестится.
8) Воръ сапогъ. Въ благовѣщенье. Городовой пускаетъ. Хозяйскій сынъ.
9) Сцена на извощикѣ. Жена съ мужемъ.
10) На Каменномъ мосту. Лошади никто не поможетъ.
11) Споръ за пятачекъ съ извощикомъ. «Дай денегъ». Всѣ спорятъ.
12) Спаситель пріѣзжалъ въ лавочку. Боюсь сказать, что не спаситель.
13) Мальчики несутъ хомутъ; упалъ.
14) Арестанты идутъ. Кто подастъ. Старушка плачетъ. «Объ насъ заплакала».
15) «Евангеліе читалъ?» — «Читалъ». Молчаніе. «A воинскій уставъ читалъ? Нѣ? Ну и не говори».
[ВАРИАНТЫ К «ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?»]
** № 1.
О помощи при переписи.
Соблазны должны войти въ міръ, но горе міру отъ соблазновъ. И если око твое соблазняетъ........... чѣмъ всем[у] [?] вой[ти] въ геену огненную.
Изъ предложенія моего по случаю переписи ничего не вышло.
Мало того, я убѣдился, что ничего и не могло выйти. Я ошибся, не въ томъ я ошибся, что нѣтъ въ мірѣ ни одного дѣла, ни научнаго, ни государственнаго, ни общественнаго, ни семейного болѣе важнаго, чѣмъ то, чтобы накормить голоднаго, одѣть голаго, посѣтить заключеннаго, не въ томъ даже, что это можно сдѣлать сейчасъ и что мы всѣ понимаемъ и хотимъ это сдѣлать, — не въ этомъ я ошибся, но въ томъ я ошибся, что я забылъ то, что хорошо знаю: нельзя начинать никакого дѣла изъ середины, что есть законная и естественная послѣдовательность дѣла, что нельзя печь хлѣбъ, не смѣшавъ муку, ни сдѣлать добро, не приготовившись къ нему. Я забылъ, что для того, чтобы наложить на себя благое иго и легкое бремя, надо сложить прежде тѣ бремена, которыми мы задавлены.
<Чтобы дѣлать добро, надо побороть соблазны. На дорогѣ къ добру стоятъ соблазны. И не поборовъ соблазны, нельзя и приступиться къ добру. Я слишкомъ дерзко предлагалъ дѣлать добро, забывая о томъ, что прежде счастія добра надо побороть соблазны, сложить съ себя неудобоносимое иго и бремя. Я не отчаиваюсь и не отрекаюсь, какъ не отчаится и не отречется отъ своего дѣла человѣкъ, который призываетъ другихъ перейти черезъ пропасть по узенькой кладкѣ и убѣдился, что обутые и отягченные ношами не перейдутъ по кладкѣ; онъ только предлагаетъ прежде скинуть все лишнее, разуться, но зоветъ туда же. То же самое случилось и со мной.
Мы поднимемъ давящую насъ тяжесть, это не можетъ быть иначе, потому что мы хотимъ этаго, потому что мы знаемъ, что къ этому мы призваны. Но мы не такъ взялись; разуемся, снимемъ мѣшки, перехватимся иначе. Но мы поднимемъ, потому что это одно наше дѣло, больше намъ людямъ христіанамъ на свѣтѣ дѣлать нечего.>
Я опытомъ былъ приведенъ къ этому сознанію. И хочу разсказать этотъ опытъ и то сознаніе, которое онъ во мнѣ вызвалъ, даже не вызвалъ, a освѣжилъ, потому что это сознаніе всегда было во мнѣ и есть во всѣхъ насъ.
Прежде чѣмъ сказать о томъ, что вышло изъ моего предложенія, я скажу вкратцѣ, чѣмъ оно было вызвано. Я 19 лѣтъ жилъ безвыѣздно въ деревнѣ. И зналъ деревенскихъ бѣдныхъ, не такъ, чтобы видѣть бѣдныхъ деревенскихъ на улицахъ и у своего крыльца, а зналъ всю бѣдность, какая есть въ извѣстномъ околоткѣ, зналъ и у себя дома. И какъ ни ужасна эта бѣдность, всегда и особенно была ужасна въ прошломъ году при дорогомъ хлѣбѣ, видъ этой бѣдности не приводить въ отчаяніе. Нашему брату, богатому, всегда можно помочь этой бѣдности, большей частью помочь тѣмъ, чтобы не производить ее. Бѣдность деревенская есть результатъ какой-то заразы, и ее можно лѣчить. Въ деревнѣ нѣтъ источника бѣдности. Въ деревнѣ источникъ всего богатства. Если зарождается бѣдность, то отъ недостатка земли, отъ того, что хлѣбъ, воздѣланный тутъ, идетъ къ людямъ, которые не работаютъ, отъ солдатчины, отъ акциза, отъ податей, отъ судей и судовъ; и какъ ни жестоки всѣ эти язвы, они всѣ излѣчимы. Сколько ни сажаютъ судьи рабочихъ-мужей по острогамъ, жены и дѣти ихъ все таки кормятся добрыми людьми. Деревенская бѣдность есть результатъ жестокости и глупости людей, но она сама никогда почти не зарождается, и потому лѣчить ее легко и видъ ея не приводитъ въ отчаяніе. Отберутъ мужа въ солдаты, и свекоръ поблюдетъ сноху и дождется сына, и семья не погибнетъ. Отнимутъ зачѣмъ-то мужа работника отъ семьи и посадятъ въ острогѣ на годъ, а мы міромъ прокормимъ дѣтей и жену, и бѣдность покрыта. Бѣдность деревенская есть послѣдствіе заразы. Бѣдность же городская есть причина всей и всякой бѣдности, есть сама зараза. 19 лѣтъ я жилъ въ деревнѣ, видѣлъ эту бѣдность, послѣдствіе ошибокъ людскихъ, и иногда помогалъ ей. Нынѣшній годъ я въ первый разъ, живя въ городѣ, увидалъ городскую бѣдность и долго не могъ понять особенность ея. Съ первыхъ же дней я встрѣтился съ бѣдностью въ лицѣ нищихъ: оборванныхъ, полуголыхъ, блѣдныхъ людей, стоящихъ у богатыхъ магазиновъ, оглядывающихся на городового и робко кланяющихся женщинъ съ грудными дѣтьми, просящихъ на погорѣлое, стариковъ, солдатъ, старухъ, дворянъ, слѣпыхъ, здоровыхъ мужиковъ въ рабочей одеждѣ, ходящихъ съ топоромъ или безъ топора и говорящихъ, что работы не нашли и не ѣли. Видѣлъ я нѣсколько разъ, какъ городовые водили этихъ нищихъ въ участокъ и потомъ въ Юсуповъ рабочій домъ. Разъ я встрѣтилъ — вели по Мясницкой колону человѣкъ 30. Я спросилъ, за что. За прошеніе милостыни. Мнѣ все это было странно и неясно. По закону Христа, который въ Москвѣ такъ явно исповѣдуется 40 40 церквей, часовнями, колоколами и крестными знаменьями, которыя не забываютъ накладывать на себя при видѣ всякой церкви и купцы въ енотахъ, и городовые, и фабричные, и пьяные мужики, по закону этаго Христа, котораго такъ явно исповѣдуетъ Москва, всякій нищій есть Христосъ. Зачѣмъ же его ведутъ въ участокъ и запираютъ куда-то? Когда я выразилъ мое недоумѣніе объ этомъ городовому, одному и другому, онъ признался, что это дурно, но начальство велитъ. Недоумѣніе мое было велико и потому, что Москва полна нищими, нельзя пройти улицы, чтобы не встрѣтить человѣкъ 5 нищихъ. Почему же нѣкоторыхъ изъ нихъ куда то запираютъ?
По принятому мною обычаю я всегда подавалъ просящимъ и часто вступалъ съ ними въ разговоръ. Изъ разговоровъ мнѣ казалось, что большинство людей этихъ говорили неправду, но я не позволялъ себѣ вѣрить своему чувству. Но нѣсколько разъ мнѣ случилось уличать этихъ нищихъ въ обманѣ. Человѣкъ говоритъ, что ему нужно только столько то, чтобы поступить на мѣсто. Онъ получилъ что нужно и не поступалъ на мѣсто. Мужикъ говоритъ, что ему нужно на колунъ, и онъ готовъ работать. Онъ получалъ на колунъ и не поступалъ на работу. Особенно больно мнѣ было видѣть обманъ рабочихъ мужиковъ. Семь человѣкъ такъ обманули меня. Здоровый мужикъ въ лаптяхъ, въ сермягѣ проситъ. Отчего не работаешь? Проѣлъ все; ни пилы, ни колуна не на что купить. Даю ему деньги, говорю придти завтра работать на Сѣтунь, на Воробьевы горы, къ Петру и Семену. Беретъ адресъ, обѣщается придти. «Вѣдь развѣ охота побираться? Я работать могу». Дворникъ принимаетъ участіе въ нашемъ разговорѣ, убѣждаетъ мужика. Мужикъ клянется. На утро прихожу къ Петру и Семену. Пришелъ мужикъ? Не бывалъ. И такъ не одинъ, а 7 человѣкъ обманули меня. И это обидно тѣмъ больше, что Петръ и Семенъ на Сѣтуни и по всей Москвѣ тысячи такихъ Семеновъ и Петровъ, многіе старые за 60 лѣтъ выходятъ изъ Хамовниковъ до свѣту, чуть забрезжится — берутся за работу — пилить, колоть, наваливать и работаютъ до поздней ночи, да какъ работаютъ! Тому, кто не испытываетъ этой работы, тотъ не можетъ себѣ представить, что эти работаютъ такъ, что спины не разогнутъ, что рукъ не слышатъ, заснуть не могутъ отъ того, что руки и спина ноютъ (особенно старые люди), и обгоняютъ такъ въ день 40 копеекъ.
Обидно, что попрошайка наберетъ эти 40 копеекъ по улицамъ у такихъ дураковъ, какъ я. Обидно особенно потому, что удивляешься, какъ Петры и Семены не сдѣлаютъ того же. И дѣлаютъ многіе, и я видѣлъ такихъ. И поработаетъ и попроситъ. И все меньше работаетъ и больше проситъ. Это было мое первое знакомство съ городской бѣдностью. Тутъ уже я видѣлъ другое, чѣмъ въ деревнѣ. Въ деревнѣ большинство народа живетъ, чтобы работать, въ городѣ большинство народа жируетъ. Въ деревнѣ настоящіе жители работающіе, и, кромѣ того, живутъ люди неработающіе, высасывающіе сокъ изъ работающихъ; въ городѣ настоящіе жители не работаютъ, а притащили въ городъ то, что они высосали въ деревнѣ, а работаютъ деревенскіе люди, чтобы назадъ высосать этотъ сокъ изъ жирующихъ — извощики, трактирщики, банщики, лавочники, проститутки, всякіе художники, дворники, поденные. Разница въ томъ, что въ деревнѣ кормятся землей, и ее не обманешь: что потрудишься, то она и дастъ. Въ городѣ кормятся жирующими людьми: этихъ можно надуть. Кто глупъ, тотъ храпъ гнетъ, — дрова колетъ, а кто поумнѣе, тотъ въ банкѣ, въ судѣ, въ лавкѣ, въ трактирѣ сидитъ или стоитъ, кланяясь, подлѣ Фульда или пассажа. — Такъ по первому моему знакомству съ нищетою города я охладѣлъ къ ней. Я подавалъ также, но чисто механически, какъ обрядъ, какъ люди крестятся передъ церковью, не для того чтобы помочь (я видѣлъ, что изъ 100 случаевъ разъ не помогу), а просто изъ учтивости, какъ я посторонюсь, если меня просятъ посторониться. Я охладѣлъ къ городскимъ нищимъ, но вопросъ городскаго нищенства еще больше интересовалъ меня, потому что онъ былъ мнѣ неясенъ. Гдѣ его корень, и какъ помочь ему? Я думалъ больше, но не чувствовалъ. Одинъ разъ, чтобы ближе изслѣдовать это дѣло, я пошелъ, какъ мнѣ говорили, къ самому центру всей этой погибшей братіи — къ Хитрову рынку. Это было въ Декабрѣ, часа въ 4. Уже идя по Солянкѣ, я сталъ замѣчать больше и больше людей оборванныхъ, развращенныхъ, которые направлялись всѣ въ одну сторону. Не спрашивая дороги, которой я не зналъ, я шелъ за ними, вышелъ на Хитровъ рынокъ. Торговки и развращенныя женщины сидѣли и ходили и ругались. Чѣмъ дальше я шелъ, тѣмъ грубѣе были ругательства. Со мной рядомъ шли быстро двѣ женщины, одна еще не старая. И самыя гадкія слова безъ всякой надобности сыпались у нихъ изъ устъ. Онѣ были не пьяны, чѣмъ то были озабочены, и шедшіе навстрѣчу и сзади и спереди мущины не обращали на это никакого вниманія. Прошли частные ночлежные дома, нѣкоторые завернули туда, другіе, сходясь со всѣхъ сторонъ, все шли дальше въ гору, завернули за уголъ и подошли къ кучкѣ народа, стоявшей по тротуару у входной двери въ большой Ляпинскій ночлежный домъ. Я остановился тутъ же. Мужикъ опухшій съ рыжей бородкой, въ прорванномъ кафтанѣ и въ ботинкахъ, юноша безбородый, худой, длинный, въ одной рубахѣ, на плечѣ прорвана, и жилетъ, солдатъ здоровый, черный, горбоносый, въ рубахѣ ситцевой, и жилетѣ безъ шапки, старикъ длинный, клиномъ борода, въ пальто, подпоясанъ, и въ лаптяхъ, пьяный, старуха съ одышкой, обмотанная вѣтошками. Одинъ краснорожій, въ лохмотьяхъ пальто и опоркахъ на босу ногу, позвалъ сбитенщика, выпилъ. Юноша, дрожа отъ холода, попросилъ у меня на сбитень и грѣлъ руки объ стаканъ. Другіе попросили. Весь сбитень выпили. Всѣ грѣли руки. Толпа осадила меня. Дворникъ сосѣдняго дома прогналъ съ тротуара своего владѣнья. Когда я оглянулся, толпа стала огромная. Ихъ не пускали, но жадные, голодные глаза смотрѣли въ мою сторону. Стали просить денегъ. Одно лицо жалче и обезображеннѣе и униженнѣе и измученнѣе другаго смотрѣло мнѣ въ глаза. Потомъ, я узналъ, ихъ было тысяча человѣкъ. Я роздалъ все, что у меня было, заплакалъ и убѣжалъ прочь. Нѣтъ, не они виноваты. Долго я не могъ пережить этаго впечатлѣнія, и теперь не пережилъ, и никогда не переживу его, какъ я не пережилъ 25 лѣтъ тому назадъ того впечатлѣнія, когда я увидалъ, какъ убили человѣка машиной. Какъ тогда, въ тотъ моментъ, когда голова и тѣло порознь упали, я ахнулъ и понялъ, не умомъ, не сердцемъ, a всѣмъ существомъ моимъ, что сдѣлали страшное преступленіе и что я участникъ его, такъ и здѣсь, но здѣсь сильнѣе. Тамъ все, что я могъ сдѣлать, это было то, чтобы закричать этимъ людямъ, что они злодѣи, биться съ ними, чтобы не дать убить человѣка, и я не сдѣлалъ этаго. Здѣсь я могъ отдать, кромѣ денегъ, которыя со мной были, и мою шубу и все, что у меня было еще, и я не сдѣлалъ этаго. Если есть Богъ, то не онъ это сдѣлалъ. А мы сдѣлали это. Римляне помѣшались тѣмъ, что звѣри на глазахъ у нихъ разрывали.230 <Но они не знали, что это дурно. А что, какъ мы, зная, что это дурно, потѣшаясь, доводимъ до этаго людей?...>
Впечатлѣніе это отравило мнѣ и такъ отравленную жизнь въ Москвѣ, я не могъ, не могу ѣсть и пить, не думая, что я ѣмъ и пью кровь и плоть живыхъ людей, но я не понималъ всего. Я чувствовалъ, что кто-то виноватъ въ этомъ, и первый я, но не зналъ хорошенько степень своей вины и способъ искупленія ея. И я все больше и больше вникалъ въ жизнь этой городской бѣдности.
Случилась перепись. Я попросилъ позволенія принять въ ней участіе, для того чтобы еще ближе и во всемъ объемѣ узнать свою вину. Мнѣ дали участокъ Ржановскаго дома на Смоленскомъ рынкѣ. Домъ этотъ славится своей нищетой и развратомъ, такъ что ругаются: «тебѣ бы въ Ржановской крѣпости жить». Условія, въ которыхъ сложилась жизнь этаго дома, родились сами собой. Тутъ не видно и слѣдовъ ни филантропической, ни правительственной дѣятельности. Только городовыхъ побольше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Въ домѣ больше 2000 жителей. Это на половину тѣ же люди, какъ и тѣ, которые ждали входа у Ляпинскаго дома. Но здѣсь люди эти перемѣшаны съ Петрами и Семенами, которые еще работаютъ, и съ такими, которые уже догадываются, что работать глупо, и занимаются тѣми промыслами, которые всѣ одинаково дурны, но изъ которыхъ одинъ только — воровство — почему то преслѣдуется. Это низшее городское населеніе, такое, котораго въ Москвѣ, вѣроятно, около полумилліона. Тутъ, въ этомъ домѣ, есть всѣ ступени этихъ людей. Есть сапожникъ, щеточникъ, поденные, есть обманщики, нищіе, воры. Сапожники, столяры, токари, башмачники, извощики, кузнецы, поденные — это малая часть; другая часть — небольшая — это старьевщики, барышники, закладчики, торговки, прачки и половые. И самая большая часть — это нищіе, обманщики и бляди. Здѣсь я видѣлъ тѣхъ же людей, которыхъ я видѣлъ у входа въ Ляпинскій домъ, но въ друтихъ условіяхъ: Тамъ они были въ самомъ жалкомъ положеніи, въ которомъ они бываютъ на улицѣ и когда у нихъ нѣтъ и 5 копеекъ за ночлегъ. Тамъ я видѣлъ тѣхъ же людей въ тѣ дни, когда не удается иногда день-два добыть копейку, и они голодные, холодные, гоняемые изъ трактировъ, ждутъ, какъ манны небесной, впуска въ топленое мѣсто: здѣсь тѣ же, но когда есть добыча, и тутъ я вижу тѣхъ же изможженныхъ людей въ одной рубахѣ, но на койкѣ, въ теплѣ, мертвецки пьяныхъ, и они не возбуждаютъ сожалѣнія. Я 4 раза обходилъ жителей Ржановскаго дома, и ни разу я не испытывалъ чувства состраданія, которое вызвалъ во мнѣ пріемъ въ Ляпинскій домъ. И хочешь помочь; знаешь, что тутъ плохо, и не знаешь чѣмъ? кому? какъ?231 Гадко и страшно, но рѣдко жалко. То же самое чувство, какъ и во мнѣ, возбудило и въ моихъ сотрудникахъ студентахъ посѣщеніе Ржановскаго дома. Жители эти не возбуждали непосредственнаго чувства жалости. Они скорѣе возбуждали чувство веселости, игривости, въ которое они невольно насъ втягивали. Бойкія, часто дружелюбныя шутки, насмѣшки другъ надъ другомъ. Такъ дѣйствовали они на хозяина дома, водившего насъ, дворника, счетчиковъ и даже на меня, несмотря на то, что по Ляпинскому дому я зналъ, что скрывается подъ этимъ. Одна оборванная хозяйка квартиры называла себя кн. Трубецкой, и это названіе вызывало общій хохотъ. Въ одномъ вонючемъ, грязномъ, биткомъ набитомъ углу хозяинъ дома сказалъ намъ: «здѣсь аристократія». И пьяный въ черной, прорванной рубахѣ закричалъ: «благородное дворянство — я». Но когда его попросили прописать квартирную карту, онъ сказалъ: «я не гожусь». Въ друтихъ квартирахъ хозяинъ, чтобы передать квартирную карту, вызывалъ по имени отчеству, и выходилъ, одѣваясь, ученый человѣкъ, рѣдко трезвый, и съ чувствомъ и любовью брался за дѣло карточки. Онъ, видимо, радовался этому случаю общенія съ тѣмъ міромъ, въ которомъ пишутъ вопросы и печатаютъ на красной бумагѣ. Мальчишки на одномъ конькѣ катались по прилитымъ нечистотами пригоркамъ. Женщины-прачки стирали въ корытахъ, и почти всегда около нихъ былъ пьяный любезникъ. Старухъ, стариковъ, нищихъ и рабочихъ, сапожниковъ часто заставали за обѣдомъ или чаемъ, и всякій разъ на привѣтъ намъ: «хлѣбъ да соль», или «чай да сахаръ», они отвѣчали: «просимъ милости» и даже сторонились, давая намъ мѣсто. Почти вездѣ смѣялись надъ ребятами или надъ кѣмъ-нибудь изъ большихъ: «ну, братъ, теперь запишутъ». Дѣвки съ папиросками или за чаемъ смѣются всему, что имъ не скажутъ, и всѣ, кто говорятъ, съ ними смѣются.
Много квартиръ, въ которыхъ живутъ по 10 и больше лѣтъ. Одинъ столяръ съ рабочими, портной старичокъ съ старушкой, по 60 лѣтъ. Оба торгуютъ яблоками, на полу постланы соломенные щиты. Образовъ много, лампадка, завѣшанные простыней шубы крытые. Старушка вяжетъ чулки. Вдова одна въ свѣтелкѣ, тоже образа, лампадка, пуховикъ, стеганное одѣяло, самоваръ, чашки. Самовары, чашки, чайники, жестяночки изъ-подъ конфетъ для сахара и чаю, папироски вездѣ. Больныхъ изъ 2000 жителей мы нашли только 3-хъ. Ихъ обираютъ, какъ и мертвыхъ, какъ и нечистоты [?], какъ и убійцъ (когда мы ходили, шло слѣдствіе о сапожникѣ, убившемъ ножемъ солдата).
Такъ что жалости не возбуждаетъ эта жизнь, a скорѣе игривое настроеніе.
Я принялъ участіе въ переписи потому, что мнѣ хотѣлось получить отвѣты на мучавшіе меня вопросы. — Именно: сколько въ Москвѣ такихъ несчастныхъ голыхъ, голодныхъ, какъ тѣ, которые стояли у Ляпинскаго дома? Сколько такихъ несчастныхъ, съ жиру бѣсящихся, какъ я? Нельзя ли намъ подѣлиться? Будетъ ли намъ отъ этаго лишеніе? Я былъ на засѣданіяхъ распорядителей по переписи и говорилъ съ членами Комитета: нельзя ли предложить вопросы, которые бы выяснили это. Но было уже поздно, вопросы уже были утверждены въ Петербургѣ, новыхъ нельзя было ставить. Одинъ только вопросъ о фортепьяно частнымъ образомъ ввели. Мнѣ хотѣлось узнать, сколько голодныхъ и сколько играющихъ на клавикордахъ.
Получивъ участокъ Ржановскаго дома, я однако испугался. Вспоминая ужасы Ляпинскаго дома, я не рѣшался идти туда, не запасшись прежде средствами помочь этимъ несчастнымъ, которыхъ я увижу тамъ. Я приблизительно сдѣлалъ такой разсчетъ: если я найду тамъ 1000 человѣкъ несчастныхъ, для того чтобы одѣть, накормить, выправить билетъ, отправить по желѣзяой дорогѣ этихъ людей, нужно по крайней мѣрѣ по 15 р. = 15 000; для того чтобы помочь такъ, чтобы пустить ихъ въ ходъ, надо по крайней мѣрѣ по 200 р. = 200 000 р. У меня есть почти эти деньги, но я не могу ихъ отдать. Если я отдамъ, меня сочтутъ сумашедшимъ, а главное — я огорчу близкихъ. Дай я предложу знакомымъ богатымъ и досужимъ людямъ сдѣлать это. Дать деньги и заботу и пойти по переписи или съ переписью. И на это я посвятилъ день. Я пошелъ къ одному очень богатому старому человѣку и предложилъ ему помочь мнѣ. Онъ согласился дать мнѣ то, что я попросилъ у него, — до 300 р., но заняться бѣдными онъ былъ не въ состояніи. Я предложилъ ему поручить это дѣло кому-нибудь изъ близкихъ ему молодыхъ людей. Онъ сказалъ, что у него никого нѣтъ, но деньги онъ дастъ. И это было хорошо, и отъ него я пошелъ къ одной особѣ, про которую я зналъ, что она много помогаетъ бѣднымъ. Я засталъ особу эту вечеромъ не одну. У ней въ богатой гостиной было человѣкъ 15 гостей. Всѣ собрались съ благотворительною цѣлью. Онѣ сидѣли — дамы — и одѣвали маленькихъ куколъ, мужчины любезничали съ дамами. У подъѣзда стояло полдюжины каретъ. Куклы должны были разыграться въ лотерею и принести, я думаю, не больше 500 р. Я зналъ хозяйку, зналъ ея прекрасное сердце; но зрѣлище это было отвратительно. — Заявляемая цѣль этихъ людей — помочь нищимъ, помочь деньгами. Чтобы собрать эти деньги, люди эти съѣзжаются сюда и будто бы работаютъ. Но не говорю ужъ о томъ, что сними каждая изъ этихъ дамъ по одному камушку изъ сережки или кольца и замѣни его стекляннымъ, сними ненужную пелеринку съ лакея и продай это, и денегъ наберется столько, что процентовъ будетъ въ 10 разъ больше, чѣмъ это они выработаютъ; пусть эти дамы только не ѣздятъ сюда, то то, что они потратятъ на воротнички, на перчатки, на проѣздъ, будетъ вдесятеро больше того, что они сработаютъ. Зачѣмъ они это дѣлаютъ? Что это есть безуміе, подобнаго которому можно искать только въ Преображенской больницѣ, это явно; но сказать то, что такъ и просится на языкъ, что это верхъ безнравственности, т. е. что дѣлая свою похоть, эти люди хотятъ увѣрять другихъ (и себя), что они дѣлаютъ добро, — сказать это легко, но это было бы несправедливо. Они такъ запутаны, что не видятъ безумія своего поступка, и многія изъ нихъ съ искренними слезами на глазахъ говорятъ о добрѣ. Имъ внушено, что все то, что они имѣютъ, и сережки и брошки, и кареты — все это такъ должно быть, что безъ этаго нельзя жить, какъ безъ хлѣба. Внушено имъ, что обязанность ихъ состоитъ въ томъ, чтобы пріятно проводить время, и потому они искренно убѣждены, что если изъ двухъ пріятныхъ препровожденій времени, ѣхать въ театръ или шить куклы, они выбрали шить куколъ для благотворительности, они сдѣлали очень хорошо. Они точно поступаютъ хорошо и не виноваты въ томъ, что называютъ благотворительностью то, что они дѣлаютъ. Никто не растолковалъ имъ того, что это нельзя называть добромъ. Они не виноваты въ томъ, что никто имъ не внушилъ, что добро не только не можетъ соединяться съ потѣхой, но что оно начинается только тогда, когда человѣкъ душу, т. е. жизнь свою, отдаетъ для другаго, и потому, прежде чѣмъ начать разговаривать о добрѣ, надо раздать или разбросать всѣ брошки, пелеринки, кареты, оставить то, что нужно, чтобы жить, и тогда попробовать дѣлать добро, т. е. служить другому. А что теперь, съѣзжаясь шить куколъ вмѣсто того, чтобы смотрѣть Нана, они дѣлаютъ сравнительно только менѣе мерзкій поступокъ, чѣмъ всѣ тѣ, изъ которыхъ составлена вся ихъ жизнь. Я слыхалъ прежде про такія благотворительныя общества, но здѣсь я въ первый разъ увидалъ это. Увидалъ эти атрофированныя бѣлыя въ перстняхъ, неспособныя къ работѣ, притираніями налощенныя руки, копошащіяся въ тряпочкахъ, эти шиньоны, кружева и приторныя лица, и мнѣ стало ужасно гадко и уныло. (Странно, въ числѣ писемъ просителей, полученныхъ мною потомъ, одно изъ самыхъ правдивыхъ и трогательныхъ писемъ было отъ однаго семейства, занимавшагося дѣланіемъ куколъ и впавшаго въ бѣдность отъ возникшей въ послѣднее время конкуренціи. Не эта ли благотворительная гостиная погубила его?) Я уныло, но все-таки сказалъ то, зачѣмъ я пріѣхалъ. И что же? Какъ ни странно должно было показаться то, что я говорилъ (я говорилъ почти то, что напечаталъ въ своей статьѣ), я нашелъ сочувствіе. Но лица самыя сердечныя и серьезныя говорили мнѣ съ грустью, что ничего нельзя сдѣлать, что средствъ мало, что всѣ мѣры тщеславія и выпрашиванія употреблены и что нѣтъ средствъ, но попытаться можно. Одна особа предложила мнѣ денегъ, сказавъ, что сама идти не можетъ, но сколько денегъ и когда она мнѣ доставитъ ихъ, она не сказала. Другая особа и одинъ молодой человѣкъ предложили свои услуги. Къ выводамъ я приду послѣ, теперь же я пишу свои впечатлѣнія. Я получилъ обѣщаніе денегъ съ двухъ сторонъ, обѣщаніе содѣйствія трудомъ, участіемъ, т. е. ходьбой по бѣднымъ, тоже отъ двухъ лицъ. Всѣ выразили сочувствіе не притворное, а искреннее, но я уѣхалъ оттуда съ предчувствіемъ, что отъ этихъ людей помощи не будетъ и даже что изъ мысли моей статьи ничего не выйдетъ. Въ справедливости своихъ мыслей я не сомнѣвался и не сомнѣваюсь, какъ и въ томъ, что 2 X 2 = 4. Сочувствіе, желаніе сдѣлать то, что я предлагалъ, я нашелъ во всѣхъ, но мнѣ чуялось уже, что между желаніемъ и исполненіемъ стоитъ какая-то жестокая, неодолимая преграда.
Я все-таки началъ писать свою статью.
Я прочелъ статью юному Прокурору (Онъ зашелъ ко мнѣ, когда я писалъ статью). Прокуроръ обыкновенный типъ умнаго, невѣрующаго ни во что, не злаго и насмѣшливаго человѣка.
Онъ выслушалъ и, какъ умудренный опытностью человѣкъ, годящійся мнѣ въ сыновья, сказалъ, что, разумеется, это было бы прекрасно, и все это вѣрно, но ничего изъ этаго выйти не можетъ — людей такихъ нѣтъ и т. п. Потомъ я прочелъ молодому даровитому писателю самаго либеральнаго, народнаго направленія. Онъ выслушалъ и, очевидно, не одобрилъ мечтательность, непрактичность, неприложимость къ дѣлу мыслей, выраженныхъ въ этой статьѣ; пожалѣлъ, очевидно, о ложномъ направленіи, избранномъ мною, которое могло бы быть гораздо лучше направлено, но призналъ, что вреднаго ничего нѣтъ въ статьѣ и что она можетъ быть полезна. Потомъ я прочелъ статью въ Думѣ. На вопросъ мой по окончаніи чтенія о томъ, принимаютъ ли руководители предложеніе мое оставаться на своихъ мѣстахъ, для того чтобы быть посредниками между обществомъ и нуждающимися, двое отвѣтили мнѣ порознь въ одно слово: мы считаемъ себя нравственно обязанными это сдѣлать. Это было точное выраженіе того впечатлѣнія, которое произвело на большинство мое обращеніе.
Тоже впечатлѣніе произвело мое сообщеніе и на счетчиковъ, съ которыми я познакомился: «что-то тутъ очень хорошо и несомнѣнно справедливо, но что-то тутъ очень глупо, такъ глупо, что даже совѣстно. Совѣстно какъ то смотрѣть въ глаза другъ другу, говоря про это».
Такое же впечатлѣніе произвела эта статья на Редактора газеты, на моего сына, на мою жену, на купца — домовладельца, на самыхъ разнообразныхъ лицъ. «Правда то правда, да ничего изъ этаго не выйдетъ». Кромѣ того, при разговорахъ объ этомъ всѣ начинали тотчасъ же осуждать другихъ. Говорили: «да у насъ возьмутся и сейчасъ бросятъ. У насъ не думаютъ. о ближнемъ, у насъ только бы самому добыть себѣ блага жизни. У насъ спячка, у насъ буржуазія тупая» и т. д. И такъ говоря про предполагаемыя причины неудачи, всѣ бранили другъ друга отчаявшись другъ въ другѣ и, слѣдовательно, бранили себя и отчаявались въ самихъ себѣ.
* № 2.
Нельзя не водить въ участокъ нищихъ, потому что такъ начальство велитъ, и нельзя не ходить въ церковь, потому что такъ православіе велитъ. Только въ послѣднее время, а именно въ нынѣшнемъ году, я встрѣтилъ одного человѣка, который уже прямо выразилъ мнѣ то, что законъ Евангелія по отношенію къ нищимъ, — да и вообще, — устарѣлъ и не имѣетъ силы, и существуетъ другой законъ, замѣнившій его. Это былъ единственный случай яснаго и логическаго разрѣшенія вопроса, и потому я не могу не отмѣтить его. До тѣхъ поръ при бесѣдахъ съ самыми разнообразными людьми, съ городовыми, священниками, кучерами, профессорами, кухарками, министрами и ихъ женами, съ учеными и неучеными меня, какъ кошемаръ, всегда томила та сознательная неясность, которая существуетъ въ ихъ представленіи о томъ, какимъ образомъ, признавая себя христіанами, обходить самыя простыя, первыя и ясно выраженныя положенія христіанства. Всѣ мы сыны однаго отца, и надо убивать (у насъ христолюбивое воинство). Самарянинъ — примѣръ отношенія къ ближнему вражескаго народа. Не судите и не присуждайте (ϰαταδιϰαξητη), что значитъ присуждать къ наказанію по суду. Сказано: возьмутъ рубаху, отдай кафтанъ. Представленъ примѣръ блудницы, которую некому осудить, а у насъ суды судами погоняютъ, и считается самымъ почтеннымъ христіанскимъ дѣломъ судить въ судахъ и при этомъ присягаютъ на евангеліи. Сказано: не клянись вовсе, и насъ всѣхъ заставляютъ клясться на евангеліи, въ которомъ сказано: не клянись, и цѣловать то мѣсто, гдѣ сказано: не клянись. Сказано: если взглянулъ на женщину съ похотью, то согрѣшилъ, и если глазъ соблазняетъ, вырви его, т. е. вырви соблазнъ плоти. Всѣ театры, всѣ балы, всѣ увеселенія, всѣ галереи картинъ, всѣ удовольствія въ государственныхъ учрежденіяхъ только тѣмъ заняты, чтобы усиливать соблазны. Сказано: нищему нельзя отказать, просящему дай. Нищій, голодный, голый — это самъ Христосъ. Ихъ водятъ въ участокъ. Вотъ когда мнѣ случалось наводить людей, исповѣдующихъ Христа, на эти противорѣчія, то тутъ происходила та ужасная, похожая на сонныя грезы путаница объясненій, чтобы показать, что [въ] жизни нѣтъ противорѣчія. И чѣмъ ученѣе были люди, тѣмъ злѣе путаница. Одинъ только человѣкъ въ нынѣшнемъ году разрѣшилъ эту путаницу. Я шелъ въ Боровицкіе ворота. Подъ воротами сидѣлъ обвязанный по ушамъ тряпкой красной калѣка нищій. Онъ попросилъ милостыню. Я полѣзъ въ карманъ за пятакомъ, и пока я доставалъ, вбѣжалъ сверху въ ворота дворцовый гренадеръ, румяный, красивый, съ черными усиками малый въ тулупѣ и съ краснымъ околышемъ фуражкѣ. Только что нищій увидалъ его, онъ вскочилъ и заковылялъ что было силы на утекъ отъ гренадера. Гренадеръ за нимъ съ ругательствами. Догналъ и наклалъ въ шею: «Я тѣ проучу — мать твою... Сколько разъ говорено: не велѣно сидѣть». Я остановился, подождалъ солдата назадъ. Когда онъ поровнялся, я спросилъ его: грамотенъ ли онъ. Малый удивился, но видитъ — сѣдая борода, надо отвѣтить. «Грамотный... А что?» — «Евангеліе читалъ?» — «Читалъ». — «А что тамъ про нищихъ сказано? Сказано: кто голоднаго накормитъ, голаго одѣнетъ, меня накормитъ, меня одѣнетъ». Малый смутился и молчалъ, перебѣгая глазами на двухъ прохожихъ, остановившихся около меня. Онъ, видимо, былъ въ затрудненіи. Онъ чувствовалъ, что дѣлаетъ то, что должно, что исполнилъ старательно то, за что хвалятъ, и вдругъ его осуждаютъ. Вдругъ глаза его блеснули умнымъ свѣтомъ, онъ смѣло и повелительно, по-военному, взглянулъ мнѣ въ глаза. «А воинскій уставъ читалъ?» спросилъ онъ строго. «Нѣтъ, не читалъ». — «Такъ и не говори». Онъ тряхнулъ головой и молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Въ глазахъ остановившихся прохожихъ я видѣлъ одобреніе и удовольствіе яснаго разрѣшенія затронутаго было вопроса. «Однако обрѣзалъ старика», какъ будто сказали себѣ прохожіе и вполнѣ удовлетворенные пошли каждый за своимъ дѣломъ. Вотъ эту ясность я нашелъ только одинъ разъ, и то только нынѣшній годъ.
Мнѣ грустно было за этаго добраго красиваго малаго въ красномъ околышѣ и казенномъ тулупѣ. Но разсудочная моя потребность была вполнѣ удовлетворена не по отношенію къ одному этому малому, но по отношенію ко всему тому хаосу словъ и отрывковъ мыслей, которыя я слыхалъ и читалъ годами отъ богослововъ, философовъ, ученыхъ, администраторовъ по этому предмету. Это была искра, которая освѣтила все предшествующее. Всѣ эти разсужденія о законѣ развитія человѣчества, о божественной сущности и святости единой церкви, о конфликтахъ воли и разума, о судьбахъ народностей, все, все, что я слыхалъ и что мнѣ казалось иногда соннымъ бредомъ, — все это получило для меня ясный смыслъ. Все это перифразами говорило только то, что сказалъ мнѣ этотъ милый малый въ тулупе и красномъ околышѣ. На мѣсто евангелія — воинскій уставъ: для разговора — евангеліе, для исполненія — воинскій уставъ. Это я понялъ нынѣшній годъ.
** № 3.
Ты добрый человѣкъ. То, что жизнь дѣтей, женщинъ и сотенъ тысячъ людей губится на фабрикахъ механической, нездоровой 15-ти часовой работой, мучаетъ тебя, ты страдаешь этимъ, такъ чтожъ? Не покупай конфетъ, рогожъ, бархату; не предъявляй ко взысканію твои рубли на этихъ самыхъ гибнущихъ людей, и совѣсть твоя будетъ спокойна. Или, если ты все таки покупаешь игрушки, бронзы, бархаты, ты лжешь, что страдаешь за нихъ. Если ты понялъ, что конфеты, которые ты ѣшь, — кровь и слезы людей, ты не будешь ихъ ѣсть. Можетъ быть, ты съѣшь въ морѣ и человѣчьяго мяса, когда придетъ голодъ, ты съѣшь то, что тебѣ необходимо нужно, чтобы жить, но ты не будешь ѣсть людей для забавы. Дикіе угостили путешественника обѣдомъ. И обѣдъ показался ему вкуснымъ. Но онъ узналъ, что для обѣда убили плѣннаго и что онъ ѣлъ человѣчье мясо. Путешественникъ не станетъ больше ѣсть у дикихъ.
Ты говоришь: «безъ меня купятъ бархатъ и бронзы». Это неправда. Безъ тебя, да безъ меня, да безъ третьяго будетъ меньше нужно бронзы. Но даже еслибъ это была и правда, если ты понялъ, что вся твоя роскошь есть слезы и кровь людей, ты не можешь ужъ дѣлать ее».
Но мы любимъ говорить о далекомъ, не упоминая о близкомъ. Намъ кажется, что когда мы заговорили о фабрикахъ, въ которыхъ столько переплетено интересовъ и такъ запутано дѣло, что насъ не уличатъ. Но улика налицо.
Ты говоришь, что и безъ твоихъ денегъ фабрики пойдутъ. Хорошо. Ну, а твои 10 человѣкъ прислуги — кто привелъ сюда изъ деревни, чтобы половина изъ нихъ спилась и развратилась и попала въ ночлежные дома и въ дома терпимости?
Ты страдаешь о нищетѣ и развратѣ, такъ не обращай ихъ своими деньгами въ рабство и не развращай, заставляя одного стоять всю жизнь въ шутовскомъ нарядѣ въ швейцарской, другого во фракѣ подавать на подносѣ письмо, третьяго чистить за тобой и выносить твои нечистоты. Какъ только ты сказалъ, что страданіе и развратъ людей мучаетъ тебя, тебѣ нѣтъ другаго выхода, какъ перестать дѣлать то, что развращаетъ ихъ, — ни покупать не нужно, ни заставлять работать на себя, ни держать прислуги, а самому работать на себя, и самому, и женѣ, и дочери, и сыну.
Но это тяжело, это мучительно, это будетъ адъ, а не жизнь! Если я буду сама или самъ чистить и варить, я буду несчастенъ, я буду золъ, я буду хуже.
Это все можетъ быть, и жить по человѣчески не неизбежно необходимо для людей, какъ мы и видимъ это.
Но лгать нельзя, лгать не надобно, и нельзя хорошимъ называть то, что дурно.
Тяжело такъ жить, ничего не покупать для потѣхи и роскоши, не держать прислуги и все дѣлать самому, можно жить и по старому, и многіе живутъ такъ и долго будутъ жить.
Но пускай такіе люди не говорятъ, что они христіане — Христосъ не знаетъ такихъ. Пускай они не говорятъ, что они образованные люди — образованный человѣкъ не можетъ состоять въ развратѣ, пускай не говорятъ, что они гуманные люди — гуманность [не] въ томъ, чтобы пить кровь и слезы людей. Пускай не говорятъ, что они либеральные люди — либеральность — свобода, а они живутъ только насиліемъ. Жить такъ можно, не понимая того, какъ мы живемъ, но понимая и живя такъ, человѣкъ перестаетъ быть человѣкомъ, а становится животнымъ, да еще хищнымъ.
** № 4.
Только тотъ хитрый обманъ, который подъ видомъ денегъ установилъ новую и самую жестокую форму рабства, могъ привести насъ къ такому странному положенію.
Вѣдь то, что происходило въ ту ночь, въ которую я встрѣтилъ 14-л[ѣтнюю] проститутку и въ которую умирала съ голода и съ холода прачка отъ недостатка 60 к., происходитъ каждую ночь въ Москвѣ и во всѣхъ большихъ городахъ, и каждую ночь въ Москвѣ и во всѣхъ большихъ городахъ происходить то, что происходить и въ нынѣшнюю ночь, когда я пишу это. Вь каждомъ номерѣ газетъ есть описаніе великолѣпнаго освѣщенія, лакеевъ въ пудрѣ, стоявшихъ неподвижно на всѣхъ ступеняхъ лѣстницы, и меню ужина съ чудными французскими названіями, и туалетовъ дамъ, стоившихъ тысячи и тысячи, и рядомъ извѣстія о замерзшихъ и повѣсившихся. Въ каждую ночь и въ каждый день ликуютъ рабовладѣльцы и съ голода мрутъ рабы. И никто не видитъ того, что такъ очевидно, что одно происходить отъ другаго, что тѣ, которые ликуютъ, не только виновны своимъ равнодушіемъ, но прямо виновны въ этихъ несчастіяхъ тѣмъ, что производятъ ихъ точно такъ же, какъ производили страданія своихъ рабовъ рабовладѣльцы, заставляя ихъ непосильно работать и недостаточно питая ихъ.
Я помню, мой отецъ, добрый помѣщикъ, поѣхавъ въ городъ, увидалъ разъ убогаго мужика изъ Ясной поляны Еремку, просящаго милостыню. Онъ пришелъ въ ужасъ, посадилъ съ собой убогаго, вернулся домой, разбранилъ прикащика и велѣлъ взять его въ дворню, одѣть и давать мѣсячину, чтобы не было нищихъ изъ его крѣпостныхъ. Онъ дѣлалъ это потому, что онъ чувствовалъ, что въ этомъ его обязанность, а чувствовалъ онъ, что это его обязанность потому, что зналъ, что если каждый помѣщикъ и каждый государственный чиновникъ будетъ такъ заботиться о своихъ крестьянахъ, то не будетъ голодныхъ, и можно спокойно ѣхать въ коляскѣ въ городъ, если же нѣтъ этаго, то нельзя ѣхать въ коляскѣ въ городъ, а надо прежде устроить Еремку, такъ чтобы онъ не холодалъ и не голодалъ. Теперь же всѣ тѣ вѣшающіеся съ голода и умирающіе, намъ кажется, до насъ не касаются, и ихъ нищета, намъ кажется, не можетъ тревожить нашу совѣсть, и мы спокойно ѣдемъ мимо нихъ не только въ городъ по дѣлу, но на гулянье, въ театры, на балы, какъ будто между ихъ и нашей жизнью нѣтъ никакой связи.
Въ ту ночь, въ которую я пишу это, мои домашніе ѣхали на балъ. Балъ, не говоря уже о той безумной тратѣ людскихъ силъ на нѣсколько часовъ мнимаго удовольствія, балъ самъ по себѣ, по своему смыслу, есть одно изъ самыхъ безнравственныхъ явленій нашей жизни. Я считаю его хуже увеселеній непотребныхъ домовъ, и потому, не будучи въ состояніи внушить своимъ домашнимъ мои взгляды на балъ, я ухожу изъ дома, чтобы не видѣть ихъ въ ихъ развратныхъ одеждахъ.
* № 5.
Въ заблужденіе о томъ, что я могу помогать другимъ, меня ввело то, что у меня были лишнія деньги и что во владѣніи деньгами я не видѣлъ ничего несправедливаго.
Существовало прежде мнѣніе о томъ, что деньги представляютъ богатство; богатство же есть произведенiе труда, и потому деньги представляютъ трудъ того, кто ими владѣетъ. Мнѣніе это установлено было такъ называемой наукой, т. е. людьми, придумавшими различные обманы, для того чтобы оправдать свою праздность и пользованіе чужимъ трудомъ.
Въ послѣднее время стало такъ очевидно, что деньги никакъ не могутъ представлять труда того, кто ими владѣетъ, что нельзя было болѣе утверждать этаго, что люди, называющіе свои обманы наукой, стали уже утверждать, что деньги не всегда представляютъ трудъ того, кто ими владѣетъ, но все-таки представляютъ всегда трудъ и сами въ себѣ не только не имѣютъ ничего несправедливаго, но представляютъ законное, необходимое и естественное условіе общественной жизни. Наука, то есть то подобіе знанія, которое имѣетъ цѣлью оправданіе существующихъ несправедливостей, потрудилась такъ поставить вопросъ о деньгахъ, что самый существенный вопросъ относительно денегъ, именно тотъ, какимъ образомъ деньги служатъ средствомъ порабощенія однихъ людей другими, совершенно устраненъ. Деньги, по наукѣ этой, представляютъ всегда трудъ и необходимы въ обществѣ 1) для удобства размѣна, 2) для установленія мѣръ цѣнности, 3) для сбереженія, 4) для платежей. Вотъ и все. То же значеніе денегъ, состоящее въ томъ, для чего мы всѣ и всѣ вокругъ насъ употребляютъ ихъ, — именно въ томъ, чтобы посредствомъ ихъ заставить однихъ людей работать на другихъ, объ этомъ значеніи денегъ эта наука не говоритъ. Когда говорится объ этомъ, то говорится въ такихъ формахъ, что надо долго ломать голову, чтобы только понять то, о чемъ говорится. Чтобы сказать то простое и понятное каждому человѣку дѣло, что тѣ, у кого есть деньги, могутъ заставлять другихъ не только на себя работать, но выматывать жилы изъ тѣхъ, у кого нѣтъ денегъ, чтобы сказать это, говорится о желѣзномъ законѣ, по которому рабочая плата всегда стремится къ пониженiю до степени удовлетворенія только самыхъ потребностей, а процентъ капитала и рента съ земли стремятся увеличиваться. <Этими словами по наукѣ выражается то, что тотъ, у кого есть деньги сверхъ тѣхъ, которые ему нужны на удовлетвореніе своихъ потребностей, можетъ швырять рыбки въ помойную яму и предлагать тѣмъ, у кого нѣтъ денегъ для удовлетворенія своихъ потребностей, зубами доставать ихъ, и что всегда найдутся голодные, которые будутъ доставать ихъ.> Вмѣсто того чтобы сказать то, что есть и понятно и главное — важно всякому, — то, что тотъ, у кого есть больше денегъ, чѣмъ потребностей, имѣетъ неограниченную власть надъ тѣмъ, у кого меньше денегъ, чѣмъ потребностей, говорится о процентѣ, рабочей платѣ, рентѣ, о словахъ, въ которыхъ не только простые смертные, но и ученые по этой части перепутались такъ, что сами ничего не понимаютъ, и, наконецъ, говорится о желѣзномъ законѣ (этому глупому слову ужасно посчастливилось). Одинъ человѣкъ посредствомъ денегъ можетъ изъ другого вить веревки — это желѣзный законъ. Но ничего же не говорили во время рабства, что то, что негровъ и мужиковъ сѣкутъ и сажаютъ въ колодки и заставляютъ этимъ средствомъ работать сверхъ силъ, есть тоже желѣзный или чугунный законъ? Всѣ знали, что это былъ не какой-нибудь чугунный законъ, а простой человѣческій, правительственный, безнравственный законъ, написанный глупыми и злыми людьми, законъ очень простой, по которому военная сила государства приходила на помощь однимъ людямъ — рабовладѣльцамъ противъ другихъ людей — рабовъ, для того чтобы первые могли пользоваться трудами послѣднихъ и угнетать ихъ. Развѣ не то же самое теперь? Одинъ человѣкъ посредствомъ денегъ можетъ дѣлать съ другими все что хочетъ, и государство военной силой защищаетъ это его право. Законы ренты, процента, капитала и всякіе выдуманные законы никому не интересны, а интересны люди и страданія ихъ. Тогда страданіе производило право рабства, теперь право владѣнія денегъ и собственности, пріобрѣтаемой за деньги. Какъ тогда узелъ рабства развязался тѣмъ, что люди поняли, что такое рабство, изъ чего оно сложилось и на чемъ оно основалось, и ужаснулись передъ нимъ, такъ точно и теперь необходимо понять, не желая скрыть ихъ главное значеніе, какъ это дѣлаетъ наука (представляя какіе то ренты, заработныя платы и проценты), что такое деньги, откуда они взялись и какимъ образомъ получили такую власть надъ людьми.
<Итакъ, прежде чѣмъ опредѣлять деньги по ихъ отношенію къ Труду и Богатству (я пишу эти слова большими буквами, такъ какъ по наукѣ эти слова возводятся въ какія то независимыя существа), надо опредѣлить ихъ по отношенію къ людямъ и тѣмъ явленіямъ между людьми, которыя, очевидно, постоянно повторяются и заставляютъ страдать милліоны и развращаться тысячи.
Въ этомъ смыслѣ опредѣленіе денегъ будетъ такое: деньги есть условные знаки, дающіе возможность однимъ людямъ, собравшимъ много такихъ знаковъ, пользоваться трудомъ другихъ людей и принуждать другихъ отдавать свой трудъ чужимъ людямъ> [...]
<Одинъ великій князь имѣлъ такую мерзкую болѣзнь, что все пер..лъ и никакъ не могъ удержаться. Докторъ сказалъ, что болѣзнь тимпанитъ, и всѣ смѣло повторяли это, и великій князь пер..лъ вездѣ сколько хотѣлъ. Право, рента съ земли, процентъ съ капитала, заработная плата за трудъ — тоже тимпанитъ.>
По русски выходитъ, что богатые люди грабятъ бѣдныхъ, забравъ въ свои руки все, что есть у бѣдныхъ, и даже землю, и стригутъ ихъ, не давая имъ обростать. И вотъ политическая экономія придумала для этаго учтивое названіе <въ родѣ тимпанита> — они говорятъ: это желѣзный законъ капитала. А богатые подъ этимъ прикрытіемъ продолжаютъ стричь. Но я не шучу. Дѣло вѣдь въ томъ, что рабочій въ такомъ положенiи, что у него отбираютъ все, кромѣ того, что ему нужно, чтобъ жить. Желѣзный или мѣдный это законъ, рентой или капиталомъ называется этотъ грабежъ, это все равно; казалось бы, главное и необходимое — это узнать, какъ установился этотъ грабежъ и чѣмъ онъ поддерживается. Рента — это право на землю <(но ее уже и не защищаютъ); но главный-то тимпанитъ — это Г-нъ Капиталъ, который имѣетъ какія то свойства и привычки, и онъ-то все дѣло портить>. Капиталъ — это возможность имѣть орудія, нужныя для работы. И если у однаго человѣка есть земля и орудія, а у другаго работа, но нѣтъ земли и орудій, то за землю и орудія надо отдать часть заработка. Изъ этаго какого-то невѣроятнаго воображаемаго дѣленія и представленія о человѣкѣ выйдетъ вся такъ называемая наука.
* № 6.
Стоить только возстановить въ своей памяти всѣ извѣстныя намъ формы экономическихъ насилій однихъ людей надъ другими, чтобы совершенно очевидно стало, какъ насиліе денежныхъ взысканій неизбѣжно и естественно вытекало из первобытныхъ насилій. Живутъ Древляне, пашутъ, водятъ скотину, торгуютъ даже, т. е. мѣняются своими произведеніями. Наѣзжаютъ князья съ дружинами, отбираютъ скотину, хлѣбъ, ткани и, естественно, пуще всего металлы — золото, серебро, то, что можно увезти и сохранить. Древляне оправляются года черезъ три, князья опять пріѣзжаютъ грабить, но поживы ужъ меньше, и князья рѣшаютъ лучше не грабить, а наложить дань — чѣмъ же? Очевидно, такими вещами, которыя не портятся и не громоздки — бывали шкуры, но чаще золото; но золото ужъ почти все отобрано отъ Древлянъ и все у князей, и потому Древляне должны продавать князьямъ-же за золото все, что они захотятъ взять. Вотъ самое простое первобытное насиліе, производимое посредствомъ денегъ. Развѣ не тоже самое происходить и при болѣе сложныхъ условіяхъ жизни? Мужики у помѣщика на барщинѣ. Ему трудно и неудобно ихъ заставить дружно для себя работать. Онъ оторветъ мужика отъ земли въ музыканты, охотники, повара, а поваръ окажется плохой, — не лучше-ли прямо назначить оброкъ — деньги? За деньги помѣщикъ найметъ повара, такъ что для того, чтобы добыть деньги, нужныя для уплаты помѣщику — всѣ у помѣщика, — надо потрафлять помѣщику и дѣлать всѣ тѣ работы, какія онъ хочетъ. И опять то же рабство, переведенное только на денежную цѣну. Развѣ не то-же самое совершилось при нашемъ освобожденіи крестьянъ (не говорю уже о крестьянахъ, освобожденныхъ безъ земли)? Вмѣсто оброка — выкупъ, т. е. деньги. Деньги же у помѣщиковъ и вообще богатыхъ, и потому для того, чтобы получить нужныя для выкупа податей деньги, онъ долженъ работать все то, чего хотятъ тѣ, у кого деньги. Странно вспомнить, какъ помѣщики нѣкоторые боялись выпустить изъ рукъ ту цѣпь, которой они держали рабовъ, не понимая того, что на рабовъ уже была наложена другая, болѣе крѣпкая цѣпь денегъ и что имъ нужно было только выпустить старую и перехватить новую.
Развѣ не то-же самое въ гораздо большей степени въ нашемъ фабричномъ быту и во всей Европѣ? Деньги у богачей, у малаго числа. Деньги нужны теперь не только на уплату, но для большинства обезземеленныхъ у насъ и всѣхъ почти въ Европѣ; деньги нужны прямо на то, чтобы купить хлѣба, заткнуть дыру во рту своихъ и свою; какъ-же не работать все то, что хотятъ богатые? И это самое простое, очевидное насиліе называется рентой и процентами съ капитала.
Требуютъ у тѣхъ — чего у нихъ нѣтъ — денегъ (деньги же всѣ у правительства и богатыхъ) и потому, чтобы получить деньги, бѣдные лишаются все больше и больше того, что у нихъ было, и закабаляются во всякія работы, нужныя богатымъ, и постоянно содержатся, какъ проститутка бандыршей, всегда въ долгу. И вмѣсто того, чтобы понять отчего это сдѣлалось и какъ уничтожить это, политическая экономія цѣлый вѣкъ ужъ все хочетъ разъяснить это положеніе такъ, чтобы это казалось вполнѣ справедливымъ.
А между прочимъ что можетъ быть яснѣе причины этаго? Посмотрите на вновь завоеванныя страны: на Индію, Америку, посмотрите на старыя государства, откуда берется это новое рабство. Князья разорили и побили Древлянъ, сожгли и увели плѣнныхъ. Это очень тяжело, но князья ушли, и Древляне опять живутъ свободно и оправляются. Но вотъ князья пришли и наложили дань. Тутъ уже хуже. Никогда нѣтъ свободы. Но потомъ князья завладѣли землей и раздѣлили своимъ. Это еще хуже. Налоги [?] всегда тревожатъ Древлянъ. Но вотъ освободили Древлянъ и дали или не дали земли — это все равно, но наложили на нихъ подати, отбирающія у нихъ послѣднее. Это уже хуже всего. Хуже всего то, что когда ихъ грабили и гнали и закабаляли на землѣ, они знали, что надъ ними совершаютъ зло, а зло не вѣчно, теперь же они рабы хуже прежняго, но не видятъ, гдѣ зло. Все что отбираютъ у нихъ, отбираютъ по справедливости для ихъ же пользы. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть ужаснѣе того, чтобы у человѣка насильно отбирали его пропитаніе, повергая его въ полное рабство, объясняя это тѣмъ, что это для его блага? Зимній дворецъ, Храмъ Спасителя, желѣзная дорога, ничего не возящая, война съ турками, урядники, милліоны на жандармовъ — все это собирается насильно съ того человѣка, которому не нуженъ ни дворецъ, ни храмъ, ни желѣзная дорога, который любитъ турокъ и ненавидитъ урядниковъ и жандармовъ. A вѣдь это дѣлается, и никто не видитѣ не только безсмысленности, но и злой насмѣшки этаго. Въ сущности такъ ясно, что на общее благое дѣло, т. е. подати, всегда люди будутъ сами давать и что признакъ благости дѣла есть то, что люди сами даютъ, и что насильно на благое общее дѣло никакъ нельзя собирать, что этотъ удивительный обманъ не могъ возникнуть иначе, какъ исторически. Если бы люди всегда были свободны, то никто бы имъ не могъ внушить того, что хорошо насильно давать деньги на общее благо. Для общаго дѣла мы и теперь безъ наеилія даемъ деньги. Но этотъ обманъ выросъ на насиліи. Деньги точно также собираются, какъ князьями съ Древлянъ, для личныхъ корыстныхъ цѣлей, но только оправдывается это теперь хитро общимъ благомъ.
Мы привыкли и не видимъ нелѣпости мотива податей всякихъ, и прямыхъ и косвенныхъ, собираемыхъ насиліемъ, a вѣдь стоитъ только опомниться, чтобы ужаснуться передъ этой нелѣпостью. Положимъ, у насъ самое прекрасное правительство, представляющее наилучшимъ образомъ волю народа, но я никогда не хожу въ храмы и не люблю ихъ, никогда не боялся и не боюсь нѣмцевъ. Какъ-же меня заставить платить за храмы и за войну съ нѣмцами? А если можно заставить платить за то, чего я не хочу, то очевидно, что я рабъ и всегда буду рабомъ, если только не буду хозяиномъ. Налоги государственные, взысканные насильно, — вотъ источникъ рабства. Если бы были мытари-откупщики, народъ бы былъ въ рабствѣ у Кесаря и мытарей; если не будетъ установленныхъ мытарей, то будутъ вольные, тѣ, которые будутъ отбирать для казны и для себя и еще болѣе усилятъ рабство.
* № 7.
Петровками мы затѣяли участвовать въ самой легкой и пріятной работѣ — въ покосѣ. Работа была — покосъ артельный, снятый у землевладѣльца. Было три косы, мы — нѣсколько насъ было — четвертая коса. И такъ какъ дѣло было артельное, мы должны были принять участіе во всей работѣ. Работа была около дома, и мы приходили въ обѣдъ и вечеромъ домой и потому участвовали въ той и въ другой жизни [...]
Косцы были: первый 48-ми лѣтній сильный худой мужикъ, лучшій косецъ въ деревнѣ, съ большой семьей, но еще не женаты были сыновья. Для него покосъ рѣшалъ вопросъ — продать жеребенка на зиму или нѣтъ. Другой — молодой мужикъ, живущій въ живейныхъ извощикахъ, отдѣлившійся отъ большой семьи. Для него вопросъ былъ въ томъ: на своемъ ли сѣнѣ работать зиму или на покупномъ? Третій — сапожникъ дворовый, маленькій, энергичный человѣкъ 40 лѣтъ. Самъ уже лѣтъ 30-ти отъ рода научился косить и не отстаетъ отъ лучшихъ косцовъ. Всю жизнь пилъ и пьянствовалъ. Два года, какъ бросилъ пить. Женатъ на крестьянкѣ, у него трое малыхъ дѣтей. Для него прямо стоялъ вопросъ: имѣть ли на зиму корову для ребятъ, или пробиться безъ молока. Работали всѣ до крайней напряженности, т. е. такъ, что всякій разъ передъ концомъ упряжки я видѣлъ, что не я одинъ, но и другіе еле-еле, пошатываясь, проходили послѣдніе ряды. Но они еще и кромѣ этой работы должны были дѣлать и другую неотложную работу. Сапожникъ вечеркомъ тому подкинетъ подметку, тому заплатку поставить. Нельзя отбивать народъ. Одинъ разъ, когда мы сошлись послѣ обѣда, молодого мужика не было. Сапожникъ сказалъ мнѣ, что онъ скородитъ. Пропустивъ часъ или полтора работы, онъ прибѣжалъ, запыхавшись, и взялся за работу, какъ бы наверстывая пропущенное. Нельзя было не заскородить, загрубла бы земля, а послать ему некого. Вотъ онъ безъ отдыха послѣ обѣда съѣздилъ и заскородилъ свою полниву.
На второй или на третій день нашей работы пришло воскресенье. Я спросилъ — будемъ ли мы работать? «Какъ же не работать? Одно время въ году пропустишь — не вернешь. Съ утра, какъ ободняетъ, бабы выйдутъ гресть, а мы копнить». Это воскресенье мы вышли копнить, но Григорья не было, онъ прибѣжалъ въ обѣдъ. Онъ съ утра съѣздилъ въ Тулу къ сыну за деньгами и купилъ нужное. Работа была не только напряженная, но неустанная. Очевидно, мужики работали изъ послѣднихъ силъ. Они не только выдавали въ эту работу весь запасъ своей скудной пищи, но и прежніе запасы: они худѣли. Съ этого воскресенья началась работа мужицкая и бабья. Утромъ мы косили, а въ обѣдъ присоединялись къ бабамъ грести въ валы и копнить. Въ серединѣ покоса, послѣ дождя, когда оказалось много подкошеннаго и промоченнаго сѣна, надо было раскидывать копны, сушить и поскорѣе ухватывать, скопнить разстроенное. Рѣшили выдти на косу по двѣ бабы. На мою косу я попробовалъ было пригласить домашнихъ женщинъ и дѣвушекъ, но оказалось, что онѣ такъ были слабы, лѣнивы и неловки, что онѣ только насмѣшили мужиковъ и бабъ, и я долженъ былъ на свою косу нанимать двухъ поденныхъ. Съ моей доли выходили поденныя, но съ доли косцовъ выходили ихъ домашнія.
* № 8.
Какъ всякій человѣкъ, немножко одаренный способностью обдумывать и обобщать окружающія его явленія, я съ молоду еще много разъ задумывался надъ условіями экономической жизни нашего общества и, чтобы уяснить себѣ представлявшіеся мнѣ вопросы, обращался къ наукѣ. Это повторялось въ моей жизни раза 3, и всякій разъ я, почитавъ Бастіа, Милля, Лассаля, Прудона, Маркса, недочитавъ всего, бросалъ книгу и говорилъ себѣ, что или я глупъ и неспособенъ или все, что написано въ этихъ книгахъ, есть величайшій вздоръ. Въ глубинѣ души признавалъ эти книги за вздоръ, но въ разговорахъ о политической экономіи съ образованными и учеными по этой части людьми я признавалъ себя несвѣдующимъ. Такъ это продолжалось до послѣдняго времени, когда мнѣ ясно представился вопросъ: почему одни люди работаютъ черезъ силу ненужную имъ работу, a другіе могутъ заставлять другихъ работать эту работу. Вопросъ этотъ сталъ передо мною не изъ празднаго любопытства, a рѣшеніе его связалось для меня съ рѣшеніемъ нравственнаго, религіознаго вопроса: почему экономическая жизнь человѣческихъ обществъ сложилась въ формы, противныя и разуму и совѣсти и выгодамъ людей? И я сталъ, какъ умѣлъ, рѣшать этотъ вопросъ. Зная, что существуетъ цѣлая наука, обладающая горою книгъ объ этомъ предметѣ, зная, что эта самая наука въ послѣднее время находится даже въ гоненіи у правительства и консерваторовъ за то, что она выставляетъ такія положенія, въ которыхъ высказывается несправедливость и неправильность современнаго строя, я, разумѣется, обратился къ этой наукѣ и къ живымъ представителямъ ея и къ ея писателямъ для разрѣшенія моего вопроса. Но — удивительное дѣло — я не только не получилъ какого-нибудь отвѣта, но я убѣдился, что чѣмъ дальше я шелъ за положеніями и выводами науки, тѣмъ больше я удалялся отъ возможности разрѣшенія вопроса.
Мало того, я встрѣтилъ въ этой наукѣ положенія прямо ложныя, софизмы, очень неискусно составленные прямо для того, чтобы лишить изслѣдователей науки возможности какого-нибудь объясненія; кромѣ того, вся эта наука складывалась изъ положеній, вытекающихъ не столько изъ наблюденій или обобщеній, сколько изъ полемики. Являлось положеніе странное, дикое и объясненіе его тогда только дѣлалось возможно, когда узнавали, что были или есть положенія совершенно противныя.
Стоитъ открыть какой-нибудь курсъ политической экономіи и посмотрѣть оглавленіе.
Наука въ своихъ уклоненіяхъ отъ исполненія своего дѣла не только закидывается въ сторону, но прямо пятится назадъ. И этотъ пріемъ политическая экономія употребляетъ всегда безъ исключенія.
* № 9.
О счастливы, тысячу разъ блаженны люди, не прошедшіе черезъ развращающую, вывихивающую мозги школу нашего Европейскаго Талмуда, такъ называемой науки, и счастливы, тысячу разъ блаженны писатели, которые могутъ обращаться къ простымъ, не одуреннымъ наукою людямь. Я не имѣю этаго счастья и имѣю дѣло съ тѣми людьми, которые второе слово говорятъ: а наука! которые рады повѣрить здравому смыслу, но не смѣютъ этаго сдѣлать, не справившись съ наукой. И нельзя имъ не говорить этаго, потому что знаютъ ли они или не знаютъ науки, они твердо знаютъ, зачѣмъ нужна эта наука. Они знаютъ, что наука эта очень хорошо объясняетъ и оправдываетъ существующiй порядокъ вещей. Стоить только пристать къ ней, и будешь правъ. Наука же есть великое дѣло. Наука это хоть не сама истина, а то, что замѣняетъ ее. И жрецы этой науки — сила, авторитетъ, такой-же, какой былъ когда-то авторитетъ церкви.
И потому, хочешь — не хочешь, говоря той публикѣ, къ которой я обращаюсь, надо говорить словами науки, надо предвидѣть тѣ не возраженія, но вилянія, которыя дѣлаетъ наука, и — волей-неволей — анализировать эти положенія науки, то, что я и пытался дѣлать.
Трудъ этотъ облегчало для меня подобное же изслѣдованіе одной изъ наукъ, къ которой я нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ также неизбѣжно приведенъ, какъ теперь къ изслѣдованію политической экономіи. Я говорю о богословіи. Изслѣдованіе богословія не только помогло, но сдѣлало мнѣ чрезвычайно легкимъ изслѣдованіе политической экономіи. Какъ ни странно это кажется, какъ ни далеки кажутся эти науки одна отъ другой, и та и другая наука построены на тѣхъ же основаніяхъ, имѣютъ ту же цѣль и употребляютъ тѣ же самые пріемы, съ тою только разницею, что богословіе старѣе, благороднее и все таки умнѣе, политическая же экономія моложе, подлѣе и гораздо глупѣе, такъ что распутать софизмы политической экономіи послѣ практики, которую я пріобрѣлъ при изслѣдованіи политической экономіи, мнѣ было гораздо легче.
Основами политической экономіи, такъ же какъ и богословія, служитъ не что-нибудь дѣйствительно существующее и потому понятное каждому простому человѣку, a извѣстныя отвлеченія, не имѣющія прямаго, простаго значенія, а получающіяся ею только вслѣдствіи искусственнаго опредѣленія. Отвлеченія эти приводятся въ связь, составляютъ догматъ вѣры, и вся наука состоитъ только въ томъ, чтобы всякаго рода софизмами убѣдить людей въ дѣйствительности этихъ фикцій, отвлечь ихъ вниманіе отъ сущности дѣла. Основныя фикціи, на которыхъ строится политическая экономія, слѣдующія:
1) производство — не то, что человѣкъ работаетъ (такого понятія политическая экономія терпѣть не можетъ), а то, что какъ-то само собою что-то производится посредствомъ участія не людей, а факторовъ производства; 2) капиталъ — не то, что деньги, какъ разумѣютъ всѣ, и не то, что человѣку ѣсть надо, — капиталъ, какъ употребляютъ это слово мужики, а такой капиталъ, который нельзя иначе понять, какъ только когда выучить наизусть опредѣленіе; 3) процентъ и барышъ — опять не такъ, какъ всѣ понимаютъ, а такъ, какъ ихъ опредѣляетъ политическая экономія; 4) рента — не то, что доходъ съ земли, а какъ то излишекъ дохода хорошей земли противъ самой дурной; 5) цѣнность — не то, за что деньги платятъ, а опять опредѣленіе, которое, чтобы говорить о немъ по наукѣ, надо выучить, да еще по одному какому-нибудь экономисту, потому что до сихъ поръ хотя они и признаютъ, что въ ученіи объ обмѣнѣ и цѣнности вся сущность политической экономіи, они еще хорошенько не согласились въ ея опредѣленіи. И вотъ на этихъ то основахъ, подъ которыя ни подъ одну нельзя подвести живаго, яснаго понятія, точь въ точь, какъ въ богословіи, строится наука политической экономіи. Всѣ же понятія, самыя коренныя, близкія, понятныя и имѣющія прямое отношеніе къ экономической жизни народа, не только не берутся въ основу, но старательно или опредѣляются такъ, чтобы они теряли свое значеніе, или вовсе игнорируются. Понятіе о деньгахъ, напримѣръ, старательно опредѣляется такъ, чтобы деньги представлялись не тѣмъ, что они есть — деньгами, а товарами въ родѣ чая и сахара, понятія же собственности и правительственной власти — тѣ самыя два понятія, на которыхъ зиждутся всѣ экономическія условія, — эти понятія не включаются въ область изслѣдованій политической экономіи, а признаются неизбѣжно существующими, и говорится только о распредѣленіи собственности и о правительствѣ, какъ о самомъ естественномъ и не подлежащемъ изслѣдованію явленіи. Говорится объ обязательныхъ и оптативныхъ функціяхъ правительства.
Все дѣло въ наукѣ этой поставлено такъ, что основаніемъ науки признаются фантазіи, a дѣйствительныя основы признаются за что-то внѣшнее и не подлежащее наукѣ. Несущественныя и не касающіяся дѣла положенія, точь въ точь, какъ богословіе, политическая экономія принимаетъ за основы, и точь въ точь, такъ же какъ богословіе, самыя существенныя понятія она оставляетъ въ сторонѣ. Происходитъ это отъ того, что цѣль той и другой совершенно тожественны. И та и другая существуетъ только затѣмъ, чтобы отстоять ложный порядокъ вещей и скрыть то, что обличаетъ его. Богословію нужно скрыть истинное ученіе Христа и оправдать себя, свое церковное ученіе, дающее привеллигированное положеніе жрецамъ церкви. Политической экономіи нужно скрыть истинное политическое ученіе свободы и равенства и оправдать свое ученіе, дающее привеллигированное положеніе жрецамъ науки. Тѣ же и пріемы той и другой науки.
* № 10.
XXII.
Какія же это ширмы? Ширмы закрыванія отъ людей ихъ несправедливости пользованія чужимъ трудомъ, т. е. оправданіе этой несправедливости есть только одно. Это одно оправданіе только видоизмѣняется и усложняется по временамъ и народамъ. Но оправданіе только одно. Мы, жуирующіе, другой породы, другаго сорта люди, чѣмъ тѣ, и мы нужны тѣмъ людямъ. Безъ насъ было бы хуже. Коканскій ханъ сидитъ на дорогихъ коврахъ и подушкахъ въ своемъ гаремѣ, пьетъ шербетъ, а рабы его замучены работой для доставленія ему сладостей его жизни. И онъ твердо увѣренъ, что остальные люди хамы и что онъ нуженъ, даже драгоцѣненъ и священенъ для этихъ хамовъ. Такіе коканскіе ханы были всегда, и въ древнія времена и у Римлянъ и ихъ гражданъ римскихъ [?], [и въ] средніе или рыцарскіе вѣка, такіе же есть и теперь, и не одинъ, и не два, а ими полонъ нашъ такъ называемый образованный міръ. Но прежде, и въ особенности до введенія христіанства, такіе коканскіе ханы были наивные и невинные — они не знали даже того, что можно и должно иначе дѣлиться съ людьми благами міра. Но съ введеніемъ христіанства, съ распространеніемъ знаній, въ особенности въ наше время, послѣ французской революціи, всеобщей популярной проповѣди гуманности, равенства и братства людей, существованіе такихъ коканскихъ хановъ казалось бы невозможно, удивительно. А между тѣмъ коканскіе ханы существуютъ во всѣхъ видахъ и въ огромномъ количествѣ, и даже идеалъ большинства людей нашего времени есть только идеалъ коканскаго хана, т. е. возможности какъ можно меньше работать и пользоваться какъ можно больше трудами другихъ. Но мало того, что такой идеалъ есть идеалъ людей необразованныхъ: это есть въ скрытомъ видѣ, въ видоизмѣненной формѣ идеалъ всѣхъ такъ называемыхъ образованныхъ людей — людей науки и искусства, тѣхъ самыхъ, которые даютъ направленіе и тонъ всѣмъ другимъ людямъ.
Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ міръ, существовало и существуеть только одно честное оправданіе для коканскаго хана: я-ханъ, ханской крови, я и мои родичи — мы особенные люди бѣлой кости, остальные люди — хамово отродье — черной кости. Намъ, ханамъ, надо пользоваться благами жизни, а хамамъ надо работать на насъ, тѣмъ болѣе, что если насъ не будетъ, хамы передерутся, и ихъ заберетъ другой ханъ, и имъ же будетъ хуже.
Оправданіе это намъ кажется дико, но оно единственно возможное оправданіе и, какъ ни странно сказать, оно одно (только нѣсколько видоизмѣнившись) существуетъ въ наше время. Для того чтобы дальнѣйшее было вполнѣ понятно людямъ, запутаннымъ своей жизнью, также какъ оно будетъ понятно для всѣхъ простыхъ бѣдныхъ людей, я долженъ напомнить немного то естественное свойство людей, которое мы любимъ забывать. Хорошо ли, дурно сдѣлалъ это тотъ Богъ или тотъ законъ природы, по которому существуютъ люди, но дѣло въ томъ, что люди всѣ поставлены въ необходимость постоянно и неустанно бороться съ природой, для того чтобы добывать себѣ, кромѣ орудій труда, кровъ, пищу, платье, топливо, одежду и все то, что спасаетъ ихъ отъ постоянно угрожающей погибели Вотъ это то обыкновенно забываемое обстоятельство, я прошу имѣть въ виду. Возьмемъ ли мы для примѣра общество людей, какъ Россія, въ 100 милліоновъ, въ 1 милліонъ, въ тысячу, въ 10 человѣкъ, какія бы ни были обязанности людей, составляющихъ это общество, — въ томъ ли, чтобы исполнять требованія правительства — ходить воевать или дѣлать маневры, судить ли другихъ людей, молиться и совершать богослуженіе, учиться ли астрономіи, грамматикѣ, государственному праву, играть на скрипкѣ или на театрѣ, какія бы мы не считали обязанности главнѣйшими для этихъ людей, одна обязанность, совпадающая съ необходимостью и вмѣстѣ съ тѣмъ составляющая исполненіе воли Бога или закона природы, будетъ всегда предшествовать всѣмъ другимъ обязанностямъ — обязанность и необходимость прикрыть себя и своихъ отъ дождей и стужи, накормить, напоить, одѣть. Эта обязанность, составляющая исполненіе воли Бога, всегда будетъ первою и несомнѣнною, потому что, чтобы не долженъ былъ дѣлать человѣкъ: маршировать, защищать отечество, судить другихъ, изучать козявокъ или играть на скрипкѣ, прежде всего этаго онъ долженъ выспаться, поѣсть и прикрыться.
Человѣкъ поставленъ въ такія условія, что для жизни онъ прежде всего долженъ не переставая бороться съ природой, добывать себѣ средства противодѣйствія жару, холоду, голоду и т. п. И эта обязанность не легкая. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ, мы видимъ, что люди съ страшнымъ напряженіемъ, лишеніями и страданіями борятся съ тѣми условіями, которыя стремятся погубить ихъ. Какъ мы видѣли прежде, такъ мы видимъ и теперь, что жизни человѣческія гибнутъ въ этой борьбѣ, и потому мы не имѣемъ права думать, что придетъ или пришло время, когда люди могутъ освободить себя отъ этой обязанности. Какъ была эта обязанность первою и несомнѣнною, такъ и осталась она и остается до сихъ поръ. Какъ было, такъ и есть до сихъ поръ. Гдѣ-бы я ни жилъ: въ городѣ пли въ деревнѣ, — стѣны и крыша моей горницы не выросли сами собой; дрова въ моей печи не пришли сами, также не пришла вода и не свалился съ неба печеный хлѣбъ, и супъ, и чай, и сахаръ, и сапоги, и все, все, чего не перечислишь въ 10 томахъ. Все это сдѣлали и принесли мнѣ тѣ люди, изъ которыхъ сотни и тысячи гибнутъ въ борьбѣ зa существование съ природою, тѣ люди, которые мрутъ и чахнутъ и оскотиниваются въ тщетныхъ усиліяхъ добыть себѣ кровъ, пищу и одежду. По какому же праву я освободилъ себя отъ этой борьбы, губящей моихъ братій; по какому праву я дезертировалъ изъ этаго войска и не только не помогаю моимъ братьямъ, гибнущимъ въ ихъ смертной борьбѣ, и спокойно смотрю на ихъ гибель, но еще своими требованіями ослабляю ихъ силы и увеличиваю число погибающихъ?
Какъ я сказалъ, есть только одинъ ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ такой. Я не признаю братства и равенства между людьми. Люди есть благородные — это ханы, граждане Римскіе, рыцари, дворяне и — чернь. Чернь же такъ дурна, что если не управлять ею силою, то эти люди — чернь — побьютъ всѣхъ насъ и друтъ друга, и имъ же будетъ хуже. Я управляю этими людьми, спасаю ихъ отъ золъ, которымъ они подлежать, и потому естественно освобождаю себя отъ общаго всѣмъ труда борьбы съ природой для существованія, а пользуюсь трудами другихъ для блага этихъ же людей по волѣ Бога, поставившаго меня въ это положеніе.
Я отдаю голову на отсѣченіе тому, кто найдетъ или укажетъ мнѣ другое, сколько нибудь понятное оправданіе увольненія себя человѣкомъ отъ участія въ борьбѣ съ природой и пользованія чужимъ трудомъ, кромѣ этаго. (Я не говорю о женщинахъ, для которыхъ оправданіе ношенія, рожденія и кормленія дѣтей всегда служило и служитъ законнымъ оправданіемъ для увольненія себя отъ труда мужского, но никакъ не можетъ служить оправданіемъ увольненія себя отъ труда, выпадающаго на долю большинства женщинъ). Если справедливо то, что чернь не можетъ жить и управляться безъ тѣхъ, которые управляютъ ею, то оправданіе это совершенно вѣрно. И оно даже представляется вполнѣ справедливымъ, когда слышишь отъ той самой черни, трудомъ которой пользуются правители, признаніе справедливости этаго оправданія. Русскій мужикъ и англійскій работникъ, да и Французъ и Американецъ въ большинствѣ случаевъ признаютъ необходимость и законность того увольненія отъ участія въ борьбѣ съ природой, въ которомъ живутъ ихъ правители. А если такъ, то оправданіе это вполнѣ справедливо.
Но въ наше время случилось удивительное дѣло: законность этаго оправданія пользованія чужимъ трудомъ правителей опровергнута и опровергается. Горы книгъ написаны въ доказательство того, что это увольненіе себя отъ труда правителей незаконно, несправедливо, милліоны рѣчей произносятся и пишатся объ этомъ. Незаконность пользованія чужимъ трудомъ правителей сдѣлалось труизмомъ, самой обычной темой разговора образованныхъ, либеральныхъ людей. Но не это удивительно; удивительно то, что нападки на правительство, осужденіе правителей за ихъ дармоѣдство исходить отъ людей, еще больше, чѣмъ правители, освободившихъ себя отъ участія въ трудѣ, еще больше пользующихся чужимъ трудомъ и не имѣющихъ на это никакого оправданія или оправданіе такое сложное, хитрое и мистическое, что никто, кромѣ ихъ самихъ, его понять не можетъ.
Поясню примѣромъ. Прислушайтесь къ разговору взрослыхъ съ просѣдью людей на желѣзной дорогѣ, въ клубѣ, въ гостиной, въ кабинетѣ, и изъ 10 случаевъ 9 вы услышите разговоръ о правительствѣ и правительственных лицахъ. Министръ нажилъ имѣнье, губернаторъ ничего не дѣлаетъ, распутничаетъ, прокуроръ получаетъ 5 тысячъ, частный приставъ, исправникъ нажились, и всѣ поѣдаютъ народный трудъ. Прочитайте газеты — тоже насколько это допускаютъ рамки цензуры. Правители берутъ деньги и поглощаютъ трудъ народа, и это есть страшная несправедливость, противъ которой должно бороться общество всѣми своими силами. Кто же говорить это? Кто призываетъ къ этой борьбѣ съ дармоѣдами? Изъ 10 случаевъ 9 это говорятъ слѣдующіе люди: помѣщикъ, кончившій курсъ въ университетѣ или въ военномъ училищѣ и проживающій не меньше тѣхъ чиновниковъ, которыхъ онъ осуждаетъ, но зато ничего не дѣлающій, кромѣ пріобрѣтенія денегъ, купецъ, фабрикантъ, точно также пользующійся трудами другихъ и дѣлающій только то, что увеличиваетъ его возможность пользованія трудами другихъ, журналистъ, проживающій больше прокурора и дѣлающій только то, что даетъ ему деньги. Учитель, профессоръ, получающій свое жалованье изъ той же казны и доживающій срокъ, чтобы получать еще пенсію. Что значатъ эти осужденія? Я часто думалъ объ этомъ и спрашивалъ осуждающихъ, на какомъ основаніи они осуждаютъ, и убѣдился въ томъ, что эти люди не понимаютъ то, о чемъ они говорятъ. Они осуждаютъ не потому, что они признаютъ несправедливость пользованія чужимъ трудомъ, а только потому, что имъ завидно, что министръ укралъ много, а имъ не удалось, или что исправникъ получаетъ больше, чѣмъ онъ — профессоръ, несмотря на то что онъ профессоръ, всю жизнь считалъ козявокъ, что очень скучно и трудно, а исправникъ веселился и получаетъ больше. Съ этой точки зрѣнія осужденія ихъ имѣютъ смыслъ. Но стоитъ только поставить вопросъ такъ, какъ онъ стоитъ, чтобы ужаснуться передъ той путаницей и фарисействомъ, которая выражается въ этихъ осужденіяхъ. Вопросъ вѣдь стоитъ такъ, и свернуть его съ этой постановки нельзя. Вопросъ такой: почему люди, тѣ люди, которые Богомъ или закономъ природы поставлены въ такія условія, что они страшнымъ, приводящимъ къ страданіямъ и смерти трудомъ только могутъ поддерживать свою жизнь, почему эти люди освободили себя отъ этаго труда и навалили его на друтихъ, своими требованіями отягчая еще этотъ трудъ? Если такъ стоитъ вопросъ, то какимъ образомъ у тѣхъ людей, которые дезертировали отъ этаго труда и не имѣютъ за собой никакихъ понятныхъ оправданій, какимъ образомъ у этихъ людей поворачивается языкъ, чтобы осуждать тѣхъ людей, которые имѣютъ очень ясное опредѣленіе и разумныя оправданія?
Ученый, литераторъ, художникъ — одинъ ругаетъ шефа жандармовъ, другой прокурора, 3-й губернатора. Я нарочно беру ученаго, литератора, художника, потому что всякій простой человѣкъ, либеральный помѣщикъ, купецъ фабрикантъ въ своихъ осужденіяхъ опираются на то самое, чего представителями суть выбранные мною лица — именно на науку, культуру вообще и искусство. Съ высоты этаго величія они осуждаютъ. Разберемъ ихъ осужденія. Вы, Г-нъ Профессоръ, осуждаете шефа жандармовъ, что у него квартира хорошая и жалованье, что онъ пьетъ народную кровь. Правда, онъ уволилъ себя отъ борьбы съ природой и пользуется трудами другихъ, но не одни его начальники говорятъ ему, что онъ нуженъ, ему говорятъ это люди, имя которымъ легіонъ, ему говорятъ, что если онъ не будетъ ловить и вѣшать, то взорвутъ дворецъ и улицы и перебьютъ невинныхъ, убьютъ еще Царя, сдѣлаютъ Пугачевщину, и если онъ вѣритъ этому (а этому легко вѣрить), то у него есть ясное твердое, законное и честное оправданіе въ своемъ увольненіи отъ труда и въ пользованіи трудомъ другихъ. Но вы, осуждающіе его и находящіеся совершенно въ томъ же положеніи, какъ и онъ, никогда палецъ о палецъ не ударившіе для участія въ общей борьбѣ за жизнь, чѣмъ вы оправдываете свое увольненіе? Тѣмъ что вы выучили все то, что писали и пишутъ люди о государственныхъ, международныхъ правахъ, которыхъ никогда не было и не можетъ быть, или вы прибавили еще 17 звѣздъ въ млечномъ пути къ тѣмъ, которые извѣстны, или новыхъ козявокъ нашли или выдумали n-е состояніе тѣлъ и четвертое измѣреніе. Объясните же пожалуйста тѣмъ, которые умираютъ, работая на васъ, какое у васъ есть оправданіе въ вашемъ дезертирствѣ. Но объясните такъ, что[бы] они поняли и охотно сами давали бы вамъ тотъ хлѣбъ, который вы вырываете у нихъ изъ рукъ. Вы говорите, что они, работая вѣчно одну физическую работу, не могутъ понять значенія науки. Но я и со мною много другихъ, мы, грамотные и не забитые работой, и мы читали ваши книжки и все таки не можемъ понять, какая связь того таинства научнаго, которое вы совершаете, съ участіемъ въ трудѣ людей. Какимъ образомъ знаніе той чепухи о n-м состояніи тѣлъ, которое вы сами выдумаете и сами разрушите, какимъ образом ваши споры о томъ, что вы сами выдумываете, какимъ образомъ даже знаніе того, сколько у голенястыхъ птицъ перьевъ на заду или какое отношеніе первыхъ чиселъ, какъ эти знанія могутъ заплатить за дрова, хлѣбъ, одежу, которые, умирая въ трудѣ, дѣлаютъ для васъ люди, — этаго вы не объясните ни тѣмъ, которые трудятся на васъ, ни мнѣ, ставящему вамъ этотъ вопросъ, ни самимъ себѣ, если вы захотите быть честны. Я знаю, что вы вѣрите, что наука очень полезна. Но вѣдь ваша вѣра при васъ. Зачѣмъ же тѣмъ людямъ, которые не вѣрятъ въ это, умирать, кормя и одѣвая васъ? Вы вѣрите — и прекрасно. Кто вѣритъ, тотъ и дѣлай. А то вы тѣмъ самымъ орудіемъ, которымъ правители пользуются трудами другихъ, пользуетесь сами, но не имѣете никакого оправданія, кромѣ своей вѣры, да еще осуждаете правителей.
Тоже и съ литераторомъ, тоже и съ художникомъ. Я пишу повѣсти или насмѣшки и ругательства или спорю съ кѣмъ нибудь, или пишу картинки — какого нибудь Христа, которыя никому не нужны, и за это я считаю себя въ правѣ уволиться отъ борьбы съ природой, и тѣ, которые кормятъ и одѣваютъ меня, должны вѣрить, что тѣ вещи, которыя я пишу на бумагѣ, или полотнѣ, или на нотахъ, тѣ вещи, которыя не имѣютъ для нихъ никакого ни интереса, ни смысла, даютъ мнѣ это право.
Судно заливаетъ водой. Чтобы не потонуть, всѣмъ намъ надо работать, и всѣ работаютъ. Но вотъ является человѣкъ, который убѣждаетъ или хитростью приводитъ людей къ убѣжденію, что имъ будетъ выгоднѣе, если онъ не будетъ выкачивать, а будетъ распоряжаться ими. Это понятно, пока люди вѣрятъ, что этотъ командиръ имъ нуженъ; но вотъ является другой, который тоже увольняется отъ работы подъ предлогомъ, что онъ будетъ колдовать. Никто не вѣритъ этому человѣку, но онъ. поддѣлывается къ тому, кто сталъ начальникомъ и не работаетъ, а колдуетъ. Но вотъ этотъ колдунъ начинаетъ завидовать начальнику и показываетъ людямъ, что начальникъ плохъ и не нуженъ. Тутъ комическая сторона дѣла; если люди повѣрятъ колдуну, то прогонятъ начальника, велятъ и ему работать. А прогнавъ начальника, уже само собой прогонятъ и колдуна, который держался только на начальникѣ, и велятъ ему работать. Таково положеніе въ нашемъ обществѣ того выросшаго подъ покровительствомъ власти обмана, называемаго культурой, наукой и искусствомъ.
* № 11.
XXIII.
Увольненіе себя отъ общаго труда человѣчества властителями во имя пользы управленія можетъ быть дурно и вредно, но злоупотребленіе этой возможностью имѣетъ свой предѣлъ. Правители, злоупотребляющіе своей властью, доводятъ народъ до сознанія ненужности этихъ правителей, и правители устраняются. Но увольненіе себя отъ труда во имя отвлеченной, непонятной народу пользы — во имя колдовства, совершаемаго въ пользу этаго народа, не имѣетъ предѣловъ и хуже всего развращаетъ людей. Кромѣ того, вѣра въ законность увольненія себя отъ труда правителями расшатывается уже давно и быстро уничтожается, вѣра же въ законность увольненія. себя отъ труда во имя культуры, цивилизаціи, науки и искусства утверждается, усиливается и распространяется. Всѣ злодѣянія, совершаемыя людьми въ наше время, злодѣянія, передъ которыми цирки Римлянъ и казни инквизиціи кажутся милыми шутками, — всѣ совершаются во имя этаго новаго оправданія — культуры, науки и искусства. Милліоны людей гибнутъ, всю жизнь проводя, какъ скоты, подъ землею, въ запертыхъ душныхъ зданіяхъ милліоны бродягъ и милліоны растлѣваемыхъ дѣтей и проститутокъ, и все это такъ должно быть, потому что это сопутствуетъ развитію культуры, науки искусства: fiat культура, pereat mundus232. Что же такое эта культура и слагающіе ее элементы — главные — наука и сопутствующее ей — искусство?233 Спрашивая себя, что такое наука вообще и отъискивая отвѣтъ въ смыслѣ, придаваемомъ слову языкомъ не только русскимъ, но и всѣми языками, я вижу что наукою называется знаніе — всякое знаніе и искусство, въ болѣе же точномъ смыслѣ вижу, что, отдѣливъ искусство, какъ мастерство какое либо, отъ науки, наукой называется знаніе предмета предметовъ и отношеній ихъ между собою. Есть наука крестьянскаго, сапожнаго дѣла. Человѣкъ — прикащикъ, не умѣющій косить и пахать, можетъ знать крестьянское дѣло; также и хозяинъ — сапожникъ, не умѣющій шить, также лѣсной промышленникъ и т. п. Кромѣ того, есть наука грамотѣ, ариөметики и всѣхъ возможныхъ предметовъ, нужныхъ и полезныхъ людямъ. Такое значеніе имѣетъ слово наука въ языкѣ. Но не таково значеніе слова наука для людей науки. Опредѣленіе людей науки не покрываетъ значенія, которое ему даетъ языкъ. Наука для людей науки исключаетъ изъ своего опредѣленія всѣ тѣ знанія сапожнаго, лѣснаго, слесарнаго и всѣхъ вообще приложимыхъ къ жизни дѣлъ и признаетъ научными всякія знанія, за исключеніемъ прямо приложимыхъ. Даже существуетъ часто повторяемое мнѣніе, что вполнѣ научны только тѣ знанія, которыя не имѣютъ цѣлью свое приложеніе. Научными знаніями признаются всѣ тѣ знанія, которыя, во-первыхъ, не могутъ быть непосредственно приложимы, и, во 2-хъ, тѣ, которыя облечены въ извѣстную условную форму. Наукой признается то, что признается научнымъ тѣми, которые себя признаютъ людьми науки.
* № 12.
XXIV.
Государственный человѣкъ прежде и теперь иногда по старой привычкѣ защищаетъ свою праздность и зло тѣмъ, что онъ назначенъ на это Богомъ, или Гегельянецъ тѣмъ, что государство есть форма развитія личности. Онъ служить государству, и потому онъ выкупаетъ все, но эти оправданія уже отжили, и никто не вѣритъ имъ. Чтобы твердо (какъ ему кажется) защитить себя, онъ долженъ найти теперь уже не богословскiя или философскія, а научныя опоры. Нужно выставить приндипъ или національностей, или объединенія, или общей подачи голосовъ, или конституціи, или даже соціализма въ смыслѣ научныхъ принциповъ, нужно покровительствовать наукамъ и искусствамъ. Промышленный богатый человѣкъ прежде могъ говорить о Божьемъ произволеніи, избравшемъ его въ богачи и распорядители трудомъ другихъ, могъ говорить о значеніи торговли и промышленности для блага государства, но все это теперь уже не годится. Чтобы научно оправдать себя, онъ долженъ, во-первыхъ, придать научный характеръ своему дѣлу, на фабрикѣ завести больницы и школы, въ торговлѣ установить международныя отношенія и, во-вторыхъ, долженъ покровительствовать наукамъ и искусствамъ: издавать газеты, книги, завести галлерею или музыкальное общество. Ученый и художникъ можетъ по старой памяти говорить о пророчествѣ и откровеніи или о проявленіяхъ духа, но чтобы ему стоять твердо и знать, что печку топить и воду носить и доставлять ему пріятности жизни есть обязанность другихъ, онъ долженъ исповѣдывать то, что общества человѣческія суть организмы и что онъ въ одномъ изъ этихъ организмовъ или во всемъ человѣчествѣ, какъ организмѣ (это какъ то не совсѣмъ раздѣлено ясно) есть мозговой органъ, который долженъ питаться другими. <Только на этомъ удивительномъ суевѣріи, что человѣчество и человѣческія общества суть организмы, и держатся въ наше время всѣ оправданія праздности людей, имѣющихъ возможность посредствомъ насилія пользоваться трудами другихъ.>
Люди живутъ вѣками и подчиняются теологическому порядку вещей. Папа помазалъ, и оттого онъ король и законный. Отецъ награбилъ, и оттого дѣти законно владѣютъ. Потомъ люди живутъ, вѣками подчиняясь юридическимъ порядкамъ. Государство должно быть, должны быть сословія, и потому это все законно. Люди вѣрятъ, что кто-то тамъ наверху, божественный или мудрый, устроилъ все это и разъяснилъ, они не знаютъ всѢхъ разъясненій, но вѣрятъ, что все тамъ стройно и ясно. Но стоитъ самому простому человѣку заглянуть въ эту теологическую или философскую кухню, чтобы ужаснуться передъ той безсмысленностью и неосновательностью, которыя царятъ тамъ. То же и съ научной теоріей: она ходитъ въ толпѣ въ газетныхъ журнальныхъ статьяхъ, въ популярныхъ книжкахъ, разговорахъ, всѣ вѣрятъ въ нее, и наивнымъ людямъ кажется, что тамъ гдѣ-то у ученыхъ все это такъ ясно и очевидно, что и сомнѣній быть не можетъ, но стоитъ заглянуть туда, чтобы ужаснуться. — Удивительно читать въ богословіи доказательства того, что Богъ одинъ и три, что Богъ однимъ велѣлъ царствовать, другимъ повиноваться и царство назначилъ тѣмъ, которыхъ помажутъ масломъ, удивительно читать опредѣленіе государственнаго и международнаго права, но еще удивительнѣе заглянуть въ лабораторіи научной теоріи и прочесть тамъ основы того міросозерцанія, которое называется научнымъ.
Теорія эта въ слѣдующемъ:
Формулировать научное суевѣріе, то, что въ наше время называется наукой, такъ же трудно, какъ трудно формулировать всякое суевѣріе, которымъ пользуются люди и которое не выдумывается сразу однимъ человѣкомъ, а образуется по мѣрѣ надобности людей, пользующихся суевѣріемъ, медленнымъ наростаніемъ однаго обмана на другой, одной лжи на другую, точно такъ же какъ трудно формулировать теологическое суевѣріе, точно такъ же образовавшееся. При опроверженіи такого рода теорій суевѣрія, какъ это каждый можетъ замѣтить при опроверженіи теологическаго суевѣрія, главная трудность въ томъ, что нѣтъ ясной формулировки ея. Вы стараетесь уловить какое нибудь ясное утвержденіе и доказываете его неосновательность, но противникъ тотчасъ же видоизмѣняетъ свое утвержденіе и ускользаетъ отъ логическихъ доводовъ, вы опровергаете и другое утвержденіе, онъ опять, какъ змѣя, ускользаетъ и говорить новое, и такъ онъ дѣлаетъ до безконечности, потому что у него нѣтъ и не можетъ быть по безсмысленности его утвержденій никакихъ ясныхъ опредѣленій. То же самое и съ царствующей въ наше время теоріей научнаго суевѣрія. Единственное средство уловить эти ускользающія изъ рукъ логики теорій суевѣрій — это изслѣдовать ихъ въ ихъ источникахъ. Источникъ теологической теоріи суевѣрія есть библія, источникъ научной теоріи суевѣрія есть позитивная философія и политика Конта. До Конта не было суевѣрія о томъ, что человѣчество есть организмъ, не было классификаціи наукъ съ вершиной ихъ соціологіей, не было науки въ томъ значеніи, которое она приписываетъ себѣ теперь. Не было наукословія, совершенно аналогичнаго богословію, не было науки самой себя разсматривающей и саму себя утверждающей, точно такъ же, какъ это дѣлаетъ сама себя опредѣляющая и разсматривающая церковь. Контомъ положено основаніе теоріи научнаго суевѣрія, и въ предметѣ суевѣрія и въ формѣ самаго суевѣрія, съ удивительнымъ сходствомъ со всякимъ и въ особенности хорошо намъ извѣстнымъ церковно-христіанскимъ суевѣріемъ. Точно такъ же дѣйствительности придано недѣйствительное фантастическое значеніе: въ церковномъ христіанствѣ — дѣйствительному человѣку Христу придано фантастическое значеніе Бога (и Бога и человѣка), въ контовскомъ суевѣріи — дѣйствительному существу человѣчеству (всѣмъ живущимъ и жившимъ людямъ) придано фантастическое значеніе организма. И точно такъ же извѣстное пониманіе однихъ людей признано за единственно непогрѣшимо истинное: въ церковномъ христіанствѣ пониманіе ученія Христа, признанное Никейскимъ соборомъ, признано святымъ и единымъ истіннымъ, въ контовскомъ суевѣріи знанія нѣкоторых людей 19 вѣка въ Европѣ признаны несомнѣнными научными. Послѣдствія были однѣ и тѣ же. Во-первыхъ, то, что основное суевѣріе, не подвергаясь болѣе изслѣдованію, послужило основаніемъ самыхъ странныхъ и ложныхъ теорій, какими они и должны были быть, такъ какъ строились на суевѣріии, во-вторыхъ, то, что усвоивъ себѣ пріемъ утвержденія за собой права признанія самихъ себя научными, т. е. непогрѣшимыми, ученики этой школы распались, такъ же какъ и ученики церковниковъ, на безчисленное количество толковъ, отрицающихъ другъ друга. И точно такъ же какъ между разными церквами и исповѣданіями, отрицающими другъ друга, есть преобладающее, съ нѣкоторымъ правомъ называющее себя католическимъ, т. е. всемірнымъ, такъ точно есть одна церковь и исповѣданіе, не безъ нѣкотораго права на это въ наше время называющее себя наукой исключительно. «Это признано наукой, это доказано научными изслѣдованіями, научный методъ, научныя данныя, пріемы», точно такъ же какъ говорилось прежде: «церковь, церковныя постановленія» и т. п., и подъ наукой въ этомъ смыслѣ разумѣется преимущественно и почти исключительно науки по тому смыслу вѣры, который установилъ Контъ. Математика, механика, астрономія, физика, химія, біологія, соціологія. И изъ этихъ наукъ наукой изъ наукъ считается соціологія, т. е. та самая наука, которой нѣтъ и быть не можетъ, потому что основаніе, на которомъ она построена и къ которому пригнаны всѣ остальныя науки, есть совершенно фантастическое, ни на чемъ не основанное утвержденіе. А оно то и руководитъ дѣятельностью и направленіемъ всѣхъ другихъ наукъ, точно такъ же какъ догматъ троичности Бога руководилъ всей дѣятельностью богословскихъ наукъ. Только этимъ фантастическимъ, ни нa чемъ не основаннымъ утвержденіемъ объясняется то значеніе, которое въ наше время приписывается естественнымъ наукамъ, въ особенности изслѣдованію микроскопическихъ организмовъ. Только этимъ суевѣріемъ можно объяснить то непонятное свободному отъ суевѣрій человѣку [значеніе], которое имѣла въ наше время теорія эволюціи и ученіе Дарвина. «Ну и прекрасно, — говоритъ свободный отъ суевѣрій человѣкъ прослушавъ теорію Дарвина о наслѣдственности и борьбѣ за существованіе и дальнѣйшихъ подробностяхъ. — Что же мнѣ за дѣло?» Но не такое значеніе имѣютъ эти элукубраціи для людей научнаго суевѣрія. «Человѣчество есть огромный организмъ и такіе же организмы человѣческія общества, и потому только одно изслѣдованіе законовъ развитія и жизни организмовъ можетъ уяснить мнѣ мое значеніе и мѣсто въ жизни», говоритъ человѣкъ научнаго суевѣрія. Въ наше время не считается наукой то, что всегда было и будетъ и не можетъ не быть наукой, — знаніе того, что мыслили люди о вопросахъ жизни, но считается наукой только изслѣдованіе того, сколько перьевъ на задницѣ у какой птицы, какіе гдѣ есть кости человѣческія и другихъ животныхъ, сколько козявокъ есть и было на свѣтѣ и какія есть микроскопическія живыя существа, которымъ, очевидно, конца не можетъ быть, какъ и звѣздамъ. Что въ этомъ преимущественно видятъ науку люди нашего времени, это можно понять, зная то научное суевѣріе, изъ котораго они исходятъ для руководства въ предметахъ изученія, но какимъ образомъ могло такое странное суевѣріе быть принято человѣчествомъ — вотъ что трудно понять и что требуетъ разъясненія.
Очень понятно, что французскій ученый, педантъ и вмѣстѣ съ тѣмъ высоко нравственный человѣкъ, въ минуту поэтическаго вдохновенія могъ придумать прекрасное сравненіе — написать какъ бы притчу о томъ, что желательно бы было, чтобы отдѣльные люди смотрѣли на человѣчество какъ на огромное живое прелестное существо, имѣющее душу, и потому, какъ частицы огромнаго тѣла, живя только потому, что онѣ части тѣла, жили бы только для всего тѣла и для каждой отдѣльной части его. Если бы Контъ написалъ бы это сравненіе въ альбомъ какой-нибудь дамѣ, еще лучше въ стихахъ, то всякій, прочтя это, призналъ бы, что сравненіе очень хорошее и вытекшее изъ самыхъ хорошихъ побужденій и не возражалъ бы на него, но, удивительное дѣло, Контъ выставилъ это положеніе не какъ сравненіе, а какъ дѣйствительный фактъ, и ученые, столь гордящіеся своей точности критическимъ анализомъ234 и не допусканіемъ ничего на вѣру, приняли эту шутку, какъ самый реальный фактъ и на немъ построили и теперь строятъ всю свою позитивную науку, отъ которой, очевидно, ничего не останется, какъ только они догадаются о томъ, что тотъ фактъ, на которомъ они все строятъ, никогда не существовалъ и не можетъ быть утверждаемъ.
Человѣчество по Конту есть живой организмъ. Что мы понимаемъ подъ словомъ организмъ? Прежде всего мы понимаемъ себя какъ существо отдѣленное отъ другихъ существъ. Я вижу другаго человѣка, узнаю, что онъ отдѣленъ отъ другихъ существъ сознаніемъ и ощущеніемъ своей жизни, и признаю его организмомъ. Я вижу лошадь, собаку, муху, козявку и по нѣкоторымъ признакамъ заключаю, что въ нихъ есть то же ощущеніе отдѣльности жизни, и потому называю ихъ организмами. Все, что я называю организмомъ, я называю таковымъ только потому, что, отвлекая частные признаки отъ различныхъ существъ, я нахожу въ нихъ общіе и мнѣ признаки сознанія или ощущенія отдѣльности жизни. Основное понятіе организма вытекаетъ не изъ тѣхъ опредѣленій словесныхъ, которыя я буду прилагать къ организмамъ (тѣмъ болѣе что и въ опредѣленіяхъ этихъ наука не сговорилась), а изъ моего сознанія и ощущенія моей отдѣльной отъ другихъ жизни; и потому, какъ бы хорошо ни было придумано словесное опредѣленіе организма и какъ бы ни подходили подъ него какія бы то ни было существа, никто не можетъ признать организмомъ того, что не представляетъ для человѣка того ощущенія отдѣльности жизни, которое сознаетъ человѣкъ. Я могу признать организмами даже тѣ простыя микроскопическія существа, которыми такъ заняты теперь люди науки, потому что и въ нихъ я нахожу признаки ощущенія отдѣльности жизни, но какъ бы точно ни подходило подъ придуманное опредѣленіе человѣчество или общество человѣческое, я не могу его признать организмомъ, потому что въ нихъ отсутствуетъ для меня существенный признакъ ощущенія отдѣльности жизни. Не могу назвать въ особенности потому, что, допустивъ такое произвольное соединеніе въ организмъ многихъ и всѣхъ особей извѣстнаго рода, мнѣ нѣтъ никакой причины не называть организмами лошадинство или отдѣльные табуны, коровство, баранство или отдѣльныя стада.
И вотъ на такомъ то произвольномъ утвержденіи строится цѣлая наука, называемая соціологіей. Берутся нѣкоторые признаки организма и подъ эти признаки подводятся общества.
* № 13.
Всему дѣлу голова теперь научная наука. Только тотъ изъ праздныхъ людей стоитъ твердо въ обществѣ, на чьей сторонѣ она — эта наука. <Что же такое эта научная наука? Она одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ суевѣрій, которыя кажутся чѣмъ то величественнымъ и несомнѣннымъ до тѣхъ поръ, пока мы вѣримъ въ нихъ, и которыя разсыпаются прахомъ, какъ только люди, свободные отъ этаго суевѣрія, прикинутъ его на мѣрку самаго простаго и недалекаго, только не предубѣжденнаго разсудка.> Она нелѣпое суевѣріе, отвѣчаю я, и берусь доказать, что для каждаго непредубѣжденнаго человѣка такъ же ясно, какъ то, что вѣра въ домовыхъ и лѣшихъ есть нелѣпое суевѣріе. И говоря это, я не испытываю ни малѣйшей ни застѣнчивости въ томъ, что позволяю себѣ такую смѣлость, ни малѣйшей гордости въ томъ, что я сдѣлаю такую важную вещь. Доказать нелѣпость всякаго суевѣрія очень легко: стоитъ только не вѣрить на слово, что все такъ, какъ это говорятъ какіе-то люди, а разобрать, что именно говорятъ эти люди. <Суевѣрія держатся потому только, что любятъ вѣрить тому, что есть гдѣ-то тамъ, на недосягаемыхъ намъ высотахъ, божественные и мудрѣйшіе люди, которые все узнали, изслѣдовали и рѣшили, и намъ остается только вѣрить тому, что говорятъ эти люди. Вѣка проходятъ и поколѣнія за поколѣніями живутъ и умираютъ въ противорѣчіи своего разума съ тѣмъ, что имъ передаютъ ихъ мудрецы, и имъ въ голову не приходитъ вопросъ: да правда ли то, что намъ говорятъ? Вопросъ же этотъ не приходитъ въ голову потому, что имъ кажется, что тамъ, на этихъ недосягаемыхъ высотахъ, все ясно и несомнѣнно и что противорѣчія происходятъ отъ ихъ слабости. Такъ это было съ богословскимъ суевѣріемъ, такъ это было и есть съ философскимъ, государственнымъ суевѣріемъ, такъ это происходитъ теперь съ научнымъ суевѣріемъ. Богъ одинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ одинъ — три. Одинъ родился безъ нарушенія дѣвства, былъ человѣкомъ, воскресъ и сидитъ одесную отца. Его надо ѣсть въ видѣ хлѣба и вина. Онъ велѣлъ, чтобы мазали масломъ всѣхъ людей и особенно нѣкоторыхъ людей. Отъ этаго помазанія эти люди дѣлаются священны, a другіе должны исполнять всю ихъ волю. Вѣками жили и умирали люди, сознавая въ душѣ, что все это ужасающая безсмыслица, и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжали вѣрить, что это такъ, потому что имъ казалось, что не могли же люди, выработавшіе эти положенія и такъ торжественно ихъ заявляющіе, не могли же эти люди ошибаться или обманывать. Люди всѣ должны быть несвободны, а покоряться другимъ людямъ и воевать другъ съ другомъ, и разорять другъ друга, и учиться и исповѣдовать вѣру по волѣ этихъ нѣкоторыхъ людей. Все это опредѣляетъ философія права и разныя права: государственное, полицейское, международное. И опять вѣка поколѣніе за поколѣніями умирали люди, сознавая нелѣпость этаго, и всетаки вѣрили тому, что это такъ, потому что это говорили имъ философы, ученые. Имъ казалось, что не могли же люди, такъ торжественно и убѣдительно говорившіе это, ошибаться или обманывать ихъ.>
* № 14.
Такъ что же дѣлать? Дѣлать? Прежде всего — не лгать, потомъ смириться, покаяться и третье — понять, что трудъ не для себя, но для другаго, для людей, есть не проклятіе, а единственное благо человѣка.
Не лгать — значить то, чтобы не придумывать изворотовъ, по которымъ можно бы было не видать дѣйствительности, не закрывать глаза, не говорить: если такъ, то моя жизнь несчастная, a вѣрить, что несчастна можетъ быть только неразумная жизнь, что какъ бы ни ново и странно казалось то положеніе, къ которому ведетъ разумъ, это положеніе будетъ лучше прежняго, потому что разумъ на то и данъ, чтобы показывать намъ благо, и безъ разума не можетъ быть счастія. Не лгать — значить не бояться счастья. Можетъ быть, уже много долженъ и не расплатишься, но какъ бы ни много было, все лучше, чѣмъ не считаться. Какъ бы ни далеко зашелъ по ложной дорогѣ, все лучше, чѣмъ продолжать идти по ней. Лгать невыгодно еще и потому, что ложь одна ведетъ за собой другую. Стоитъ разъ ввести ошибку въ вычисленіе, и ошибка эта будетъ вездѣ требовать поправки. Стоитъ разъ оробѣть передъ истиной и, увидавъ ее, не ввести ее себѣ въ душу, и это отступленіе отъ истины будетъ на каждомъ шагу въ самыхъ разнообразныхъ видахъ мучать тебя. Попробуй не лгать передъ собой — принять истину себѣ въ душу, какъ она представляется тебѣ, и ты узнаешь силу ее, ты увидишь, какъ, какъ электрической искрой, вдругъ соединятся правильно всѣ разрозненныя прежде явленія; все, что было запутано и тайно, станетъ ясно; тамъ, гдѣ были лѣнь и апатія, явится сила и энергія, тамъ, гдѣ были злоба, презрѣніе, вражда, — явятся любовь и возможность проявленія ея. Гдѣ былъ хаосъ и страхъ передъ нимъ, явятся стройность и стремленіе къ ней. Тотъ, кто искренній человѣкъ, ищущій истины, задавъ себѣ вопросъ — что дѣлать? отвѣтитъ себѣ на него: не лгать передъ собой, а идти туда, куда ведетъ разумъ, тотъ уже рѣшилъ вопросъ. Онъ найдетъ, что, гдѣ и какъ дѣлать, онъ не будетъ лгать передъ собой.
Одно, что можетъ помѣшать ему въ отъисканіи исхода, — это ложно высокое о себѣ мнѣніе — гордость; и потому другой отвѣтъ на вопросъ, что дѣлать, — будетъ: смириться, покаяться. Я говорю это потому, что представленіе наше о нашемъ значеніи такъ сростается съ нами, что мы часто не замѣчаемъ этого побужденія къ обману. Разскажу разговоръ мой съ однимъ изъ лучшихъ молодыхъ людей, сближавшихся со мной. Да проститъ онъ меня за мою нескромность. Случай очень знаменателенъ. Молодой человѣкъ съ именемъ, большими связями, кончившій курсъ въ университетѣ, чрезвычайно упростившій свою жизнь, отказавшійся отъ всѣхъ преимуществъ связей и положенія, спрашиваетъ меня мое мнѣніе о томъ, какую дѣятельность избрать ему, пріобрѣтшему то образованіе, которое онъ пріобрѣлъ. Вопросъ его собственно такой: чѣмъ могу я быть наиболѣе полезенъ людямъ съ тѣми особенными знаніями, которыя я пріобрѣлъ, и включаетъ въ себя соображеніе о томъ, что мнѣ, проведшему 11 лѣтъ ученія, невыгодно — не для себя, но для людей — начать учиться пахать, когда я имѣю другія знанія. Я отвѣтилъ ему, что вопросъ его: какъ мнѣ, пріобрѣтшему столько знаній, употребить ихъ на пользу людямъ, надо поставить такъ, какъ бы онъ стоялъ для ученика, прошедшаго курсъ талмуда и выучившаго число буквъ всѣхъ священныхъ книгъ и т. п. Вопросъ бы стоялъ такъ: какъ мнѣ, проведшему по несчастію моихъ условій 11 лучшихъ учебныхъ лѣтъ въ праздныхъ и развращающихъ умъ занятіяхъ, какъ мнѣ исправить эти ошибки моего воспитанія и постараться быть полезнымъ людямъ? Если бы вопросъ стоялъ такъ: что мнѣ дѣлать, такому человѣку? то всякій отвѣтилъ бы: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шеѣ другихъ и, учась этому и выучившись, при всякомъ случаѣ приносить пользу людямъ и руками, и ногами, и мозгами, и сердцемъ. Для того человѣка нашего круга, который не будетъ лгать передъ собой, будетъ необходимость смириться и покаяться, сознать свою вину. Помѣщику нельзя было перестать быть рабовладѣльцемъ безъ того, чтобы не смириться и не покаяться. И покаяніе не страшно, такъ же какъ и не страшна истина, и такъ же радостно и плодотворно. Стоитъ только разъ навсегда принять истину совсѣмъ, и тогда невольно и смириться совсѣмъ, т. е. помнить, что правъ никто изъ насъ не имѣетъ и не можетъ имѣть, а обязанностей нѣтъ конца и нѣтъ предѣловъ.
И это то сознаніе обязанности и составляетъ сущность 3-го отвѣта на вопросъ, что дѣлать, состоящаго въ признаніи труда не проклятіемъ,но радостью и сущностью жизни человѣка.
Какъ только δόχα235, вѣра человѣка — въ томъ, что трудъ труденъ, а праздность не трудна, такъ является потребность меньше трудиться и избирать не тотъ трудъ, который навѣрно нуженъ, который первый подъ руками, а тотъ, за который другіе больше отдаютъ труда. Какъ только трудъ — сущность жизни, такъ человѣкъ избираетъ самый вѣрно полезный трудъ и самый близкій. Жизнь же такъ устроена, что самый вѣрно полезный трудъ и самый близкій есть самый радостный, какъ трудъ земледѣльческій, трудъ для своей семьи и близкихъ.
Менѣе достовѣрно полезный, и для цѣлей болѣе отдаленныхъ, есть трудъ и менѣе радостный. Такъ, ремесленный и подъ конецъ умственный менѣе другихъ достовѣрно полезны, цѣль ихъ болѣе отдаленна, и они тяжелѣе другихъ. Какъ только человѣкъ въ трудѣ будетъ видѣть не проклятіе, a дѣло всей жизни, такъ онъ естественно возьмется за первый предлежащій, ближайшій трудъ — кормиться и промѣняетъ его только тогда, когда къ нему заявятся требованія въ другомъ, менѣе радостномъ, ремесленномъ или умственномъ трудѣ. Заявляемыя же къ нему требованія и благодарность людей, кромѣ обезпеченія его, будутъ вознаграждать его за меньшую радостность труда. Кромѣ того, требованія эти будутъ предъявляемы только тогда, когда человѣкъ хорошо дѣлаетъ свой ремесленный или умственный трудъ. А хорошо дѣлаетъ человѣкъ только то, что любитъ. Я знаю одну общину, гдѣ люди жили, кормясь своимъ трудомъ, считая все общимъ. Одинъ изъ членовъ былъ образованнѣе другихъ, и отъ него требовали чтенія лекцій, къ которымъ онъ долженъ былъ готовиться днемъ, чтобы читать ихъ вечеромъ. Онъ дѣлалъ это съ радостью, чувствуя, что онъ полезенъ другимъ и дѣлаетъ дѣло хорошо, но онъ усталъ, и здоровье его стало хуже отъ лишенія работы. Члены общины пожалѣли его и попросили идти работать въ поле. Для людей, смотрящихъ на трудъ, какъ на сущность и радость жизни, фонъ, основа всякой жизни будетъ всегда борьба съ природой, трудъ для прокормленія себя и другихъ. Отступленія отъ этаго закона будутъ только зависѣть отъ требованій другихъ. Для человѣка, который признаетъ трудъ сущностью и радостью жизни, удовлетвореніе его потребностей всегда будетъ, потому что всегда человѣкъ долженъ кормиться, и всегда будетъ радостно, потому что либо онъ будетъ дѣлать самый здоровый, радостный земледѣльческій трудъ, либо будетъ имѣть сознаніе труда болѣе широкаго и несомнѣнно полезнаго.
Такъ вотъ что дѣлать:
Не лгать, смириться и счастье жизни полагать не въ наслажденіи, а въ трудѣ.
23 Октября
Ясн. Пол.
* № 15.
<На моей памяти совершились не такія перемѣны. Я помню, что лакей держалъ горшокъ барину, который ходилъ въ него. За столомъ, за каждымъ стуломъ стоялъ лакей съ тарелкой. Въ гости ѣздили съ двумя лакеями. Казачокъ и дѣвочка стояли въ комнатахъ, подавали трубки и вычищали и т. п. Теперь намъ это страшно и дико. Но развѣ не страшно и не дико то, что молодой мущина, женщина, да даже и старый, чтобы посѣтить знакомаго, велятъ закладывать лошадей, и сытые лошади только для этого и кормятся, и онъ или она ѣдетъ мимо мужика съ возомъ, который не ѣвши самъ везетъ съ своей лошадью, а имъ и въ голову не приходитъ, что это — то же, что держать горшокъ? Развѣ не также странно и дико то, что человѣкъ одинъ живетъ въ 5-ти комнатахъ, что женщина тратитъ тысячи, сотни, хоть десятки рублей на одежду, когда ей нужно только льна и шерсти, чтобы спрясть и соткать себѣ и мужу и дѣтямъ одежды? Развѣ не странно и дико, что люди живутъ, не ударивъ палецъ о палецъ, разъѣзжая, куря, играя, и цѣлая рота людей озабочены тѣмъ, какъ ихъ кормить, согрѣть? Развѣ не странно и дико, что старые люди серьезно толкуютъ, пишутъ въ газетахъ о театрѣ, о музыкѣ и, какъ шальные, ѣздятъ смотрѣть не перестающихъ разъѣзжать музыкантовъ, актеровъ? Развѣ не странно и дико то, что десятки тысячъ юношей и дѣвочекъ воспитываются такъ, чтобы отучить ихъ отъ всякой работы (онѣ идутъ домой, и двѣ книжки несетъ за ней прислуга) подъ предлогомъ выучиванія никому и имъ самимъ не нужныхъ пустяковъ?>
[ВАРИАНТЫ К СТАТЬЕ «УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ».]
* № 1.
Онъ говоритъ это, какъ сказалъ бы хозяинъ работнику: выкопай колодезь, и когда начнешь копать, то вотъ тебѣ лопата, вотъ тебѣ воротъ и кадушка, чтобъ выкапывать землю, дѣлай такъ, какъ я показалъ тебѣ, и тогда тебѣ будетъ легко.
Если работникъ вѣритъ хозяину, то прежде чѣмъ сказать, что трудно, онъ возьметъ тѣ орудія, которыя даетъ ему хозяинъ, и станетъ работать ими, какъ велѣлъ хозяинъ. Если же онъ не взялъ эти орудія и не работаетъ ими, то онъ и не можетъ говорить, что трудно, а онъ лѣнивый работникъ и обманщикъ, если говоритъ, что вѣритъ хозяину.
И мы обманщики, если не дѣлаемъ того, чему онъ научилъ насъ, зная нашу слабость, и говоримъ, что трудно. Мы лѣнивые и коварные рабы, если не исполняемъ не всего того, что онъ велѣлъ намъ, но если не исполняемъ того, что можетъ привести насъ къ исполненію и чему онъ научилъ насъ.
Не разсердиться я не могу, остановить блудную мысль не могу, не могу и воздержаться отъ зависти и зла, когда они проникли въ мое сердце, но не заниматься пустяками и въ нихъ класть свою жизнь я могу, могу не смотрѣть туда, гдѣ соблазны и не идти туда, могу искать общенія съ святыми людьми, а не съ грѣшниками, могу не считать себя выше другихъ и не искать силы и богатства. Все это я могу, такъ и нельзя мнѣ говорить, что это трудно и я не могу исполнить.
* № 2.
Человѣкъ заблудился въ снѣжную метель и мечется изъ стороны въ сторону, губя свои послѣднія силы. Пришелъ къ нему спаситель и сказалъ ему: «остановись, опомнись, перестань метаться» и подробно указалъ путь спасенія и самъ передъ нимъ прошелъ по этому пути. Какъ же можетъ человѣкъ, продолжающій метаться и не идущій по указанному пути, говоритъ, что онъ вѣритъ спасителю, но что ему трудно спастись? Если онъ вѣритъ, то прежде чѣмъ сказать, что трудно, онъ остановится, одумается и сдѣлаетъ первый шагъ къ тому пути, который указанъ ему. Если же онъ не дѣлаетъ этаго, то онъ и не можетъ говорить, что трудно, а онъ лицемѣръ, и онъ не вѣритъ тому, кто хочетъ спасти его.
* № 3.
Я знаю, что вы нарушаете заповѣди любви, убиваете и прелюбодѣйствуете и дѣлаете много другихъ грѣховъ, и я не сужу васъ за это. Я знаю, что когда гнѣвъ или блудная похоть войдетъ въ ваше сердце, вы бываете не въ силахъ остановить ихъ. Я знаю это и за это не сужу васъ; но если вы боитесь этихъ грѣховъ и знаете, что они ведутъ васъ въ погибель, то отчего же вы не дѣлаете того, чему я научилъ васъ, чтобы не подпадать этимъ соблазнамъ? Можетъ быть, трудно не убить человѣка, когда гнѣвъ овладѣлъ сердцемъ; можетъ быть, трудно не впасть въ блудъ, когда похоть овладѣла сердцемъ; но для того, кто вѣритъ слову Божію, не можетъ быть труднымъ вмѣсто заботы о мірскихъ дѣлахъ и праздныхъ мудрованій думать о словѣ Божіемъ и о законѣ его, не можетъ быть труднымъ, вмѣсто общенія съ развратниками, сильными, богатыми и гордыми, искать общенія съ праведными, смиренными, униженными и святыми, не можетъ быть труднымъ, вмѣсто служенія раздѣленію людей и борьбѣ межъ ними, служеніе примиренію людей между собою. Не можетъ быть труднымъ, вмѣсто служенія маммону, отреченіе отъ собственности и признаніе всѣхъ благъ земныхъ общими всѣмъ людямъ. Не можетъ быть труднымъ, вмѣсто служенія мірскимъ господствамъ, признаніе между людьми одной власти — духа истины. Все это не можетъ быть трудно, потому что все это не требуетъ даже усилія, все это зависитъ только отъ вѣры въ ученіе Христа.
[ВАРИАНТ К СТАТЬЕ «ГРЕЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ СОКРАТ».]
* Чему надо учиться.
Не любилъ Сократъ учителей, тѣхъ, которые думали, что они все знаютъ и могутъ учить народъ. Когда сходился съ ними Сократъ, онъ всегда обличалъ ихъ и показывалъ имъ, что они сами не знаютъ того, чему они учатъ. Зашелъ въ Афины учитель Протагоръ. Слава про этаго учителя шла большая, и пошелъ къ нему весь народъ его слушать. Пришелъ и Сократъ. Пришелъ Сократъ и говоритъ:
— Слыхалъ я про тебя, что ты хорошій учитель. Скажи мнѣ, чему ты учишь?
— Я учу людей мудрости.
— Это великая наука, сказалъ Сократъ, но не можешь ли ты намъ сказать подробнѣе, какія ты учишь по своей наукѣ дѣла дѣлать. Если я спрошу музыканта, какія онъ учитъ дѣла дѣлать, онъ отвѣтитъ мнѣ, что учитъ играть. Если спрошу корабельщика, онъ скажетъ, что учитъ корабли строить. Спрошу каменьщика, онъ скажетъ — камни тесать. Вотъ такъ. я и тебя спрашиваю: какія ты по своей наукѣ учишь дѣла дѣлать?
— Я учу,— отвѣчалъ Протагоръ,— убѣждать людей тому, чтобы они дѣлали то, что я имъ совѣтую.
— Когда ты убѣждаешь людей,— сказалъ Сократъ,— ты убѣждаешь ли для своей пользы или для ихъ пользы?
— Для ихъ пользы,— отвѣтилъ Протагоръ.
— Люди,— сказалъ Сократъ,— всѣ дѣлаютъ разныя дѣла: одни пашутъ, сѣютъ, другіе кузнецы, башмачники, каменьщики — всѣ ищутъ себѣ пользы и видятъ пользу каждый въ своемъ ремеслѣ. Если ты убѣждаешь ихъ для ихъ пользы, то ты долженъ знать всякое ремесло, чтобы указать каждому человѣку, какъ его лучше дѣлать. Ты учишь, стало быть, всѣмъ наукамъ и всѣмъ ремесламъ?
— Нѣтъ, отвѣчалъ Протагоръ. Я не учу всѣмъ наукамъ и всѣмъ ремесламъ, а я учу тому, что нужно знать каждому человѣку ученому: учу арифметикѣ, геометріи, стихотворчеству, философіи, и когда молодой человѣкъ узнаетъ все это, онъ будетъ знать, чтò нужно для пользы всякаго человѣка.
[ВАРИАНТЫ К СТАТЬЕ «ТРУДОЛЮБИЕ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА».]
* № 1.
Говорить о справедливости мыслей, изложенныхъ въ этомъ сочиненіи, о значеніи и важности ихъ — совершенно излишне для огромнаго большинства людей, для рабочихъ людей, для тѣхъ, которые стоятъ еще на распутьи между зломъ и добромъ — между правою и ложною дорогой: люди эти поймутъ все ясно и просто. Они поймутъ, что то, что имъ казалось зломъ, есть благо, а что то, что имъ представлялось благомъ, есть зло; но есть другіе люди, тѣ самые, которые считаютъ себя учеными и мудрыми, которые уже давно перешли распутье между правой и ложной дорогой и такъ далеко зашли по ложной дорогѣ, что мысли, изложенныя здѣсь и обличающія ихъ, покажутся имъ неясными, невѣрными, и они будутъ всѣми силами стараться выискать все то, что поддается спору и осужденію въ этомъ сочиненіи, для того чтобы оправдать ту ложную дорогу, по которой они идутъ. Для этихъ то людей, къ кругу которыхъ я принадлежу и взгляды и мысли которыхъ я твердо знаю, я и считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ о значеніи этаго сочиненія. <То, что я хочу сказать, я хочу сказать не для того, чтобы оскорблять, унижать и дѣлать зло тому кругу, къ которому я принадлежу, а для того, напротивъ, чтобы смягчить его сердце, возвысить его духъ и сдѣлать ему добро. Прошу читателя прежде всего, приступая къ чтенію этаго сочиненія, забыть про себя и свое положеніе, а помнить одну правду — и не торопиться защищать себя, а быть готовымъ, если то понадобится, и покаяться и исправиться, если то будетъ нужно>.
* № 2.
Главная мысль этаго сочиненія такая: Человѣкъ живетъ отъ утра до вечера, отъ рожденія до смерти. Жизнь человѣка есть движеніе. Человѣкъ какъ лошадь на кружильномъ [?] колесѣ. Хочешь, не хочешь, надо жить, т. е. дѣйствовать. Для того, чтобы жить, т. е. дѣйствовать, человѣку нужно знать, что именно ему надо дѣлать, въ чемъ воля Бога и въ чемъ его призваніе. Все существующее въ мірѣ знаетъ свое призваніе и исполняетъ волю Бога: растенiе, рыба, животное растетъ, живетъ, кормится, множится и не нуждается въ указаніи. То же и съ человѣкомъ. Человѣкъ знаетъ свое призваніе, знаетъ волю Бога по отношеніи его. Человѣкъ всякій знаетъ (и никто не будетъ спорить), что призваніе его в томъ чтобы кормиться (подъ словомъ кормиться я разумѣю и одѣваться и спасаться отъ холода и непогоды), плодиться, кормить своихъ малыхъ и старыхъ и, кромѣ того, служить другимъ людямъ. Если бы человѣкъ не покорялъ себѣ силой другаго человѣка, то онъ волей неволей исполнялъ бы свое призваніе — волю Бога. Онъ жилъ бы, плодился, кормился и кормилъ бы свою семью и послужилъ бы другимъ людямъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ людей, мы знаемъ, что одни люди покоряли другихъ и заставляли этихъ другихъ кормить себя, а сами освобождали себя отъ этаго призванія, отъ исполненія этой воли Бога. И уволивъ себя отъ этаго перваго призванія кормиться, сами лишали себя возможности служить другимъ людямъ.
Оправдывая себя въ освобожденіи отъ обязанности кормиться, люди придумывали разные извороты. Для блага человѣка нужна самая жизнь. Для поддержанія же жизни человѣка нуженъ хлѣбъ (подъ хлѣбомъ разумѣется въ этомъ сочиненіи все необходимое для поддержанія жизни). Лишеніе хлѣба, тяжелый трудъ для добыванія хлѣба губитъ жизни человѣческія. И потому человѣкъ, желающій блага людямъ, прежде всѣхъ долженъ содействовать поддержанію жизни людей. Во всемъ въ жизни важно бываетъ знать не то, что хорошо и нужно, а знать то, что лучше и нужнѣе. Важно не то, чтобы знать, что и что нужно сдѣлать, а знать, что изъ всѣхъ нужныхъ дѣлъ сдѣлать прежде, а что послѣ: какъ распредѣлить все то, что нужно сдѣлать по номерамъ, что подъ 1-м, что подъ 2-м, 3-м и т. д. — до 100-го. Очень хорошо и нужно мѣсить хлѣбы, но нужно прежде натопить печку. Очень хорошо и нужно топить печку, но нужно прежде нарубить дровъ и т. п. Всѣ несчастія людей, все зло міра происходитъ отъ того, что мы беремся за второе дѣло, не исполнивъ 1-го, а часто и за 100-е, не исполнивъ 1-го. Все, что дѣлается людьми, кромѣ явнаго зла, все хорошо и нужно, но хорошо оно только тогда, когда дѣлается въ свою очередь; когда же оно дѣлается безъ очереди, то что могло бы быть добромъ, дѣлается зломъ. Такъ во всемъ отъ малаго до великаго. Такъ и въ самомъ великомъ, въ религіозныхъ обязанностяхъ человѣка, съ тою разницею, что въ малыхъ дѣлахъ дѣлаютъ такія ошибки, когда мѣсятъ хлѣбы, не затопивъ печь.
* № 3.
<Это есть проэктъ, планъ спасенія человѣчества отъ ихъ золъ. Мы знаемъ же такіе же проэкты, и приводимые въ исполненіе и только предлагаемые, и обсуживаемъ ихъ. Почему же намъ не обсудить и этотъ? Мы знаемъ проэктъ консерваторовъ, утверждающихъ основы, и обсуживаемъ его, несмотря на то, что сама практика показываетъ несостоятельность этаго плана. Мы обсуживаемъ проэкты либералов, конституціоналистовъ, соціалистовъ, революціонеровъ и анархистовъ. Для исполненія тѣхъ, другихъ и третьихъ нужно, чтобы люди раздѣляли убѣжденія, предлагаемый этими проэктами, считали бы, что спасенiе, улучшеніе произойдеть отъ укрѣпленія основъ, отъ конституціи, отъ соціалистическаго устройства, отъ анархіи. То же нужно и при проэктѣ Бондарева. Посмотримъ же, какой изъ этихъ проэктовъ имѣетъ болѣе основательности, т. е. теоретически оправдываетъ ли самъ себя данный проэктъ? Вѣрна ли представляемая смѣта? Не нужно большого труда, чтобы убѣдиться въ несостоятельности предлагаемыхъ смѣтъ. Ни консервативная, ни либеральная, ни революціонная не выдерживаютъ критики. Если все исполнится по ихъ проэкту, зло все-таки будетъ.>
[ВАРИАНТЫ К СТАТЬЕ «СИДДАРТА, ПРОЗВАННЫЙ БУДДОЙ».]
* № 1.
Царь Судогдана по обычаю ихъ имѣлъ много женъ и одну главную жену изъ своего же рода Шакіевъ — красавицу Маію. Отъ нея то и родился ему наслѣдникъ Сидарта. Теперь, послѣ того какъ Сидарта сталъ святымъ, много разсказываютъ чудесъ про зачатіе и рожденіе этаго сына; разсказываютъ, какъ сами боги на небесахъ узнали о зачатіи его и радовались ему, какъ царица Маія видѣла сонъ, что звѣзда упала съ неба и вошла ей въ правый бокъ, и зачала отъ этаго, какъ на небесахъ пѣли невидимые духи хвалу ребенку, какъ задрожала земля и море взволновалось. Разсказываютъ потомъ, что когда пришли роды, то мать ушла одна въ садъ и родила подъ деревомъ, и дерево нагнулось къ ней, и какъ родился ребенкомъ чудной красоты, и духи пріѣхали за нимъ въ колесницѣ и повезли его домой. Потомъ разсказываютъ, какъ царь Судогдана собралъ волхвовъ, и они нашли въ ребенкѣ необычайные 32 знака и предсказали, что онъ будетъ великимъ человѣкомъ: либо великимъ завоевателемъ и покоритъ весь свѣтъ, либо великимъ святымъ и спасетъ всѣхъ людей. Потомъ какъ пришелъ святой старецъ Азита (Beal). Разсказываютъ, что этаго ребенка нашелъ Азита, поклонился ему и предсказалъ, что онъ будетъ спасителемъ.
* № 2.
<Встала Маія, вышла въ садъ и слышитъ: и вѣтеръ, и листья, и вода — все говоритъ одно: пришелъ святой (вездѣ, гдѣ будда — святой), пришелъ.
Пришло время и почувствовала царица муки. Пришли къ ней женщины ходить зa ней, но царица ушла изъ дворца и не велѣла за собой ходить и вышла въ садъ. Въ саду она зашла въ глушь подъ высокое дерево у берега ручья и легла тамъ.
И тамъ родился у ней сынъ съ крутымъ лбомъ. Когда пришли женщины, онѣ увидали, что лежитъ подъ деревомъ царица и подлѣ прекрасный ребенокъ съ крутым лбомъ и закрытыми глазами. Женщины подумали, что ребенокъ мертвый, потому что онъ молчалъ и не шевелился; но когда онѣ подошли къ нему, онъ открылъ большіе глаза, взглянулъ на небо и улыбнулся. Тогда женщины снесли сына и мать во дворецъ и объявили царю.>
* [ПЛАН ГЛАВ ІІ—ХХІІ СТАТЬИ «СИДДАРТА, ПРОЗВАННЫЙ БУДДОЙ, Т. Е. СВЯТЫМ».]
2.
Праздникъ. Предсказанье 55. Признаки царя или святой. Смерть матери. Beal, 71.
3.
Ученье книжное и упражненій [?]: «учи другихъ», я самъ», юность. Лебедь — судъ. Чей?
4.
Мысли. Состязаніе пахоты. Какъ спастись отъ страданій? 73, 74.
5.
Роскошь, 78. Советы. Недоуменіе отца, 80.
6.
Разсказъ соглядатаевъ (83). Сватовство. Іазадара. Игры. Готами и Минодора.
7.
600 стр. Тоска о страданіяхъ людей.
8.
Поѣздки.
9.
Ночныя мысли. Бѣгство.
10.
Ученіе браминовъ. Формальность вѣры. Неудовлетворенность.
11.
Аскеты. Отрицаніе ихъ.
12.
Уединенія, сомнѣнія. Ученики приходятъ спрашивать. «Нетъ еще?» Года прошли. Его видъ.
13.
Жена крестьянина съ ребенкомъ.
14.
Его (ложное) объясненіе жизни. Гордость. Искушенія: 1) Сомнѣніе. Побѣдилъ. «Ищу истину». 2) Похоть побѣдилъ: «Ты не тотъ, кого я люблю, ты его тѣнь». 3) Страхъ — побѣдилъ. «Я сострадаю и обнимаю тебя, а не ты меня».
Все уничтожилось, осталось одно состраданіе къ людямъ. Онъ чуть не убилъ себя восторгомъ передъ своими мыслями, но онъ вспомнилъ, что у него есть служенье (611 стр., 14 лин. снизу) и онъ пошелъ въ міръ.
15.
611 стр. IV гл. Идетъ учить 3/3. Переѣздъ Ганга. Встрѣча съ учениками. Они недовольны его отрицаніемъ правилъ.
16.
Ученіе (612, 6 л. снизу). Женщина съ ребенкомъ.
17.
Проповѣдь, равенство всѣхъ. Женщина другой касты, гоненія и обращеніе царя.
18.
Сострадаяіе къ звѣрямъ, вегетарянство. Въ храмѣ.
19.
Отецъ и жена. Послы.
20.
Свиданье отца съ сыномъ. Я не породы плотской, но породы святыхъ (буддъ).
21.
Какъ онъ учитъ.
22.
Смерть.
КОММЕНТАРИИ
В комментариях приняты следующие условные сокращения:
АТБ — Архив Толстого в Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).
AЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва).
БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Рукописное отделение (Москва).
ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва).
ГТМ — Государственный Толстовский Музей (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград).
ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862 — 1910», изд. второе. М. 1915.
ТЕ, 1913 — Толстовский ежегодник 1913 г.
————
«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Тема, послужившая основой рассказа «Чем люди живы» очень распространена во всеобщей литературе и принадлежит к числу так называемых бродячих сюжетов. Толстой познакомился с этой темой по рассказу, слышанному им от олонецкого сказителя крестьянина дер. Боярщины Кижской волости (в Заонежьи) В. П. Щеголенка. Василий Петрович Щеголёнок (родился около 1805 г.) был известен многим собирателям былин и его былины и сказания записывались на протяжении почти 30-ти лет, от 1860-ых до 1886 г. (биография его сообщается А. Ф. Гильфердингом в «Онежских былинах», т. 2, стр. 287, изд. 1-е, М. Н. Сперанским в «Былинах», т. 2, стр. XXXIX-XL и портрет в «Русском биографическом словаре»). Толстой познакомился с ним через Е. В. Барсова в Москве, вероятно, в 1879 или 1880 году. По рассказам Барсова Толстой, между прочим, спросил Щеголёнка о том, как он молится. Щеголёнок изложил ему (вспоминает Барсов) эпическую импровизацию молитвы, с перечислением всех святых, мучеников и т. д. Толстой был растроган и на прощание сказал Барсову: «Вот как надо молиться, а не так, как мы с тобой».236 Видимо очень довольный Щеголёнком Лев Николаевич пригласил его к себе в Ясную поляну. По воспоминаниям учителя старших детей Толстого В. И. Алексеева, Толстой с большим интересом слушал былины и легенды Щеголёнка и записывал его рассказы, изложенные образным народным языком. Записная книжка в листках с этими записями сохранилась в архиве Толстого (АТБ). Эти записи представляют собою по большей части короткую канву рассказов Щеголёнка, так как дословно записывать зa Щеголёнком было очень трудно. Чтобы сохранить в точности его слова, иногда Толстой записывал только первые буквы слов, иногда отмечал особенно интересные выражения, которые сохранились и в его рассказе, — например: «год вскружился». Легенда, рассказанная Щеголёнком, была записана позднее местным Кижским священником и напечатана А. И. Пономаревым в его сборнике «Памятники древне-русской церковно-учительной литературы», т. 2, 1896, стр. 215—216; там же напечатан в переводе и румынский пересказ легенды, который был сообщен Гастером в немецком журнале «Echo» (1890, № 396). Кроме легенды, слышанной от Щеголёнка, Толстой мог с ней ознакомиться в ином изложении по хорошо известной ему книге А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (Москва, 1859), где она называется «Ангел». Нач.: «Родила баба двойни. И посылает Бог ангела вынуть из нее душу. Ангел прилетел к бабе, жалко ему стало двух малых младенцев, не вынул он души из бабы...»; но в этом рассказе сходно с Толстовским только начало. Чрезвычайно интересна первоначальная запись Толстого зa Щеголёнком в Записной книжке (АТБ, п. 65, № 2, л. 55) и, несмотря на ее неполноту и отрывочность, любопытно привести ее здесь целиком:
«Ар[хангелъ]. Въ городу родила жена 2-хъ дочерей и стала слаба. Гос[подь] посылаетъ Арх[ангела]. Вынь у родилицы душу. Архангелъ видитъ [?] младенцы по груди плаваютъ. Вернулся назадъ, пожалѣлъ. Poдилица лежитъ въ углу; д[ругой разъ] п[осылаетъ] е[го] Г[осподь]. Подн[ялся] на небо. Опять посылаетъ. Безъ отца, матери выростутъ, безъ Б[ожьей] милости не вырости. Арх[ангелъ] исполнилъ, не можетъ подняться, крылья отпали. Родилицу похорон[или], дѣти остались. Брюхо питать надо. Пришелъ къ мастеру и работаетъ. Много показывать не нужно. Годъ вскружился. Разъ ухмылилъ подмастерье. Годъ другой на приходѣ, приходитъ баринъ: шей сапоги, чтобъ годъ стояли [?], не кривились, не поролись. Можно. Опять ухмылилъ. Сложилъ кожу, скроилъ и шьетъ однимъ концомъ, босовики. Хозяинъ не скаж[етъ]. Утро приходитъ лакей, гов[оритъ]: Баринъ кончался, надо босовики. Арх[ангелъ] подаетъ и товаръ остальн[ой]. За работу что? Ничего. И 3-й годъ вскружился. Подмастерье все работаетъ. Что спросишь, отвѣтитъ, а самъ не говоритъ. Хозяинъ. Отчего въ 1-й годъ проходилъ, ты ухмылил?ъ А шли девицы. А что [?] Мать родила въ одномъ брюхѣ. Я не вынулъ души. Не послушался. Разсказъ весь. Безъ о[тца], б[езъ] м[атери] д[ѣти] в[ыростутъ], б[езъ] Б[ожьей] м[илости] н[е] в[ыростутъ[. И вотъ они выросли. Отчего 2-й годъ. А баринъ приходилъ, ч[тобъ] г[одъ] с[тояли], н[е] п[оролись], н[е] к[ривились]; а лак[ей] п[ришелъ] б[осовики] спр[ашиваетъ]. Ну коли ты Архангелъ. Ты ставишься на крышу и поешь, хорошо. Можешь спѣть Хер[увимскій] стихъ въ голосъ, въ 1/2 г[олоса]. Въ полголоса запѣлъ, заколыбалась мастерская и онъ палъ на колѣнки и руки. Пришло воскрес[еніе]. Херувимскій стихъ какъ нужно запѣть. Разинулся [?] потолокъ и подмастерье поднялся и крылья явились и осталось названіе Архангельск[ое]».
Из этой записи видно, что Толстой записал рассказ Щеголёнка далеко не весь, а только более характерные и любопытные места.
Писание рассказа «Чем люди живы?» Толстой начал в 1881 году или в конце 1880 г. (на одной из рукописей рассказа рукой С. А. Толстой отмечено: «январь 1881 г.») для начинавшегося тогда журнала «Детский Отдых», который редактировал Петр Андреевич Берс, брат С. А. Толстой; поэтому, по его имени, рассказ назывался Толстым «Петина история». В письме к жене из Самарского имения (26 июля 1881 года), куда ездил Толстой летом с сыном Сергеем, он пишет, что «два последние дня два раза начинал Петину историю», «и всё, — говорит он, — не могу попасть в колею». Тема рассказа видимо нравилась Толстому, он им увлекался: «я надеюсь, что пойдет, а если пойдет, то будет хорошо», читаем в том же письме. Вернувшись в Ясную поляну в августе, он продолжал работать над рассказом, как видно из его письма к С. А. Толстой в Москву: «вчера целое утро писал Петину историю и всё не могу кончить» (26 августа). Очевидно работа, совершенно новая по заданиям, мало похожая на прежние, несмотря на сравнительно небольшой размер рассказа, представляла для Толстого большую трудность: сохранилось тридцать три рукописи, полных и частичных, из которых двадцать две — автографы Толстого, одиннадцать — копии с его поправками и переделками; кроме того в архиве В. Г. Черткова, переданном в ГТМ, сохранились четыре корректуры с его исправлениями; поправки и в корректурах и в текстах указывают на ряд промежуточных рукописей, место хранения которых нам неизвестно.
Первые наброски рассказа очень различны между собою; большая часть вариантов падает на начало (12 начал, изредка с набросками продолжения и только продолжений без начала) и на последние главы (XI и XII) с речами Михаила (II). Один из первых набросков начала с продолжением (№ 6) дает первый короткий очерк всего рассказа (см. в вариантах). Далее четыре рукописи нескольких частей разных редакций рассказа (№№ 21—25), соединенные Толстым в одно целое, составили первый полный текст, еще не имеющий заглавия. Следующих полных рукописей сохранилось только три.
Минуя первый короткий набросок всего рассказа и все наброски различных его частей, называем первой редакцией рассказа его первый полный текст (Рукописи №№ 21—25). В таком случае всех редакций насчитываем три, дальнейшие переделки, считая хотя и важными для некоторых мест, но в общем для всего рассказа несущественными.
Заглавие рассказа в первых набросках встречается преимущественно «Архангел» и раз «Ангел на земле». Заглавие «Чем люди живы?», на котором Толстой в конце концов остановился, в первый раз им дано в его приписке на копии А. П. Иванова (№ 27); но и тогда Толстой всё еще колебался, и в копии № 26, опять им зачеркнуто и заменено таким: «Кафтан, сапоги и сироты». Но уже в следующей рукописи это заглавие вновь было зачеркнуто и вместо него дано «В чем жизнь людей», которое тут же заменено «Без чего людям жить нельзя» и затем опять «Чем люди живы?», на котором Толстой остановился окончательно.
Рассказ в первый раз был напечатан в 1881 г. в № 12 журнала «Детский отдых, ежемесячный иллюстрированный журнал для детей» (Москва), издаваемый Н. А. Истоминой (1881—1887) и редактированный, как было сказано выше, П. А. Берсом; цензурная помета на книжке — 18 ноября 1881 г. Рассказ набирался с рукописи № 31, копии с поправками, дополнениями и переделками автора и с другой рукописи того же архива (№ 32) без поправок Толстого, дополняющей недостающее место в первой рукописи в средине; корректуры (нам известны три) обилуют, как и последняя рукопись, многими поправками, переделками и дополнениями и указывают, как уже сказано, на то, что было еще несколько корректур.
При новом издании рассказа «Чем люди живы?» в 1886 году в XII части «Собрания сочинений Л. Н. Толстого» поправки были очень невелики; в письме к жене 20 февраля 1885 г.237 при просмотре, очевидно, «Детского отдыха» Толстой писал, что «только поправил в Чем люди живы одно место»; какое это место, неизвестно, так как не сохранилось экземпляра «Детского отдыха» с поправками Толстого (думаем, что эта поправка, касающаяся сапожного дела, которое в 1885 г. было более знакомо Толстому, чем в 1881 г. гл. V); потом же, вероятно, уже в корректуре было внесено еще несколько мелких поправок. Издание «Посредника», получившее цензурное разрешение — текста в Петербурге 3 марта 1885 г., обложки с рисунками А. Д. Кившенко (1851—1895) в Москве 8 марта 1885 г. — внесло гораздо больше изменений в текст «Детского отдыха», чем «Собрание сочинений»; главная переделка заключается в сокращении чудесности в эпизоде в конце IX главы и в связи с этим изменением окружения его после выброски слов рассказа «и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михаил». Все другие переделки в издании «Посредника» мелочные: два пропуска фраз — случайные (в главах I и VI) и переделка в гл. Ѵ-й, касающаяся сапожного дела (см. выше).
Неблагоприятное отношение цензуры к рассказу в первый раз проявилось в 1887 г., когда рассказ был арестован Московским цензурным комитетом 4 февраля; затем в этом же году 10 октября Главное управление по делам печати запретило новое издание и потом вновь повторило свое распоряжение в 1888, 1891 и 1893 гг.
Для полноты истории печатания «Чем люди живы?» нельзя не сказать об изданном в 1886 г. альбоме иллюстраций к рассказу, рисованных H. Н. Ге, который был чрезвычайно увлечен рассказом. Рисунки очень нравились Толстому, и он всячески хлопотал об их издании. Московская духовная цензура не пропустила всех двенадцати рисунков, и два рисунка — l-й и 2-й прошли через более благоприятную С. Петербургскую цензуру, только благодаря связям В. Г. Черткова; ему об этом писал Толстой в письме от 2 апреля 1886 г. (см. т. 85). Альбом вышел в двух видах, как хотел Толстой, один дешевый, другой более дорогой.
В семье Толстых выражение «Чем люди живы?», после написания рассказа, вошло в частое употребление и в известном семейном «почтовом ящике» в Ясной поляне, как рассказывает в своих воспоминаниях И. Л. Толстой, почти про всех там живущих говорится, кто чем жив, и «чем люди мертвы в Ясной».238
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ «Чем люди живы?» сохранился в тридцати трех рукописях и трех корректурах. 29 рукописей и 3 корректуры принадлежат к Архиву
В. Г. Черткова, переданному в ГТМ (папка 3, №№ 1—32); одна рукопись принадлежит ГТМ (Инв. № 21, 13 декабря 1924 г,); одна рукопись хранится в АТБ под шифром: № VII, I. и две рукописи в БЛ в собрании Ивакина.
1) Автограф АТБ VII. I. F°, 2 лл. рваной писчей нелинованной бумаги. Заглавие: «Ангел на землѣ». Писано на 3-х страницах, без полей, с помарками и поправками. Начало: «Поѣхалъ рыбакъ въ море»... Конец: «Растащиха ты, бездомовникъ, уйду отъ тебя». (См. вариант № 1.)
2) Автограф ГТМ № 1. 8°, 1 л. почтовой бумаги. Писано на одной стороне, со многими поправками, повидимому, один из первых набросков. Заглавие: «Архангелъ». Начало: «Жилъ у моря мужъ съ женою»... Конец: «Поди вынь у родильницы душу». Вся рукопись вертикально перечеркнута. Сверху в правом углу рукою С. А. Толстой написано: «Вар. 2». (См. вариант № 2.)
3) Рукопись ГТМ № 2. Копия с предыдущей, рукою С. А. Толстой. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда (?). Писано на одной стороне. В правом углу сверху: Вар. 1. Заглавие: «Архангелъ». Начало: «Жилъ у моря мужъ съ женою»... Конец: «Поди вынь из родильницы душу». Поправок Толстого нет.
4) Автограф ГТМ № 3. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги с неясным клеймом. Писано с обеих сторон; на л. 1 об. — только 6 строк; остальные листы исписаны полностью. Оставлены поля и на них внесены дополнения и поправки. Вся рукопись сильно перечеркана. Отрывок. Начало: «Призываетъ Господь Архангела и говорить ему». Конец: «Это чей? Дальний, ночевать попросился». В правом углу сверху рукою С. А. Толстой: Вар. I. (См. варианты.)
5) Рукопись ГТМ № 4. Копия рукою С. А. Толстой. 4°, 3 лл. Заглавие: «Архангелъ». Начало: «Призываетъ Господь Архангела». Начало рукописи без поправок, верхняя часть л. 2 вертикально перечеркнута, в нижней текст переделан, как новое начало. Начало: «Носилъ сапожникъ работу въ городъ»... Конец: «Вышла старуха, отперла. Видитъ»... Это один из вариантов первой главы.
6) Автограф ГТМ № 5. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги; писано на обеих сторонах, без полей, с небольшими помарками. Заглавие: «Архангелъ». Начало: «Жилъ мужъ съ женою на краю города подле моря»... Конец: «Въ Богѣ живешь, въ Богѣ умрешь». На л. 1 в правом углу сверху рукою С. А. Толстой: Вариант 3-й. На л. 4 внизу дата ее же рукой: «Январь 1881 года». Текст этой рукописи напечатан в газете «Речь» 1914, № 94. (См. вариант № 4.)
7) Рукопись ГТМ № 6. Отрывок копии с предыдущей рукописи рукою С. А. Толстой, без поправок. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги. Начала недостает. Начало: «Поклонился низко юноша старичку»... Конец: «Въ Богѣ живши, въ Богѣ умрешь».
8) Автограф ГТМ № 7. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги; писано без полей, на одной стороне. Отрывок. Начало: «Носилъ сапожникъ работу»... Конец: «глянулъ внизъ — подъ обрывомъ сидитъ человѣкъ». Вся рукопись исчеркана и перемарана. Набросокъ к 1-й главе.
9) Автограф ГТМ № 8. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги, писано на одной стороне, с помарками и поправками. Отрывок. Начало: «II. Носилъ сапожникъ работу: новые сапоги»... Конец: «Куда же его весть. Кормить надо. Откуда взять». Вариант того же текста, что и в III. 7. Число II поставлено над текстом.
10) Автограф ГТМ № 9. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги; писано с обеих сторон, с полями; на полях и в тексте дополнения и поправки. Отрывок. Начало: «Отнесъ разъ сапожникъ работу по заказу, сдалъ хозяину»... Конец: «И пошелъ сапожникъ своей дорогой». Вариант к текстам III. 7 и 8 (к 1-й главе). (См. вар. № 5).
11) Автограф ГТМ № 10. 4°, 3 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда. Писано без полей, с обеих сторон. С очень большими помарками и переделками. На л. 2, сбоку, вертикально к тексту написано: «особо» и подчеркнуто. Заглавия нет. Начало: «Жилъ въ деревнѣ у мужика сапожникъ»... Конец: «Только потушили огонь, загрохало кольцо у калитки». Эта рукопись представляет материал к І-й главе. (См. вар. № 6.)
12) Автограф ГТМ № 11. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Способина. Текст только на лицевой стороне л. 1-го. Отрывок. Начало: «Ушла женщина и видятъ, сидитъ Мих[айло] весь свѣтлый»... Конец: «Призываетъ меня Г[осподь] и говорить: Поди вынь...» (многоточие Толстого). Набросок к главе X. Внизу приписка рукою Толстого «На Басманной женская гимна[зія]». Этот набросок является материалом для X главы.
13) Автограф ГТМ № 12. 4°, 1 л. писчей бумаги фабрики Говарда (?). Писано на одной стороне. Отрывок. Начало: «И ужаснулся Семенъ, всталъ, поклонился Михайлѣ и сказалъ ему»... Конец: «Слушай, Семенъ, и слушайте всѣ. Посылаетъ меня Господь вынуть душу изъ женщины». Набросок к главе X.
14) Автограф ГТМ № 13. 8°, 1 л. почтовой бумаги с водяным знаком: Lacroix. Писано с одной стороны. Много зачеркнуто и переправлено. Отрывок. Начало: «И замолчалъ ангелъ. И стали Семенъ и Матрена понимать»... Конец: «И улыбнулся ангелъ». Это набросок к главе XII.
15 и 16) Автографы ГТМ №№ 14 и 15. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги; с поправками и помарками. Отрывки. Оба листа представляют тексты, повидимому, самостоятельно возникшие и только в дальнейшей обработке поставленные рядом. Л. 1, начало: «Понялъ ангелъ, что людямъ кажется, что они заботой о себе живы»... Конец: «а живы они только любовью». Дальше пол-страницы зачеркнуто, со слов: «Понялъ ангелъ, что хотѣлъ Богъ, чтобы люди не для себя, а другъ для друга жили»... Конец: «И затѣмъ скрылъ отъ нихъ то, что имъ нужно, а открылъ себя въ нихъ любовью, то, чѣмъ каждый человѣкъ живъ и всѣ люди живы».
Текст на л. 2, начало: «Понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей»... Конец: «И затѣмъ то скрылъ отъ нихъ то, что имъ для себя нужно, а открылъ самого себя въ сердцахъ ихъ любовью» (см. вар. № 12). Это наброски к главе XII, Обороты обоих листов составляют одну страницу копии, рукою А. П. Иванова, с началом рассказа «Чѣмъ люди живы» (с этим заглавием). С рукописи архива В. Г. Черткова № 25. Начало: на л. 2. об.: «Жилъ въ деревнѣ сапожникъ съ женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... Конец: «тогда бы взялъ дубленые. Отдалъ бы 5 рублей остальные».
17) Автограф ГТМ № 16. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на одной стороне, с помарками и поправками. На обороте листа вкось 6 строчек, в виде заметки написано: «Не быль бы я живъ. Не были бы живы младен[цы]. Не было бы живого человѣка, потому что все, что есть у человѣка, дано ему любовью др[угихъ] людей». Текст. Начало: «Зналъ ангелъ, что Богъ не для того даль жизнь міру, чтобы она погибла» — Конец: «а открылъ любовь, то, что каждому для себя и для всѣхь нужно и ею то живы люди». Это набросок к главе XII. (См. вар.№ 13.)
18) Автограф ГТМ № 17. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на обеихъ сторонах с помарками и поправками. Начало: «Зналъ А[нгелъ], что Б[огъ] даль жизнь людямъ и хочетъ, чтобы они были живы». Конец: «а живы они только Богомъ. А Богъ любитъ людей». Это набросок к главе XII. (См. вар. № 17.)
19) Автограф ГТМ № 18. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на обеих сторонах, с помарками и поправками. Начало: «И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы»... Конец: «А тотъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». Набросок к главе XII (см. вар. № 14). Вкось внизу написано: «говоритъ о хлѣбѣ».
20) Автограф ГТМ № 19. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на одной стороне, с помарками и поправками. Начало: «Понялъ ангелъ, что остался онъ живъ, когда пропадалъ нагой въ полѣ, тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его»... Конец: «Богъ знаетъ, что всѣмъ людямъ нужно». Это набросок к главе XII. (См. вар. № 15.)
21) Автограф ГТМ Инв. № 21/13 дек. 1924 г. F°, 1 л. нелинованной писчей бумаги. Писано с одной стороны. На обороте карандашом, рукою Толстого же позже приписано заглавие: «Чем люди живы». Два отрывка. Первый отрывок. Начало: «И понялъ я, что человеку не дано знать то, что ему для своего тѣла нужно»... (См. конец вар. № 16.) Второй отрывок. Начало: «Во всемъ у васъ спорь, въ одномъ всѣ согласны были, что несчастному помочь надо». Рукопись с большими помарками и поправками.
22) Автограф ГТМ № 20. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги, с неясным клеймом. Исписаны все четыре страницы (4-я наполовину), с полями, на полях и в тексте поправки и дополнения. Заглавия нет. Начало: «Жилъ въ деревнѣ сапожникъ. Была у него жена и трое дѣтей»... Конец: «И самъ не знаетъ, с чего возрадовалось сердце у сапожника; повернулся онъ и пошелъ безъ кафтана и безъ сапогъ одинъ по дорогѣ». Эта рукопись вместе с рукописями №№ 21, 22 и 23 составляет полный текст рассказа (см. вариант № 8).
23) Автограф ГТМ № 21. 4°, 7 лл. нелинованной писчей бумаги; писано без полей, с обеих сторон. Заглавия нет. На об. л. 2-го и на л. 3 — прошение без подписи в Совет Московского художественного Общества о разрешении посещать классы Училища живописи, ваяния и зодчества. Лл. 4 и 5 снизу оборваны раньше, чем Толстой начал на них писать. Нижняя половина и весь об. л. 7-го оставлены чистыми. Л. 1 — одиночный, остальные двойные. В левом верхнем углу листов есть чернильные цыфровые пометы: на 1 л. — 1, на 2—3-м — 2, на 4—5-м — 3, на 6—7-м — 4. Текст. Начало: «Идетъ сапожникъ на легкѣ въ одной рубахѣ», Конец: «Слушай, Семенъ и понимай». Эта рукопись по содержанию является продолжением предыдущей. Вместе с рукоп. №№ 20, 22 и 23 входит в полный текст рассказа. (См. вариант № 9.)
24) Автограф ГТМ № 22. 4°, 2 л. нелинованной писчей бумаги. Начало: «Знаешь ты, Семенъ, про Бога?»... Конец: «сказалъ мнѣ, гдѣ его домъ, и ушелъ оть меня». Толстой здесь воспользовался копией начала рассказа и переделал ее для сборной копии из рукописей 20, 21, 22 и 23, обозначив карандашом цыфрой 5. (См. вариант № 10.)
25) Автограф ГТМ № 23. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги, писано с обеих сторон, без полей (л. 2 об. чистый). Заглавия нет. Начало: «И какъ только отошелъ человѣкъ, такъ согрѣлся и утешился я»... Конец: «И когда очнулся, ужъ никого не было». Это продолжение предыдущей рукописи. На л. 1 с левой стороны карандашом помечено: «6». Вместе с рукописями 20, 21 и 22, составляет полный текст рассказа (См. вариант № 11.)
26) Рукопись БЛ из Собрания Ивакина, 4°, 2 лл. Копия рукою А. П. Иванова с поправками Толстого. Начало: «самъ сошью и шуба»... Конец: «и заговорилъ человѣкъ и сказалъ».. Рукопись представляет собою отрывок (без начала и конца) рукописи ГТМ (см. выше № 21). Эта рукопись послужила оригиналом части рукописи № 24 (см. ниже № 27).
27) Рукопись ГТМ № 24. Копия рукою А. П. Иванова. 4°, 32 лл. (лл. 26—32 чистые) нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Протасьева. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». Начало: «Жилъ сапожникъ съ женой и детьми у мужика на квартерѣ» (автогр.)... Зачеркнутый конец копии: «и что потому живы сироты не материной грудью, а любовью въ людяхъ». Далее рукою Толстого — новый конец. Начало: «Понялъ ангелъ, что живет Богъ въ человѣкѣ»... Конец: «Узнаешь, отчего нельзя человѣку себя обдумать, отчего нельзя отцу матери дѣтей обдумать, и узнаешь, чѣмъ люди живы».
В этой рукописи Толстым впервые дано рассказу заглавие: «Чѣмъ люди живы?», приписанное над текстом. Л. 5 копии зачеркнут Толстым и вместо него вставлен другой лист, целиком писанный Толстым. Начало: «Бросилъ на земь сапоги валеные, распоясался, скинулъ кафтанъ»... Конец: «Идетъ и радуется у Семена сердце. Спустился человѣкъ (в лощину)». Оборот этого листа представляет часть копии рассказа, писанной рукою С. А. Толстой и относится к рукописи № 4.
28) Рукопись ГТМ № 25. Копия с предыдущей, рукою А. П. Иванова. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». 4°, 24 лл. (лл. 8—24 чистые) нелинованной писчей бумаги фабрики Протасьева. С поправками и дополнениями Толстого на полях и в тексте, а л. 7 (писан с одной стороны) весь — рукою Толстого. Под заглавием Толстым приписан эпиграф: «Богъ есть любовь и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. 1 посл. Иоанн., гл. IV, 16». Начало: «Жилъ въ деревне сапожникъ сь женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ». Рукопись неполная, конца недостает, обрывается словами: «Сказываю тебѣ, голый въ полѣ лежитъ. —А ты развѣ не голый».
29) Рукопись ГТМ № 26. Копия рукою И. Л. Толстого. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Способина. Писано с обеих сторон, с большими полями; на них и в тексте — поправки, переделки и дополнения рукою Толстого. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?» зачеркнуто и сверху рукою Толстого написано: «Кафтан, сапоги и сироты». Начало: «Жил сапожникъ съ женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... На л. 2 об. копия обрывается словами: «А къ пасхѣ справился бы»; дальше — текст рукою Толстого, сильно перемаранный. Конца недостает. Последние слова: «и не сталъ сапожникъ больше разговаривать». (Середина рукописи и самый конец — см. вар. № 7).
30) Рукопись БЛ — собрание Ивакина, 4°, 27 лл. (последние 2 лл. без текста), много поправок, переделок и дополнений рукою Толстого. Первоначальное заглавие. «Кафтанъ, сапоги и сироты» перечеркнуто Толстым и заменено сначала заглавием: «Безъ чего людямъ жить нельзя», потом: «Въ чемъ жизнь людей» и затем окончательным заглавием: «Чѣмъ люди живы?».
Эпиграф рукою Толстого: «Богь есть любовь. Пребывающій въ любви, пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». Іоанн. 1 посл. 4, 16. Текст начинается: «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... Кончается: «А Богъ въ сердце человѣка — это любовь, то что всѣмъ людямъ нужно» и дальше зачеркнуто: «И ею только живы люди». В этом списке несколько больших пропусков. Список с рукописи ГТМ (см. № 28) и оригинал рукописи того же архива № 27.
31) Рукопись ГТМ № 27. Коиия рукою А. П. Иванова и неизвестного. Заглавие: «Чем люди живы». 4°, 27 лл. нелинованной бумаги с клеймом фабрики Говарда. С поправками, дополнениями и переделками Толстого. Под заглавием рукою Толстого выписан и вертикально зачеркнут эпиграф: «Богь это любовь. Кто въ любви, тотъ въ Богѣ и въ томъ Богъ. — Іоанн.». Начало: «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... Конец: «И что живы люди любовью другихъ людей, а что любовь это Богъ и [т]отъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ, а Богъ въ немъ». С этого списка рассказ набирался для «Детского отдыха». Здесь глава 2 обрывается словами: «Нѣтъ у меня дома» (л. 5 об.). Дальше, л. 6 — глава V и надпись рукою издательницы журнала Истоминой: „Продолжение «Чемъ люди живы»“. Недостающий текст находится в рукописи № 28.
32) Рукопись ГТМ № 28. Копия неизвестной рукою. F, 4 лл. нелинованной бумаги. Заглавие: „Продолженіе разсказа «Чѣмъ люди живы»“. В левом углу сверху «Для Детского отдыха»; в правом углу: «Это надо набрать непремѣнно сегодня к 7-ми часамъ и послать в редакцію Дѣтского отдыха, для доставленія графу Толстому. Истомина».
Рукопись начинается: «Да чей же ты? — Не здѣшній я»... Кончается: «Только сказалъ: Будетъ толковать то. Повернулся и заснулъ».
Поправок Толстого нет. На л. 4 об. заметки Толстого к рассказу; начало: «Семенъ поджарый. И не видывалъ Семенъ людей такихъ»...
33) № 29. Корректурные гранки. 13 полос. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». Это первая корректура для «Детского отдыха», с большими поправками и дополнениями Толстого, представляющими значительную переделку рассказа сравнительно с рукописями... 27 и 28. Начало: «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... Конец: (до исправления): «что любовь это Богъ и [т]оть кто въ любви, тотъ въ Богѣ, а Богъ въ немъ». После исправления кончается так: «И когда поднялся Семенъ, уже никого не было» и подпись: «Левъ Толстой». Между этой и следующей корректурой недостает одной или двух корректур.
34) № 30. Сверстанная корректура «Детского отдыха». 8°, 14 лл. С эпиграфом из 1-го послания Иоанна, гл. III, 14, 17, 18 и IV, 7, 8, 12, 15 (читай 16) и 20. С поправками и дополнениями Толстого. Здесь главы IV и V соединены в одну; VIII и IX также соединены, а глава XI (первоначально ХII-ая) разделена на две.
35) № 31. Копия отдельных мест рассказа рукою А. П. Иванова, сделанная для типографии с корректуры 30. 4° и обрезки, 21 лл. Это отрывок копии поправок Толстого к сверстанной корректуре, в свою очередь тоже исправленный Толстым.
36) № 32. Отрывок одной из сверстанных корректур для «Детского отдыха». 8°, 3 лл. Здесь только главы IX—XII. С поправками и дополнениями Толстого. Значительных переделок нет. Начало: «Ушла женщина съ дѣвочками». Многие поправки, сделанные рукою Толстого, зачеркнуты вероятно переписчиком, делавшим копию с корректуры для типографии.
В основу настоящего издания положен текст изд. «Посредник»: «Чем люди живы?» Рассказ Льва Толстого», М. 1886 и «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. М. 1886 г., стр. 1—28, проверенный по рукописям, корректурам и тексту, напечатанному в журнале «Детский отдых» 1881, 12, стр. 407—434.
————
«ИСКУШЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Еще раньше, чем начать писать для «Посредника» народные рассказы, Толстой стал составлять объяснительные тексты к евангельским картинам, которые выбирал или сам или В. Г. Чертков. Первый задуманный Толстым текст к картине — было введение к Нагорной проповеди, начатое в апреле 1884 г., долго писавшееся и оставленное неоконченным. Вслед за Нагорной проповедью в конце 1884 г. Толстой начал объяснительный текст к полученной от В. Г. Черткова картине Бугро (W. A. Bouguereau, 1825—1905) Истязание Христа; вследствие разных причин, главным же образом, из-за препятствий со стороны цензуры и текст и картина задержались на несколько месяцев и вышли в октябре 1885 г. Третья евангельская картина — Искушение; начатый писаться, повидимому, несколько позже двух других, текст Толстого вышел раньше их. К сожалению, точных указаний, когда писался Толстым этот текст, нет. Известно только, что разрешение цензурой картины и текста было дано 4 марта 1885 г. Никакой подписи ни под текстом, ни под картиной не было. Картина эта представляет воспроизведение картины французского художника Ари Шеффера (1795—1858).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописей, заключающих в себе этот текст, сохранилось три. Все принадлежат к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ и значатся в папке 9, под №№ 11, 12 и 13.
1) № 11. Автограф. Обрывок листа писчей бумаги фабрики Говарда, несколько больше 4°, писан с обеих сторон, с помарками и поправками. Без заглавия, со ссылкой на Евангелие от Матф. IV. I—II. Начало: «Такъ дьяволъ искушалъ Господа І[исуса] Х[риста]»...
2) Рукопись № 12. Копия с предыдущей, рукою В. Г. Черткова, F° — 2лл. линованной писчей бумаги. С небольшими поправками рукою В. Г. Черткова (зачеркнуто несколько строчек в двух местах). Эпиграф не выписан, только указан: Мф. IV. I—II. Заглавия нет. Начало: «Такъ дьяволъ искушалъ Господа Іисуса Христа»...
3) Рукопись № 13. Копия с предыдущей, неизвестною рукою. С небольшими поправками (в буквах) рукою не Толстого. Эпиграф из Мф. IV. I—II выписан полностью. Заглавие другою рукою, но не Толстого: «Искушение Господа нашего Іисуса Христа». Начало: «Такъ дьяволъ искушалъ Господа Іисуса Христа»...
«ДВА БРАТА И ЗОЛОТО».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Чрезвычайно близкий источник рассказа «Два брата и золото» — проложное сказание «Повесть святого Феодора,239 епископа Едесского о столпнице дивнем иже во Едессе» (под 7 января). В этом сказании рассказ идет от лица младшего брата. В дни юности своей они с братом своим отказались от мира, ушли в пустыню и, поселившись врозь друг от друга, проводили время в молитве, безмолвии и посте, в субботу и воскресенье сходясь для общей молитвы. Один раз, разойдясь после воскресенья, старший брат неожиданно увидел на пути своем рассыпанную «громаду злата» и, точно испугавшись, бежал от нее; младший же брат, не уяснив себе поступка брата, снявши с себя мантию, набрал в нее золота и отправился в город, где купил дом, устроил церковь, монастырь, странноприимницу, а оставшиеся деньги роздал убогим, не оставив себе «ни единого златника» и ушел в пустыню, ища своего брата; тогда на него напал «помысл высокоумия», что он совершил благое дело, которого не мог сделать его брат; и тотчас перед ним появился ангел, «ярым воззрев оком»: весь труд твой — сказал ему ангел, — не может приравняться «к единому скочению брата твоего», когда он «прескочил» от громады злата; «не злата бо прескочи, но оного богатого прескочи пропасть»; ты не достоин видеть брата своего во всю свою жизнь. Тогда он понял, как ничтожны его дела в сравнении с его самомнением и самодовольством. Проложное сказание рассказывает далее о его покаянии, о его подвиге — стоянии на столпе в течение пятидесяти лет — и т. д. Приведенное сказание, как мы видим, изложено Толстым очень близко к его прототипу.
Начав рассказ на тему о пороке самомнения и самодовольства по повести св. Феодора о «столпнике дивном», Толстой после двух, почти cpaзy отброшенных попыток переделать сказание на русскую жизнь (Сибирское село), перенес место действия в окрестности Иерусалима (по повести св. Феодора в г. Эдессе — нын. Урфа, в северной части Месопотамии). Имена братьям Толстой дал: Петр и Иван; особенно подробно в рассказе развита начальная часть; здесь говорится о жизни братьев, о их работах в помощь нуждающимся, о их заботах о них. Так была написана первая, не вполне обработанная редакция рассказа. Но недовольный этим писанием, Толстой начал писать сызнова; получилась не переработка прежнего рассказа, а совершенно новый рассказ. Толстой повел речь, близко следуя повести св. Феодора, хотя и значительно сокращеннее ее. В этой второй редакции рассказ более сжат, меньше подробностей, чем в первой. Имена братьев Афанасий и Иоанн; место действия недалеко от Иерусалима, как и в первой редакции.
Рассказ «Два брата и золото» был написан Толстым вероятно в самом начале марта 1885 г., т. е. еще до поездки его в Крым, куда он ездил, сопровождая больного Л. Д. Урусова (6—24 марта). В письме от 2 марта В. Г. Чертков пишет Толстому из Петербурга, что «рассказ о братьях и золоте» он показывал И. Е. Репину; рассказ Репину очень понравился и он, когда будет нужно, обещал сделать рисунок. В письме к Урусову (5 апр. 1885 г.), по возвращении в Москву, Толстой пишет, что посылает ему «ту черновую историю о братьях, которую вы хотели иметь», т. е. нужно думать, про которую Толстой ему рассказывал. В письме (30—31 марта) из Воронежской губернии В. Г. Чертков прислал Толстому подробный отзыв о его работе; он не удовлетворился рассказом; ему казалось, что в рассказе «чего-то существенного недостает» (письмо 30—31 марта 1885 г.), что непонятно для читателя изображение Афанасия, делавшего добро на найденные деньги, непонятен ужас его брата перед встретившимся золотом, непонятен и тяжелый приговор ангела. Очень скоро Толстой ответил В. Г. Черткову, что его «замечания о Двух братьях» он находит «справедливыми», и «в этом смысле» он «немного поправил» свой рассказ. Тут же Толстой говорит о том характере, который он хочет придать своим писаниям для народа, и который выразился в «Двух братьях»: «Писать в этом роде буду, — пишет он, — если жив буду».
Рассказ «Два брата и золото» вышел в сборничке «Посредника»: «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы» (с цензурным разрешением текста 13 декабря 1885 года, — обложки 27 февраля 1886 г.), и тогда же с картиной И. Е. Репина в открытый лист (с разрешением цензуры 12 февраля 1886 года).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописей с текстом рассказа сохранилось пять, четыре из них так же, как и корректурный оттиск народного издания, принадлежат к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, где хранятся в папке 9 под «№№: 3, 4, 5, 6 и 7. Пятая рукопись — карт. 5, № 492 хранится там же.
1) № 3. Автограф. 8°, 2 лл. почтовой бумаги. Это первый набросок с большими помарками и исправлениями: многие строчки л. 1-го зачеркнуты и сверх них написан новый текст, потом большая часть страницы перечеркнута вертикально. На следующих страницах помарок меньше, но много добавлений между строчками. Заглавие: «Два брата». Начало: «Было у одного купца два сына — Иванъ и Петръ». Второе начало: «Жили въ одномъ Сибирскомъ селѣ два старца». Третье начало: «Жили въ давнишнія времена недалеко отъ Іерусалима два старца, два родные брата»...
2) Рукопись — инв. № 492. Копия рукою А. П. Иванова. 8°, 2 лл. почтовой бумаги с поправками Толстого и с датой 5 апр. 1885 г. На 2 л. письмо Толстого к Л. Д. Урусову (оригинал). Сохранился только второй листок: начало: «Жилъ Петръ въ городѣ 3 мѣсяца» (напечатано в «Вестнике Епропы» 1915, 2. стр. 12—13». Рукопись очевидно состояла из двух почтовых листков, т. е. из 8 стр. и первые страницы заключали в себе начало копии рассказа.
3) № 4. Автограф. 8°, 2 лл. почтовой бумаги. Это — вторая редакция. Заглавие: «Два брата и золото» Начало: «Жили въ давнишнія времена недалеко отъ Іерусалима два родные брата, старшій Афанасій и меньшой, Іоаннъ»...
4) Рукопись № 5. Копия с рукописи № 4. F°, 2 лл., без всяких поправок. Переписчик допустил здесь некоторые отступления от автографа Толстого, но последний при исправлении их не заметил или пренебрег ими, напр. вместо: «Познал» переписчик пишет:«понял», вместо «отстранился» — «отступился». Слова: «беремени на два» не поняты и заменены словами: «берапени на два» и зачеркнуты карандашом.
5) Рукопись № 5. Копия с предыдущей писарскою рукой. F°, 4 лл. (л. 4 чистый). Есть небольшие поправки рукою Толстого. Слова: «берапени на два» из предыдущей рукописи совсем пропущены и Толстым не восстановлены и вместо них в изданиях точки. Восстанавливаем по автографу. С этого списка рассказ печатался «Посредником».
6) № 7. Корректурный лист текста, предназначенного для издания «Посредника» под рисунком И. Е. Репина.
В основу настоящего издания кладется текст издания «Посредник».
————
«ИЛЬЯС».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Рассказ «Ильяс» написан в марте 1885 г. в Крыму, куда Толстой сопровождал больного чахоткой Леонида Дмитриевича Урусова, своего близкого знакомого (ум. 23 сент. 1885 г.). Толстой и Урусов устроились в именьи Серг. Ив. Мальцева Симеиз, вблизи (в 4 верстах) от известного Воронцовского дворца и парка Алупки (они приехали в Симеиз 14 марта). Толстой был увлечен Крымом, который не видел 30 лет со времени своей службы в Севастополе, так наслаждался природой Крыма и так интересовался жизнью тамошних жителей — татар, что, несмотря на свою привычку к ежедневным литературным занятиям, он «вышел из колеи работы», как он писал С. А. Толстой 15 марта, хотя «всё обдумывает» «Английского милорда», т. е. народные рассказы, долженствующие заменить прежние (то же письмо). Толстому было «слишком жалко потерять возможность увидать» и он «работать не принимался», читаем в письме к С. А. Толстой от 16 марта. Но на следующий день, 17 марта, как он пишет жене, «пристыженный» тем, что «ничего не работает», он «сел за работу и написал для Черткова рассказец». На сохранившемся автографе кем-то (повидимому Л. Д. Урусовым) приписана дата: «Симеиз Южн. бер. Крыма. 16 марта 1885 г.»; судя по точным показаниям письма, эта последняя дата не верна, если только Толстой вообще не спутал тогда чисел месяца в письмах. Увлеченный Крымом, он перенес свое повествование в те места, которые тогда его так интересовали, — к татарам, хотя обстановка рассказа, им изображенного, не тамошняя — крымская, и он обдумывал свой замысел, еще едучи на козлах коляски по направлению к Байдарам до близкого знакомства с татарами в Симеизе. Уже на этом первоначальном автографе он переправил место действия рассказа, написав вместо «в татарской деревне» — «башкирской» и вместо «богатый татарин» — «башкирец». Следующая рукопись, вероятно, писанная на другой день, но с датой «Симеиз 17 марта 1885 г.» (зачеркнутой Толстым) — копия, рукой вероятно Л. Д. Урусова еще более уточняет место действия рассказа, относя его в Уфимскую губернию — «Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс». Когда писана следующая рукопись — копия с немногими поправками (поправки в двух фразах) — неизвестно, может быть, уже после возвращения Толстого из Крыма. Таким образом мы имеем право сказать, что «Ильяс» был написан 17—18 марта 1885 г.
17 мая 1885 г. Толстой писал В. Г. Черткову, что текст рассказа находится у него (т. е. очевидно корректура издания) и что завтра он его поправит и пошлет. Картинку для большого издания «Посредника» (в открытый лист) Толстой в апреле 1885 г. сначала поручил сделать художнику Н. А. Философову (1839—1895); но так как Философов не исполнил картинки, В. Г. Чертков передал художнику А. Д. Кившенко; вероятно, отчасти это обстоятельство задержало выход в свет картинки больше чем на год — до сентября 1886 г. (дозволение цензуры 27 сентября.) Несколько ранее «Ильяс» был напечатан в сборничке «Посредника» «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы». М. 1886), в котором напечатаны рассказы Толстого кроме «Ильяса» «Два брата и золото» и «Вражье лепко, а божье крепко» (все без имени) и пять рассказов других лиц. Сборник имеет три разрешения цензуры: 13 декабря 1885 г. на обороте титульного листа, 5 февраля 1886 г. в конце текста и 27 февраля 1886 г. на обложке.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ имеется в трех рукописях — автографе и двух копиях с поправками Толстого. Принадлежат к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, где хранятся в папке 9 под №№: 17, 18 и 19. Автограф под шифром: инв. № 33.
1) Автограф 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги. На л. 1 неизвестною рукою карандашом написано: «Рукопись «Ильяс». Рассказ Л. Н. Толстого, написанный в Симеизе. Март 1885 г.» Начало. «Въ одной Башкирской <Татарской> деревнѣ жилъ Башкирецъ <богатый Татаринъ> Ильясъ»... В конце приписано не Толстым: «Симеизъ Южн. бер. Крыма. 16 марта 1885 г.» Жена Ильяса в автографе — Фатьма; в рукописи 17 имя её изменено на Шам-Шемаги (Шамс — солнце, Шемаги — название города).
2) Рукопись № 17. 4°, 5 лл. нелинованной писчей бумаги. Копия с № 33, с поправками Толстого. Заглавие: «Ильяс». Начало: «Жилъ въ Уфимской губерніи Башкирецъ Ильясъ»..: в конце дата: «Симеизъ 17 марта 1885 г.», зачеркнутая Толстым.
3) Рукопись № 18. F°, 4 лл. линованной писчей бумаги. Копия с предыдущей, с поправками Толстого. Заглавие: «Ильяс». Начало. «Жилъ въ Уфимской губернии башкирецъ Ильяс»... С этой копии печатался текст лубочного издания.
В основу настоящего издания кладется текст «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. М. 1886, стр. 116—120.
————
«ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
История происхождения рассказа «Где любовь — там и Бог» изложена А. Е. Грузинским в статье «Источники рассказа Л. Н. Толстого — Где любовь — там и бог» (Голос Минувшего 1913, 3, стр. 52—63). В № 1 зa 1884 г. журнала «Русский рабочий»240 появился анонимный рассказ «Дядя Мартын», представляющий русскую переделку текста рассказа француза R. Saillens, «Le pere Martin». «С рассказом своим Saillens сначала ознакомил устно тулузскую общину евангелических христиан, прочитав его на одном из ее «Réunions populaires évangéliques». Затем он напечатал его или в журнале или отдельной брошюрой в начале 1880-х гг. под название «Le pere Martin». После этого Saillens выпустил рассказ вместе с другими своими рассказами и притчами под общим названием «Récits et allegories» (Тулуза. 1889). В предисловии автор уже говорит о сношениях с Толстым по поводу «плагиата» (В. Срезневский. Примечания к X т. Соч. Толстого, изд. ГИЗ, 1930). Рассказ был в журнале «Русский рабочий» прислан Толстому В. Г. Чертковым и «получен Толстым 17 марта 1885 г. в Крыму, куда он ездил, сопровождая больного Л. Д. Урусова». Толстой переделал повесть русского анонима в 1885 г. в рассказ «Где любовь, там и бог». По этому поводу ему в 1888 г. пришлось письменно объясняться с самим Сайяном, который был очень удивлен «плагиатом» Толстого и написал об этом последнему. Толстой ответил Сайяну в 1888 г. следующим письмом: «М. Г. Я в отчаянии по поводу причиненного вам беспокойства и прошу простить меня зa ошибку, как вы увидите совершенно непроизвольную. В России выходит ежемесячное, мало кому известное, издание «Рабочий». Один из моих друзей дал мне номер этого журнала, где находился перевод с приспособлением к русской жизни вашего рассказа «Отец Мартын», без указания автора, предлагая воспользоваться им для народного рассказа. Рассказ очень мне понравился, я лишь немного изменил стиль, прибавил несколько сцен и отдал приятелю для издания без моего имени, как то было условлено между нами не только относительно «Отца Мартына», но и рассказов, написанных мною. При втором издании издатель просил позволения выставить мое имя на полученных от меня рассказах. Я дал согласие, упустив из виду, что среди рассказов, восемь из которых были мои, находится и не принадлежащий мне «Отец Мартын»; но так как он был переделан мною, издатель не усумнился поставить и на нем мое имя. Редактируя одно из изданий, я прибавил к заглавию: «Где любовь, там и бог» в скобках: «заимствовано с английского», так как друг, давший мне журнал, сказал, что рассказ написан английским автором. Но в полном собрании сочинений эта прибавка была опущена, ту же ошибку допустил и переводчик. Вот каким образом, М. Г., я к великому сожалению, оказался виновен перед вами в неумышленном плагиате, и настоящим письмом я с величайшим удовольствием свидетельствую, что рассказ «Где любовь, там и бог» есть не что иное, как перевод и приспособление к русским нравам вашего чудного рассказа «Отец Мартын». Прошу вас простить мою невнимательность и принять уверение в братских чувствах. Лев Толстой (текст приводится по статье А. Грузинского, французский оригинал приведен там же, стр. 53). См. также тт. 63, 64 и 72 настоящего издания.
Работа Толстого над рассказом падает на небольшой срок между 17 марта и 17 мая 1885 г., так как он в письме к В. Г. Черткову от 26 марта 1885 г. из Москвы писал уже, что он рассказ «поправил, как умел». После этого имеется в письме к тому же В. Г. Черткову от 17 мая 1885 г. фраза о том, что рассказ «окончательно поправил» уже в корректуре.
Первый вид рассказа Толстого получился в результате непосредственной его работы пером по печатному экземпляру журнала «Русский рабочий». Текст этот приводится выше (стр. 573—583). Анализ толстовских наслоений на текст анонима (печатный вид исправленных мест дан в примечаниях к тексту) показывает, что Толстой обогащает сюжетную схему рассказа анонима третьим звеном (миротворческий поступок Авдеича). Эпизод — старуха и мальчик вылился не сразу, а был сначала написан на обороте вклеенного листа в виде эпизода примирения двух мальчиков. Вот этот зачеркнутый зпизод:
Стало уже солнце заходить за дома. Его не было, но Авдѣичъ все поглядывалъ въ окно. И вотъ подошли къ окну два мальчика, одинъ постарше, другой помоложе <и> остановились и стали спорить о <объ яблокѣ> чемъ то и вырывать что то другъ у друга. Авдѣичъ прислушался и понялъ, что они вмѣстѣ купили на 2 к. 3 яблока. Одно было большое и <один> два маленькихъ. Когда они покупали, они кинули жребій, кому съѣсть большое и кому два маленькихъ. Большому досталось большое яблоко <онъ>. Большой мальчикъ съѣлъ <его. А когда онъ> большое яблоко, a маленькій съѣлъ маленькое, и тогда большой мальчикъ сталъ спорить съ товарищемъ о томъ, что они не вѣрно дѣлили и что надо оставшееся яблоко раздѣлить пополамъ. Маленькій не давалъ, тогда большой сталъ отнимать у него. Маленькій не давалъ. Большой сбилъ с него шапку и схватилъ за волосы. Тогда Авдѣичъ постучалъ въ окно и вышелъ въ дверь. <Мальчики стали ем>. Мальчики подошли къ нему и стали разсказывать. Тогда Авдѣичъ сказалъ имъ: читали ли вы Евангеліе.
Читали, сказали мальчики. Кто <нам> говорилъ слова тѣ, которыя сказаны въ Евангеліи? спросилъ Авдѣичъ. — Богъ, отвѣчали мальчики. Что же не помнишь ли ты, какъ Богъ въ Евангеліи велѣлъ <людямъ жить между собою и какъ> дѣлать, когда одинъ хочетъ отнять что-нибудь у другого? спросилъ Авдѣичъ у маленького. — Не помню, отвѣчалъ мальчикъ <А ты не помн> Такъ я скажу тебѣ: Если кто отнимаетъ у тебя кафтанъ, то отдай рубашку. — Да, это написано тамъ, сказалъ мальчикъ <только это про большія дѣла такъ сказано>. А написано, такъ зачѣмъ ты не дѣлаешь? Отдай ему, а если тебѣ нужно, возьми у меня. Вотъ тебѣ копѣйка, купи себѣ. Нѣтъ, мнѣ не надо. Пускай возьметъ, сказалъ мальчикъ. И мнѣ не надо сказалъ старшій мальчикъ. — Ну хорошо, сказалъ Авдѣичъ, теперь скажите мнѣ, что <лучше: чтобъ подраться такъ, чтобы исцарапать лицо или отдать яблоко. Лучше вѣдь не ѣсть только бы> вы всегда съ нимъ деретесь и бранитесь или бываете друзьями.
Эта вставка предполагалась на стр. 581 строка 5. Остальная работа Толстого состоит в снятии с текста анонима сентиментальных особенностей и церковного колорита (снимается рождественская рамка, упрощается стиль, вносятся черты русского бытового реализма и т. п.). Данных для точной датировки работы Толстого над первым видом текста, как и над последующими — нет. По вышеуказанным соображениям возможно, что начало работы приходится на вторую половину марта 1885 г.
Листки журнала с исправлениями Толстого были перебелены от руки переписчиком, и Толстой приступил к правочной работе. Первая переделка (рукопись 2-я), без даты, получает заглавие «Где любовь, там и бог» и представляет сплошную правочную работу Толстого по всему тексту. Она состоит в том. что: 1) Толстой продолжает, особенно в частях текста, сохранившегося без переделки от анонима, снимать церковный и сентиментальный тон (между прочим зачеркнуты большие куски текста: стр. 575 строки 18—36: стр. 578 строки 19—21: стр. 580 строки 7—13 и 16—18; стр. 582, строки 29—34; и др. мелкие; усилен бытовой реализм, подправлен образ Авдеича подчеркиванием его подвижности, стремительности, в стиле усилены короткие фразы, начинающиеся союзами «а» и «и» и т. д.). 2) Толстой вносит в переделку ту «подвально-сапожничью» точку зрения, которая А. Е. Грузинским отмечена в окончательном тексте (см напр. осн. текст стр. 35 строки 4—5 сверху и др.), отделывает личность Авдеича, придавая ему способность к самокритике, сильно отделывает второстепенных лиц (совершенно выброшены кухарки, торговки (стр. 573 строка по стр. 574 строка 3), распространена характеристика женщины с ребенком, выброшен ребенок в конце текста (стр. 583 строки 4—6). 3) Толстой меняет деталь развязки, внеся элемент чудесного. Вместо стр. 583 строк 4—6 дано: «И вдругъ все исчезло и только на столѣ какъ отъ вѣтра стали сами собой переворачиваться листы и какъ свѣтомъ загорѣлись слова въ серединѣ страницы. И Авдѣичъ безъ очковъ прочелъ на верху страницы». 4) Правит сплошь стиль рассказа в сторону упрощения.
Закончив переделку, Толстой отдает в ручную переписку некоторые части ее, а четыре листка, хоть и правленные, целиком переносятся в беловик. Новую рукопись Толстой снова просматривает. Получается вторая переделка рассказа (см. рукопись 3-я). Эта переделка идет по пути более детальной отделки текста по линиям, намеченным в первой переделке. Продолжаются небольшие сокращения и упрощения текста, усиливается образная, в частности профессиональная, конкретизация Авдеича (напр, вставлены следующие строки, попавшие в основной текст: стр. 37, строка 1, стр. 38, строка 29; стр. 39, строка 12, стр. 40, строка 34, стр. 38, строка 29, стр. 40, строка 28 и др.), усилена «подвальная» точка зрения Авдеича, дочь Авдеича Катенька заменена сыном Капитошкой, наконец снята концовка первой переделки. Вместо нее дано:
И ухмыльнулся Степанычъ и голосъ сказалъ: Это я. Улыбнулась женщина и улыбнулся ребенокъ и голосъ сказалъ: И это я. Улыбнулась старуха, улыбнулся мальчикъ съ яблокомъ и голосъ сказалъ: И это я. И вдругъ все исчезло. И радостно стало на душѣ Авдѣича, перекрестился онъ, надѣлъ очки и сталъ читать Евангеліе тамъ, где открылось. И наверху страницы онъ прочелъ
Вторая переделка, перебеленная от руки переписчиком, дает основание новому просмотру текста Толстым и новой третьей переделке текста (см. ркп. 4-ю и 5-ю). Она имеет цель продолжить шлифовку рассказа по всем тем же направлениям, по каким шла работа во второй переделке. Местами даны новые сокращения (напр. стр. 573, строки 15—18 сверху, несколько измененные в первой переделке, теперь выброшены), еще усилена и детализована «подвальная» точка зрения (напр. вставлены в осн. текст стр. 35, строка 9 детализован конец, вместо вышеприведенного текста см. стр. 44, строка 29 и след.), проведена отделка деталей в обрисовке действующих лиц (вставлены см. осн. текст стр. 36, строка 39, стр. 41, строки 13—14; стр. 41, строка 18; стр. 42, строка 4 и др. мелкие фразы и слова, детализующие жесты и действия лиц). Специальное внимание уделено в третьей переделке эпизоду ссоры старухи с мальчиком, который почти не правился в 1-й и 2-й переделках. (Вместо текста стр. 581 строка 8 — стр. 582 строка 20 получается в третьей переделке текст, равный осн. стр. 42 строка 26 — стр. 44, строка 13). Толстой рельефнее и конкретно детальнее очерчивает эпизод. Дальше несколько подправлены женщина с ребенком и Степаныч; священник, по совету которого Авдеич обратился к Евангелию, заменяется земляком-старичком, систематически подправлены диалогические куски текста в сторону усиления народного колорита лексики и синтаксиса собеседников (Напр. осн. текст стр. 37, строки 26—28 снизу вместо второй переделки «И далеко мне до этого и близко мне до этого, коли поможешь мне Господи», и т. п.). Наконец, в тексте сделано несколько мелких стилистических поправок и внесены евангельские тексты в соответствующих местах, тогда как до этого были только ссылки на главы и стихи.
Несколько листков третьей переделки были перебелены переписчиком (оставшиеся черновики хранятся в рукописи 4-й), Толстой просмотрел еще paз текст (лист 20-й рукописи 5-й хранит следы его трех мелких поправочек да на стр. 44 осн. текста строка 25 слова «шевелится, ногами переступает» вписано вместо «вошелъ и стоить») и рассказ был готов. Рукопись 5-я несмотря на наличие поправок была передана в типографию для набора. Дата типографии на рукописи «10 мая 85 г.»
Сличение однако рукописи, по которой текст набирался, с первым печатным изданием «Посредник» М. 1886 г. (цензурное разрешение от 24 мая 1885 г.) убеждает, что была еще корректурная (четвертая по счету) переделка рассказа. Она ведена по всему тексту и содержит на ряду с двумя десятками мелких словарных и грамматических поправок, еще десятка три мелких исправлений текста в сторону художественной отделки частностей.
Напечатанный в 1886 г. в «Посреднике» рассказ «Где любовь, там и бог» перепечатывался потом стереотипно. Переделок его авторских неизвестно. Драматическая же любительская переделка см. в изд. «Посредник» № 1143 в 1914 г. и в приложении к журн. «Маяк» зa 1917 г. (прилож. II). Любопытно отметить, что этот рассказ Толстого не подвергался цензурным запретам.
Рисунки на обложке первого издания принадлежат художнику А. Д. Кившенко.
Новейшее издание рассказа в Полном собрании художественных произведений Л. Н. Толстого. ГИЗ. М.-Л. 1930, т. X, с. 37—45 исправило, но далеко неудачно, текст издания «Посредник». Все почти внесенные в тексте конъектуры — спорны, а новая пунктуация без нужды совершенно искажает те оттенки текста, какие имеются в изд. «Посредник».
За основной текст рассказа «Где любовь, там и бог» принят печатный текст первого издания «Посредника». М. 1886, цензурное разрешение от 24 мая 1885 г. Сличение этого текста с рукописями Толстого показывает, что 1) ряд толстовских написаний был изменен переписчиками рукописей и 2) после последних рукописей были значительные исправления в корректуре, хотя сама корректура рассказа среди рукописей не сохранилась. В письме к В. Г. Черткову от 17 мая 1885 г. Толстой писал, что рассказ «окончательно поправил» уже в корректуре.
По рукописям нами внесено следующее исправление:
Стр. 40 строка 3: свой по автографу и всем копиям. В изданиях нет.
Введены также отсутствовавшие в изд. 1886 г. следующие красные строки: Стр. 36, строки 14 и 20; стр. 37, строка 11; стр. 38, строка 15; стр. 39, строка 1, 12 и 21; стр. 40, строка 23, 40; стр. 41, строка 7, 36; стр. 42, строки 8 и 13; стр. 43 строки 3, 4, 15, 18, 24, 37, 39; стр. 44, строки 18, 32, 35, 38.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописи хранятся в ГТМ в папке 8 под №№ 7—11.
1) № 7. Два листка из журнала «Русский рабочий» № 1 sa 1884 год (страницы 3—6). На странице по три столбца. Печатный текст начинается с начала 3 стр. и кончается первым столбцом стр. 6. Текст правлен рукой Толстого чернилами (вычеркивания, вставки слов, предложений и т. п.). Вшиты листы писчей бумаги в клеточку один между стр. 4 и 5, другой двойной в конце. Первый лист с обеих сторон исписан вставками Толстого, на двойном листе только первая страница записана вставкой. Таким образом этот первый черновик рассказа Толстого представляет текст, состоящий: а) из во многих местах буквально сохраненного печатного текста журнальной статьи, б) из записей, поправок Толстого над зачеркнутыми частями печатного текста и в) из текста вставок на особых листах. Заглавие сохраняется печатное «Дядя Мартын». Этот черновик издается на стр. 573 с указанием в сносках под текстом некоторых первоначальных чтений текста рассказа из журнала «Русский рабочий».
2) № 8. Рукопись на 4 лл., F°. На первом чистом листе рукой не Толстого: «Дядя Мартын», л. 1 об. чистый. Остальное — копия с первого черновика, сделанная рукой не Толстого и сплошь правленная Толстым. И текст и поправки — чернилами. Рукопись — остаток от полного текста, из коего 4 листа перенесены в следующую рукопись. Текст — первая переделка черновика рассказа. Заглавие рукой Толстого: «Где любовь, там и Бог».
3) № 9. Рукопись на 10 нумерованных листах + 1 чистый. Лл. 4, 5, 8, 9 перенесены механически из предшествующей рукописи. Заглавие «Где любовь, там и Бог». Текст — перебелка почерком не Толстого черными чернилами текста первой переделки. Лл. 2, 2 об. и 3 писаны другим почерком лиловыми чернилами. Перенесенные листы третий почерк. По всему тексту правка рукой Толстого. Текст данной рукописи — вторая переделка рассказа.
4) № 10. Рукопись на 8 лл. (стр. 1—10 + 1 л. без пагинации + стр. 33—36) 4°. Заглавие «Где любовь, там и Бог». Текст — чернилами, почерком не Толстого, но им правленый. Рукопись составилась так: Текст второй переделки был перебелен от руки переписчиком на 40 страницах в 4-ку тетрадной бумаги в клетку и пронумерован с 1—13 стр. химическим или коричневым карандашом, с 14—40 синим карандашом. Толстой произвел правку всей рукописи, но особенно измарал стр. 1—10, 33—36, 39. Эти страницы были переписаны снова и вошли в следующую рукопись, а запачканные поправками стр. 1—10, 33—36 и составляют данную рукопись. Таким образом, текст остатки от третьей переделки рассказа.
5) № 11. Рукопись на 21 нумерованных лл. 4°. Заглавие — «Где любовь, там и Бог». Новая пагинация по зачеркнутой старой. Текст — перебеленный рукой не Толстого, есть текст 2-й переделки с вновь перебеленными вставленными листками 1—10, 33—36 и представляет собою третью переделку рассказа. По данной рукописи производился набор текста в типографии, так как: на л. 1 в левом верхнем углу типографская помета «№ 112, 10 мая 85 г.», вся рукопись испачкана отпечатками пальцев наборщиков и хранит пометы метранпажа карандашом фамилий наборщиков.
————
«УПУСТИШЬ ОГОНЬ — НЕ ПОТУШИШЬ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Рассказ «Упустишь огонь — не потушишь» написан Толстым в апреле 1885 г. На старшей рукописи-автографе есть дата — «11 апреля 1885 г.» и на следующей — копии рукой А. П Иванова (нередко в это время переписывавшего для Толстого его рукописи) — «17 апреля 1885 г. Москва. Полночь». Очень скоро после того, как была сделана эта копия, Толстой послал В. Г. Черткову в Петербург «первоначальную черновую» (выражение Черткова) рассказа, а 22 апреля последний, как видно из его письма, собирается отослать рассказ обратно Толстому и просит прислать ему снова, когда исправит: «Я здесь, — дополняет В. Г. Чертков, — закажу к нему рисунки и пропущу через цензуру»; он просит Толстого, если будет возможно, «это сделать безотлагательно», чтобы успеть справиться с рассказом до отъезда зa границу. 26 апреля Толстой пишет Черткову от Сытина (книгоиздателя, печатавшего издания «Посредник»), который ехал в Петербург, что «хотел с ним послать назад свой рассказ» (вероятно, это третий список), но так как «очень перемарал его и не успел переписать, да и то не совсем доволен», откладывает свое намерение. Из всего этого видно, как спешно шла работа. Для быстроты же, вероятно, Толстой думает «отдать в цензуру здесь», т. е. в Москве. Согласившись с Толстым по вопросу о цензуре, Чертков просит его, очевидно тоже для ускорения работы художника, не может ли он прислать ему черновую копию, на которой он сделал пополнения и изменения, для того чтобы можно было прочесть рассказ К. А. Савицкому, взявшемуся сделать рисунки. «В крайнем случае, — прибавляет В. Г. Чертков, — я прочту ему ту первоначальную черновую, которая осталась у меня; но лучше было бы, если бы вы прислали мне вашу черновую, более обработанную, так как в окончательной форме рассказы, разумеется, больше увлекают и воодушевляют художника, который должен иллюстрировать». Судя по пометке типографии на рукописи, с которой набирали, — «10 мая 1885 г.», дальнейшая работа Толстого была уже над корректурой; эту корректуру он просмотрел перед своим отъездом в Ясную поляну и передал ее И. Д. Сытину до 17 мая, когда уже был в деревне. 30 мая 1885 г. было получено разрешение цензуры. Начавшееся так напряженно и быстро писание и печатание рассказа после этого вдруг остановилось. Не даром, говоря в письме к Черткову 17 мая про «Огонь не потушишь», Толстой употребляет такое выражение: «Терять времени не надо, но и торопиться не надо». Только в октябре в переписке Толстого с Чертковым вновь попадаются упоминания о рассказе. В письме 12 октября Чертков просит Толстого дать дополнительное более подробное заглавие для некоторых рассказов и между прочим для «Упустишь огонь». «Это, — прибавляет Чертков, — имеет большое значение в глазах покупателей и, сделав это, вы приведете эти книжечки в самую подходящую форму для лубочных изданий». Толстой дал такое распространенное заглавие рассказу: «Упустишь огонь — не потушишь, или о том, как мужик по злобе к соседу сам себя поджег, и как он одумался» (это заглавие не вошло ни в одно издание). То же письмо Черткова 12 октября интересно, как показатель исключительной тщательности в работе и автора и редактора: В. Г. Черткова смутила одна подробность в рассказе, вероятно, смутившая и слушателей из крестьян, которым он читал рассказ в Воронежской губернии (где он в октябре жил); он думал, не описка ли у Толстого. Толстой в ответном письме пишет, что «О Тараске нет описки. У нас выводят лошадей зa ворота, привязывают на улице и тогда ужинают и убираются в ночное... Я никак не умею вставить объяснения этого. Если вы придумаете, вставьте (но, впрочем, если крестьяне найдут нужным) объяснение». Объяснение не было вставлено и осталось, как было написано: «пошел на улицу к лошади». (См. т. 85, стр. 267.)
Рассказ был отпечатан и выпущен в свет только в следующем, 1886 г., и очень скоро, в том же году, вторым изданием. Первое издание было снабжено рисунками К. А. Савицкого, второе — рисунками М. Е. Малышева (1852—1912).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописи, заключающие в себе рассказ «Упустишь огонь — не потушишь», принадлежат к Архиву, переданному В. Г. Чертковым в ГТМ и хранятся в папке 8, №№ 1—6.
1) № 1. Автограф, 4°.7 лл. нелинованной писчей бумаги. На л. 7 дата: «11 апрѣля 1885». Заглавия нет. На полях дополнения; в тексте помарки и поправки. Некоторые места зачеркнуты вертикально. Детали еще не разработаны. Иван назван Хралковым. Начало: «Жилъ въ деревнѣ крестьянинъ Иванъ Хралковъ». Зачеркнутое начало было: «Жили два мужика, два сосѣда»... Первая редакция.
2) Рукопись № 2. Копия с предыдущей рукою А. П. Иванова. 4°, 14 лл. нелинованной писчей бумаги. На л. 1 зачеркнутый отрывок письма рукою А. П. Иванова, не принадлежащий Толстому. (Начало: «Согласно письму Вашему, в котором Вы иэвещаете меня»...). Текст нач. на л. 2. с значительными поправками и дополнениями Толстого. Начало: «Жилъ въ деревнѣ крестьянинъ Иванъ Хралковъ». В конце дата рукою переписчика: «17 апреля 1885 г. Москва. Полночь». Заглавие рукою Толстого: «Упустишь огонь — не потушишь». Здесь уже налицо работа над деталями.
3) Рукопись № 3. Копия с предыдущей. 4°,15 лл. писчей бумаги, линованной в мелкую клетку. С поправками Толстого. Конца недостает, он перенесен в следующую рукопись. Здесь текст обрывается на словах: «Дядя Иванъ, твой родитель помираетъ, велѣлъ тебя звать проститься».
Последние листы перенесены в следующую рукопись: Начало — как в предыдущих рукописях. Фамилия Ивана — Хралков.
4) Рукопись № 4. Копия с предшествующей рукой А. П. Иванова. 4°, 21 лл. (лл. 20 и 21 чистые) нелинованной писчей бумаги. С большими поправками, дополнениями и перестановками Толстого. Под заглавием рукою Толстого сделана пометка об эпиграфе: «МӨ. XVIII. 21—35 (выписать)». Начало: «Жилъ въ деревнѣ крестьянинъ Иванъ Щербаковъ»... Фамилия «Щербаковъ» рукою Толстого написана над «Хралков». Листы 17, 18 и 19, с концом рассказа, вынуты из рукописи и перенесены сюда.
5) Рукопись № 5. Копия с предыдущей, без авторских поправок. F° 10 лл. (л. 10 чистый). Под заглавием эпиграф из Мф. XVIII. 21—35, выписан полностью. Начало: «Жилъ въ деревне крестьянинъ Иванъ Щербаковъ»... На л. 3 об. примечание карандашом рукою В. Г. Черткова.
6) Рукопись № 6. Копия с рукописи № 4 рукою А. П. Иванова. 4°,22 лл. нелинованной писчей бумаги Ржевской фабрики. С поправками Толстого. Лист 13 представляет перебеленную копию части лицевой стороны листа 14-го. С этой рукописи набирался текст для издания «Посредника». В левом углу сверху на л. 1 неизвестной рукой написано: «№ 113. 10 мая 85».
В основу настоящего издания кладем текст издания «Посредника»: «Упустишь огонь — не потушишь. Льва Толстого. Москва. Типография И. Д. Сытина и К°. Пятницкая ул., собств. д. 1886. 12°, 34 нумер, и 2 ненум. стр.» Цензурное разрешение — Москва 30 мая 1885 г.
В виду того, что корректуры, в которой Толстой сделал окончательные поправки, не сохранилось, текст настоящего издания проверен по рукописям.
————
«ВРАЖЬЕ ЛЕПКО, А БОЖЬЕ КРЕПКО».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Происхождение рассказа «Вражье лепко, а божье крепко» точно неизвестно. Имя главного действующего лица «Алеб», которым, кстати сказать, обычно для краткости Толстой называл самый рассказ, указывает на восточное его происхождение, так как имя это распространено вообще среди магометан, живущих в России. Далее, бытовые особенности края, где происходит действие рассказа, и народа, живущего там, изображают скорее всего башкирские степи, жизнь в которых была Толстому близко знакома. Там, может быть, и слышал Толстой какое-нибудь предание, сходное с его рассказом по основной теме.
Рассказ «Вражье лепко, а божье крепко» был написан в первой половине апреля 1885 г. Уже 17 апреля В. Г. Чертков писал к Толстому, что И. Е. Репин рисует картинку к этому рассказу, который, как пишет Чертков, «страшно» Репину понравился. Из того, что В. Г. Чертков в своем письме называет рассказ обычным его именем — «Вражье лепко, а божье крепко», очевидно, что у него был список уже с исправленной Толстым копии, в которой в первый раз было дано это название, приписанное здесь Толстым; в первой рукописи (автографе) заглавия, как известно, не было.
Хотя в письме к Черткову зa границу 17 мая 1885 г. Толстой говорит о находящихся у него уже, повидимому, в корректуре, текстах двух рассказов Алеб и Ильяс и о том, что на следующий день он их поправит и пошлет, печатание рассказа очень задержалось. «Вражье лепко, а божье крепко» вышло только в феврале 1886 г. на открытом листе «Посредника» с картинкой с разрешения цензуры 12 февраля 1886 г. и затем в сборничке «Посредника», озаглавленном «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы», М. 1886, в котором, кроме двух указанных выше рассказов Толстого и еще одного его же («Два брата и золото»), всех вышедших без подписи, было напечатано еще пять рассказов неизвестных лиц. На сборничке было три цензурных разрешения: 13 декабря 1885 г. на об. титульного листа, 5 февраля 1886 в конце текста и 27 февраля 1886 на обложке.
Интересно отметить, что одними из первых познакомились и с рассказом Толстого и с рисунками Репина, еще до выпуска в свет этого издания, — крестьяне села Россоши Воронежской губернии, где было именье матери В. Г. Черткова Елизаветы Ивановны. «Я показывал здесь — пишет Чертков Толстому, — крестьянам рисунок Репина к «Вражье лепко» и читал при этом самый рассказ. Это вызывает самый большой интерес, и я даже был удивлен, до какой степени слушатели входят в самую глубину смысла рассказа и картины, и — до какой степени ни малейший намек на картине не пропадает для них даром. Выслушавши рассказ, они долго разбирают картину и поясняют друг другу и обсуждают ее. С таким воодушевлением они делают это, что со стороны кажется, будто они обсуждают не картину, а живую сцену, происходящую на их глазах». «Мне было очень отрадно это видеть и мне так хотелось, чтобы вы были с нами и присутствовали при этом», прибавляет В. Г. Чертков к своему рассказу.
Только в конце марта в «Посреднике» были получены пробные оттиски картинок «Вражье лепко» и «Два брата и золото» и можно было выставить в окне магазина «Посредника» на Б. Дворянской в Петербурге, где тогда начиналась его деятельность. «Народ целый день кучками стоит у окон, причем один читает, а другие слушают — пишет В. Г. Чертков Толстому.— Успех превосходит всякие ожидания. Это ужасно ободрительно — работать в конторе под звук этого чтения на улице. Надо было еще таких рассказов, и именно таких — в такой форме».
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ сохранился в двух рукописях, принадлежащих к Архиву В. Г. Черткова, передан. в ГТМ. Хранятся в папке 9, под №№ 1 и 2.
1) Автограф, № 1. F°, 1 л. Писан на обеих страницах без полей, почти без помарок. Заглавия нет. Даты нет. Начало: «Жилъ в старинные времена добрый богачъ»...
2) Рукопись № 2. Копия с первой рукописи неизвестной рукой, с поправками и дополнениями Толстого. F°, на 4 л. писчей бумаги Ржевской фабрики, писанных на одной стороне. Заглавие рукою Толстого: «Вражье лѣпко, а Божье крѣпко». Начало: «Жилъ в старинные времена добрый хозяинъ»...
В основу настоящего издания кладется текст изд. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая, М. 1886, стр. 107.
————
«ДЕВЧЕНКИ УМНЕЕ СТАРИКОВ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
В письме к В. Г. Черткову 14 мая 1885 г. Толстой пишет, что он посылает ему «рассказец к картинке», не говоря какой именно, и тут же, жалуясь, что, хоть и обещали, никто в Москве не сделал к этому рассказу картинки, говорит: «Не сделает ли кто в Петербурге».241 Действительно, 22 мая В. Г. Чертков отвечает Толстому, что к «рассказу о девченках с радостью взялся сделать картину Савицкий.242 Только он может, — добавляет Чертков, — не раньше двух недель». Таким образом очевидно, что рассказ был написан в мае 1885 г. В том же письме 22 мая он пишет, что ему кажется «чересчур неожиданным» заключение рассказа — «Аще не будете как дети, не внидете в царствие Божие» (слегка измененный и сокращенный текст Евангелия от Матфея, гл. 18, ст. 3): «В этом рассказе, — обращается к Толстому Чертков, — не думаете ли, что лучше поместить слова Христа в виде эпиграфа, под заглавием? В конце они как-то чересчур неожиданны и нарушают этим замечательную простоту впечатления, получаемого от рассказа». У Толстого и было написано в таком роде в первом наброске, но только выдержка из Евангелия в начале рассказа была взята не как эпиграф, а как заглавие. В ответном письме Черткову (начало июня 1885 г.) он выражает свое согласие с его мнением: «К девченкам лучше в виде эпиграфа»,243 т. е. слова из Евангелия лучше поместить как эпиграф. Но в конце концов неизвестно по каким причинам эта поправка не была принята и всё осталось в том виде, в каком было послано Черткову.
Две известные нам рукописи рассказа представляют собою одну редакцию и друг от друга отличаются только некоторыми, по большей части, стилистическими переправками.
Рассказ «Девченки умнее стариков» был выпущен в свет как текст к картине в ноябре 1885 г. (Цензурное разрешение 9 ноября 1885 г.). Картина работы К. А. Савицкого исполнена в красках в хромолитографии И. Д. Сытина (Москва, открытый лист, 1885).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Текст рассказа имеется в двух рукописях, принадлежащих к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ. Хранятся в папке 9, под №№ 8 и 9.
1) Автограф № 8, 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги. Заглавие: Аще не будете как дети, не внидете в царст[вие] Божие. Начало: «Святая была ранняя»...
2) Рукопись № 9. 4°, 4 лл. (л. 4 пустой) линованной бумаги из расшитой тетради. Копия с предыдущей рукою T. Л. Толстой, с поправками и дополнениями Толстого. Заглавие: «Девченки умнее стариков». Слова: Аще не будете как дети — отнесены в конец рассказа. Рассказ начинается: «Святая была ранняя»...
В основу настоящего издания положен текст «Сочинений гр. Л. Н Толстого». Ч. двенадцатая М. 1886, стр. 110—112.
————
«ЗЕРНО С КУРИНОЕ ЯЙЦО».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Легенды на тему общую с рассказом «Зерно с куриное яйцо» нам не удалось найти среди памятников народной литературы. Весьма вероятно, что идея, проводимая этим рассказом, что выше всего жить по-божьи, как в старину жили, своими трудами, принадлежит самому Толстому.
Первая рукопись этой легенды была записана Толстым в той же самой тетради, в которой в начале находится рассказ «Кающийся грешник», а в конце «Много ли человеку земли нужно»; поэтому его следует относить, как и рассказ «Кающийся грешник», к маю — июню 1885 г.
В первый paз легенда была напечатана в сборничке «Посредника» «Три сказки» в 1886 году. Цензурное разрешение сборничка было дано для текста 2 апреля, для обложки 9 апреля 1886 г. На обложке сборничка рисунки сзади и спереди, относящиеся к первому рассказу сборничка «Много ли человеку земли нужно», исполненные художником М. Е. Малышевым (1852—1912). Третий рассказ сборничка —«Как чертенок краюшку выкупал».
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописи с текстом рассказа принадлежат к Архиву, переданному В. Г. Чертковым в ГТМ и хранятся в папке 11 № 10, п. 9 №№ 34 и 35. В БЛ — корректура, под шифром V. 1.3.
1) № 10. Автограф, 4°, 11 лл. Описание этой рукописи см. при рассказе «Кающийся грешник». Первоначальное заглавие этого рассказа было: «Старинное житье»; потом это заглавие зачеркнуто и написано: «Зерно с куриное яйцо». Четыре первых строчки рассказа зачеркнуты и сверх них текст написан заново. Зачеркнутые первые строчки рассказа «Зерно с куриное яйцо» читаются так: «Принесли раз къ царю ржаное зерно, такое, какого никто и не видывалъ. Полное, бѣлое и величиной с куриное яйцо. Позвалъ царь мудрецовъ узнать, гдѣ и когда такое зерно родилось»...
2) Рукопись № 34. Копия с предыдущей рукою В. Г. Черткова. 4°, 8 лл. (л. 8 чистый). С поправками и дополнениями Толстого. Начало: «Нашли разъ ребята въ оврагѣ штучку»...
3) Рукопись № 35. Копия с предыдущей, F°, 3 лл., рукою H. Л. Озмидова. С поправками Толстого, со вставками и поправками карандашом рукою Озмидова. Начало: «Нашли разъ ребята въ оврагѣ штучку»...
4) Корректура в гранках, 1 полоса, к изд. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая, М. 1886, стр. 480—482, с поправками Толстого.
В основу настоящего издания кладется текст, напечатанный в указанном издании «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Ч. двенадцатая, проверенный по рукописям и корректуре.
————
«МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО?»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Мысль рассказа «Много ли человеку земли нужно» зародилась у Толстого гораздо раньше, чем он начал писать рассказ. Тема этого рассказа связана с одной стороны, можно сказать, совершенно неожиданно, с работами Толстого над изучением греческого языка, и в частности над чтением в подлиннике Геродота, с другой стороны с жизнью Толстого в Самарских степях, которая естественно вела к знакомству с нравами и обычаями башкир; таким образом и то и другое относит первый замысел рассказа к 1871 году. Тогда — зимой 1870—1871 гг. — Толстой был сильно увлечен изучением греческого языка: «с утра до ночи учусь по гречески», — писал он А. А. Фету;244«по ночам говорю во сне по гречески»;245он ничего не пишет, говорится в письме к нему же, только «учится». Толстой работает над греческим языком, как всегда работал над увлекающим его предметом, — страстно, до изнеможения, не думая о своем здоровьи, к тому же пошатнувшемся в это время, как он сам весною писал С. С. Урусову. С. А. Толстая, находя упорные занятия мужа греческим языком слишком вредными для его здоровья, так как она считала их главной причиной болезни, настояла в начале лета на поездке в Самару для лечения кумысом. Эта поездка, поправив состояние его здоровья, не прекратила занятия греческим языком и особенно погрузила его в чтение Геродота. Столкнувшись с местными жителями — башкирами, — Толстой увидел в них близкое сходство с скифами Геродота. «Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью, описывает тех же самых галактофагов, скифов, среди которых я живу»,246 — читаем в письме Толстого к А. А. Фету. И он чувствут себя, как читаем в письме к С. А. Толстой — «приходящим в скифское состояние». Всё казалось ему там в Башкирии «ново и интересно»: «и башкирцы, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и добродушию».247 Эти башкиры с их питанием кумысом, кумысо-еды, галактофаги уносили его к временам Геродота.
Толстой ставил кульминационным пунктом своего рассказа развитие и своеобразное толкование обычая, описанного Геродотом; в нем он видел определенный ответ на вопрос, поставленный в заглавии. Суть обычая скифов Геродота, обычая известного и в других местах, заключается в передаче земли посредством дара или купли — продажи обегом ее или объездом на коне в течение определенного времени, с восхода до заката солнца, и так как человек никогда не в состоянии остановить своих желаний, то этот обег влечет за собою смерть.
В «Истории» Геродота (книга IV, глава 7) рассказывается так про обычай скифов: во время торжества в прославление плуга, ярма, секиры и чаши, по преданию упавших с неба, страж, оберегающий эти золотые предметы, если он заснет во время празднества, получает в подарок столько земли, сколько он может на коне объехать, потому что он и года не проживет после этого. От этого предания можно с уверенностью сказать залег сюжет будущей сказки о земле Толстого. Рассказ об обеге или объезде земли, для закрепления за собой, и следующая затем смерть домогающегося этого дара не ограничивается записью Геродота. Подобное предание в 1850-х годах было записано в Украине в Черниговской губернии и связано с болотом Гале в Сосницком уезде, заклятом и негодном для скота; здесь, по преданию, сговорился один человек с другим обежать болото с тем, чтоб оно ему досталось, и не добежав упал и умер на месте. Иные про то же или одноименное место рассказывают, что один батуринский житель просил себе земли у гетмана, и ему назначено было столько земли, сколько он без отдыха пробежит. Он пробежал, но, не достигнув цели упал около Галого, протягивая вдаль руку, и кладя ее на землю умер.248 Возможно, что Толстой, если и не знал записи этого предания, может быть, знал какой-нибудь другой его вариант; во всяком случае с преданием, рассказанным Геродотом, он несомненно был знаком (см. статью М. Альтмана «Л. Толстой и Геродот»).249 В рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно» входят три момента сюжета о добывании земли: сон, обег и смерть перед самым концом пробега; в Батуринском предании нет момента предварительного сна; в предании, записанном Геродотом, есть все три момента сюжета, но сочетание их представлено в нем совершенно в ином изложении, чем у Толстого.
Старшая рукопись рассказа «Много ли человеку земли нужно?» находится в том же обрывке тетради, как и старшие записи рассказов «Кающийся грешник» и «Зерно с куриное яйцо», вслед зa ними, и, как видно по почерку и чернилам, написана с ними почти одновременно, т. е. в мае или июне 1885 года. Редакций рассказа нужно считать три: две в первой рукописи и одна во второй; следующие рукописи дают лишь некоторые стилистические поправки. На заглавии Толстой остановился не сразу, только в третьей редакции на обложке рукописи указав предполагаемое заглавие (вписано, повидимому, В. Г. Чертковым) — «сказка о земле»; это заглавие впрочем тут же было оставлено и рассказу тогда же было дано то заглавие, которое за ним и осталось. В июне ли 1885 г. Толстой закончил писание своего рассказа или позже, нет никаких указаний. Известно только, что к печати рассказ был разрешен в начале апреля 1886 года, именно 5-го апреля была дозволена 4-я книжка «Русского богатства», в которой был напечатан впервые рассказ. «Посредник» получил разрешение в два приема: текст 2-го апреля, а обложка 9-го. Как книгоиздательству, преследуемому цензурой, «Посреднику» было дано разрешение с исключением одной фразы, почему-то сочтенной опасной (из 3-й главы: «Стали ему и красным петухом грозиться» (впрочем уже разрешенной во 2-м издании). Рассказ был напечатан «Посредником» в сборничке, названном «Три сказки», в который кроме него вошли два другие рассказа Толстого «Зерно с куриное яйцо» и «Как чертенок краюшку выкупал». На обложке сборничка рисунки, относящиеся к рассказу «Много ли человеку земли нужно», исполненные художником М. Е. Малышевым. Вскоре после «Русского богатства» и «Посредника» рассказ вышел в издании С. А. Толстой в ХІІ-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Произведения последних годов» (Москва, Типография А. И. Мамонтова). Фраза, недозволенная в издании «Посредника», в этом издании не подверглась запрещению.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Текст рассказа сохранился в пяти рукописях: три — в Архиве, переданном В. Г. Чертковым в ГТМ в папке 11 №№ 10, 11 и 12, одна — в АТБ под шифром: V. 6. Там же корректура, под шифром: V. 1. 4. Рукопись ГЛМ под шифром 2457/26. Там же корректура под шифром 2457/2.
1) Автограф ГТМ, № 10. 4°, 11 лл. Описание автографа см. при рассказе «Кающийся грешник». Рассказ «Много ли человеку земли нужно» в этой рукописи без заглавия. Начало: «1. Пріѣхала старшая сестра къ меньшей сестрѣ въ гости».... Весь рассказ разделен на шесть глав. Мелкие подробности не разработаны. Пахом едет к башкирам с женой и работником, и накануне рокового дня страшный сон видит жена и рассказывает мужу. В рукописи много помарок, поправок, дополнений и перестановок текста. Это первый набросок, первая редакция.
2) Рукопись ГТМ, № 11 копия с предыдущей, рукою В. Г. Черткова, 4°, на 16 листах нелинованной писчей бумаги, с поправками и дополнениями Толстого. Это вторая редакция. Заглавие приписано рукою Толстого: «Много ли человѣку нужно». Рассказ разделен на 8 глав римскими цыфрами. Начало: «1. Пріѣхала изъ города старшая сестра»... Дополнения и поправки рассказа в основе не изменяют.
3) Рукопись АТБ V. 6. Копия рукою С. А. Толстой, с поправками Толстого, 4°, на 16 листах нелинованной писчей бумаги. Л. 1 — заглавие: «Много ли человеку нужно». Поправок много, но главным образом стилистического характера. Текст начинается с л. 3-го; на л. 1 и 2 — заглавие. Начало: «Пріѣхала изъ города старшая сестра къ меньшой въ деревню, въ гости»...
4) Рукопись ГTM, № 12, F°, нa 11 листах (л.1 — заглавие). Копия рукою Н. Л. Озмидова с поправками и дополнениями Толстого и карандашными поправками Озмидова. Перед текстом в заглавие: «Много ли человѣку нужно» рукою Толстого после слова: «человѣку» вставлено: «земли». Начало: «Пріѣхала въ гости изъ города старшая сестра къ меньшой въ деревню»... Эта рукопись представляет копию с предыдущей. Здесь сделаны изменения: вместо слова «шишка» — везде — «шихан». Пахом едет к башкирцам без жены, с работником, страшный сон видит сам.
5) Рукопись ГЛМ на 11 л. писчей бумаги в линейку с многочисленными поправками Толстого карандашом и чернилами. На каждой странице пометки рукой В. Г. Черткова: «Ч», свидетельствующие о том, что рукопись находилась у него, это же видно из его собственноручных замечаний по поводу содержания рассказа. Рукопись представляет собою последнюю редакцию рассказа. Конец его сильно изменен стилистически путем зачеркивания и надписывания нового текста. В зачеркнутых автором местах фигурируют верховые башкирцы, которые должны наблюдать зa обегом Пахома вемли. В результате поправок Толстого на рукописи, содержание ее почти совпадает с печатным текстом. Рукопись разделена также на 9 глав. Лишь 8-я гл. начинается со слов: Поднялся Пахомъ, разбудилъ работника въ тарантасѣ... по окончательному тексту гл. 7, стр. 75. Рукопись, повидимому — копия предыдущей.
6) Корректурные гранки АТБ V. 1. 4, 7 полос. Это — корректура из «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов. М. 1886», стр. 483—498, с поправками рукою Толстого. Текст этого издания «Сочинений» кладется в основу настоящего издания, с проверкою по рукописям и корректуре.
7) Подписной корректурный лист, хранящийся в ГЛМ с надписью: «Исправив ошибки и нумерацию печатать гр. С. Толстая». Корректура изд. 1886 г., стр. 473—489; нумерация страниц исправлена карандашом рукой Толстого на 492—498. Других исправлений рукой Толстого нет.
————
«КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Тема рассказа «Кающийся грешник» взята Толстым из известной старинной русской повести, которая встречается в наших рукописях, начиная с XVII века, под заглавием: «Повесть» или «Притча о бражнике»; вероятно, этот рассказ перенесен в русскую литературу с запада. Ближайший источник рассказа Толстого — легенда в списке XVIII века, внесенная А. Н. Афанасьевым в его сборник «Народные русские легенды» (Москва 1859). Все действующие лица в рассказе Толстого те же, что и в повести, и разговоры их иногда дословно близки. Эта повесть только уточняет вину кающегося грешника, изображая его исключительно бражником, гулякой, участником пиров (ср. объяснение этого слова в примечании к изданию этого памятника в «Русской беседе» 1859, т. VI).
Рукописи рассказа «Кающийся грешник» распадаются на три редакции, из которых резко выделяется первая, остальные же по существу близки друг к другу. Текст первой редакции с трудом может быть только восстановлен, потому что он почти целиком был отброшен автором; Толстой зачеркнул его по строчкам и вписал между зачеркнутыми строками новый текст. В тексте первой редакции во 1-х дано довольно подробное описание жизни грешника, что во 2-й редакции ограничивается словами «прожил он всю жизнь в грехах». Bo-2-x в первой редакции дан не тот порядок появления лиц, как во второй; царь Давид предшествует Петру апостолу. В 3-х, так как каждое из действующих лиц выходит из дверей, или сидит перед дверьми рая, оно изображено по внешности гораздо подробнее, чем в следующей редакции (особенно Давид), так что грешник, не спрашивая каждого, сам догадывается, с кем он ведет разговор. Отказавшись от первой редакции, Толстой решает приблизиться к своему первоисточнику, к «Повести о бражнике», и в отношении простоты в изложении, и краткости рассказа. Таким образом образовалась вторая редакция. Следующая редакция представляет собою, как сказано выше, развитие речей грешника с указаниями необходимости его допущения в рай и общую стилистическую переработку рассказа; после нее происходит уже небольшая окончательная отделка.
Записи первой и второй редакции рассказа находятся в той тетради, в которой потом были записаны рассказы «Зерно с куриное яйцо» и «Много ли человеку земли нужно». Вероятно, эти три рассказа, судя по почерку и чернилам, записаны почти в одно время.
Начав писать рассказ, Толстой не дал ему заглавия, а только ссылку на эпиграф: Лук. XXIII, 42—43 и начало его текста: «И сказал Иисусу разбойник»... затем он вписал над началом рукописи мелким шрифтом «Кающийся грешник в раю», потом, всё еще на той же рукописи, он вычеркнул в заглавии два последних слова: в раю; после этого заглавие рассказа осталось уже без перемен.
Как можно предположить на основании письма Толстого250 к В. Г. Черткову, относящегося к началу июня (1—2) 1885 г., рассказ написан по всей вероятности в мае 1885 г. Что именно об этом рассказе идет речь в письме к Черткову, писанном в начале июня, видно из слов Толстого о поручении рисунков к рассказу Н. Н. Ге, потом нарисовавшему к нему «прекрасный эскиз углем», как говорит А. К. Черткова в примечании к письму;251 небольшая картина Н. Н. Ге масляными красками на ту же тему была воспроизведена фототипией в посмертном альбоме картин и рисунков Н. Н. Ге в 1904 г.252 В упомянутом письме Толстого между прочим говорится, что «он написал один рассказец, хороший, из записанных мною тем» и к нему он и хотел и поручить сделать рисунки.
Рассказ «Кающийся грешник» был в первый paз напечатан в XII ч. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Произведения последних годов», М. 1886 г., стр. 477—479.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ имеется в трех рукописях, принадлежащих к Архиву, переданному В. Г. Чертковым в ГТМ, в папках 11, под № 10, 9 и 9 под №№ 32 и 33, — и корректурных гранках для издания «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», часть 12-я, М. 1886 г., с поправками Толстого; хранятся в БЛ под шифром: V. 12.
1) Автограф ГТМ, № 10. 4°. 11 лл. линованной бумаги, вырванной из тетради. Л. I — Отрывок одной из первых редакций гл. XL (по последнему счету) статьи: «Так что же нам делать?» Начало: <«только та>. Заботится о будущемъ, объ обеспеченіи впереди только та, которая»... Дальше на 1-м же листе — «Кающійся грѣшникъ», с заглавием, вписанным после и ссылкой на Евангелие от Луки, XXIII, 42—43 в качестве эпиграфа. Почти весь первоначально написанный текст рассказа зачеркнут по строчкам как сказано выше, и между ними написан новый текст.
2) Рукопись ГТМ, № 32. Копия с предыдущей рукописи рукой В. Г. Черткова, 4°, 5 лл. нелинованной писчей бумаги фабр. Говарда. С дополнениями и поправками Толстого. Заглавие: «Кающійся грѣшникъ». Начало: «Жилъ на свѣтѣ человѣкъ 70 лѣтъ»... Считаем этот текст третьей редакцией.
3) Рукопись ГТМ, № 33. Копия с предыдущей рукою В. Г. Черткова, с поправками и дополнениями Толстого, которых здесь немного. Относим этот список к третьей же редакции. Заглавие: «Кающійся грѣшникъ». Начало: «Жилъ на свѣтѣ человѣкъ семьдесятъ лѣтъ»...
4) Корректурные гранки БЛ, с поправками Толстого.
В основу настоящего издания положен текст, напечатанный в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», часть 12-я, М. 1886, стр. 477—479, проверенный по рукописям и корректуре.
————
«ДВА СТАРИКА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Мысль притчи о двух стариках, давших обет посетить святую землю и двояко, различно исполнивших этот обет, Толстой заимствовал из рассказа, слышанного им в 1879—1880 г. от известного олонецкого прионежского сказителя легенд и былин В. П. Щеголёнка (см. о нем в комментарии к рассказу «Чем люди живы»). Толстой записал рассказ Щеголёнка очень сокращенно для памяти, только иногда с сохранением точных слов. В рассказе Щеголёнка так излагается эта притча:
«Два странника собрались в Иерусалим. Собрали денег. Пришел день. Один не пошел. Один пошел. Только пошел и видит: товарищ идет впереди и свечи ставит впереди, и путем не может догнать. И едут они к Царьграду на корабле. Идет материком человек и просится: возьмите. Возьмите его на лодку. Приехали — взяли. Лодка под воду идет как чугунина. Ну — я дар пошлю. И с даром ко дну. Вдруг погода сделалась. Все паруса поломало. И старичек слыхал, что, кто ходит 3[жды] в Иерусалим, может Бога увидать. Приходит домой, товарищ дома. Ты ходил? Нет. А я видел ты свечи ставил. Нет, я дома был, семейство бедного кормил. Старичек пошел 2-й раз. Пошел 3-й раз. Попадает ему старичек. Разговорились. Рассказал. Попутный старичек сказал: это был демон. Приходит в храм, стоит. Крыши нет. Вдруг выпала звезда. Встрету солнцу пала на лампаду. И в 3-й пала звезда и опять пошла. Странник видит. И видит в затворе старичек еле жив. Надо заговорить. Отец святый. Мне бы поговорить, присел. Сказывают зa 3 раза увидишь Бога. То Бог был. А что значит звезда. Истинна вера отпадает, а будет новая».
Из приведенных слов очевидно, что у Щеголёнка в рассказе соединилось несколько сюжетов. Толстой взял одну основную мысль. Главная мысль рассказа Толстого — это идея превышения желания сделать добро другому над стремлением к личному благу: «видит товарищ идет впереди, и свечи ставит впереди, и путем не может догнать». И потом: «приходит домой, товарищ дома. Ты ходил. Нет. А я видел ты свечи ставил. Нет, я дома был, семейство бедного кормил».
Другой подобный Щеголёнковскому рассказу напечатан в «Душеполезном чтении» 1871 г. мало известным писателем А. Ф. Ковалевским и назван им «Подвиг паломничества и подвиг человеколюбия». В этом рассказе повествуется про двух крестьян-украинцев, уговорившихся о своем путешествии в Иерусалим, из которых один внезапно отказался от общего намерения и остался дома. Когда другой добрался до святой земли, к удивлению его сосед, оставшийся дома, был уже там. Везде, где он ни был, он видел его не вдалеке; но всякий paз толпа народа отделяла его от него и он не мог добраться до товарища. Вернувшись домой, он узнал, что сосед его и не думал путешествовать, узнал, что в то время, когда они готовились в путь, умер знакомый крестьянин, оставив после себя долги и малолетних сирот. На них он истратил свои деньги, которые собрал на путь, и должен был остаться дома. Тогда путник понял видение, бывшее ему в Иерусалиме.
Весьма возможно, что захваченный первой мыслью Щеголёнковского рассказа, Толстой многим воспользовался из рассказа Ковалевского. Ковалевский, очевидно, слышал легенду, которой части были знакомы Щеголёнку, но слышал в лучшей передаче.
Мысль, которую Толстой взял в основу своего рассказа, встречается в нашей литературе и относится к ее отдаленнейшему времени, к началу XII века: первый русский путешественник знаменитый Даниил игумен в введении к описанию своего путешествия говорит, что достижение той страны, которая прославлена подвигами и жизнью святых людей, как оно ни трудно, не может быть названо добрым делом, если человек, дойдя до святой земли «вознесется умом своим, яко нечто добро створит»; эти люди только губят «мзду труда своего». Но многие хорошие люди и находясь дома своими добрыми поступками достигают «мест сих святых»; они «бòльшую мзду приимут от Бога». Как видно эта мысль игумена Даниила совершенно та же, как та, которую проводит Толстой в изображении Елисея.
Уже после разрешения «Двух стариков» цензурой в письме к В. Г. Черткову 17 октября 1885 г. в ответ на его просьбу в письме 12 октября, Толстой послал распространенное заглавие своего рассказа: «Два старика или притча о том, что спастись можно во всяком месте». Как пишет В. Г. Чертков, он просил Толстого так сделать, чтобы придать этому и другим рассказам «самую подходящую форму для лубочных изданий», и «значение в глазах покупателей». Но кроме того таким путем самим Толстым дается характеристика рассказа и определяется его смысл.
Толстой обработал свой рассказ перед июнем 1885 г. H. Н. Страхов, бывший в июне в Ясной поляне, прочитал его по рукописи и тогда же в восторге от рассказа, написал Н. Я. Данилевскому, что «Свечка» и «Два старика» удивительны по своей художественности и чудесному смыслу» (18 июня 1885 г).253 Но и после июня Толстой продолжал работать над рассказом и только, вероятно, в сентябре рассказ был представлен в цензуру от фирмы «Посредник». В. Г. Чертков и П. И. Бирюков еще в июле 1885 г. сделали некоторые замечания по поводу речей Елисея и употребления украинского языка, а А. М. Калмыкова относительно некоторых неточностей в изображении местного украинского быта.
4 октября 1885 г. получил разрешение текст рассказа, 17 октября — обложка. На обложке, спереди и сзади книжки, были помещены рисунки работы А. Д. Кившенка (1851—1895).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ сохранился в четырех рукописях и одном корректурном оттиске. Рукописи все принадлежат к Архиву, переданному В. Г. Чертковым ГТМ. Хранятся в папке 8 под №№: 15, 16, 17, 18 и 19.
1) № 15. Автограф, 4°, 7 листов нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда, писана крупным почерком, с большими помарками, перечеркиваниями, перестановками и дополнениями на полях. Заглавие: «Два старика». Начало: «Собрались два старика Богу молиться»... Судя по чернилам, равномерно бледным на всех листах, рассказ написан очень быстро, может быть, в один прием. Имена стариков: Ермил Шевелев и Анисим Бодров.
Рассказ здесь еще краток, без подробностей. Ермил назван просто богатым мужиком, а Анисим — небогатым человеком; никаких подробностей о морском переезде Ермила нет; нет и странника в скуфье — спутника Ермила. Эпизода о заходе Ермила в хату, где помогал Анисим, тоже нет.
2) Рукопись № 16. Копия с предыдущей. 4°. 10 лл. писчей бумаги, фабрики Говарда. Писана рукою С. А. Толстой, с поправками и дополнениями Толстого между строчками и на полях. Заглавие: «Два старика». Начало: «Собрались два старика Богу молиться»...
В дополнениях Толстого дано описание наружности стариков, их имущественного состояния и общественного положения. О Ермиле сказано, что он был мужик хозяйственный, водки не пил и дурным словом не ругался. Из себя он был худой, длинный, как шалаш, называли его бескишечным. Имя Анисима в одних местах изменено на Елисея, в других оставлено, и даже в дополнениях рукою Толстого попадается имя Анисим. Здесь значительно расширен и обработан эпизод о помощи Анисима (Елисея) голодным.
3) Рукопись № 17. Копия с рукописи № 16. 4°, на 19 лл. нелинованной писчей бумаги. Писана неизвестной рукою. Заглавие: «Два старика». Начало: «Собрались 2 старика Богу молиться»... Поправки и дополнения Толстого значительны и касаются, главным образом, подробностей внешнего описания действующих лиц. О Ермиле приписано, что он «два срока высидел в старшинах и высадился без начета», что он был человек хозяйственный и строгий. Семья была большая и все боялись его. Елисей (здесь так) на слова Ермила о ненадежности старшего сына возражает: «Были и мы молоды. Не безгрешные тоже. Надо и сыну поучиться».
Подробности того, что видел в Иерусалиме Ермил, здесь занимают больше страницы отдельно вставленного листа, писанного Толстым (л. 14), и большие вставки в тексте копии, преимущественно на полях. О том, как Ермил видел Елисея и разыскивал его, тоже рассказано в дополнениях Толстого на полях и в тексте. Эпизод о заходе Ермила на обратном пути в ту хату, где останавливался Елисей, и рассказ крестьян, из которого Ермил понял, что они говорят о Елисее, тоже вставлен на отдельном листе (л. 17). Конец — описание встречи и разговора Ермила с Елисеем по возвращении Ермила — несколько paз переделывался, зачеркивался, но в главном остался мало измененным сравнительно с первым наброском. На л. 1 сверху рукою Толстого написано: «Васил говор». Дальше написано карандашом его же рукой: Урус[ову], Панаев[у], Сытину. На том же листе рукою переписчика: № 1. Два старика. Черновая под № 1. Свечка под № 2.
4) Рукопись № 18. Копия рукою А. П. Иванова. 4°. 28 лл. С небольшими поправками рукою Толстого, но с большими отличиями от предыдущей; несомненно, что она скопирована не с № 17 рукописи, а с другой, следующей за ней и не сохранившейся, тоже, видимо, подвергшейся большим исправлениям и изменениям. Заглавие: Два старика. Начало (после эпиграфа из ев. Иоанна IV. 19—23): «Собрались два старика Богу молиться»...
Рукопись № 18 носит следы пребывания в типографии и совпадает в общем с корректурными гранками № 19, представляющими, по всей вероятности, первую корректуру рассказа для издания «Посредник». Только в этой рукописи имеется эпиграф — выписка из Евангелия от Иоанна, глава IV, 19—23.
Имя Ермила изменено, повидимому, в предыдущей копии (не имеющейся в нашем распоряжении) на Ефима, и в поправках самого Толстого в рукописи № 18 уже Ефим, а не Ермил.
5) № 19. Корректурные гранки для изд. «Посредник», 12 полос. Текст здесь, как уже сказано, совпадает с рукописью № 18 и сильно расходится с изданием «Посредник», цензурное разрешение для которого помечено: С-Петербург. 4 октября 1885 г.
В основу настоящего издания положен текст «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть 12. Произведения последних годов». М. 1886, стр. 63—83, проверенный и исправленный по рукописям, корректуре и изданию «Посредник». Разница в тексте между корректурой № 19 и изд. 1886 г. объясняется тем, что для изд. 1886 г. текст исправлялся, но корректуры не сохранились.
В эпиграфе указания на стихи Евангелия от Иоанна в рукописи № 18, корректуре и изд. 1886 г. поставлены перед началом каждого стиха; в изд. «Посредник» — после всей цитаты. Сохраняем порядок рукописи, корректуры и издания 1886 г.
«ТРИ СТАРЦА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Сюжет сказания о трех старцах принадлежит к числу бродячих. Оно известно в различных видоизменениях: вариируется число старцев, их молитвы, место действия и проч. Повесть эта известна и в устных пересказах, каков, например, рассказ сказочника Ерофея, записанный (М. И. Семевским)254 и в письменных памятниках. В последнем случае сказание связывается с западной переводной повестью о явлениях Августину, еп. иппонийскому (354—430 гг.), которая в России была известна с XVI в. князю А. М. Курбскому, слышавшему ее от Максима Грека, но не знавшему, была ли она прежде него переведена на русский язык.255 В повести Августина вместо трех старцев Толстого изображен один старец, которого Августин увидел, возвращаясь с Карфагенского собора, на одном острове Средиземного моря «пустом и ненаселеном человеки», куда занесло его корабль. Пустынник был «наг» и «многолетен»; он был рожден в «Африкийской земле», «от языка же италийска». Из его ответов на вопросы Августина оказалось, что он знает молитвы «отнюд неискустно и несогласно», «горняя долу поставляя», т. е. перепутывая порядок слов. Августин удивлялся его преданности богу и в то же время его «неискуству», и стал учить его молитвам. Он покрыл его наготу своей одеждой и поплыл дальше, когда ветер стал попутным. На второй день «корабленицы» сверху увидели на море человека, который гнался за кораблем, как «птица скоропарящая или стрела, стреленная от лука», при приближении просящего подождать его: «ждите, рече, господа ради, ждите мене грешного». Епископ, вышедший наверх, увидел старца, плывущего по морю, половину одежды разослав по воде и половину держа вместо паруса. И достигнув корабля, старец взошел на верх с мольбой к распростертому перед ним Августину: «Восстани, о епископе, молю ти ся, забых молитвы оны, тобою изученные, и молю ти ся ныне, паки изучи ми их, яко же лепо». И вытвердив снова молитвы, он сошел с корабля, сел опять на свою одежду и вернулся в пустыню так же точно, проплыв по морю «со скорейшим стремлением по первому обычаю».
Мы видим, как близка основа рассказа Толстого к сказанию Августина, но конечно, не им воспользовался Толстой; несомненно он познакомился с этой легендой по передаче устной, народной, русской. По словам П. И. Бирюкова256 Толстой слышал сказание от олонецкого сказителя В. П. Щеголёнка257 (см. о нем выше в комментарии к рассказу «Чем люди живы»); нужно впрочем отметить, что в тетради с записями Толстого сказаний и легенд, слышанных им от Щеголёнка, этого сказания не сохранилось. Нельзя не подчеркнуть, что в своем рассказе о трех старцах Толстой, чтобы придать жизненность повествованию, отодвинул от него чудесность, которая является необходимой во всех сказаниях о трех старцах, и представил догоню их по воде видением епископа.
Работа Толстого над рассказом «Три старца» (три рукописи и корректура) может быть подразделена на две редакции и стилистическую переработку текста, которая была названа переписчиком третьей редакцией. Главное различие двух редакций в изображении видения или сна архиерея: Первый рассказ о сне ближе передает старое сказание, так как здесь нечто таинственное видят все присутствующие (наприм. «корабленицы» в сказании Августина). Толстой в первом очерке рассказа изобразил, что народ первый заметил бегущих по воде старцев и архиерей, услышав общий говор, подошел к собравшимся (сон его виден только из слов: «затихло всё и задумался архиерей... поднял голову»). Во второй редакции Толстой отступил от обычного сказания: видит архиерей первый (изображается его сон: «рябит у него в глазах, то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит»...): он поднимается, показывает кормчему прося разглядеть, что видно на море; кормчий в ужасе кричит, поднялся народ.... Отметим любопытную мелочь: в первой редакции старцы идут по воде, не держась друг зa друга; во второй — держатся рука с рукой, как при первой встрече на острове; архиерею вспоминается во сне ярче всего то первое впечатление, которое у него было от вида старцев в действительности.
Писание рассказа «Три старца», вероятно, относится к июню 1885 г. В одном письме к В. Г. Черткову (Ч) 18 июня 1885 г. Толстой говорит о написании нового рассказа для «Посредника»: «я написал еще рассказ для вас, и, кажется, лучше прежних». Составительница объяснительных примечаний к этим письмам, А. К. Черткова258 высказывает мысль, что этот рассказ именно «Три старца» — «легенда очень любимая» Толстым. Л. Я. Гуревич предполагает, что Толстой говорил здесь о другом рассказе — о «Свечке».
«Три старца» напечатаны в первый раз в «Ниве» 1886, 13, столб. 330—334 (цензурное дозволение 26 марта 1886 г.). К заглавию рассказа «Три старца» в «Собрании сочинений Л. Н. Толстого» (изд. 10 и след.) прибавлен подзаголовок «Из народных сказок на Волге», которого нет во всех рукописях рассказа и в первых в 1886 г. изданиях «Собрания сочинений». Нет в рукописях и того подзаголовка, который помещен в первом издании рассказа в журнале «Нива»: «Три старца, народное сказание». Из этого можно видеть, что эти прибавленные подзаголовки, не только распространенный, но и короткий, принадлежат не Толстому. Что не волжское предание послужило основой рассказа, а скорее северное, видно из названий местных, северных. Интересно, что рассказ Толстого послужил со своей стороны основой новой сказки о Трех старцах, которые знают только одну молитву, «Трое вас, трое нас, помилуй нас», и которые заучивают при помощи архиерея «Отчую» и потом, забыв эту молитву, вслед за кораблем «чешут по воде». Этот рассказ записан в Енисейской губернии в 1900-м году А. А. Макаренком.259 Из сказанного видно насколько велика степень живучести этого сюжета.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ сохранен в трех рукописях и корректурном оттиске. Рукописи принадлежат Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, и хранятся в папке 8 под №№ 27, 28 и 29. Корректура — в БЛ под шифр. V, 9, 5 лл.
1) № 27. Автограф, F° и 4°, 4 листа. Писано, видимо, зa один присест, с небольшими помарками. На об. листа 1-го — отрывок из «Смерти Ивана Ильича» (не первой редакции, чужою рукою). Заглавие: «Три старца» и ссылка на Евангелие от Матфея. VI. 7—8. Начало: «Плылъ на кораблѣ Архіерей изъ Архангельска города въ Соловецкіе»... На обложке рукой A. Л. Толстой: «Три старца (черновой)».
2) Рукопись № 28. Копия рукой В. Г. Черткова, с многочисленными поправками и дополнениями Толстого. 4°, 14 лл. На обложке синим карандашом: «Вторая редакция». Заглавие: «Три старца». Начало (после эпиграфа из ев. Матф. VI. 7—8): «Плылъ на кораблѣ архіерей изъ Архангельска города въ Соловки»... Изменения и исправления значительны: Напр. в 1-й редакции, старцев, бегущих по морю, сначала увидел не архиерей, а другие путники, которые стали смотреть и рассуждать; архиерей подходит, спрашивает и потом вглядывается и видит старцев. Во второй редакции старцев видит сначала архиерей, остальные спят. Архиерей подходит к кормчему и просит посмотреть, чтὸ виднеется; тот видит старцев, ужасается и кричит; народ вскакивает, и все видят старцев, подошедших к кораблю.
3) Рукопись № 29. Копия рукою В. Г. Черткова с предыдущей. 4°, 13 листов линованной тетрадной бумаги, с поправками и дополнениями рукою Толстого и другою рукой. Заглавие: «Три старца». Начало (после эпиграфа из ев. Матф. VI. 7—8): «Плылъ на кораблѣ Архіерей изъ Архангельска города въ Соловки»... Листы с признаками пребывания в типографии. Видимо, с этой рукописи набирали для изд. 1886 г. Поправки рукой не Толстого внесены из корректуры. На обложке синим карандашом: «Третья редакция».
4) Корректура для изд. 1886 г. (Соч. гр. Л. Н. Толстого, ч. 12. М. 1886), с поправками и дополнениями самого Толстого и С. А. Толстой и подписью С. А. Толстой к печати.
В основу издания положен текст «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть 12. Произведения последних годов. М. 1886», стр. 154—162.
«СВЕЧКА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Рассказ «Свечка» написан Толстым на основании слышанного им повествования о действительном происшествии. Рассказ этот Толстой писал в мае или июне 1885 г. H. Н. Страхов, бывший в Ясной поляне в середине июня, прочитал его тогда, как видно из его письма 18 июня к его большому приятелю Н. Я. Данилевскому;260 он пишет ему, что «два последние рассказа (т. е. «Свечка» и «Два старика») удивительны по своей художественности и чудесному смыслу»; потом, 28 июля, в письме к Толстому, Страхов говорит, что не paз вспоминал о «Двух стариках» и о «Свече» (так он называет рассказ); при этом он указывает одно слабое, по его мнению, место в последнем рассказе, «где добрый мужик объясняет, почему не следует убивать приказчика»; Страхов не верно понял мысль Толстого; он думает, что Толстой хотел сказать, что так поступает мужик «для избежания угрызений совести»; между тем и в старшей рукописи «Свечки» этого не видим: главная мысль Толстого видна из того названия, которое первоначально он дал рассказу — «Мне отмщение и Аз воздам», и еще более ясна из введенного потом эпиграфа к рассказу, взятого из Евангелия от Матфея V, 38—39... («не противься злому»).
Случай, когда-то слышанный Толстым про жестокую смерть приказчика, так глубоко залег у него на душе, что когда он начал писать, он не мог изменить своего писания. Несмотря на доводы многих лиц, членов кружка «Посредник», указывавших на необходимость перемены конца рассказа, неудобного, как им казалось и в нравственном и в цензурном отношении, Толстой настойчиво стоял на своем.
В высшей степени нравившийся Черткову этот рассказ смущал его, — читаем в его письме к Толстому, — своими последними строками: «Эта ужасная смерть приказчика, как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным.... всё это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним.... И кто ни читает этот рассказ из лиц, вполне разделяющих наши взгляды, и из лиц только симпатизирующих им, все — в один голос находят, что рассказ и по форме и по содержанию прекрасен, только вот конец всё портит» (письмо 7 ноября 1885 г.). «Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению, — говорит В. Г. Чертков в конце того же письма, — но.... было бы боязливо и недобросовестно с моей стороны не сделать еще попытки убедить вас согласиться на маленькое по форме, но мне кажущееся весьма важное по существу изменение конца». Чертков послал Толстому две редакции изменения конца: одну, составленную Калмыковой, по просьбе Черткова, другую — составленную Чертковым по изложениям Толстого и Калмыковой. Получив это письмо, — как читаем в ответном письме Толстого (11 ноября 1885 г.), он «целый вечер думал о «Свечке» и начинал писать, и написал другой конец. «Но всё это, — говорит он, — не годится, и не может годиться. Вся историйка написана в виду этого конца. Вся она груба и по форме, и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою».261 Толстой уже хотел было писать после слов «пропал я, говорит, победил он меня» новый сочиненный им вариант, когда вдруг во время писания письма, ему пришел в голову еще новый вариант: он сейчас же вписал его в письмо к Черткову, отметив, что «так еще можно».262 В том же письме он покаялся, что ему сначала было неприятно желание Черткова переменить конец и перемена, сделанная А. М. Калмыковой. «Но это было одну минуту, — говорит он, — и после стало очень приятно». «Я согласен, что есть что-то дикое в этой смерти (приказчика) — читаем дальше, — и лучше, чтобы ее не было. А главное мне так дороги те причины, по которым вы и Калмыкова желаете переменить, что потом стало приятно».263
Так образовалось две редакции рассказа, с совершенно иными окончаниями: одна, написанная в мае-июне, другая в ноябре 1885 г. Старшей рукописи рассказа — автографу Толстой дал такое, как сказано выше, заглавие: «Мне отмщение, и Аз воздам» (Римл. XII, 19). К заглавию второй рукописи (копии рукою С. А. Толстой), Толстой приписал сверху «Свечка». Потом текст из ап. Павла, ставший второй частью заглавия, Толстой отбросил совсем, даже как эпиграф, оставив заглавие только «Свечка», а эпиграф взяв из Матфея, V, 38—39, который и закрепился за рассказом. В письме 12 октября 1885 г. В. Г. Чертков просил Толстого прислать ему к «Свечке», как и к другим нескольким рассказам, более подробные заглавия, в подражание лубочным изданиям. В ответ на эту просьбу Толстой в письме к Черткову 17 октября прислал ему новое распространенное заглавие рассказа: «Свечка или как добрый мужик пересилил злого приказчика». С этим заглавием рассказ вышел в «Книжках недели» (1886, 1) и в издании «Посредника» 1886 г. В этих изданиях была напечатана вторая редакция конца, о которой Толстой написал в письме к Черткову: «так еще можно». Тогда же вышла XII часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Произведения последних годов», М. 1886, с текстом первой редакции, которого особенно держался Толстой — «так я ее (историйку) слышал, так ее понял». В этом издании заглавие краткое — «Свечка».
Рассказ был разрешен цензурою фирме «Посредник» — текст — 17 января 1886 г. (опечатка: 1885 г.), обложка — 22 января 1886 г.; рисунки на обложке принадлежат художнику А. Д. Кившенко (1851—1895).
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ «Свечка» сохранился в трех полных рукописях и в отрывке, представляющем вариант конца. Две рукописи принадлежат к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, и хранятся там в папке 8, под №№ 13 и 14; одна рукопись принадлежит Государственному Литературному музею.
1) № 13. Автограф всего рассказа 4°, 6 лл. нелинованной писчей бумаги, с поправками и помарками. Заглавие: «Мне отмщение и Aз воздам». Автограф написан, судя по бумаге, почерку и чернилам, в один прием. Начало: «Было это дѣло при господахъ». Конец: «И вытекло изъ него все нутро. Тутъ и померъ».
2) Рукопись № 14. Копия рукою С. А. Толстой, 4°, 9 лл. нелинованной писчей бумаги. В правом углу сверху: № 2. С поправками и дополнениями Толстого и заглавием его рукою: «Свечка», написанным сверх прежнего: «Мне отмщение и Aз воздам», которое оставлено в виде эпиграфа. Копия сделана не с автографа, а с несохранившейся копии, в которую Толстым были внесены некоторые поправки.
3) Рукопись ГЛМ. Копия всего рассказа, рукой С. А. Толстой, 4°, на 13 лл. нелинованной писчей бумаги, повидимому она является копией предыдущей. Между заглавием «Свечка» и эпиграфом: «Мне отмщение и Аз воздам» рукою Толстого вписано: «Посл. Павла к Римл. XII. 19. Не мстите зa себя возлюбленные, но дайте место гневу Бога. Ибо написано: Мне отмщение — Я воздам, говорит Господь. Второзаконие XXXII. 35. В день отмщения воздам, егда соблазнится нога их. Яко близ день погибели их и предстоят готовая вам. Яко судити имать Господь людем своим и о рабех своих умаление будет... 39. Видите все, кто яко Аз есмь и несть Бога разве мене. Аз убию и их жити сотворю, поражу и исцелю и несть, иже не примет от руку моею».
В рукописи много поправок, вписанных рукою Толстого и ряд зачеркиваний. Зачеркнуты последние слова: «и вытекло из него всё нутро» и написан новый конец, который точно соответствует окончательному печатному тексту со слов: «Приехали мужики...».
4) Рукопись с вариантом конца рассказа — в письме Толстого к В. Г. Черткову от 12 ноября 1885 г., начиная со слов: «Побѣдилъ онъ меня»... Хранится в AЧ—ГТМ.
В основу издания положен текст журнала «Книжки Недели» 1886, 1, стр. 169—178, и проверен по рукописям; конец рассказа, начиная со слов: «Пріѣхали мужики съ пахоты»... взят из «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть 12. Произведения последних годов». М. 1886 г., стр. 51—61, он соответствует рукописи ГЛМ.
————
«СТРАДАНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Мысль о написании текста к изображению страданий Христа у Толстого возникла, когда он получил от В. Г. Черткова воспроизведение картины французского художника Бугро (William-Adolphe Bouguereau, 1825—1905), которую Чертков хотел ввести в предпринятую им серию «Картин для народа». Картина Бугро изображает тот момент страданий Христа, когда он подвергся бичеванию римских воинов. Толстому картина Бугро показалась прекрасной: «прекрасно», говорит Толстой в письме к В. Г. Черткову от 2 декабря 1884 г.; «мне тотчас же, увидав ее, пришла мысль, что вот то, что мы продолжаем делать с Христом нашею жизнью, — читаем в том же письме. — И страшно стало, и плакать хотелось»264 Толстой с увлечением стал писать текст к картине Бугро. Первый очерк этого текста, который обычно называется 1-м вариантом, в действительности вернее может быть назван первой редакцией, впоследствии был сильно, почти до неузнаваемости, переделан, почему и считается 2-м вариантом (точнее также это не 2-й вариант, а 2-я редакция). В то время когда Толстой писал текст к картине Бугро, Вс. М. Гаршин сделал описание самой картины (оно не вошло в «Полное собрание сочинений» Гаршина, 1910 г.). Тогда не удалось издать ни картины, ни текста Толстого и Гаршина: духовная цензура не разрешила издание картины, в которой Христос изображен не согласно с ее взглядами. После этого в «Посреднике», в котором особенно дорожили текстами Толстого и Гаршина, начали работать над переделкой картины. И. Д. Сытину, заведывавшему тогда изданиями «Посредника», который был у Толстого вместе с художником Н. А. Касаткиным (1859—1930), вероятно, переделывавшим картину Бугро, Толстой советовал изменить «фигуру Христа, которого бьют, — читаем в его письме к В. Г. Черткову. — «Надо, чтоб было страданье», — указывает он265.
В. Г. Чертков с просьбой переделать фигуру Христа в смысле, указанном Толстым, обратился к И. Е. Репину, который и исполнил акварелью изображение Христа; оно было вставлено в картину вместо прежней фигуры. Этот рисунок Репина очень удовлетворил Толстого: «Радость великую мне доставил Репин, — читаем в письме Толстого к Черткову 2 мая 1885 года. — Я не мог оторваться от его картинки и умилился... Буду стараться, чтобы передано было как возможно лучше»... «Репину, — пишет дальше Толстой, — если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются».266 «Фигура Христа» сделана Репиным в более спокойной позе, — говорит А. К. Черткова,267 — и с изображением страданий только в выражении лица, — более духовных, чем физических». В этом виде картина и была издана в красках (1885 г.). В 1918 г. в издании «Голос Толстого и Единение» (№ 4) были напечатаны тексты Толстого и Гаршина и снимок с картины, напечатанной «Посредником», а на обложке журнала «возможно точное воспроизведение головы Христа» с подлинного рисунка И. Е. Репина.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Текст имеется в трех рукописях, принадлежащих к Архиву В. Г Черткова (который передан в ГТМ), хранящихся там в папке 9 под № № 14, 15 и 16.
1) № 14. 4° — 1 л. писчей бумаги фабрики Говарда; автограф, писан на одной стороне. Без заглавия. Начало: «Кто бьет и мучает Христа». Первая редакция. На обороте детской рукой заглавие и три строчки текста статьи: «В чем моя вера».
2) Рукопись № 15. F°, 2 лл. писчей бумаги фабрики Говарда (л. 2 пустой). Копия рукою В. Г. Черткова. Заглавие, написанное и зачеркнутое рукою Толстого: «Воины Пилата». Указание на Мф. XXVII. 26. С большими помарками, поправками и вставками. Вторая редакция. Начало: «Воины Пилата бьютъ Христа. И больно смотрѣть на страданія Его».
3) Рукопись № 16. F°, 2 лл. клетчатой писчей бумаги (л. 2-й пустой). Копия с предыдущей рукою В. Г. Черткова, без авторских поправок. Без заглавия. Эпиграф из Мф. XXVII. 26 выписан. Есть несколько орфографических поправок красными чернилами.
В основу настоящего издания кладутся рукописи № 14 и № 15.
————
«СКАЗКА ОБ ИВАНЕ ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
«Сказка об Иване дураке и его двух братьях» не имела в своей основе какого-нибудь заимствованного из народного источника сюжета, как это видим и в других того же времени сказках, сказаниях и легендах Толстого; в ней есть только обычный, простой и излюбленный мотив народных сказок про трех братьев — двух хитрых и третьего — простака и про конечную победу простоты над хитростью. Этим и ограничивается сходство сказки об Иване дураке Толстого с народной. Взяв основой своего рассказа трех братьев народной сказки, Толстой по этой канве дает в простой, общепонятной форме резкую политическую сатиру. По его собственным словам, приводимым П. И. Бирюковым,268 в старшем брате Семене-Воине он хотел изобразить идею милитаризма, получившую такое сильное развитие у нас при Николае I, в Тарасе-Брюхане (в некоторых рукописях — Кулаке) дать картину капиталистического строя, развившегося у нас впоследствии, и в Иване-дураке — изображение крестьянского царства, которое является постоянным обличением паразитизма привилегированных классов. Это была основная мысль Толстого в сказке.
Писание сказки, в начале имевшей короткое название «Иван Дурак», было начато в августе или сентябре 1885 г. С. А. Толстая, обыкновенно сообщавшая своей сестре Т. А. Кузминской все связанные с Л. Н. Толстым интересные и животрепещущие новости, в сентябре 1885 г. в своем письме к ней пишет, что им написана «чудесная сказка»; он «прочел нам и мы все пришли в восторг». Это была первая редакция сказки. «Теперь, — прибавляет Софья Андреевна, — он ее старательно переделывает».269 В конце октября сказка была закончена и 23 октября 1885 г. Толстой пишет В. Г. Черткову, что «хорошо бы было ее издать у Сытина»,270 т. е. в «Посреднике», что, конечно, дало бы более широкое распространение сказке, чем издание в «Собрании сочинений», что он уже обещал жене.271 Толстой был почти уверен, впрочем, что «цензура не пропустит»272 ее; сатира на государственную власть была в ней выставлена так очевидно и резко, что нельзя было не бояться цензуры, особенно в народном издании; поэтому Толстой думал попытаться напечатать ее или в «Неделе», или в «Полном собрании» (из того же письма). Из письма Толстого к жене из Ясной поляны явствует, что из сообщения ему П. И. Бирюкова из Петербурга видно, что «редактор», вероятно, «Недели», т. е. П. П. Гайдебуров, берется напечатать сказку, но с некоторыми пропусками;273 хотя сначала Толстой и сам склонялся к этому, тут он отказался от прежней мысли и остановился на том, как он пишет Софье Андреевне, что «не лучше ли в самом деле (пустить сказку) в Полное собрание, как ты хотела». «Так что, — прибавляет он, — я отложил до твоей поездки в Петербург; там с Страховым рассудите».
Толстой был доволен своей сказкой: «мне эта сказка нравится — пишет он В. Г. Черткову. — Желал бы знать ваше впечатление».274 Чертков познакомился со сказкой уже не в первой редакции, очень отличающейся от следующих, а в другой, довольно близкой к окончательной — третьей, но всё-таки дающей некоторые существенные варианты. В своем письме 11 ноября 1885 г. Чертков высказывает свое несогласие с некоторыми выражениями сказки, которые, по его мнению, следует изменить («кое-что есть, мне кажется, что не совсем удачно и немножко вредит»); так он был против выражения «немец» купец и против последних слов рассказа «со свиньями»; «они здесь не нужны и вредят». В. Г. Чертков предлагает такое окончание: «Только один есть у него обычай в царстве — у кого мозоли на руках — полезай зa стол, а у кого нет — тому объедки». «Понятие о законе — говорит В. Г. Чертков, — в царстве Ивана Дурачка противоречит его характеру: там всё больше, ну что ж». С этими поправками Толстой легко согласился и переделал свой текст в последней фразе уже в корректуре; в письме 18 ноября к Черткову он говорит: «вашими замечаниями о Иване Дураке я воспользовался».275 Прежде последняя фраза сказки читалась так: «Только один закон у него и есть в царстве: у кого мoзоли на руках — полезай за стол, у кого нет — тому объедки со свиньями».
В ноябре 1885 г. С. А. Толстая, приступая к своей издательской деятельности новым 5-м изданием «Сочинений графа Л. Н. Толстого», сразу столкнулась с цензурой из-за 12-й части, заключающей в себе произведения последних лет; она должна была сама ехать в Петербург с хлопотами перед высшими чиновниками; она даже была готова обратиться к Александру III, хотя сам Толстой и просил ее «не разлетаться» к царю и «даже и к Толстому (т. е. Дмитрию Андреевичу — министру внутренних дел) лучше не ездить»; «если по их соображениям, — прибавляет он, — можно, то можно, а если нет, то только кровь себе будешь портить».276 В эту же XII-ю часть, между прочим, должна была войти и сказка об Иване Дураке. Оставленная в Главном управлении по делам печати ХІІ-я часть, только в середине апреля 1886 г. через 5 месяцев получила разрешение цензуры, но за исключением статьи «В чем моя вера». Толстой, обыкновенно относившийся безразлично к цензурным преследованиям его статей, на этот раз был чрезвычайно доволен разрешением сказки. Получив известие о благополучном исходе дела, он писал жене (около 9 апреля) из Ясной поляны, куда ушел из Москвы пешком вместе с Н. Н. Ге и М. А. Стаховичем, в таких словах: «Радуюсь за тебя, за 12-ю часть, и для себя радуюсь преимущественно зa Ивана-Дурака».277
Тогда же, 22 апреля 1886 г. было разрешено и отдельное издание сказки «Посреднику». Но на это издание, как народное, цензура наложила свою руку, оберегая будущих его читателей от фраз и слов, могущих внушить им неуважение к царской власти и государственному устройству, говорящих против воинской повинности и военной службы, против податей и иных финансовых обложений населения, что Толстой юмористически называет в сказке «порядками хорошими». Одно место выпущено по цензурным соображениям и из изд. 1886 г.; оно касается косвенных налогов (стр. 70) — его мы восстанавливаем. Следует еще отметить, что в нескольких местах сказка весьма вероятно подверглась совсем иного характера, домашней, так сказать, цензуре, которой Лев Николаевич подчинился; так в гл. 8-й Толстой до самой первой корректуры про собаку Ивана Дурака несколько paз говорит просто и определенно «кобель старый», но потом в корректуре изменяет это место менее красочным выражением «собака старая». Это место, как вошедшее в изд. 1886 г. и таким образом прошедшее корректуру автора, конечно, остается без изменения. Менее значительную переделку (пропуск одного слова — гузно, нарушающий смысл) восстановляем.
«Сказка об Иване Дураке», вышедшая в феврале 1887 г. (2-м изд.), уже в тот же месяц была арестована Московским цензурным комитетом, а в октябре запрещена к перепечатке Главным управлением по делам печати. Запрещения повторялись в 1892 и потом в 1893 г. В 1892 г. сказка даже вызвала особое распоряжение, касающееся прежних изданий, — воспрещение «розничной продажи сказки на улицах, площадях и других публичных местах, а равно чрез ходебщиков и офеней». Только в 1906 г. сказка получила право свободного печатания.
Интересен отзыв о сказке духовного цензора, члена комитета духовной цензуры архимандрита Тихона в 1887 году. «Сказка об Иване Дураке,— говорит он, — проводит, можно сказать принципиально мысли о возможности быть царству без войны, без денег, бeз науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика — мысли о единственно полезном и законном труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо осмеиваются современные условия жизни: политические (необходимость содержать войска), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)».
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Сохранилось пять рукописей, заключающих в себе «Сказку об Иване дураке» и одна корректура в листах. Все принадлежат Государственному Толстовскому музею и хранятся там в папке 11, под №№: 22, 23, 24, 25, 26 (архив В. Г. Черткова) и Инв. 1093. Листы корректуры принадлежат Государственному Литературному музею.
1) № 22. Автограф. 4°, 15 лл. в переплетенной и прошнурованной сверху и снизу тетради из толстой нелинованной писчей бумаги. Всего в тетради 72 листа, заполнено из них 15. Л. 1. писан только с оборота. На нем выноска из текста, начинающегося на л. 2. Заглавие: «Иван Дурак». Много помарок, поправок и дополнений, главным образом, на полях. Начало: «Жилъ былъ старикъ съ старухой и было у него три сына — Семенъ и Тарасъ умные, a третій Иванъ дуракъ»...
2) Рукопись № 23. Копия с предыдущей рукою А. П. Иванова. 4°, 21 лл. нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Говарда. Писано на обеих сторонах. Со многими поправками, дополнениями и переделками Толстого; эта рукопись представляет новую редакцию. Заглавие рукой переписчика: «Иван дурак. Сказка». Здесь Тарас называется кулаком, а не брюханом. Эта редакция заключает в себе эпизод об англичанине — купце в Ивановом царстве; эпизод впоследствии значительно переделан, англичанин заменен немцем, наконец, господином чистым. См. варианты. Начало: «Было у богатаго мужика три сына: Семенъ воинъ, Тарасъ кулакъ и Иванъ дуракъ»... Последний л. — 21 об. и 7 строк на лицевой стороне в обратную сторону к тексту Толстого — заключает начало списка сказки в первой редакции, рукою С. А. Толстой.
3) Рукопись № 24. Копия рукою А. П. Иванова. Это список копии с предыдущей рукописи. 4°, 12 лл. нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Говарда (?). Писано без полей. Между строчками — многочисленные поправки рукою Толстого. Рукопись эта дает не весь текст сказки, а отрывки. Листы помечены цыфрами: 4, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 (два листа), 26 и 31. Все листы кроме 17 об. перечеркнуты переписчиком следующей копии вертикально, а л. 25 перечеркнут еще и по диагоналям; л. 25 а — копия листа 25-го. Рукопись № 24 представляет собою третью редакцию сказки. Начало: «и до тѣхъ поръ не отходилъ, пока не покончитъ» и содержит в себе: средину главы 2-й, конец 7-й главы, VIII, IX, X, XI начало и отрывок из средины ХІ-й главы. Конец: «Это оттого, что вы дураки. А я, говоритъ, научу....»
4) Рукопись № 25. Копия с предыдущей, сохранившейся, как сказано выше, не полностью; рукою А. П. Иванова. 4°, 33 лл. (л. 33 пустой) нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда. С поправками и дополнениями Толстого. Назвать рукопись № 25 однако новой редакцией нельзя, как и следующую рукопись. Заглавие рукой переписчика на первом листе: «Сказка об Иване дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах». Начало: «Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ богатый мужикъ»...
5) Рукопись ГТМ, инв. 1093. Копия рукою А. П. Иванова. 4°, 28 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда. Начало: «Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ богатый мужикъ». С поправками Толстого и написанным его рукою и зачеркнутым эпиграфом из Мф. V, 43—48: «Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ и молитесь за унижающихъ васъ и гонящихъ васъ. Да будете сынами отца вашего небеснаго, ибо онъ повелѣлъ солнцу своему восходить надъ злыми и надъ добрыми, посылаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхъ, ибо если вы будете любить любящихъ васъ, какая вамъ награда, не то ли же дѣлаютъ и язычники. И если вы привѣтствуете только братьевъ вашихъ, что особенного дѣлаете? не то ли же дѣлаютъ и язычники? Итакъ, будьте совершенны, какъ совершенъ отецъ вашъ небесный».
Эта копия с несохранившейся рукописи, очень близкой к № 25, служила оригиналом при наборе Сказки для «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая М. 1886 г., стр. 123—152, что доказывается отметками фамилий наборщиков и буквой «Ч» — читал (корректор?) на каждой странице рукописи. Разница между последними рукописями № 25 и 1093 и изд. 1886 г., возникла в результате исправлений Толстого в корректуре.
6) В ГЛМ (шифр 2457/2) хранятся стр. 291—294 (гл. XII) последней корректуры с рядом стилистических поправок рукой Толстого, которые все вошли в текст 1886 г. Эта часть корректуры начинается словами: «Обиделся старый дьявол».
Так как установлено, что текст издания сочинений 1886 г. корректировался самим Толстым, то в основу настоящего издания и положен он, с просмотром по рукописям.
————
К КАРТИНЕ ГЕ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
В письме к В. Г. Черткову 23 января 1886 года Толстой сообщал, что «в последние дни» он «занимался тем, что писал текст к Тайной вечере Ге». «Я дал переписывать, — добавляет он, — и пришлю вам с картиной. Мне кажется, что это была бы очень хорошая, богоугодная картина. Что вы скажете, и что скажет цензура?»278 Это была та картина Н. Н. Ге, которую художник написал во время своего пансионерства за границей и представил как первую свою работу на академическую выставку (1863); в этой картине Ге высказал свое понимание Евангелия — почва, на которой он потом сблизился с Толстым.
Получив письмо Толстого вместе с черновиком текста и затем фотографию с картины (7 февр. 1886 г.), В. Г. Чертков сейчас же стал хлопотать о разрешении перед духовной цензурой соответственно «желанью» Толстого и его «указаниям, полученным... через Стаховича» и в то же время занялся перепиской листков, присланных Толстым. Толстой с своей стороны тогда же дал переписывать дома оставшуюся у него рукопись. Решение духовной цензуры состоялось очень скоро — уже 24 февраля, т. е. через две недели: и тексты описания картины и даже самая картина была запрещена; в цензурном комитете, впрочем, сказали, что может быть, картину Ге и пропустят, но без текста Толстого. Получив от Черткова известие обо всем этом, Толстой продолжал работу. После первого наброска, посланного Черткову, и первого, тоже автографического наброска, оставленного у себя, Толстой, всё недовольный своей работой, написал еще два новых наброска, между ними написав три переделки (списки, исправленные и дополненные автором); благодаря значительной переработке текста не только стилистического характера, эти работы можно назвать редакциями, которых в общем насчитываем шесть.
Текст «Тайной вечери» Толстого был напечатан в первый раз в 1904 г. зa границей в «Полном собрании сочинений, запрещенных русской цензурой, Л. Н. Толстого» изд. «Свободного слова» (Christchurch, Hants, England), т. X, стр. 119—121, под названием: «К картине Н. Н. Ге. Последняя беседа Христа с учениками». В России эта вещь была напечатана в первый раз в 11-м издании «Сочинений Л. Н. Толстого» т. 11, стр. 114—116, под заглавием: «Текст к картине Ге «Тайная вечеря», представляющая небольшой вариант к тексту, напечатанному в Англии.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Текст описания картины H. Н. Ге сохранился в шести рукописях. Пять из них принадлежат к Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, они хранятся в папке, под №№: 13, 14, 15, 16 и 17 и одна в БЛ под шифром: VI. 17.
1) № 13. Автограф. 4°, 2 лл. (л. 2 чистый) нелинованной писчей бумаги. Заглавие рукою не Толстого: «О картинах Ге». Начало: «Іоанн. гл. 13.1, 2...» Дальше, после зачеркнутых слов: «Христосъ возлюбивъ сущихъ въ мірѣ»..., начало: «На вечерѣ этой Христосъ далъ ученикамъ своимъ»... Рукопись с помарками, поправками и приписками между строк, перестановками и указаниями на стихи при цитатах из Евангелия. Против указания на стихи Евангелия вертикально на полях приписано: «Подъ картиной», а против текста статьи: «Надъ картиной». Эта рукопись — повидимому первый набросок статьи. См. вариант № 1.
2) Рукопись № 14. Копия с автографа № 13 рукою T. Л. Толстой. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги (л. 4 чистый), с поправками Толстого. Заглавия нет. Начало: «Послѣ того какъ Іисусъ сказалъ своимъ ученикамъ, что одинъ изъ нихъ предасть Его»... Вторая редакция. См. вариант № 2.
3) Рукопись № 15. Копия с рукописи № 14, рукою С. А. Толстой. 4°, 2 лл. линованной писчей бумаги; писано без полей на всех 4 страницах, с поправками Толстого, дающими совершенно новую, третью редакцию статьи. Заглавия нет. Начало: «Вверху картины. Іоанн. 13, стихи 1, 2, 3... 35». Начальные слова после зачеркнутых: «Іисусъ говорилъ: вы слышали: люби ближняго твоего»...
4) № 16. Автограф. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги. Заглавия нет. Начало: «Вверху картины (Іоанна гл. XIII. От 1-го стиха...)». После слов: «Внизу картины» — начало статьи: «Вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего»... Четвертая редакция.
5) № 16а. Автограф. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги. Отрывок, без начала. С помарками и поправками. Заглавия нет. Начало: «лежитъ, облокотившись на руку, и думаетъ»... Обрывается на словах: «И открывая уста, онъ говорить: 31... 34, 35». Пятая редакция.
6) БЛ. Автограф. 4°, 4 лл. писчей бумаги. Без заглавия. Начало: «Вверху картины» — дальше указание на гл. 13 Евангелия от Иоанна, стихи 1—35. Начало: «Іисусъ сказалъ: Вы слышали: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю»... Вся рукопись сильно перечеркана и сверх зачеркнутого написаны новые фразы. Видимо, рукопись писана cpaзy, а потом при прочтении исправлялась. Это вторая редакция, возникшая не в результате исправления первой, а совершенно самостоятельно, в отмену ее. На обложке рукою С. А. Толстой: «К картине Ге (Тайная вечеря)». Шестая редакция.
7) Рукопись № 17. Копия с предыдущей, рукою T. Л. Толстой, с дополнением Толстого в конце. 4°, 3 лл. нелинованной писчей бумаги. Без заглавия. Начало: «Вверху картины». Дальше указания на XIII гл. Еванг. от Иоанна, стихи 1—35. Затем, после слов: «Внизу картины»: «Іисусъ сказалъ: Вы слышали: люби ближняго твоего»...
В автографе Толстого заглавия нет; только на обложке рукописи БЛ рукою С. А. Толстой дано печатаемое выше заглавие, вошедшее в издание «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Той рукописи Толстого, с которой сделана копия, послужившая оригиналом для набора, не сохранилось. В копии же этой, как и в сохранившихся автографах, евангельский текст после слов: «Вверху картины» — не выписан, сделана только ссылка на главу и стихи Евангелия от Иоанна. Выписываем этот текст, как, очевидно, хотел это сделать Толстой.
————
«КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ВЫКУПАЛ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
В основу рассказа «Как чертенок краюшку выкупал» Толстой взял белорусскую легенду о происхождении хлебного вина, именно в том ее виде, как она изложена А. Н. Афанасьевым в его книге «Народные русские легенды», М. 1859 г., по сборнику И. П. Боричевского «Народные славянские рассказы». Спб., 1844. Конец рассказа заимствован из приведенного в том же издании Афанасьева рассказа о происхождении хлебного вина, который был записан от татар Нижегородской губернии. С изложением Афанасьева первая часть рассказа Толстого очень сходна, в некоторых местах даже дословна, как видно из следующего: «Жил-был бедный мужик; взял он чуть-ли не последнюю краюшку хлеба и поехал на пашню. Пока он работал, пришел чорт и утащил краюшку. Захотелось мужику пообедать; хвать — хлеба нету! Чудное дело, сказал мужик; никого не видал, а краюшку кто-то унес. А, на здоровье ему! авось с голода не умру. Пришел чорт в пекло и рассказал обо всем нàбольшему дьяволу. Не понравилось сатане, что мужик не только не ругнул вора, а еще сказал ему на здоровье. И послал он назад чорта: ступай, заслужи мужикову краюшку. Обернулся чорт добрым человеком и пошел к мужику в работники: в сухое лето засеял ему целое болото — у других крестьян всё солнцем сожгло, а у этого мужика уродился чудный хлеб; в мокрое, дождливое лето засеял по отлогим горам — у других всё подмокло и пропало, а у этого мужика опять урожай на славу. Куда девать хлеб. Чорт и принялся зa работу: давай затирать да высиживать горькуху, и таки умудрился» (стр. 182).
Вторая часть рассказа, как сказано выше, взята из подобного же рассказа о происхождении хлебного вина, который существует среди нижегородских татар. В этом рассказе есть дополнение, очень кратко изложенное Афанасьевым, которым как основой воспользовался Толстой. В нем говорится, что «приготовляя вино, чорт подмешал туда сначала лисьей, потом волчьей, а наконец и свиной крови. Оттого, если человек немного выпьет — голос бывает у него гладенький, слова масляные, так лисой на тебя и смотрит; а много выпьет — сделается у него свирепый, волчий нрав; а еще больше выпьет — и как раз очутится в грязи, словно боров».
Как сказано выше, рассказ существует в двух редакциях. Назвать 2-й редакцией дает право вторая часть рассказа со слов: «пришел к мужику» (в 1 редакции «пришел в деревню»). См. в вариантах.
Писание рассказа «Как чертенок краюшку выкупал» относится не позже, чем к февралю 1886 г. Это видно из того, что одна из рукописей переделки этого рассказа в драматическую форму «Первый винокур или как чертенок краюшку заслужил» имеет дату 1-е марта 1886 г.
Цензурное разрешение текста рассказа для издания «Посредника» относится к 2 апреля 1886 г., обложки — 9 апреля.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рукописей, содержащих в себе этот рассказ, сохранилось три; все принадлежат к Архиву, переданному В. Г. Чертковым в ГТМ, где хранятся в папке 11 под №№: 7, 8 и 9 и корректурный оттиск в гранках — в БЛ, шифр — V, I, 1.
1) № 7, 4° 3 лл. нелинованной бумаги. Автограф. Первая редакция. Заглавия нет. С небольшими помарками и перечеркиваниями. Начало: «Выѣхалъ бѣдный мужикъ пахать». Л. 2 содержит зачеркнутый отрывок, писанный рукою А. П. Иванова, начало: «...вслушивался в чтение Евангелия. Но с некоторого времени»... (4 строки). См. вариант. Первая редакция.
2) Рукопись № 8. 4°, 6 лл. + 2 лл. (на л. 1 —заглавие). Копия с предыдущей рукой В. Г. Черткова, с поправками и дополнениями Толстого. Заглавие: «Какъ чертенокъ краюшку выкупалъ». Начало: «Выѣхалъ бѣдный мужикъ пахать». Вторая редакция. Текст на 5 и 6 лл. очень перечеркнутый Толстым, переписан снова под заглавием: «Приложеніе».
3) Рукопись № 9, F°, 3 лл. линованной писчей бумаги. Копия рукою H. Л. Озмидова, с поправками Толстого чернилами и карандашными поправками рукою переписчика; некоторые из этих поправок оставлены, другие зачеркнуты рукою Толстого. Заглавие: «Какъ чертенокъ краюшку выкупалъ». Начало: «Выѣхалъ бѣдный мужикъ пахать»... Вторая редакция с небольшими поправками.
4) Корректурный оттиск в гранках для изд. «Сочинения гр. Л. Н. Толстого, М. 1886» с поправками Толстого. 11/2 полосы. Принадлежит БЛ. 1.
В основу настоящего издания положен текст «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», ч. двенадцатая, М. 1886, стр. 473—476.
————
«КРЕСТНИК».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Основную тему «Крестника» Толстой взял из общеизвестной и чрезвычайно распространенной легенды, которая встречается в русской и иноязычной литературе и говорит или о Христе — крестном отце сына бедного мужика или о крестнице пресвятой девы. Известен также кроме народных повестей, сказаний и сказок и апокриф, излагающий ту же легенду; в старой русской литературе этот апокриф носит название «Повесть о сыне крестном, како Господь крестил младенца убогого человека».
Начало работы Толстого представляет собою отметки извлечений из книги «Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым» (М. 1859), книги, которой он часто пользовался при писании своих народных рассказов, и две соединительные вставки, написанные Толстым для связи и для цельности рассказа. Эти две вставки (всего 3 страницы) и есть собственно первая черновая будущей легенды — рассказа Толстого. В ней выписки из легенд Афанасьева Толстой обозначает просто цыфрами страниц, не указывая, что значат эти цыфры, именно: 99, 100, 101, и дальше 95—96, 97. На основании этих цыфр, очевидно, по указанию Толстого, переписчик сделал копию выписок из книги Афанасьева и Толстовских соединительных вставок. Выписки из Афанасьева представляют собою части легенды «Крестный отец» и части легенды «Грех и покаяние» (вариант 6). В приложении помещаем образец выборки выписок и самые выписки, дополненные связующими вставками (первой черновой). Следующая (2-я) редакция легенды дает решительную переработку всего текста при некоторых дополнениях под влиянием других вариантов тех же легенд, внесенных в книгу Афанасьева. В новой (3-й) редакции (две рукописи) встречаем несколько новых привходящих (сказочные сюжеты) эпизодов. За сим следовали еще три обработки постепенно более и более легкие.
Рассказ у Толстого сначала не имел названия; затем «Как крестник искупал чужие грехи», далее «Крестник, как человек снял на себя чужие грехи и как искупал их», потом то же название с заменой нескольких слов его: «Как человек на себя чужие грехи снял и как их выкупил», наконец просто «Крестник». В «Книжках недели» к названию прибавлено: «Народное сказание».
Судя по отметке С. А. Толстой на одной из рукописей «Крестника» «февраль 1886», работа шла в феврале 1886 г. Ту же, но только более точную дату работы дает одно из писем Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову — 22 февраля 1886 г.; здесь Толстой говорит: «сейчас — утро — хочу дописывать сказку о крестнике».279 Но конечно здесь говорится не об окончательной обработке, а об одной из средних редакций, скорее всего, самой крупной, 2-й. Предпоследняя (5-я) обработка рассказа (копия рукой В. Г. Черткова с многими поправками и переделками Толстого) относится, нужно думать, к марту 1886 г. Это выводим из того, что 6 апреля Чертков пишет Толстому, как шло дело с цензурой рассказа. «Крестник — пишет он — как рискованный рассказ я отдал в неподцензурное издание Книжки недели». «Там — читаем дальше — пропустили и теперь рассчитываю, что пропустят и для отдельной книжки». В «Книжке недели» рассказ напечатан в 4-м номере 1886 г. Последняя копия рассказа, принадлежащая С. А. Толстой, была лишь слегка пройдена Толстым перед сдачей в набор для XII т. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Произведения последних годов». 1886. Следующие поправки, уже незначительные, были сделаны в корректуре.
Дальнейшие затруднения в издании «Крестника» заключались в препятствиях со стороны цензуры на отдельное издание «Крестника». В. Г. Чертков писал Толстому в декабре 1886 г., что «Крестника безусловно запретили в отдельной книжке, несмотря на наше изменение и на то, что я... говорил о нем и с председателем комитета и с секретарем, который там всем заправляет». «Петербургская цензура — читаем там же — получила сильные выговоры за выпущенные наши книжки и приказание относиться как можно строже. А потому всё, что имеет духовный оттенок, они пересылают для справки и снятия с себя ответственности в духовную цензуру, а это равносильно для наших изданий запрещению. Так и было с Крестником. Духовная цензура дала отзыв, что не знает «книги безбожнее этой».280 Таким образом «Посреднику», несмотря на все старания, тогда не удалось напечатать «Крестника»; он добился напечатания только в 1906 г.
Приложение.
Крестный отец.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был бедной мужик с женою; детей у них не было. Стали они просить бога, чтобы дал им детище во младости на посмотрение, под старость на утешешение, а по смерти на помин души. Создал им господь детище. Обрадовался мужик, пошел к соседу и начал просить в кумовья: «Пожалуй, говорит, приведи младенца в крещеную веру». Сосед отказался, за тем, что мужик-то был оченно беден. Пошел он к другому, и тот отказался. Всю деревню исходил, никто к нему не йдет в кумовья. Что делать? Пошел мужик в иную деревню. Идет путем-дорогою и попадается ему навстречу незнакомый старец. «Здорово, добрый человек! Куда идешь, куда путь держишь?» — Здорово, дедушка! Дал мне господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души; да вот прилучилось какое горе: человек я бедной, никто и не йдет ко мне привести младенца в крещеную веру. — «Возьми меня». Мужик несказанно тому обрадовался и благодарствовал старику. «Ну, говорит старец, ступай теперь к богатому купцу, проси дочь его в крёсные матери». — Ах, нареченный кум! Как мне к купцу идти? Он мною побрезгает. — «Не твоя печаль! Ступай и проси. Да смотри, чтоб к завтраму к утру всё было готово». Бедный мужик воротился домой, запрёг лошадь и поехал в город к богатому купцу. «Что надыть?» спрашивает купец. — Да вот, господин купец! Дал мне Господь детище во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти свою дочь в крёсные —. «А когда у тебя кстины?» — Завтра утром». — «Ну хорошо; ступай с богом, она приедет». На другой день по утру приехала кума, пришел и кум, и окстили младенца. Распрощались и пошли по своим местам.
Стал младенец возрастать, да такой умной да доброй, всем соседям на зависть. Отдали его учиться грамоте; которые учатся лет по пяти, а он всю науку в год окончал, всех перегнал. Пришла святая неделя. Отслушал мальчик заутреню и раннюю обедню, ходил к крёсной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает: «Батюшка и матушка! где живет мой крёсной? Я бы к нему пошел похристосовался». «Любезный сын, говорят они, мы и сами не знаем; как окрестил он тебя — с той самой поры мы его и не видали, и ничего про него не слыхали». «Ну, батюшка и матушка! прощайте; пойду искать своего крёсного».
Рассказ Толстого.
Жил был бедный мужик с женою; детей у них не было. Стали они просить Бога, чтобы дал им детище во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Создал им Господь детище.....
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
И пошел он куда глаза глядят. Шел, шел, вышел в чистое поле и повстречался ему старец. «Здраствуй, говорит старец, куда идешь, куда путь держишь?» «Здорово, дедушка, иду искать крёсного». «Я твой крёсной, говорит старик; пойдем со мною».
Рассказ Толстого.
.......... Здорово, дедушка, иду искать крёсного.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
А старик-то был сам господь и повел он своего крестника в царство небесное; привел и приказывает:
Рассказ Толстого.
Я твой крёстный... Приходи ко мне через три дня. Хотел старец дальше идти, да остановил его крестник. Какже я тебя, батюшка, найду. А вот иди всё на восход солнца. Всё прямо иди. Придет тебе село. Примечай, что там люди делают, пройди село насквозь, прямо иди, пройдешь день, придет гора, в каменьях вся. Найдешь людей, примечай, что там люди делают. Иди прямо на гору, пройдешь еще день, придет степь. Увидишь в степи пожар, примечай, как люди пожар тушат. Пройдешь пожар, иди прямо, пройдешь день, увидишь палаты. Это мой дом. Я тебя сам там встречу.
Сказал это старец и ушел от крестника.
Пошел крестник, как велел ему старец. Шел, шел, пришел к селу. Видит мужики стоят по пояс в земле, заступами землю с места на место перекидывают; что, говорит, вы делаете. Колодцы копаем. Да вы бы землю в сторону кидали. Стали мужики так делать. Спасибо сказали. Пришел мужик в село, видит — бабы моют к празднику, грязными ветошками столы обтирают. Что больше трут, то грязнее, а ветошек не переменяют. Да вы бы ветошки переменяли, чистые бы брали. Спасибо сказали бабы. Прошел дальше, пришел к горе. Видит — очищают люди от камней поле под горой. Возьмут камень и покатят на гору. Докотят до половины, ослабнут, бросят. Камень скатится назад, да еще с горы камни собьет, всё больше и больше камней прибавляется. Научил их мальчик. Да вы бы камни не на гору, а по ровному убирали. Спасибо сказали, стали так делать. Пошел дальше, пришел в степь. Видит — горит степь и народ бегает тушит, раскидывает по степи, а то ухватит с огнем бурьяну и несет в степь, бросает. А степь дальше загорается. Научил и их мальчик. Да вы бы не раскидывали, а кафтанами да ногами заминали, где горит. Скорее бы потух[ло]. Спасибо сказали люди, стали так делать. Пошел дальше мальчик, пришел к палатам. Стоит старец у дверей. Ввел его в палаты и сказал: Смотри и т. д.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
«Смотри, крестник, по всем палатам гуляй, не входи только в эту дверь». Сказал и ушел от него; остался мальчик один. Вот он ходил, ходил по всем палатам и вздумал себе: от чего так не велел мне крёсной входитъ в эту комнату? Дай пойду, посмотрю — что там такое? Вошел и увидел там разбойника, а теперь перед ним на коленах стоит человек; жалко ему стало того человека, ухватил он камень и убил разбойника. Вдруг является господь. «Не послушал, говорит, ты моего приказания! Этот разбойник убил в свою жизнь девять человек, а ты его грехи теперь на себя снял. Ступай же на землю и трудись, пока грехов своих не замолишь.
Рассказ Толстого.
Вдруг является старец и т. д.
Пошел мальчик грехи замаливать.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
Из легенды «Грех и покаяние». Шел он, шел и пришел в большой дремучий лес; увидал тропинку, пустился по этой тропинке и пришел к келье; начал стучаться, пустынник его и спрашивает: «Кто там?» — Грешник, святый отче! — «Подожди, молитву окончу». Окончил молитву, вышел из кельи и спрашивает: «Куда бог несет? и что надобно?»
Рассказ Толстого.
Шел он, шел и т. д.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
Рассказал ему странник. «Это грех великой! не ведаю, можно ли отмолить его. Ступай-ка ты по этой дорожке и дойдешь до другой кельи — там живет пустынник старей меня вдвое; может, он тебе и скажет...»
Рассказ Толстого.
рассказал ему мальчик. И сказал ему старик. «Ступай.... и т. д.
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
Пошел странник дальше и дальше, приходит к келье и опять стучится. Пустынник стоял тогда на молитве. «Кто там?» — спрашивает он. — Грешник, святый отче! — «Подожди, молитву окончу». Окончил молитву, вышел и спрашивает: что за грешник такой?
Рассказ Толстого.
мальчик
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
Странник рассказал про всё.
Рассказ Толстого.
Мальчик
Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. М. 1859. 30, стр. 99—101
«Коли хочешь отмаливать свои грехи, сказал ему пустынник, так пойдем со мною». Дал ему топор и привел к толстой березе: «Свали-ка эту березу и разруби ее на три части». Тот свалил березу с корня и разрубил на три части. Пустынник зажег эти три бревна; вот они горели, горели, и остались только три малые головешки. «Закопай ты эти головешки в землю, и день и ночь поливай их водою!» — сказал пустынник и ушел. Грешник зарыл три головешки в землю и начал поливать их и день и ночь; год поливал, и другой, и третий... долго-долго трудился: две головешки уж пустили отростки, а третья нет как нет! Пришел к нему пустынник, видит: выросло две березки, и говорит: «Бог простил тебе два греха — с матерью и сестрою, а третьего — с кумою ты еще не замолил у Господа. Вот стал мимо его по зape ездить какой-то человек: едет себе и всякой paз распевает веселые песни. «Дай спрошу, думает грешник, что это зa человек ездит?» Вышел на дорогу, подождал немножко и видит: подъезжает тот самый человек и поет песню. Он сейчас схватил его лошадь зa узду, остановил и спрашивает: «Кто ты таков и зачем поешь едакие песни?» Я разбойник, езжу по дорогам и убиваю людей; чем больше убью зa ночь, тем веселее песню пою.
Рассказ Толстого.
А ты, говорит, что тут делаешь? «А я, говорит, вот грехи замаливаю, что я разбойника убил. Удивился разбойник, слез с лошади, посидел с ним. Поговорили они. Уехал разбойник, приехал другой раз. Стал чаще ездить.
И полюбил его мальчик и пожалел его, и бросить дурные дела уговаривал его. А разбойник стал его уговаривать с ним жить. И подумал мальчик: «Не так мне сказал пустынник, или не так я понял его. Вот уж двадцать лет живу, не проростает головешка. Пойду с разбойником. Может остановлю его и бросит он, меня полюбив, свои плохие дела.
И что про меня худое скажут, так мне все одно. И пошел он последний раз посмотреть на свою головешку — глядь, а уж из головешки яблоня выросла, и цветы цветут.
Увидел это разбойник, покаялся, бросил свои худые дела и пошел с мальчиком вместе жить, людям служить.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ сохранился в восьми рукописях, корректурном оттиске в гранках и в корректуре в листах. Четыре рукописи и корректура принадлежат к Архиву, переданному В. Г. Чертковым в ГТМ, и хранятся в папке № 9, под №№ 27, 28, 29, 29а и 30.
Четыре остальных рукописи хранятся в АТБ, под шифрами: V. 514.
Корректура в листах хранится в ГЛМ.
1) Рукопись ГТМ, №27. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги. Автограф. Отрывки первоначальной черновой со ссылками на страницы «Русских народных легенд» Афанасьева, указывающими на те места, которые нужно было выписать: 99, 100, 101 и 95—96.
2) Рукопись АТБ 51. Копия рукою В. Г. Черткова с поправками и дополнениями Толстого. Тетрадь линованной бумаги в синей обложке, 14 лл. (лл. 11—14 чистые). Половина л. 13 об. и л. 14 целиком писаны Толстым. Заглавие рукою Толстого: «Какъ крестникъ искупалъ чужіе грѣхи». Дальше — эпиграф его же рукой: «Вамъ сказано: око зa око и зубъ за зубъ, а я говорю вамъ не противься злому. Мф. V. 38, 39... Вы слышали (и пр. [неразобр.] и еще выписать 43, 44)». Начало: «Жилъ-былъ бѣдный мужикъ съ женою»... На обложке рукою С. А. Толстой: «Как крестник искупал чужие грехи. Февраль 1886. Гр. Л. Т.»
3) Рукопись 52. Копия с предыдущей рукою С. А. Толстой, с авторскими поправками, дополнениями и перестановками текста. 4°, 17 лл. (л. 14, 8° — вкладной). Заглавие переделано рукою Толстого так: «Крестникъ. Какъ человѣкъ на себя чужіе грѣхи снялъ и какъ ихъ выкупилъ». Эпиграф из Евангелия от Матф. V. 38, 39. Другой эпиграф — Матф. V. 43, 44 выписан, но рукою Толстого зачеркнут. Начало: «Жилъ былъ бѣдный мужикъ съ женою» — зачеркнуто и написано: «Родила баба бѣдному мужику сына»; это зачеркнуто и написано: «Рожались у бѣдного мужика все одни дѣвочки и» — и тоже зачеркнуто и оставлено написанное дальше с переправкой малой буквы на большую: «Родился у бѣдного мужика сынъ»... На л. 5 на полях приписано С. А. Толстой: «С 5-го вторично переписано».
4) Рукопись 53. 4°, 12 лл. нелинованной писчей бумаги. Копия рукою С. А. Толстой с поправками и дополнениями Толстого. Рукопись неполная и представляет собою остатки от предыдущей рукописи. Здесь имеются: л. 5, дополнение к нему рукою Толстого на двух отдельных листах, л. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и 17-й. Все они в переписанном виде вошли в рукопись 52 (о чем в этой рукописи и сделана отметка на л. 5) зa исключением лл. 1—4, которые вторично не переписывались. Заглавие рукою С. А. Толстой: «Крестник». Начало словами: «Замка на ней нѣтъ, только печати». На л. 1 под заглавием рукою Толстого вкось написано
«Поле затопталъ Медвѣдица съ медвѣжатами.
Поле затопталъ
Деревню съ — [два слова зачеркнуты]
Свой домъ сжегъ».
Приписки эти относятся к предыдущей рукописи. На л. 4 об. — отдельные мысли к «Смерти Ивана Ильича», начало: «Онъ лежалъ и пр[осилъ] чтобы пожалѣли, но он сѣдой — предсѣдатель»... и черновик начала письма, предназначенного для перевода на английский язык. Начало: «Dear Sir. Я получилъ ваше письмо и книгу»...
5) Рукопись 54. Копия с рукописи 52. 4°, 20 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда. Л. 1—5 — рукою неизвестного, а с половины л. 5 об. — рукою С. А. Толстой. С поправками и дополнениями Толстого. Заглавие сначала было написано полностью, как в рукописи V. 52, но подзаголовок вычеркнут рукою Толстого, оставлено только «Крестникъ». Начало: «Родился у бѣднаго мужика сынъ»... На обложке (л. 1) под заглавием карандашом рукою М. А. Стаховича написано: «соч. Л. Н. Толстой, исправил Мих. Стахович». Эпиграф из Матф. V. 38, 39 написан рукою переписчика, а рукою Толстого еще эпиграф: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ».
6) Рукопись ГТМ, № 29. Расшитая тетрадь в синей обложке, 4°, 20 лл. Содержит полный текст рассказа в копии рукою В. Г. Черткова с рукописи 54. С поправками Толстого. Заглавие: «Крестникъ». Эпиграф: «Вы слышали, что сказано: око за око и зубъ за зубъ. А я говорю вамъ: не противься злому». Матф. V. 38, 39. «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ». Посл. к Евр. X, 30. Начало: «Родился у бѣднаго мужика сынъ»... Текст рукописи совпадает с напечатанным в «Книжках Недели» 1886 г., апрель, стр. 121—141.
7) Рукопись № 28. Копия частью рукою Т. Л. Сухотиной, частью другим почерком. 4°, 6 лл. (л. 3 пустой; л. 4 чистый с лицевой стороны; л. 2 — чистый с оборота). Это копия страниц: 9, 10, 13, 14, 19 опять 10-й рукописи № 29 страница в страницу. Без авторских поправок. Заключает в себе:
1. Отрывок главы 5-й, начиная со слов: «Подивился мальчикъ и пошелъ дальше»..., кончая словами: «Походилъ, походилъ крестникъ по палатамъ и подошелъ».
2. Отрывок той же 5-й главы со слов: «деѣлами занялся. Вскочила крестная» — до конца, — и всю 6-ю главу.
3. Отрывок 8-й главы со слов: «столы, лавки, все чисто стало. На утро распрощался крестник» — до конца.
4. Начало 9-й главы, кончая словами: «какие такие чужие грехи на тебе?»
8) Рукопись № 30-а. 4°, 19 лл. Копия с рукописи 29. С поправками Толстого. Писана рукою С. А. Толстой, с типографскими пометками, буквою Ч на каждой странице и фамилиями наборщиков на полях. Заглавие: «Крестникъ». Эпиграфы те же, что и в рукописи № 29. Начало: «Родился у бѣднаго мужика сынъ»... Текст совпадает с напечатанным в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого, ч. 12. Произведения последних годов. М. 1886 г., стр. 499—518. Поправки, сделанные в этой рукописи, не вошли в текст, напечатанный в «Книжках Недели».
9) Корректура № 30. Корректурные гранки текста, напечатанного в «Книжках Недели», 7 полос. Поправки только в типографских знаках и сделаны рукой не Толстого. Заглавие: «Крестник («Народное сказание)».
10) В ГЛМ (шифр 2457/2) хранится верстка, очевидно, предпоследней корректуры, стр. 500—518, начиная с конца 5 главы, со слов: жила. Видит замужем она за купцом и до конца сноски. В конце корректуры надпись: «Исправив прислать к вечеру. Гр. С. Толстая». На полях страниц значительное количество стилистических правок рукой Толстого, которые все вошли в текст издания 1886 г.
В настоящем издании текст рассказа печатается по «Сочинениям гр. Л. Н. Толстого», ч. 12. М. 1886 г., стр. 499—518, с исправлениями по рукописям.
————
«РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Тема этой сказки взята из известного сказочного сюжета, по которому лягушка красавица-девица выходит замуж за молодца, и этим возбуждает зависть в царе; чтобы избавиться от молодца-бедняка, царь задает ему трудные задачи, и под конец самую трудную — «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В исполнении этих задач ему помогает жена его.281
Интересно, что в вариантах этой народной сказки действующим лицом является стрелец или солдат, носящий фамилию Тарабанов (ср. барабан в сказке Толстого); во второй рукописной редакции сказки Толстого (в первой рукописи) главное действующее лицо тоже был солдат; тогда и в заглавии, заменившем первоначальное «Сиротинка Емеля и пустой барабан», упоминалось слово «солдат»: «Солдат и пустой барабан». Затем, вероятно, из предположения требований цензуры, слово «солдат» было заменено в заглавии словом «мужик», хотя слово барабан осталось и тогда, когда сказка получила окончательное название «Работник Емельян и пустой барабан». По тем же цензурным причинам в тексте сказки Толстого почти во всех изданиях, вышедших в России, слово «царь» заменено словом «воевода» (в народных сказках — «царь» или «король»); соответственно этому слово «царица» заменено словом «княгиня», «придворные» — словом «слуги», «царский дворец» — словом «палаты» и т. п.; слово «солдаты» и не касаясь главного действующего лица выброшено и заменено словом «стрельцы»; точно так же говоря о «мужицкой солдатской матери», опущено слово «солдатская». В рукописях сказки можно насчитать четыре редакции.
Время написания сказки определяется С. А. Толстой на обложках двух рукописей отметкой: «Май 1886 г.» Других сведений о писании сказки нет.
Сказка «Работник Емельян и пустой барабан» по предположению С. А. Толстой должна была войти (вероятно, в 1892г.) в 12 часть «Собрания сочинений гр. Л. Н. Толстого» (под названием «Сказка о пустом барабане», с датой 1891 г. и с обычной заменой некоторых слов для цензуры «воевода» — «царь», «княгиня» — «царица» и проч.), но по требованию цензуры была изъята из уже сверстанного тома (стр. 439—448).282 Сказка была пропущена русской цензурой в 1892 году (с той же обычной поправкой) в научно-литературном сборнике «Помощь голодающим» (Москва) под названием «Сказка» и с следующим добавлением в конце: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдаленные от нас времена, восстановил Лев Толстой» (стр. 587—593) и затем в 9 изд. XII ч. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (1893) под заглавием «Сказка» с прибавлением «из народных сказок» и пр. и с датой 1892 г. Перед этим в 1891 г. сказка была напечатана (без цензурных переделок) М. Елпидиным в Женеве (Genève, М. Elpidine, Libraire-éditeur) под правильным названием «Работник Емельян и пустой барабан» и с тем же примечанием в конце сказки, что в московском издании. Затем сказка под тем же заглавием с точной передачей текста была напечатана в заграничном издании В. Г. Черткова в сборнике: Л. Н. Толстой. «Николай Палкин. Работник Емельян и пустой барабан. Дорого стоит» (Purleigh, Maldon, Essex, England. 1899), и в 1904 году в X томе (стр. 87—96) «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого» (Chistchurch, Hants, England), с датой 1887. В «Собрании сочинений» (Москва), II изд. 1903 сказка начала называться «Сказка о пустом барабане» и датироваться 1891 годом, а в 12 изд. (1912 г.) называться правильно и датироваться 1887 годом (обычные цензурные переделки остались в силе). В России без цензурных переделок в тексте и под заглавием «Сказка об Емельяне и пустом барабане» фирме «Посредник» удалось выпустить сказку в 1906 г. (1-е издание) и затем в 1908 и 1910 гг.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
Рассказ сохранился в трех рукописях: двух, принадлежащих БЛ, хранящихся в папке под №№ 7, 131 и 132 и одной — ГТМ, с шифром: Инв. №35.
1) № 131. Автограф, 4° 6 лл. нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Говарда. Писана крупным почерком, без полей, во всю страницу, на обеих сторонах листа. Много помарок и поправок. Л. 2 об. и часть 3-го перечеркнуты вертикально. Заглавие сначала написано: «Сиротинка Емеля и пустой барабанъ», потом первые два слова зачеркнуты и сверху написано: «Солдатъ» (т. е. Солдат и пустой барабан). На обложке рукою С. А. Толстой написано: «Солдат и пустой барабан. Май 1886 г.». Рассказ начинается: «Жилъ былъ солдатъ (сначала было: «сирота Емельянъ») и пошелъ онъ изъ побывки въ городъ» (раньше: «кормился онъ по работникамъ, жилъ въ пастухахъ и у господъ, и на фабрикахъ»).
2) Рукопись № 132. Копия рукою С. А. Толстой. 4° 7 лл. нелинованной писчей бумаги. С поправками Толстого в тексте и дополнениями на полях. В заглавии слово «солдатъ» рукою Толстого зачеркнуто и написано: «Мужикъ Емельянъ», потом зачеркнуто слово «мужикъ» и написано: «Работникъ». Это и на обложке и над текстом — одинаково. На обложке та же дата рукой С. А. Толстой: «1886 г. Май». Рассказ начинается: «Жилъ <мужикъ> Емельянъ у хозяина въ работникахъ».
3. Рукопись ГТМ. Инв. № 35. Копия с 7. 132 рукою М. А. Шмидт, с поправками Толстого. Тетрадь линованной бумаги на 19 лл. Лл. 11 об. и лицевая сторона л. 12-го — чистые. Заглавие: «Работник Емельян и пустой барабан». Начало: «Жилъ Емельянъ у хозяина въ работникахъ». Эта рукопись служила оригиналом при наборе.
В основу настоящего издания кладется текст рукописи ГТМ, как последний из имеющихся в нашем распоряжении текстов, подвергшихся исправлениям Толстого.
————
«О ПЕРЕПИСИ В МОСКВЕ».
Поселившись с осени 1881 г. в Москве, Толстой испытывал часто очень удрученное состояние при созерцании городской бедности. Его мучило сознание несоответствия материального положения своего и людей богатых классов — с одной стороны — и бедняков, живущих в городе, с другой. Для того чтобы яснее представить себе картину городской нищеты и изыскать пути и средства для ослабления ее, Толстой, задумав лично участвовать в московской переписи, которая назначена была на 23, 24 и 25 января 1882 г., решил привлечь к участию в ней всех тех, кто был заинтересован в деле помощи нищему населению города. С этой целью он написал статью «О переписи в Москве».
Черновой автограф статьи хранится в рукописном собрании Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина (№ 3020). Рукопись без заглавия, на 14 ненумерованных страницах. Состоит 1) из одного полулиста писчей бумаги, согнутого пополам (с полями), кругом исписанного, 2) одной четвертушки писчей бумаги (без полей), исписанной с обеих сторон, 3) одного полулиста почтовой бумаги большого формата (без полей), на оборотной стороне которого зачеркнутая, очевидно первоначальная, редакция начала статьи, 4) полулиста писчей бумаги, согнутого пополам (без полей), кругом исписанного, 5) одной четвертушки писчей бумаги (без полей), исписанной с обеих сторон.
В рукописи текст идет не прерываясь, но рукопись не покрывает целиком печатного текста: последним шести абзацам, начиная со слов: «Я предлагаю вот что...», стр. 179, строка 7, в рукописи нет соответствия. Начало: «В Москвѣ началась перепись». Конец: «и если бы не было между мной и ими разобщенія».
Текст рукописи, по сравнению с соответствующей ей частью печатного текста, в общем распространеннее. Он имеет несколько вариантов, не вошедших в печатный текст, а отсутствует в нем лишь один абзац, имеющийся в печатном тексте: «Я слышу уже привычное замечание... «какого-нибудь учреждения, ни правительственного, ни филантропического», стр. 176, строки 26—37.
Напечатанные выше рукописные варианты статьи расположены следующим образом: № 1 — между абзацами 2-м и 3-м, т. е. между словами: «самый интересный предмет науки социологии» и «Счетчик приходит в ночлежный дом», стр. 173 строки 19—20. №2 — между абзацами 4-м и 5-м, т. е. между словами: «Это нехорошо» и «Наука делает свое дело», стр. 173 строки 25—26. № 3 — между абзацами 6-м и 7-м, т. е. между словами: «это близко поглядеться в зеркало» и «Что такое для нас, москвичей» (стр. 174 строки 22—23, № 4 соответствует концу абзаца 14-го и заменяет ту его часть, которая начинается со слов: «Нет, давайте лучше поймем»... стр. 176 строка 19.
В рукописи, кроме того, очень много словарных вариантов, не имеющих существенного значения с точки зрения содержания статьи и ее стиля.
Оригинал, с которого был сделан набор, не сохранился. Судя по воспоминаниям С. К. Эфрона, набор делался с рукописи, написанной самим Толстым, т. е. с собственноручно сделанной переделки чернового автографа. Так как эта рукопись была написана неразборчиво, то набор производился в присутствии самого Толстого, проведшего в типографии более пяти часов. Толстой помогал наборщикам читать оригинал и, когда он был набран, тут же правил корректуру статьи, а листы оригинала подарил на память наборщикам и присутствовавшим тогда в типографии С. А. Гилярову и С. К. Эфрону.283
Статья была напечатана в № 19 газеты «Современные известия», от 20 января 1882 г., со следующим заявлением редакции: «На сегодняшний раз мы приостанавливаем свое обычное руководящее слово к читателям, уступая место почетному и дорогому гостю в нашем издании, гр. Льву Николаевичу Толстому. Он пожелал стать в числе 80 распорядителей, которым поручена перепись в Москве, и не остался к этому делу холодным. От души желаем, чтобы прочувствованное его слово по поводу переписи принесло свой христианский плод».
Вслед затем статья вышла отдельным оттиском (16°, 16 страниц, с пометкой «Дозволено цензурой. Москва. 22 января 1882 г.»). Впервые в собрании сочинений Толстого статья напечатана в издании: «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая, произведения последних годов». Типография М. Т. Волчанинова (бывш. М. К. Лаврова и К°), 1886 (пятое издание сочинений Толстого).
В настоящем издании статья печатается по тексту «Современных известий».
Об упоминаемом в статье Ляпинском доме см. в примечаниях к «Так что же нам делать?».
————
«ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.
Обычно начало работы Толстого над «Так что же нам делать?» приурочивается к 1884 году. Основанием для такого приурочения послужило, видимо, то, что во всех собраниях его сочинений, выходивших при его жизни в России, статья датировалась 1884—1885 годами. На самом же деле статья была начата двумя годами ранее, в начале 1882 г., вскоре же после окончания работы Толстого по переписи и напечатания статьи «О переписи в Москве». В письме к жене из Москвы от 4 февраля 1882 г., т. е. меньше чем через две недели после окончания переписи, Толстой пишет: «Ты, вечно в доме и заботах семьи, не можешь чувствовать ту разницу, какую составляет для меня город и деревня. Впрочем, нечего говорить и писать в письме; я об этом самом пишу теперь, и ты прочтешь яснее, если удастся написать». К этим словам совершенно верное примечание Софьи Андреевны: „Л. Н. тогда писал статью «Так что же нам делать?“284
Первый черновой набросок статьи, носящий еще заглавие «О помощи ири переписи» (в дальнейшей же копии исправленное на «Так что ж нам делать?») и напечатанный нами в вариантах под № 1, действительно после вступления заключает в себе сравнение жизни городской и деревенской, точнее — сравнение бедности в городе и в деревне. То, что начало работы над «Так что же нам делать?» относится не позднее чем к началу 1882 г. (ранее она не могла быть начата, потому что перепись, ее вызвавшая, происходила 23—25 января 1882 г.), подтверждается и следующей цитатой из первого наброска статьи (вариант № 1, стр. 615): «19 лет я жил в деревне, видел эту бедность, последствие ошибок людских и иногда помогал ей. Нынешний год я в первый раз, живя в городе, увидал городскую бедность и долго не мог понять особенность ее». Как известно, Толстой осенью 1881 года переселился в Москву. До начала 1882 г., считая с осени 1862 г., когда Толстой после женитьбы прочно осел в Ясной поляне, прошло действительно полных 19 лет. Вторая фраза цитаты: «Нынешний год я в первый paз, живя в городе, увидал городскую бедность» — также приводит нас к концу 1881 г. и началу 1882 г., когда Толстой познакомился с городской нищетой на улицах Москвы, а затем с той же нищетой на Xитровом рынке и в Ржановском доме. Далее — и первоначальное заглавие статьи «О помощи при переписи» и самое начало первого наброска: «Из предложения моего по случаю переписи ничего не вышло» были бы неподходящими, если бы статью от переписи и первого печатного отклика Толстого на перепись отделял слишком большой промежуток времени — в год, два: тогда бы могла уже забыться и самая перепись и печатное обращение Толстого к москвичам по ее поводу, и читателю неясно было бы, о каком «предложении» идет тут речь.
Наконец, о том, что статья была начата сейчас же вслед зa переписью, и вместе с тем о тех трудностях, с которыми связано было ее писание, говорится и совершенно определенно в главе XII «Так что же нам делать?». Сказав о своем разочаровании в деле помощи нуждающимся при переписи, Толстой продолжает: «И я бросил всё дело и с отчаянием в сердце уехал в деревню. В деревне я хотел написать статью обо всем том, что я испытал, и рассказать, почему не удалось мое предприятие... Я тогда же начал статью, и мне казалось, что я скажу в ней очень много важного. Но сколько я ни бился над ней, несмотря и на обилие материала, несмотря на излишек его, от раздражения, под влиянием которого я писал, и оттого, что я не выжил всего того, что нужно было, чтобы правдиво отнестись к этому делу, и, главное, оттого, что я ясно и просто не сознавал причину всего этого, причину очень простую, коренившуюся во мне, я не мог справиться с статьей и так и не кончил ее до нынешнего года».
В Государственном Толстовском музее в Москве (Архив Черткова, папка 103) сохранился план статьи «Московские прогулки», написанный рукой Толстого на полулисте почтовой бумаги малого формата. В этом плане, состоящем из пятнадцати разделов, намечен ряд сцен из жизни и быта московского бедного люда. Большая часть из намеченного («Прием рекрут», «Солдатка», «Спор у Охотного ряда», «На Каменном мосту» и проч.) не была выполнена; часть же («Ляпинский дом», «Толпа взятых за прошение милостыни», «Извозчик») нашла себе место в «Так что же нам делать?» Туда же по первоначальному замыслу должна была попасть и последняя из намеченных в плане сцен — встреча и беседа с гренадером у Боровицких ворот, перенесенная затем в статью «В чем моя вера?»
Так как в плане фигурирует Ляпинский дом, посещение которого Толстой приурочивает к декабрю 1881 года (см. гл. II «Так что же нам делать?»), то самый план написан был, следовательно, не ранее декабря этого года. (Полный текст его см. на стр. 613.)
Писание статьи и в дальнейшем шло с остановками, перерывами, иногда довольно длительными. Сама тема очень увлекала Толстого; он придавал ей большое значение, но далеко не всё в ней ясно было ему самому, и очень сложный процесс работы над статьей был отражением внутреннего процесса уяснения себе истины, как понимал ее Толстой. Огромное количество рукописей, относящихся к этому произведению, записи о нем в дневниках, упоминания в письмах, главным образом к В. Г. Черткову и С. А. Толстой, — наглядно уясняют ход работы над статьей. Первоначально задуманный и набросанный очерк сравнительно небольшого объема, по мере того как работа подвигалась вперед и будила всё новые и новые мысли, постепенно разросся в целую книгу. Самому Толстому границы этой работы, видимо, были неясны, и он долго не знал, где и когда остановиться. Еще задолго до окончания ее он, как увидим ниже, отдал в печать то, что успел написать, но потом печатание приостановил и написанное переделал заново.
То, что по первоначальному замыслу статья должна была быть небольшой по объему, не требующей большого количества времени для ее окончания, явствует из следующих слов Толстого в его письме к С. А. Толстой из Ясной поляны от 2 марта 1882 г.: «Очень бы хотел написать ту статью, которую я начал. Но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о Боге». (ПЖ, стр. 155).
Вскоре однако Толстой к начатой работе охладевает и, видимо, надолго откладывает ее в сторону, тем более что время у него, вплоть до начала 1884 г., занято было писанием и печатанием статьи «В чем моя вера?» Дальнейшие следы работы над «Так что же нам делать?» обнаруживаются в той вставке, которую Толстой сделал в самом начале рукописи, описанной под № 4. В этой вставке читаем: «В прошлом году я написал статью по случаю переписи» и т. д. Следовательно, речь идет о 1883 годе, которым поэтому и нужно датировать эту рукопись. Но Толстой занят здесь не продолжением своей работы, а лишь исправлением и переделкой ранее написанного. Вероятно, эта работа происходила в Москве, до апреля 1883 г., когда Толстой вновь уехал в Ясную поляну. Городская обстановка, естественно, больше, чем яснополянская, располагала его к изображению ужасов городской жизни.
Зиму 1883—1884 гг. Толстой опять проводил в Москве. Впечатления городской жизни снова действуют на него подавляюще и возвращают его мысли к временно оставленной работе над «Так что же нам делать?» В своем Дневнике, возобновленном им, после трехмесячного перерыва, он записывает под 18 марта 1884 г.: «Александр Петрович285 рассказывал про умершую у них женщину с голода... Пошел в полицию. Сказал, что девки часто моложе 15 лет. Колокола звонят, и палят из ружей, учатся убивать людей, и опять солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит, опять Бог говорит: живите счастливо. Оттуда пошел в Ржанов дом к мертвой, был смущен, не знал, что сказать». 30 марта того же года такая запись: «Лег в 11 и встал опять рано. Ходил на чулочную фабрику. Свистки значат то, что в 5-ть мальчик становится зa станок и стоит до 8, в 9 пьет чай и становится до 12. В 1 становится до 4. В 4 с половиной становится и до 8. И так каждый день. Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели». Об этих впечатлениях московской жизни Толстой подробно сообщает Черткову в своем письме к нему от 27 марта 1884 г.286 Еще подробнее эпизод о прачке и проститутке рассказан в главе XX той редакции текста «Так что же нам делать?», которая печаталась в «Русской мысли», но была запрещена цензурой. В окончательной печатной редакции эта глава стала XXIV (отсюда и указание на то, что она написана не ранее 27 марта 1884 г.).
Возобновление работы над статьей относится к апрелю 1884 г. Толстой решает ее напечатать с тем, чтобы гонорар употребить на дело помощи политическим заключенным. 18 апреля он записывает в Дневнике: «Перечитывал рукописи, потом свою рукопись о переписи. Хочу ее напечатать в пользу несчастных. Я сомневался, нужно ли помогать политическим заключенным. Мне не хотѣлось, но теперь я понял, что я не имею права отказывать. Рука протянута ко мне. «И в темнице посети». Пошел к Юрьеву,287 но дошел только до театра. Слабость хуже всех дней». Через два дня в Дневнике записано: «Придет Юрьев, статья о переписи складывается ясно. Напишу. Начал писать, но нездоров... Пришел Юрьев. Ему говорил о помощи... Затеял кончить статью о переписи. Не знаю, хорошо ли?» На следующий день такая запись: «Нашел статью (была черновая). Немного поправил. И понес в типографию. Я сам не верю в эту статью». 25—27 апреля Толстой пишет Черткову: «Я начал печатать в «Русской мысли» свою статью о том, что вышло из моей статьи о переписи (я говорил вам), но не знаю, кончу ли. Развиваются другие мысли. Я начинаю чувствовать себя более бодрым, чем последнее время, и хотелось бы период этой бодрости употребить на дело Божье».288
Таким образом очевидно, что в апреле 1884 года статья была передана для напечатания в «Русскую мысль», в незаконченном виде. Оригиналом для набора послужили первые 32 страницы (нумерация от 1 до 30) рукописи, описанной под № 7. На этих страницах имеются типографские пометы наборщика. Текст, помеченный наборщиком, обрывается на III главе. В ГТМ сохранилась корректура на пяти гранках, в которой набор доведен как paз до того места, на котором обрывается 32-я страница (см. описание этой корректуры под № 8). Очевидно, у наборщика под руками больше не было текста. Толстой между тем продолжал работу над статьей в надежде доставить ее продолжение в редакцию журнала. Работа однако подвигалась очень туго и неуверенно, о чем свидетельствуют следующие записи в Дневнике: 22 апреля. «Взялся за статью. Поправил немного, но дальше описания дома не идет. Надо перескочить к выводу. Всё не верю в эту работу. А казалось бы хорошо... Иду ходить без цели. Тянет к Ржановке». 23 апреля. «Читал газету. Потом сел зa работу — не идет». 24 апреля. «Попробовал писать, но не могу». 27 апреля. «Пытался продолжать статью. Не идет. Должно быть, фальшиво. Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо записки несумашедшего».289 28 апреля. «Утром опять попытался. И решительно не могу продолжать свою статью. Тонкости, и потому будет ложь». 29 апреля. «Не могу писать... Всё до обеда ходил около Ржановского дома. Совсем не жалко. Заходил в квартиры. Моют бабы ужасные и ругаются. Сидят на бревнах оборвыши. Всё это было в субботу». 30 апреля. «Пробовал писать — не могу... Смерть Ив. Ильича достал — хорошо и скорее могу». 1 мая. «Стал поправлять «Ив. Ильича» и хорошо работал. Вероятно, мне нужен отдых от той работы, и эта — художественная — такая». 2 мая. «Стал заниматься — не пошло... Мне опять тяжело. Писать не могу». 3 мая. «Попытался тщетно писать то ту, то другую статью. О переписи важно, но не готово в душе». 4 мая. «Взялся за работу. И опять с одной статьи перескакивал на другую. И бросил». 6 мая. Толстому кажется, что он уяснил себе что-то важное для своей статьи, и он записывает: «Неожиданно уяснилась статья о переписи и работал утро». 7—8 мая он пишет В. Г. Черткову: «Я начал писать статью, но не кончил».290 Однако в дальнейшем опять наступают колебания, остановки, задержки в работе, уверенность сменяется неуверенностью и наоборот. В Дневнике читаем такие записи: 13 мая. «Стал поправлять статью. Не идет». 15 мая. «Писал хорошо. Всё уясняется». 18 мая. «Работа не идет. Но и не могу отстать от нее». 19 мая. «Нечем помянуть месяц. Ничего не сделал. Попытки и начало работы тогда только можно счесть за дело, когда кончу». 21 мая. «Попытался писать — не идет». 22 мая. «Пробовал писать — тщетно». 23 мая. «Сажусь писать. Ничего не вышло». 28 мая. «Перечел свою статью — хорошо может быть». Того же 28 мая Толстой пишет секретарю редакции «Русской мысли» H. Н. Бахметьеву: «Свою статью пишу и пришлю или привезу если не в июне, то в июле».291
Но ни к июню, ни к июлю статья не была готова; работа над ней однако шла у Толстого хотя и с перебоями и с сомнениями. В Дневнике в связи с ней находим следующие записи: 31 мая. «Кажется, просмотрел написанное. Дальше не могу итти. А доволен. И очень сильно и «к делу» дальнейшее». 4 июня. «Переписанный отрывок прочел и чуть подправил». 10 июня. «Обдумывал свою статью. Кажется, ложно начато. Надо бросить».
Дальше опять длительный перерыв. Следующая запись в Дневнике по поводу статьи — почти через полтора месяца — 23 июля: «Перечитывал статью о переписи. И пересматривал другое». После этого под 6 августа записано: «Перечел опять статью о переписи. Всё не хочется бросить, поправлял кое-как». Наконец, последняя запись о работе над «Так что же нам делать?», довольно многозначительная, относится к 21 августа: «Перечел статью, и вдруг вся выяснилась. Я лгал, выставляя себя. Только перестать лгать, всё выйдет».
Дневник обрывается 13 сентября 1884 года, и дальнейший материал для истории писания и печатания статьи дают главным образом письма Толстого и к Толстому, преимущественно переписка Толстого с В. Г. Чертковым.
Как подвинулась зa это время работа, сказать трудно. Нужно думать, что сравнительно очень недалеко. Во всяком случае, рукопись № 14, в которую в первоначальном виде вошла и глава, соответствующая главе XVI текста «Русской мысли» и окончательного текста печатной редакции, не была еще закончена. Это явствует из письма Толстого к Черткову от 5—7 сентября 1884 г., в котором он, после рассуждений на тему о деньгах, пишет: «Я, встающий в 10 часов, пьющий кофе и чай, спящий на чистых простынях, слабый, бессильный, испорченный всеми похотливыми привычками, не могущий жить иначе, как паразит на чужой шее, я вдруг хочу помогать — кому же? Мужику, который заснёт в грязи на улице под шапкой, не будет спать 5 ночей и сработает в день то, чего я не сделаю в 10, который при этом добр, кроток и весел. Как мне помогать ему? Ведь это смешно. Можно делать себе эту иллюзию, отдавая ему исполнительные листы на других; но это не помощь, а развращение его. Вот об этом я хотел бы тоже написать в статье, которую я начал и, вероятно, не кончу».292
Эти слова в измененном и перефразированном виде вошли в главу XVI, но до 7 сентября, как видно из письма, глава эта еще не была написана.
Дальнейшие упоминания о работе над статьей — в письме Толстого к Черткову от 2 декабря 1884 г.: «Нынче пишу статью о переписи. Она томит меня, пока не разрожусь ею»,293 и в письмах к жене в Москву за декабрь. 10 декабря: «Всё утро работал хорошо».294 11 декабря: «Нынче я встал в 9 и с 10 до 2-х писал не очень хорошо, но и не бесполезно, — подвигаюсь». 12 декабря: «Всё утро очень хорошо работал. Перевалил самое трудное и теперь надеюсь кончить». 13 декабря: «Много писал, и, как всегда, что больше в лес, то больше дров. Всё разрастается, становится (для меня) более интересным». 15 декабря: «Встал я нынче рано и рано сел зa работу и работал часов 5 сряду и намарал бумаги много, но есть ли в этом мараньи толк или нет, не знаю. Т.е. неправда, знаю, что есть, и потому мне на душе легко». 15 декабря: «Утро всё много писал, кажется, порядочно. Думал кончить здесь, но вот поездка к князю295 помешала». На следующий день: «Встал рано, опять много писал».296
Как видим, в декабре 1884 г. Толстой очень интенсивно работал над статьей. Эта интенсивная работа продолжалась и в Москве, куда Толстой переехал после 15 декабря. В письме к Черткову от 2—3 января 1885 г. он писал: «Я не могу заниматься самым дорогим мне делом, я очень радостно занят своим писанием. Мне так ясно стало то, что прежде было неясно. Коли бы другим стало только вполовину так же. Надеюсь, что выйдет в Январе».297
О том, что именно к этому только времени Толстой уяснил себе окончательно вопросы, которые он разрешал в своей статье, явствует и из следующих слов заключительного абзаца главы XII «Так что же нам делать?»: «Мне казалось, что я всё знаю, всё понимаю относительно тех вопросов, которые вызывали во мне впечатления Ляпинского дома и переписи; но когда я попробовал сознать и изложить их, оказалось, что нож не режет, что нужно точить его. И только теперь, через три года, я почувствовал, что нож мой отточен настолько, что я могу разрезать то, что хочу. Узнал я новаго очень мало. Все мысли мои те же, но они были тупее, всё разлетались и не сходились к одному; не было в них жала; всё не свелось к одному, к самому простому и ясному решению, как оно свелось теперь».
Этой цитатой определяется и время окончательной отделки начальных глав статьи, в том числе и главы XII.
Толстой, видимо, торопился закончить и отделать для печати часть статьи, которая должна была появиться в январской книжке «Русской мысли» за 1885 г. Редактор этого журнала С. А. Юрьев, к которому Толстой относился с симпатией и с которым состоял в давней переписке, неоднократно просил его дать в журнал какое-нибудь свое произведение. В 1882 г. Толстой попытался напечатать в «Русской мысли» свою «Исповедь», но она была изъята цензурой из майской книжки. Там же Толстой собирался печатать статью «В чем моя вера?», также запрещенную цензурой. На этот раз Толстой предоставил Юрьеву «Так что же нам делать?» Для «Русской мысли» было набрано и сверстано двадцать глав.298 Нужно думать, что в декабре в Ясной поляне и в Москве работа Толстого над статьей не выходила еще за пределы двадцати первых глав, другими словами — того материала, который находим в рукописи, описанной под № 16. Следующий этап работы Толстого над статьей, закрепленный в рукописи, описанной под № 21, относится, по всей видимости, к январю месяцу 1885 г. этот месяц Толстой почти целиком провел в Москве. И как раз в этом месяце он дописывал окончание главы, которая в корректуре «Русской мысли» обозначена была цыфрой XX, а в окончательном тексте цыфрой XXIV. Тут речь идет о двух эпизодах, которые описываются как только-что происшедшие и которые Толстой мог наблюдать только в Москве. это, во-первых, эпизод бала, на который отправлялась семья Толстого и о котором он пишет: «В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние ехали на бал» (см. вариант № 4, стр. 627). Во-вторых, это эпизод с набивкой двумя женщинами папирос в комнате сына. Описание этого эпизода начинается такими словами: «Сейчас я оторвался от своего писания и сошел вниз. Проходя около комнаты сына, я увидал двух женщин за столом». Бал, о котором идет речь, мог происходить, конечно, только в Москве и притом не ранее конца декабря (в первой половине декабря Толстой еще не был в Москве, а затем вплоть до рождественских праздников никакого бала быть также не могло из-за рождественского поста). Скорее всего бал происходил в январе, как это обычно было в ту пору. Хронологически второй эпизод — с набивкой папирос — следует за первым, т. е. он относится также к январю и имел место также в Москве, так как семья Толстого, и в числе ее сын, о котором идет речь, проводила зиму в Москве.
О том, что эта глава дописывалась в Москве в январе месяце 1885 г., свидетельствует еще следующий факт. Как мы видели при описании рукописи № 22 (см. стр. 803.), С. А. Толстая запротестовала по поводу того, что Толстой в этой главе неодобрительно отзывается о поведении членов своей семьи (эпизоды бала и набивки папирос). Толстой уступил жене и переделал эти эпизоды так, что близкие его перестали в них фигурировать. Но всё же Софья Андреевна не скоро успокоилась, и, уехав из Москвы, Толстой в письме, написанном в конце января, раскаиваясь в своем поступке, просил жену о прощении: «Получил сейчас твое коротенькое и грустно-холодное письмо. Боюсь объясняться, чтобы опять как-нибудь не раздражить тебя; но одно скажу еще раз, и яснее, я думаю, чем в разговоре: я не отстаиваю форм, в которых я выражался о личностях, и каюсь в них и прошу тебя простить меня, но если я отстаиваю что, то отстаиваю самую мысль, выраженную во всей статье и наполняющую меня всего». К этому месту письма С. А. Толстая сделала такое примечание: «Неприятности возникли между мной и Львом Николаевичем вследствие того, что в статье своей «Так что же нам делать?» были вначале нападки на семью и старших детей. Я огорчилась, вступилась за детей и требовала изъятия из статьи этих нападок».299 О том же Толстой пишет и в письме к Н. Н. Ге-сыну от 4 февраля 1885 г.: «Я не вызвал вас, во-первых, потому, что был полон мыслями, касающимися продолжения моей статьи, и, во-вторых, потому, что был огорчен. Семейные мои огорчились тем, что я писал в статье о своей жизни и потому о них, и мне это было больно, и я всё думал об этом и был неспокоен духом. Теперь всё прошло».300
Итак, несомненно, что весь декабрь 1884 г. и, вероятно, начало января 1885 г. ушло у Толстого на работу над этой частью статьи, предназначавшейся для январского номера «Русской мысли». Для него напечатаны были лишь первые пятнадцать глав (см. описание рукописей, № 23), но работа шла и над последующими главами, которые, вероятно, также предназначались для январского номера. Видимо, и сам Толстой, и переписчики (главным образом С. А. Толстая), и аппарат типографии работали крайне напряженно, лихорадочно. Очевидно, рукопись сдавалась в типографию по частям, по мере того как отдельные ее части были переписаны и окончательно выправлены автором. Это видно из того, во-первых, что нумерация четвертушек в описанной под № 16 рукописи, отданной в набор, не сплошная, а прерывистая (1—30, 1—50, 1—26), во-вторых, из того, что первые гранки не покрывают всего текста рукописи, а текст их механически обрывается на том же слове, на котором обрываются первые 80 четвертушек (1—30, 1—50). (См. описание корректуры под № 17.)
Наконец, в этом легко убедиться и из писем С. А. Толстой, которые в ту пору писались ею сестре — Т. А. Кузминской. 23 декабря 1884 г. она пишет ей: «Левочка в очень хорошем духе; пишет свою статью о бедности города и деревни и спешит кончить к январской книге. Уже начали печатать». 9 января 1885 г.: «Левочка печатает свою статью в январе в «Русской мысли» и весь ушел в свою работу». И далее — около того же времени: «Левочка кончает свое печатанье, которое сожгут, но всё-таки надеюсь, что он успокоится и не будет больше писать в этом роде».301
Если принять во внимание, что статья просматривалась еще петербургской цензурой и что, вследствие запрещения ее, январский номер должен был подвергнуться известной перестройке, нужно думать, что он вышел «с большим запозданием, вероятно, не ранее февраля (точных данных на этот счет у нас нет, так как пометка о разрешении цензурой на книжках «Русской мысли» не ставилась); обычным же сроком выхода книжек журнала с 1885 г., как значилось в заявлении редакции, было 15 число каждого месяца. Но если бы статья Толстого и была пропущена цензурой, редакция не смогла бы, очевидно, выпустить январскую книжку раньше февраля, и она, видимо, на это шла, надеясь компенсировать запоздание номера помещением в нем столь значительного по характеру и объему произведения Толстого. Вероятно, февральская книжка журнала вышла непосредственно вслед за январской. 24 февраля 1885 г. Чертков пишет Толстому из Петербурга: «Сейчас получил последний № «Русской мысли» с лаконическою, но слишком содержательною заметкою об участи вашей статьи».302 Заметка эта, сообщавшая о запрещении статьи (см. ниже), была приложена к февральской книжке, которая, следовательно, вышла около 20 февраля.
На особой полоске бумаги, вклеенной в январский номер «Русской мысли» в самом его начале, перед текстом, напечатано было следующее заявление от редакции: «Помещение нового произведения графа Льва Николаевича Толстого: «Так что же нам делать?» откладывается до февральской книги». А при февральской книге на такой же полосе было объявлено: «Произведение графа Льва Николаевича Толстого «Так что же нам делать?» не может быть помещено».
Редакция, видимо, некоторое время не теряла надежды столковаться с цензурой, которая сама колебалась — разрешить или запретить печатание статьи. Последнее явствует из письма Толстого к своему другу кн. Л. Д. Урусову около 19 января 1885 г., в котором он пишет: «Статья моя запрещена. Из Петербурга было распоряжение, чтобы ее не печатали в 1-м № «Русской мысли». Редакция надеется напечатать во 2-м, но едва ли. Она всё-таки печатается и выйдет, вероятно, в таком же виде, как «Вера», т. е. растянется до 10 листов, представится отдельной книгой в цензуру и так же разойдется. Меня радует то, что она читается по корректурам и уже переписывается...»303
После неудачи с напечатанием статьи в «Русской мысли» Толстой решил поместить отрывки из нее в «Русском богатстве», издававшемся и редактировавшемся тогда Л. Е. Оболенским, неоднократно обращавшимся к Толстому с просьбой дать в «Русское богатство» какое-нибудь свое произведение или отрывок из него и тем поднять репутацию журнала и вместе его материальные рессурсы, далеко не блестящие. Толстой сочувственно относился как к направлению журнала, так и к его редактору, и потому решил пойти навстречу просьбе Оболенского. 24 февраля 1885 г. он писал В. Г. Черткову: «Оболенский — человек, выплывающий из бездны и хватающийся уже зa берег. Что он будет делать на берегу? — это не мешает тому, чтобы я признавал вполне, что его журнал самый близкий мне по направлению, и непременно помещу у него. Я даже думаю прислать ему отрывки из «Что нам делать». Я сделаю это, когда вновь займусь этой статьей. Теперь же я на время удалился от нее. Я был нездоров с неделю и был поглощен Georg’ем, и последней и первой его книгой — «Progress and Poverty», которая произвела на меня очень сильное и радостное впечатление».304 Об Оболенском и «Русском богатстве» речь снова идет в письме Толстого к кн. Л. Д. Урусову около 26 февраля того же года: «Был здесь Чертков и приводил с собой Оболенского, издателя журнала «Русское богатство». Это журнал, имеющий мало успеха, но с самым нам близким направлением. Он проповедует любовь людей на основании эволюции и прогресса, т. е. научным жаргоном, но в сущности это журнал с христианским направлением. От этого-то Чертков так и ухватился зa него. Если есть в Туле, посмотрите».305
В том же письме Толстой сообщает, что всё это время он ничего не делал, кроме перевода «Учения двенадцати апостолов» и писания предисловия к нему, а, главное, занят был усиленным чтением сочинения Генри Джорджа. О работе над «Учением двенадцати апостолов» и об увлечении Джорджем он пишет в январе и феврале к С. А. Толстой.306
Таким образом дальнейшая работа над «Так что же нам делать?» была замедлена, главным образом потому, что Толстой занят был переводом и чтением Генри Джорджа, который пригодился ему при дальнейшем писании статьи. Тем не менее для «Русского богатства» была продолжена и закончена глава XX текста «Русской мысли» (глава XXIV окончательного печатного текста), озаглавленная первоначально «Жизнь в христианском городе» (см. рукописи, описанные под №№ 21 и 22).
В начале марта первый отрывок статьи «Жизнь в христианском городе» уже получен был в Петербурге. 9 марта 1886 г., сообщая Толстому, что присланный отрывок будет поделен между двумя номерами, Чертков пишет ему: «Мы с Оболенским внимательно перечитали статью, и он почти ничего не нашел, что бы показалось ему не цензурным. Только название — Жизнь в христианском городе — ему показалось очень рискованным в цензурном отношении, и потому мы решились пропустить слово «христианском». В ответ на это Толстой пишет Черткову 17—18 марта: «Жалею слово христианском. Без него нет смысла в заглавии. Жалею и раздробления, но вообще рад, что всё сделано так, как сделано».307
Первая часть отрывка была напечатана в мартовской книжке журнала, и Толстой, видимо, воспользовавшись тем, что окончание очерка откладывается до следующей книжки, вновь его исправил. 5 апреля он пишет Урусову: «В «Русском богатстве» напечатан отрывок статьи «Что ж нам делать?» с цензурными урезками. Нынче послал поправленное окончание отрывка в следующий номер».308
О цензурных мытарствах со статьей В. Г. Чертков писал Толстому 23 марта следующее: «Ваша статья для «Русского богатства» выдержала самые разнообразные манипуляции. Цензор «Русского богатства», получив ее, очень взволновался и представил в цензурный комитет. Там вас боятся, как огня, и статью страшно урезали. Вырезали весь конец первой части о бале и много отдельных выражений. Напр. «Помилуйте, да есть 12-ти, а 13-ти 14-ти сплошь да рядом, — сказал он весело», «Мне сказали, что они были на вечере, очень веселились, вернулись и уже спят». Подчеркнутое было вычеркнуто. Эпиграфы из Евангелия были также вычеркнуты. Однако, узнав о вашей статье, [председатель] засуетился, послал зa нею. Послали и зa Оболенским. Оказалось, что высшие цензурные власти имеют инструкцию пропускать ваши статьи, делая сокращения только в самых крайних случаях. Поэтому некоторые из вычеркнутых мест были восстановлены, и статья была разрешена в том виде, в каком она и напечатана в «Русском богатстве». Оболенский вынес впечатление, что высшая цензура очнулась, сознает свою ошибку, так как, несмотря на все запрещения, содержание ваших статей скоро становится всем известным, и что она хочет поправить свою ошибку, пропуская возможно больше (с ее точки зрения)». (АТБ)
Еще до получения этого письма Толстой знал об участи своего отрывка и 25—26 марта писал Черткову: «Бирюков рассказывал моим о участи отрывка из «Русского богатства». Мне неприятно печатать кастрированное, но если нужно, то мне очень радостно отдать его именно в этом уродливом виде».309
В ответ на это письмо Чертков 30 марта писал Толстому: «Открытое письмо ваше я вчера получил из Петербурга. Мне вообще понятно, что вам неприятно печатать кастрированное. И я не могу вас уговаривать продолжать делать это. Только я думаю, что хорошо, что опыт был сделан, и я уверен, что даже то, что было напечатано, сделает свое дело, и хорошее дело... Оболенский думает, что описание бала будет пропущено в виде отдельной статьи, и в таком случае контраст сохранится, и мысль ваша достигнет читателей. Если же и этот конец потерпит искажения, то, разумеется, не стоит тратить времени и сил на борьбу с такими наружными препятствиями. Кроме того скажу вам, что из ваших последних рассказов для лубочных изданий я окончательно убедился, что именно эта форма самая действительная. эти рассказы писаны собственно решительно для всех». (АТБ)
Здесь Чертков высказывает ту же мысль о сравнительной ценности теоретических и художественных писаний Толстого, какую он высказывал и ранее. Черткову всегда казалось, что в интересах наибольшего воздействия на читателя художественный рассказ предпочтительнее теоретического рассуждения. Еще 24 февраля, сообщая об окончательном запрещении печатания «Так что же нам делать» в «Русской мысли», он писал Толстому: «Знаете, — относительно этой статьи я остался того же мнения, как вначале, — что она хорошая — в настоящем смысле слова и что вы сделали доброе дело, написав ее. Но с тех пор мне часто пришлось наблюдать впечатление, которое она производит на самых различных читателей, и я понял, что если б вы теперь передали те же мысли, те же чувства в образах, в притчах, то произвели бы более сильное впечатление и неотразимо повлияли бы на многих, которые вашею статьею не вполне убеждаются. Против так называемой художественной формы изложения, когда она действительно художественна, когда содержание справедливо и когда оно написано под влиянием глубокого, искреннего чувства, — невозможно возражать» (АТБ). И в позднейших своих письмах Чертков неоднократно высказывался на эту тему в том же духе.
Отрывок «Жизнь в городе» закончен был в апрельской книжке «Русского богатства», затем в сентябрьской и октябрьской книжках зa 1885 г. была напечатана статья «Из воспоминаний о переписи», соответствующая главам IV—XI окончательного печатного текста «Так что же нам делать?», и, наконец, в декабрьской книжке зa тот же год — статья «Деревня и город», соответствующая главам XII—XVI того же окончательного текста. По сравнению с текстом «Русской мысли», а также по сравнению с окончательным печатным текстом, здесь много вариантов, частью объясняемых тем, что в «Русское богатство», видимо, был послан оригинал, отличный по своему тексту от тех, с которых набирался текст для «Русской мысли» и затем для пятого издания 1886 г., частью тем, что цензурные урезки и переделки отдельных мест в статьях, напечатанных в «Русском богатстве», были иные, чем те, которые сделаны были в пятом издании. Мелких, несущественных и нехарактерных, словарных большей частью, разночтений так много, что приведение их было бы слишком громоздко. Все более или менее значительные по объему или по смыслу варианты этих статей, а также такие, которые возникли в результате цензурного вмешательства, приводятся попутно при описании текста соответствующих глав пятого издания 1886 г.
В мае месяце первая половина статьи «Жизнь в городе» была напечатана в московском журнале «Детская помощь» (1885 г., № 7 от 11 мая). Текст статьи здесь буквально совпадает с той ее частью, которая напечатана была в мартовской книжке «Русского богатства». Статья предваряется двумя эпиграфами из Евангелия: «И спрашивал его народ, что же нам делать?...» и «Ибо легче верблюду...» В сноске к статье — заметка редакции: «Печатается с согласия автора, обещавшего «Детской помощи» свое литературное содействие».
Одновременно шла дальнейшая работа над «Так что же нам делать?». Как показывает текст рукописи, описанной под № 25, Толстой занялся переделкой текста, закрепленного в корректуре «Русской мысли», начиная с главы XVI. Кроме того, написана была первая редакция главы по содержанию соответствующей главе XXV окончательного печатного текста.
В первые месяцы 1885 г. Толстой вернулся к главе XVII своего сочинения, трактовавшей о деньгах. эта тема его очень занимала, и он долго и упорно работал над ней, о чем свидетельствует большое количество рукописей, связанных с этой частью статьи (см. рукописи, описанные под №№ 26—47). Одна глава, первоначально отведенная выяснению роли денег в человеческом обществе, разрослась впоследствии в целых пять (XVII—XXI), причем Толстой, видимо, к этой работе возвращался несколько раз уже после того, как отдел статьи, трактующий о деньгах, казалось ему, был закончен. Таким образом хронологически дело обстояло так, что после написания и отделки некоторого количества рукописей на тему о деньгах, Толстой переходил к следующим главам, а затем вновь возвращался к исчерпанной уже как будто теме и развивал ее дальше. Однако установить точную хронологическую последовательность рукописей, начиная с той, которая описана под № 21 и дальше, нет возможности. Можно лишь догадываться, что, например, рукопись, описанная под № 48, была написана раньше, чем ближайшие предшествующие ей в описании рукописи.
Такой процесс работы косвенно подтверждается соответствующими выдержками из переписки Толстого. В начале апреля 1885 г. Толстой писал Черткову: «Я занят всё статьей «Что делать», и всё об деньгах.
Очень странно бы было, по той внутренней потребности, которая во мне есть, выяснить это дело, чтобы это было заблуждение с моей стороны. А может быть».310В мае месяце Толстому казалось, что он уже покончил с главами о деньгах. 15 мая он писал Черткову: «Еще я рад, что кончил нынче рассуждение политико-экономическое, освободился для продолжения и окончания статьи».311 Ему кажется, что следует вообще закончить работу над всей статьей, чтобы приняться за художественные рассказы для народа, как это неоднократно советовал сделать Чертков, и Толстой 17 мая пишет всё тому же своему адресату: «Думаю я, что должно мне кончить «Что же нам делать» и написать побольше рассказов для народа — хоть те из самых лучших тем, которые у меня записаны». В том же письме Толстой сообщает далее, что он решил, в числе других своих теоретических статей, теперь же печатать (в готовившемся С. А. Толстой пятом издании собрания его сочинений) «Так что же нам делать?», для чего обратился к священнику А. М. Иванцову-Платонову, либеральному духовному цензору и доброжелателю Толстого, с просьбой просмотреть его статьи и приспособить их к цензурным требованиям: «Перед отъездом из Москвы, —пишет Толстой — я был у Иванцова-Платонова... Он был у нас и выразил желание процензировать для печатанья в полных сочинениях: Исповедь, В чем моя вера и Что нам делать. Он, хотя и православный, находит полезным это печатанье. Третьего дня я снес ему эти статьи, и он сказал мне, что хорошо бы было напечатать еще выдержки из исследования подробного Евангелия, которое он давно читал».312
Иванцов-Платонов, взявшись помочь Толстому напечатать перечисленные его произведения, решил для обезвреживания их в глазах цензуры, помимо некоторых изъятий в тексте, снабдить эти произведения своими примечаниями, которые составили целую тетрадь, озаглавленную «Примечания читавшего» (рукопись хранится в АТБ). Работа эта сделана была Иванцовым-Платоновым, судя по его письмам к Толстому и С. А. Толстой, хранящимся в АТБ, не ранее сентября — октября месяца. Толстой охотно принял те исключения из своих статей и те примечания, которые сделаны были Иванцовым-Платоновым. По поводу тех и других он писал ему, между июнем и октябрем 1885 г. (точная дата письма неизвестна):
«Александр Михайлович!
Сейчас получил от жены статью и ваши примечания. Я еще больше полюбил вас, прочтя ваши примечания. Я увидал из них, как христианское чувство любви к истине и к единению людей проникает вас и как вы постоянно умеете, не поступаясь своим миросозерцанием, удерживать это единение с людьми. На все исключения, сделанные вами, я, разумеется, согласен. В первую минуту мне как-будто жалко было некоторые места, но потом, вспомнив, что обнародование этого писания может быть полезно хоть одному, двум людям (что подтверждает ваше сочувствие), я устыдился этого чувства. Разумеется, надо будет написать несколько слов предисловия, указав на значение ваших примечаний.
Лучше бы было, если бы можно было назвать вас — прямо сказать, что я воспользовался вашей обязательностью (я бы написал — вашим согласием в основных положениях, если бы вы позволяли) и предоставил вам те исключения и те примечания, которые вы найдете нужным сделать для большинства читателей, в руки которых попадет эта книга. Я бы сказал тогда, что я сделал это совсем не в видах, так сказать, политических, т. е. как уловку, чтобы прошла моя книга, но сделал это потому, что, хотя и не разделяя всего вашего религиозного мировоззрения, я счастлив тем, что в том, что я считаю основой христианства, я нахожусь в полном согласии с вами и потому мог искренно просить вас вычеркнуть или оговорить примечаниями то, что составляет особенность моего субъективного миросозерцания. Не знаю, что выйдет из этого, но я во всяком случае очень благодарен вам.
Искренно любящий и уважающий вас Лев Толстой».313
Для предполагаемого тома Толстой набросал следующее предисловие:314
Предлагаемый томъ содержитъ въ себѣ, кромѣ 4-хъ народныхъ разсказовъ, три статьи: Исповѣдь, N, N,315 не появлявшіяся до сихъ поръ въ Россіи. Послѣднія статьи эти печатаются съ нѣкоторыми исключеніями и примѣчаніями. Исключенія тѣхъ мѣстъ, которыя могли бы вызвать недоразумѣнія, и примѣчанія, объясняющія значеніе могущихъ вызвать неправильныя толкованія мѣстъ, сдѣланы компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ лицомъ316 и <пользующимся полньмъ довѣріемъ,> съ согласія автора.
Но еще до того, как пойти на известный компромисс, добровольно подчинив себя благожелательной цензуре Иванцова-Платонова, Толстой, видимо по совету Черткова, бывшего тогда в Англии, решил печатать готовую уже часть статьи за границей, не прекращая однако дальнейшей работы над ней.
В ответ на письмо Черткова от 22 мая 1885 г., в котором он еще раз советует Толстому поскорее окончить статью, чтобы приняться за художественные рассказы для народа и, между прочим, рекомендует вместо «Так что же нам делать?» поставить другое заглавие — «Что мне делать?»,317— Толстой пишет в письме от 1—2 июня того же года: «То, что вы мне пишете про мои писанья, не только не неприятно мне, но полезно и убедительно. Я чувствую, что убеждаюсь вашими доводами. Но — есть «но» — и меня всё-таки тянет к умствованию — и не из тщеславия — я верно знаю, а как будто для того, чтобы разделаться с той ложью, в которой я жил с моими товарищами лжи. Вас поведут казнить за истину из гостиницы, в которой вы стояли, вы лучше сделаете, если, несмотря на важность того, что вам предстоит, вы не забудете отказать обед, на который вы приглашали, и заплатить хозяйке и прачке, расчесться со всеми, чтоб никого не обидеть. — Так и мне чувствуется, что нужно расчесться с моим миром — художественным, ученым, — объяснить, что и почему я не делаю того, чего они ждут. Вы подумаете, это отговорка. Может быть, но последняя. Еще до получения вашего письма я говорил Грибовскому...,318 что эта моя статья есть последняя (так я хочу и надеюсь), обращенная к моему кружку заблудших... Ваше замечание, что лучше назвать «Что мне делать?» — справедливо, и я им воспользуюсь. А то задор и гордость. Ну да это кончать надо. — Только плохо пишется в деревне: меня так и тянет косить, рубить, что я и делаю».319
В письме от 9 и 10 июня Чертков спешит сообщить Толстому свою радость по поводу отказа его от первоначального заглавия статьи: «Я так рад, — пишет он, — что вы согласны относительно заглавия «Что же нам делать?» Я столько раз видел, что заглавие это портило впечатление от статьи многих, которые вполне сочувствовали ее содержанию» (АТБ).
Между тем заглавие для статьи Толстым еще не было придумано, и Чертков торопит Толстого сделать это, так как рукопись им уже отослана для печати. В цитированном только-что письме он пишет Толстому: «По желанию Свешниковой320 я привез из России экземпляр «Веры» и «Что же нам делать» и доставил одной ее знакомой в Париже, которая в свою очередь, вероятно, сдаст для издания в Женеве на русском (пока издана только «Исповедь»). Нельзя ли послать ей другое заглавие, вместо «Что же нам делать»? Как вы хотите? Это очень важно для значения статьи. Т. е. какое другое заглавие будет, не особенно важно, а важно, чтобы не это» (АТБ).
В ответ на это письмо Толстой пишет 17—18 июня: «Думал сейчас, какое бы придумать заглавие «Что же нам делать» и не придумал. «Могу ли я помогать ближнему?», «Какова моя жизнь?», «Великое дело добро»? Не придумаете ли вы?» 25 июня Чертков отвечает Толстому: «Относительно заглавия... статьи «Так что же нам делать» мне кажется, что нельзя лучше придумать, чем одно из приведенных вами: «Какова моя жизнь». Это просто и вполне соответствует духу статьи... Пожалуйста, в следующем вашем письме (уже в Петербурге) сообщите мне ваше окончательное решение относительно заглавия, и могу ли я послать вышеприведенное заглавие женевским издателям. Статья уже послана к ним» (АТБ). В письме от 4 июля Толстой окончательно соглашается на заглавие «Какова моя жизнь?»: «Заглавие статьи, если вы одобряете, так и пошлете».321 В ответ на это письмо Чертков 15 июля пишет: „«Что же нам делать?» доставлено, мне сообщают, в Женеву и печатается. По получении вашего письма я сообщил о перемене заглавия на «Какова моя жизнь?» Очень просят продолжения. Не пришлете ли вы мне ту часть, которую еще окончили? Я бы переписал, если нужно“ (АТБ).
Печатание книги «Какова моя жизнь?» заняло довольно много времени, и она вышла в издании М. Элпидина в Женеве, без обозначения года, лишь в 1886 г. Текст книги печатался под тем же заглавием и без всяких изменений и в женевском журнале «Общее дело» за 1886 г., издававшемся тем же Элпидиным (февраль — июнь, №№ 82—86).
Книга разбита на двадцать глав, и в основу ее положен был текст, набранный для «Русской мысли», с добавлением конца главы XX, причем для первых пятнадцати глав использован был текст отпечатанных для январского номера листов, а для последующих (до середины главы XX), видимо, текст гранок. В книге множество опечаток и механических пропусков отдельных фраз и слов, не устраненных ни во втором ее издании (1889), ни в третьем (1902), являющимися механическими перепечатками первого.
В то время как шло печатание книги «Какова моя жизнь?», Толстой продолжал работать над продолжением статьи, вновь вернувшись к главам о деньгах, главам, которые, как ему раньте представлялось, были уже закончены. Предвидя сетования Черткова по поводу того, что работа над художественными рассказами всё еще задерживается из-за работы теоретической, Толстой пишет ему 13—14 июля: «Вы мною будете совсем недовольны. По утрам пишу всё статью «Что нам делать», о деньгах, податях и значении правительства и государства и по вечерам кошу так, что руки болят; но мне кажется, что я ничего дурного этим не делаю. В писании моем много мне открывается нового и важного для меня самого. И я не могу быть спокоен, не разъяснив этого, тем более, что всё это только служит разъяснением учения Христа».322 О том же говорит Толстой и в письме к Черткову от 23—24 июля: «и всё писал, поправлял о деньгах. Вы увидите, что это интереснее, чем вам кажется. Хотя согласен, что есть темы для меня более полезные. Впрочем, что полезно, то Бог знает, только бы во всех делах итти по пути единому».323
Приблизительно к началу августа Толстой, вероятно, закончил писание глав о деньгах и на некоторое время отошел от работы над статьей, с тем чтобы в конце месяца вновь за нее приняться. 29—30 августа он пишет Черткову: «Я начал писать продолжение «Что делать» и несколько дней не работал».324 12 сентября С. А. Толстая пишет Н. Н. Страхову: «Лев Николаевич пишет понемногу вторую часть «Так что же нам делать?», но больше ходит в лес рубить деревья, собирать грибы, или пашет...»325
В конце сентября и в октябре Толстой опять очень интенсивно трудится над статьей, торопясь, видимо, закончить ее. В середине октября он пишет Т. А. Кузминской: «Я так хорошо работаю над своею статьею, что извожу на эту работу весь дневной заряд... Вели Маше поцеловать за меня милого Николая Николаевича и скажи ему, что кроме желания знать то, что он хотел сказать вам об Иване дураке,326 я часто думаю о нем и желал бы очень знать его мнение о моем писании об органической и эволюционной теории в науке, которую я считаю суеверным вероучением царствующей науки. Он поймет все эти страшные слова».327
Николай Николаевич, о котором идет здесь речь, — H. Н. Страхов — друг Толстого, бывший с ним, как известно, в оживленной переписке, затрагивавшей темы религиозного, философского и научного характера. В письме — прямое указание, что в это время Толстой работал как раз над главами XXIX—XXXIV «Так что же нам делать?», посвященными в значительной своей части критике органической и эволюционной теорий.
О напряженной работе над статьей Толстой сообщает в это время в письмах и к жене и к Черткову. В письмах, написанных Толстым к С. А. Толстой зa октябрь, —неоднократные указания на это: «Спал прекрасно, нынче встал рано и, убравшись, много писал, к сожалению не «Ивана Ильича», а о том, почему мы не видим незаконности, неразумности и несчастья нашей жизни» (ПЖ, стр. 272). «Я все эти дни очень много работаю, хотя и не то, что хотел, но и то хорошо опрастывает место» (стр. 273). «Много продвинулся в статье. Я поперхнулся ею, и покуда не выперхну — не освобожусь» (стр. 273). „Никуда не хожу, никого не вижу, много работаю и руками и «головой, как чорт»“ (стр. 275). «Целую неделю я был в напряженном, рабочем состоянии и нынче чувствую, что ослабел. Хочется нынче вечером, после продолжительной работы утром, не думать и не писать» (стр. 277). «Очень много работаю, пишу, но подвигаюсь медленно, недостаточно скоро по желанию... Нынче я писал много, но не хорошо. Очень хочется кончить и нужно эту статью, чтоб уж никогда не возвращаться к этим вопросам» (стр. 278). «Я не отчаиваюсь и ужасно желаю написать «Ивана Ильича» и сейчас ездил и думал о нем. Но не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощен теперь этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу. Нужно самому себе выяснить то, что было не ясно, и отложить в сторону целый ряд вопросов, как это случилось со мной с вопросами богословскими» (стр. 280).
О том же — и в письмах к Черткову. 15—16 октября Толстой пишет ему: Живу 4-й, кажется, день (не вижу, как дни идут) один в деревне — один с Александром Петровичем.328 Работается так много, как давно не было. Только горе, пишу всё рассуждения в статью «Что надо делать». И знаю и согласен с вами, что другое нужнее может быть людям, да не могу — нужно выперхнуть то, что засело в горле. И кажется, скоро освобожусь».329 23 октября, Толстой, оправдываясь в том, что почти всё свое время тратит на писание не художественной работы, снова пишет Черткову: «С тех пор получил два письма — одно вчерашнее с выражением неодобрения тому, что я посвящаю всё свое время статье, и нынешнее о двух стариках.330 Я согласен с вами, что другое я бы мог писать, и оно как будто действительнее, но не могу оторваться, не уяснив прежде всего себе (и другим, быть может) такую странную, непривычную мысль, что считающееся таким благородным занятие нашими науками и искусствами — дурное, безнравственное занятие. И мне кажется, что я достигаю этого и что это очень важно. Нынче с Александром Петровичем поговорили. Он говорит, что не скоро люди будут жить хорошо, а мне всегда кажется, что скоро. Стоит только разрушить соблазн — ложное, обманчивое рассуждение, на которое они опираются. Люди — разумные существа и не могут жить с сознанием, что они живут против разума. И вот, когда они делают это, им на помощь приходит ум, строящий соблазны. Стоит paзрушить соблазн, и они покорятся. Они построят новые, но обязанность каждого, если он ясно видит обман соблазна, — указать его людям. Я это-то и пытаюсь делать. Но ваши замечания мне очень дороги и полезны и, пожалуйста, делайте их, и порезче... Статья моя приходит к концу. Сейчас ездил на Козловку и придумал заключение. Спенглер331 совершенно прав. Она растянута вся ужасно, но это в мою пользу. Я мало отделываю ее — оттого она длинна. Мне нужно только всё высказать».332
За день до этого на автографе, описанном под № 60, Толстой в конце рукописи, после текста первоначальной редакции главы XXXVIII, сделал пометку «23 октября. Ясн. Пол. Л. Т.», свидетельствующую о том, что на этом первоначально он собирался закончить свое сочинение. Однако работа над отделкой, исправлениями и дополнениями статьи продолжалась. Особенно много поработал Толстой над текстом главы ХХХѴІІІ, написав ее заново (см. рукопись, описанную под № 65). В копии автографа (рукопись, описанная под №66) вслед за текстом главы XXXVIII, здесь также заканчивающей всё сочинение, поставлена новая пометка: «28 октября. Ясная Поляна. Л. Толстой». Но и после этого работа не была закончена, хоть Толстой 31 октября писал Черткову: «Я начерно кончил свою статью и, вероятно, теперь возьмусь за другое».333 Глава XXXVIII подверглась новой переработке (см. рукопись, описанную под № 67), и в дополнение к прежде написанному был написан текст главы XXXIX и XL (см. рукопись, описанную под № 68). 17—18 ноября Толстой пишет Черткову: «Вы спрашиваете, что я работаю. Я кончаю (кончил, могу сказать) статью «Что же нам делать?» И много работаю руками и спиной в Москве».334
Но статья не была закончена и в декабре.
————
В двадцатых числах ноября С. А. Толстая, печатавшая тогда пятое издание сочинений Толстого, поехала в Петербург, для того чтобы лично хлопотать перед цензурой о напечатании двенадцатого тома, в который должны были войти, среди прочего неизданного материала, «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?». Начальник главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, в виду того, что том этот заключал в себе сочинения религиозно-нравственного характера, передал их в синодскую цензуру, о чем и известил Софью Андреевну письмом от 25 ноября (АТБ). Но синодские власти задерживали свое решение, и Софья Андреевна обратилась уже из Москвы в декабре письменно к К. П. Победоносцеву с просьбой дать ей решительный ответ — положительный или отрицательный — о судьбе двенадцатого тома. 16 декабря Победоносцев послал Софье Андреевне ответное письмо, в котором писал: «Я немедленно вытребовал из канцелярии синода корректурные листы и прочел их. Они будут рассматриваться в Синоде, но я скажу вам прямо, во избежание недоразумений, что нет никакой надежды, чтобы они были пропущены к печатанию. Всё, что пропускается, считается одобренным, а эти листы никак не могут быть одобрены... Примечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют действие сочинения, но еще усиливают его в отрицательном смысле... По совести скажу вам: книга эта, при всем добром намерении автора, — книга, которая произведет вредное действие на умы» (АТБ).
Таким образом надежда напечатать двенадцатый том в том объеме, как он был задуман, окончательно была потеряна. Не помогла делу, как мы видели, и помощь Иванцова-Платонова. Особенно сильное сопротивление цензуры вызвали, разумеется, «Исповедь» и «В чем моя вера?». Что же касается «Так что же нам делать?», то возможность напечатать это сочинение с цензурными изъятиями, очевидно, не была исключена; может быть, цензура на это и указала Софье Андреевне, и она из Москвы обратилась к Толстому в Ясную поляну с просьбой поторопиться прислать ей рукопись. Около 20 декабря Толстой отвечал ей: «Моя рукопись, я думаю, ничего не задержит, потому что теперь, до Рождества, никак не станут работать в типографии, а к 3-му дню праздников я доставлю рукопись с Таней или сам привезу».335 Однако работа над статьей закончена была Толстым лишь в начале следующего года. Непосредственно вслед за списком «Так что же нам делать?», сделанным рукой неизвестного и принадлежащим архиву Г. А. Русанова, рукой С. А. Толстой проставлена дата — 14 февраля 1886 г. Эта дата повторена в изданиях «Свободного слова» и Сытина. Вероятно, она очень близка к точной дате окончания Толстым работы над статьей.
К статье должно было быть приложено предисловие, которое писал друг Толстого В. Ф. Орлов, учитель железнодорожной школы, некогда сидевший в тюрьме по делу Нечаева. Об этом Толстой писал 22 февраля 1886 г. Черткову: «Последние дни у меня был Орлов и начал писать для Софьи Андреевны предисловие от издательницы к «Что же нам делать?». И написал прекрасную статью, в которой указывает различие моих взглядов от социалистов и революционеров. «Те хотят исправить мир, а этот хочет спасти душу». Предисловие едва ли выйдет, а статья хорошая».336
Предисловие, действительно, напечатано не было, и следов его не сохранилось. Самая же статья в сильно урезанном цензурой виде напечатана была в двенадцатой части сочинений Толстого, вышедшей к 10 апреля 1886 г.337 Здесь она имеет заглавие: «Мысли, вызванные переписью». На обложке тома напечатано: «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов. Москва. Типография М. Б. Волчаникова (бывш. М. Н. Лаврова и Кº)... 1886». Первые одиннадцать томов составляли пятое издание сочинений Толстого, двенадцатый том органически сливается с предшествующими ему томами этого издания, почему и он условно причисляется также к пятому изданию, и в дальнейшем к этому изданию причисляем его и мы. Помимо «Мыслей, вызванных переписью», в этом томе были напечатаны народные рассказы и легенды, статьи «О переписи в Москве», «В чем счастье?», «О народном образовании» и «Смерть Ивана Ильича». В дальнейших изданиях, вплоть до одиннадцатого включительно, статья эта печаталась под заглавием «Отрывки из статьи: «Так что же нам делать?» (1884—1885)», но текст ее, так же как и внутренние подзаголовки, сравнительно с пятым изданием оставался неизменным.
Дальнейшая история печатания «Так что же нам делать?» такова. В 1887 г. в издании М. Элпидина в Женеве отдельной брошюрой напечатана была (без указания года) статья «Деньги».338 поделенная на четыре главы, соответствующие главам XVII—XX окончательного печатного текста (текста, соответствующего главе XXI, таким образом в брошюре нет). В основу издания положен был наиболее авторитетный текст, закрепленный в рукописи, описанной под № 72. В противоположность книжке «Какова моя жизнь?», текст этой брошюры напечатан исправно, без бросающихся в глаза опечаток. В том же 1887 году статья «Деньги» под заглавием «Какова моя жизнь?» Часть вторая» напечатана была в газете «Общее дело» (апрель, май, июль, №№ 96, 97, 99). Текст тут буквально совпадает с текстом в издании Элпидина. В 1890-м году брошюра вышла без изменений там же, в Женеве, вторым изданием.
Не ранее 1889 г. в издании Элпидина появилась третья часть работы Толстого, озаглавленная «Что же нам делать?» (Carouge, М. Elpidine, Libraire-éditeur, без обозначения года).339 Текст книги поделен на шестнадцать глав, соответствующих по содержанию главам XXV—XL окончательного печатного текста. В основу издания положен текст, закрепленный в рукописи, написанной рукой М. А. Шмидт и слегка исправленной Толстым (в нашем описании № 71) Этот текст со всеми поправками Толстого здесь точно воспроизведен. В 1901 г. эта книжка вышла там же вторым, исправленным изданием. В основу текста этого исправленного издания положены были, видимо, копии текстов корректур пятого издания и текст очень близкий к тексту рукописи, описанной под № 70. Но критическое отношение к тексту далеко не всюду здесь выдержано последовательно. В целом ряде случаев, очевидно, гоняясь зa полнотой, редактор воспроизводит зачеркнутые в корректуре фразы и абзацы, исключенные Толстым явно не по цензурным соображениям. В других случаях механически воспроизводится зараз зачеркнутое и вместо него рядом написанное. Наконец, исправление некоторых мест, имеющихся в корректуре, но не попавших по цензурным условиям в текст пятого издания, в этом издании часто игнорируется. Также очень часто игнорируется и текст пятого издания.
В 1902 г. в Англии, в Крайстчерче (Cristchurch), в издательстве «Свободное слово» под редакцией В. Г. Черткова вышел VIII том «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого», в котором напечатано «Так что же нам делать?».
В предисловии к книжке от издательства правильно указывается на то, что ранее напечатанные и в России и за границей тексты «Так что же нам делать?» страдают и искажениями и пропусками. Судя по тому, что по поводу издания Элпидина «Что же нам делать?» говорится: «в последнем заключение книги совершенно другое, нежели в данной, окончательной версии автора», — издательству «Свободное слово» не было еще известно элпидинское второе, исправленное издание книги, вышедшее в 1901 г., где текст последней — XL главы напечатан в иной редакции, чем в первом издании, совпадающей с текстом главы XL в издании «Свободного слова». По недоразумению издательство сочло первую редакцию главы о деньгах (XVII в тексте «Русской мысли» и издании Элпидина «Какова моя жизнь?») второй половиной главы XXI, напечатанной здесь впервые, и поместило текст ее непосредственно вслед за текстом главы XXI, разделив оба текста чертой. Первоначально предназначаемый Толстым для главы XXVI ряд абзацев о Мальтусе («Весьма плохой английский публицист... и носилась с ней полстолетия») и перенесенный им затем в главу XXIX, в издании «Свободного слова» остался в главе XXVI. Помимо этого, в издании «Свободного слова», так же как и в изданиях Элпидина, очень большое количество вариантов и разночтений, сравнительно с установленным нами основным текстом произведения. Они достигают часто нескольких фраз. Порой прибавлены кое-какие абзацы, упраздненные Толстым в процессе его работы, другие абзацы, им впоследствии введенные, не вошли в текст этого издания. В главе XXXVIII распорядок некоторых абзацев иной, чем тот, который, на основании критического изучения текста пятого издания, правленных Толстым корректур и самой поздней рукописи, мы устанавливаем в основном тексте. Всё это объясняется тем, что в условиях печатания книги за границей издатели не могли располагать в полной мере нужным критическим аппаратом, хоть и стремились к этому, как видно из письма Черткова к Толстому от 26 апреля 1902 г., написанного в связи с печатанием в Англии «Так что же нам делать?»: «Главное достоинство нашего теперешнего издания ваших писаний в том, что оно делается настолько тщательно во всех отношениях, насколько только возможно» (АТБ). Несомненное и главное достоинство издания «Свободного слова» в том, что оно дало впервые действительно полный текст «Так что же нам делать?» как произведения, представляющего собой единое целое. В основу издания, помимо неизвестного нам списка трактата, легли, повидимому, и копии корректур пятого издания, и самый текст пятого издания, но способ пользования этим материалом здесь приблизительно такой же, как и в издании Элпидина.
В 1906 г. «Так что же нам делать?» впервые вышло в России в полном виде в издании «Посредник». Но здесь мы имеем дело с механической перепечаткой текста в издании «Свободного слова». То же нужно сказать и о ряде других изданий этого произведения, вплоть до берлинского издания И. П. Ладыжникова 1920 г. В 1911 г. в Москве вышло двенадцатое издание сочинений Толстого, принадлежавшее С. А. Толстой, в двадцати частях. Напечатанное в пятнадцатой части «Так что же нам делать?» представляет также перепечатку текста издания «Свободного слова» с единственной поправкой: первоначальная редакция главы о деньгах (XVII) выделена здесь из главы XXI и помещена непосредственно вслед за главой XXIII с заглавием, „Вариант 4-х глав «О деньгах»“.
В 1912—1913 гг. вышло «Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» в двадцати томах в издательстве Сытина, под редакцией и с примечаниями П. И. Бирюкова. «Так что же нам делать?» помещено здесь в XIII томе. В 1913 г. это издание вышло и в библиотеке «Русского слова», как приложение к газете «Русское слово» и журналу «Вокруг света». Здесь расположение материала по томам и иногда самый объем материала иные, чем в первом из указанных изданий Сытина. «Так что же нам делать?» без всяких изменений напечатано тут в XVII томе. В основу издания, как заявляет редактор, положен был список из архива Г. А. Русанова, хранящийся ныне в рукописном отделении Государственного Толстовского музея и заключающий в себе полный текст «Так что же нам делать?», поделенный на сорок глав. Авторитетность этого списка сильно преувеличена П. И. Бирюковым. В основном он составился по тому же принципу отбора материала, что и издания Элпидина и «Свободного слова». В приложении к статье П. И. Бирюковым напечатана первоначальная редакция главы XVII (о деньгах).
Таким образом тексты «Так что же нам делать?» в изданиях Элпидина, «Свободного слова» и Сытина не являются с научной точки зрения авторитетными. Единственно авторитетным является текст пятого издания 1886 г., печатавшийся под личным наблюдением Толстого, читавшего и правившего для него корректуры. Из текста этого издания мы и исходим в установлении окончательного текста произведения. Но в пятом издании «Так что же нам делать?» напечатано далеко не полностью: сюда не вошли отдельные главы и абзацы, некоторые места подверглись переделке. Поэтому для восстановления недостающего мы пользуемся правленными Толстым корректурами, относящимися к этому изданию, корректурами текста, предназначавшегося для «Русской мысли» и, наконец, рукописями, с которых производился набор или которые по всем признакам представляют собой последнюю редакцию отдельных глав произведения.
Правленные Толстым корректуры пятого издания представляют собой ближайший вспомогательный материал, в некоторых отношениях более ценный и достоверный, чем рукописи, так как они заключают в себе многочисленные поправки Толстого и являются таким образом последней известной нам стадией работы писателя над своим произведением (но не последней вообще: кроме частично сохранившихся корректур, как видно из сопоставления их с текстом пятого издания, были еще новые корректуры, в которых, между прочим, сделаны дальнейшие цензурные сокращения и изменения). Так как корректуры пятого издания дошли до нас не полностью, свободные от вмешательства внешней цензуры, они воспроизводят текст, процензурованный Иванцовым-Платоновым, и, кроме того, подверглись авторской самоцензуре, быть может, в связи с указаниями того же Иванцова-Платонова, на помощь приходят рукописи, описанные нами под №№ 70, 69 и 72, частично представлявшие собой оригинал, с которого делался набор. (Более подробная аргументация в пользу привлечения этих рукописей ниже.) Начальные главы, имеющиеся в рукописи № 70, не снабжены типографскими пометами; следовательно, нет основания предполагать, что они были в наборе. В этом случае пользуемся текстом отпечатанных листов и сверстанной и правленной корректуры «Русской мысли», так как по всем данным в процессе дальнейшей работы Толстой совершенно не изменял текста, приготовленного им для «Русской мысли».
В ряде случаев мы имеем дело с такими поправками Толстого в корректурах пятого издания, которые сделаны с явной целью избежать столкновения с цензурой. Так, например, в корректуре главы XXIX во фразе: «Но ведь точь в точь то же самое говорили богословы, и не дураки же они были» — Толстой зачеркивает слово «богословы», имеющееся и в рукописи № 70, и вместо него пишет «старинные учители». Это, конечно, случай самоцензуры. В главе XXX, во фразе: «мы имеем ровно столько же права, как признать существование троичного бога и тому подобных теологических положений» (так и в рукописи № 70) зачеркивается весь конец фразы, начиная от слова «троичного» и вместо него пишется: «всякого невидимого фантастического существа». Опять явный случай самоцензуры, и т. д. Во всех тех случаях, где мы по ходу мысли Толстого, по контексту и по бесспорным логическим соображениям имеем основание усматривать явные случаи такой самоцензуры, мы восстанавливаем зачеркнутое в корректуре, если оно не зачеркнуто в рукописи, с которой делался набор.
Как видим из всего только-что сказанного, мы принуждены, конструируя окончательный текст «Так что же нам делать?» привлекать материалы, закрепляющие иногда разновременные этапы работы Толстого над трактатом. Так, прежде всего, неполнота корректур пятого издания лишает нас возможности учесть те поправки Толстого, которые в несохранившихся корректурах могли быть сделаны, и, пополняя недостающее в корректуре и в тексте пятого издания текстами рукописей, мы объединяем хронологически не совпадающие стадии обработки материала. Но такой вынужденно сложный путь установления критического текста диктуется очень сложной историей печатания «Так что же нам делать?» и судьбами рукописного и корректурного материала, связанного с этим произведением.
————
Предлагаем подробное описание по главам текста, напечатанного в пятом издании, сравнительно с окончательным, нами установленным текстом.
Попутно даем описание текста, напечатанного в «Русском богатстве», и главнейшие разночтения других печатных текстов, имеющиеся в авторизованных рукописях и корректурах, но аннулированные Толстым в процессе дальнейшей работы. Приведение всех печатных разночтений, в виду их обилия, было бы, во-первых, крайне обременительным и для читателя и для издания, во-вторых, методологически необоснованным, так как сам Толстой принимал участие в проверке и редактировании лишь тех текстов сочинения, которые печатались в «Русской мысли», «Русском богатстве» и пятом издании его сочинений; все же остальные издания печатались помимо его прямого участия.
Тут же подробно обосновываем те соображения, которыми мы руководствуемся при установлении окончательного текста и критического отбора для него печатного и рукописного материала.
В дальнейшем исходим из счета глав и их распорядка, принятых в настоящем издании «Так что же нам делать?»
Глава I напечатана в пятом издании полностью.
Из главы II исключены: 1) конец 1-го абзаца, стр. 186, строки 21—26, начиная от слов: «Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету...» 2) конец предпоследнего абзаца и целиком весь последний абзац, стр. 189, строка 39 — стр. 190, строка 40, от слов: «Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно». Недостающее восполняется по отпечатанным листам «Русской мысли».
Глава III напечатана полностью; лишь в 1-м абзаце, стр. 191, строка 4, после слов: «началъ говорить мне» исключено имеющееся в отпечатанных листах «не без удовольствия» и в предпоследнем абзаце, стр. 195, строка 16, после слов: «Я прочел ее краснея», также имеющееся в отпечатанных листах «до слез». Исключенное восполняем по отпечатанным листам «Русской мысли».
Глава IV напечатана полностью, за исключением следующей фразы в последнем абзаце, стр. 198, строки 21—22, имеющейся в корректуре «Русской мысли»: «А затевал я облагодетельствовать этих людей с помощью московских богачей». Вводим эту фразу в основной текст, так как она исключена была, видимо, по требованию цензуры. Ее нет и в отпечатанных листах «Русской мысли».
Главы V, VI, VII напечатаны полностью.
Из главы VIII исключен конец последнего абзаца, стр. 213, строки 5—17, начиная от слов: «спасать от того взгляда на жизнь, одобряемого всеми». Недостающее восстанавливаем по сверстанным листам «Русской мысли».
Главы IX, X, XI и XII напечатаны полностью.
Глава IX окончательного печатного текста соответствует главе VI статьи «Из воспоминаний о переписи», напечатанной в октябрьской книжке «Русского богатства» за 1885 г. В ней, несомненно по цензурным требованиям, ряд исключенных мест. Из 3-го абзаца, стр. 214, строки 15—30, исключена часть текста от слов: «пачкали, портили всё вокруг себя» и, кончая: «и пользоваться благами жизни как можно больше». Целиком исключен 4-й абзац, стр. 214, строки 34—39. «Я мог бы понять... Но я ничего не понимал этого». Исключена большая часть последнего, 5-го абзаца, стр. 215, строки 4—21, от слов: «В то время как Сережа жил у нас», до конца.
В главе XIII исключены: 1) конец 7-го абзаца, стр. 229, строки 28—29, начиная со слов: «И, в-третьих, роскошь даже неприятна и опасна в деревне», 2) конец 8-го абзаца, стр. 230, строки 11—12, начиная со слов: «Богатые люди собираются в городе», весь 9-й абзац и большая часть 10-го абзаца, стр. 230, строка 21 — стр. 231, строка 14: «И вот он тянется в город... благодарны нам за то, что мы кормим их этою роскошью». 3) весь 11-й абзац, стр. 231, строки 28—37: «Никогда они не признавали и не признают... наполняют непотребные ночлежные дома», 4) весь последний абзац, стр. 232, строка 38 — стр. 233, строка 5: «И вот, вникнув в свойства городской бедности... что у них отобрано в деревне».
Недостающее восполняем по сверстанным листам «Русской мысли» и по рукописи № 70. Пользуемся рукописью потому, что текст этой главы в рукописи, переписанной, очевидно, с корректуры, заключает в себе кое-какие мелкие поправки рукой Толстого.
Главе XIII окончательного печатного текста соответствует глава II статьи «Деревня и город», напечатанной в декабрьской книжке «Русского богатства» за 1885 г. В ней цензурой сделаны следующие изъятия. Исключен конец 7-го абзаца, стр. 229, строки 29—35, начиная со слов: «Неловко и жутко в деревне делать ванны». Из 8-го абзаца стр. 229, строка 38 — стр. 230, строка 12, исключены слова: «где удовлетворение всяких роскошных вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией... под охраной власти». Из 10-го абзаца, стр. 230, строка 32 — стр. 231 строка 10, исключена приблизительно половина, с начала — «И в самом деле, надо только вдуматься», кончая словами: «человек этот не может привыкнуть к этому», а также последняя фраза, стр. 231, строки 25—27: «Мы очень заблуждаемся... на окружающую их роскошь». Как и в пятом издании, исключены целиком 11-й абзац и последний.
Из главы XIV исключена большая часть ее текста, от слов: «Что же он может видеть во мне другого», стр. 235, строка 10 — стр. 238, строка 8, до конца главы. Недостающее восстанавливаем по сверстанным листам «Русской мысли».
Главе XIV окончательного печатного текста соответствует глава III статьи «Деревня и город», напечатанной в «Русском богатстве» (см. выше). В ней цензурой сделаны изъятия, не совпадающие с теми, какие сделаны в пятом издании. В начале главы исключено всё то место, где речь идет о Сютаеве и о тех размышлениях, которые вызваны были у Толстого беседой с ним, начиная от слов: «Я помню, что и тогда слово, сказанное Сютаевым», кончая: «Это самое и это первое, что мы делаем», стр. 233, строка 21 — стр. 235, строка 27. Далее исключена фраза: «В самом деле все стремления... отличение себя от бедных», стр. 235, строки 35—37. Затем исключен большой кусок текста от слов: «Первое, что делает разбогатевший человек», кончая: «То же с способом передвижения», стр. 235, строка 40 — стр. 236, строка 32. В абзаце, где речь идет о «чистоте», исключены слова: «когда она добывается чужим трудом?» стр. 237, строки 2—3, «подтверждающий только пословицу: белые ручки чужие труды любят?», стр. 237, строки 5—6, «когда чистота эта добывается чужими трудами», стр. 237, строки 15—16. Из предпоследнего абзаца, стр. 237, строка 40 — стр. 238, строка 5, исключен его конец, начиная со слов: «Я убедился, что между нами, богатыми».
Глава XV имеет следующие особенности. Во 2-м абзаце, стр. 239, строки 12—13, вместо читаемого в пятом издании «ни на 100 рублях» во всех других изданиях, в согласии с текстом «Русской мысли» и рукописи № 70, стоит «ни на 10 тысячах». Непосредственно вслед за этим в тех же изданиях идет фраза: «Нельзя быть немножко добрым человеком», отсутствующая в тексте пятого издания и присутствующая в тексте «Русской мысли» и в рукописи № 70. В том же абзаце, стр. 239, строка 18, вслед за словами: «почему я откажу ему?» читаем следующий вариант, отсутствующий также в пятом издании, но имеющийся во всех других изданиях, в тексте «Русской мысли» и в рукописи № 70:
Ведь если бы причина моей деятельности состояла в том, чтобы достигнуть определенной материальной цели, дать ему столько-то рублей или такое-то пальто, я мог бы, раз дав их, успокоиться; но причина моей деятельности не это; причина та, что я хочу быть добрым человеком, т. е. хочу видеть себя в каждом другом человеке. Всякий человек так, а не иначе, понимает доброту.
Полагаем, что изменение 10 000 на 100 руб. и указанные пропуски в пятом издании объясняются не цензурным вмешательством, а личным усмотрением Толстого (для цензурного вмешательства здесь, очевидно, не было никакого повода). Заметим кстати, что в цензурованном тексте «Русского богатства» удержано и «10 000» и все указанные только что пропуски пятого издания. Видимо, исправления Толстым были сделаны в недошедших до нас последних корректурах пятого издания. Поэтому и мы в данном случае придерживаемся точно текста пятого издания и не включаем в основной текст указанных пропусков.
В той же XV главе в пятом издании отсутствуют абзацы 6-й и 7-й («Это было в деревне... Это дело учтивости, а не благотворительности»), стр. 239, строка 36 — стр. 240, строка 31 и абзацы 10-й, 11-й, 12-й и 13-й («Этот-то вывод... Не мудрено, что мне было стыдно»), стр. 241, строка 31—стр. 242, строка 37. Очевидно также, что содержание 6-го, 7-го и 10-го абзацев также не давало повода для цензурного вмешательства, но такой повод легко можно было найти в абзацах 11-м, 12-м и 13-м (мотив эксплоатации бедных богатыми, швыряние богатыми «дурашных», т. е. «нетрудовых», денег). А так как эти три последних абзаца текстуально связаны с первыми тремя (и там и тут фигурирует, напр., поварова жена), то исключение трех последних абзацев механически влекло за собой и исключение первых трех. Таким образом, полагая, что все шесть абзацев исключены в результате цензурных требований, вводим их в основной текст по отпечатанным листам «Русской мысли». В издании «Свободного слова» читаем еще следующий заключительный абзац этой главы, отсутствующий во всех печатных изданиях, в том числе и в пятом:
«Так что же делать? На этот вопрос, если кому-нибудь еще нужен ответ на него, я отвечу подробно, если Бог позволит».
Здесь мы имеем механическое воспроизведение последнего абзаца главы XV, которым статья заканчивалась в отпечатанных листах «Русской мысли».
Главе XV окончательного печатного текста соответствует глава VI — последняя — статьи «Деревня и город», напечатанной в «Русском богатстве». Здесь цензурных изъятий меньше, чем в тексте пятого издания. Исключены конец 11-го абзаца, стр. 242, строки 1—9, начиная со слов: «И так поняла меня поварова жена», и весь 12-й абзац, стр. 242, строки 10—33. «В самом деле... так посмотрела и поварова жена». Из последнего, 14-го абзаца, стр. 243, строки 4—6, исключены слова: «хоть то, что сделала проститутка, ухаживая три дня за больною и ее ребенком. А мне казалось это так мало! И я стал думать о добре!» Заканчивается глава и вся статья словами, которыми начинается глава XVII (о деньгах) в ее первой редакции: «В заблуждение о том, что я могу помогать другим, меня ввело именно то, что я воображал себе, что мои деньги такие же, как Семеновы. Но это была неправда».
В главе XVI объединены две главы: XVI и XXII. Вслед за окончанием текста, относящегося к главе XVI, идет два ряда точек и затем текст главы XXII; главы XVII—XXI, в которых заключается рассуждение о деньгах, цензурой исключены.
Из текста главы XVI в пятом издании цензурой исключены: 1) абзац 3-й: «Я хочу этого и вижу... трудом других людей», стр. 243, строки 20—24, часть абзаца 5-го: «Сначала идут... как 10 : 1». стр. 243, строки 30—38, абзацы 6-й, 7-й, 8-й: «Я принадлежу к разряду»... «стал прост ясен и приятен», стр. 245, строки 6—35; 2) конец 9-го абзаца, начиная со слов: «его баланс, так сказать» стр. 246, строки 7—10; 3) весь 11-й абзац: «Я всю жизнь провожу так... которые кормят меня», стр. 246, строки 19—33. Последний абзац смягчен и читается так: «И я почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими, есть что-то безнравственное, и я спросил себя, что такое деньги?»
Самим Толстым, очевидно из цензурных соображений, в корректуре № 76 исключены абзац 4-й и начало 5-го, кончая: «как 10 : 1».
Недостающее восполняем по рукописи № 70, сверяя ее текст с текстом корректурных листов, описанных под № 76. В рукописи текст главы XVI заключает в себе типографские пометки, свидетельствующие о том, что с него делался набор. Часть не вошедших в пятое издание мест здесь отмечены крестиками, сделанными красными чернилами (в начале и в конце выпущенного текста). Эти места не вошли и в корректурные листы.
Главе XVI окончательного печатного текста соответствуют главы IV и V статьи «Деревня и город», напечатанной в «Русском богатстве». И здесь также цензурных изъятий меньше, чем в тексте пятого издания. Но зато многочисленны изменения отдельных фраз и выражений.
3-й абзац, стр. 243, строки 20—24, — «Я хочу этого и вижу... других людей» переделан так: «Я хочу этого и вижу, что я же сам отбираю у трудящихся необходимое и пользуюсь с излишком трудом этих других людей». Далее исключен весь 4-й абзац и часть 5-го, стр. 243, строки 25—38: «Я вижу, что пользование... относится к первым, как 10 : 1». Вместо читаемых в 5-м абзаце слов: «но что вследствие уловок, отбирающих у этих людей необходимое», стр. 243, строка 38—стр. 244, строка 1, напечатано: «но что вследствие моей жизни, отбирающей у этих людей необходимое», вместо «благодаря содействию наук и искусств», стр. 244, строка 4 — «благодаря содействию даже науки и искусств». Из того же 5-го абзаца исключена часть текста: «Я вижу, что в наше время жизнь рабочего человека»... «перебираешься из основания на вершину», стр. 244, строки 6—32. Вместо читаемых в том же абзаце слов: «Богатые, и я в том числе, разными уловками мы устраиваем себе этим неразменный рубль», стр. 244, строки 34—35, напечатано: «Люди разными способами устраивают себе этот неразменный рубль». В том же абзаце, стр. 244, строки 38—39, вместо «Бедный трудовой человек, обобранный для того, чтобы у богатого был этот неразменный рубль, стремится за ними в город». — «Трудовой человек стремится за ними в город». Текст 6-го абзаца, стр. 245, строки 6—21, — «Я принадлежу к разряду... чтобы слезть с него» сокращен так:
«И вот я, принадлежа к разряду тех людей, которые устроили себе волшебный неразменный рубль, соблазняющий этих же несчастных, хочу помогать этим людям. Ясно, что прежде всего я должен с одной стороны не обирать их, как я это делаю, а с другой стороны не соблазнять их. И я воображаю себе, что жалею людей и хочу помогать им!»
В тексте, соответствующем 9-му абзацу, стр. 245, строки 38—39, вместо «услуг сотен людей» напечатано: «услуги людей». Оттуда же исключена часть текста, соответствующая концу абзаца, стр. 245, строка 39 — стр. 246, строка 9, «Людям, которые встают»... что даю им». Далее исключены слова: «И этим-то людям я иду помогать» стр. 246, строка 10, которыми начинается 10-й абзац. Из 11-го абзаца, стр. 246, строки 29—33, исключен его конец: «И все эти люди... которые кормят меня». Наконец, исключен последний абзац главы: «И я почувствовал... что такое деньги?»
Текст, соответствующий главам XVII—XXI «Так что же нам делать?» в его окончательной редакции (главы о деньгах), в пятом издании отсутствует, конечно по вине цензуры. Главы XVII—XX печатаем по тексту рукописи № 72, в которой мы имеем наиболее позднюю из рукописных редакций этой части произведения (см. описание рукописей); сверяем ее текст с текстом XVII, XVIII и XIX глав в корректурных листах, описанных под № 76. Зачеркивания, сделанные рукой Толстого в XIX главе (корректура № 76): от слов: не подвергшихся «общему государственному», кончая: «чтобы служить насилию», стр. 267, строки 20—25, «общего государственного», стр. 268, строка 6, и «в виде завоевателя», стр. 268, строки 10—11, — считаем сделанными из цензурных соображений и потому восстанавливаем их в основном тексте. Главу XXI печатаем по тексту рукописи № 70, сверяя ее текст с сохранившейся частью текста главы в корректуре, описанной под № 76. Здесь слова «народы без правительств», стр. 285, строка 6, исправлены рукой Толстого на «первобытные народы» и слово «властью», стр. 289, строка 26, на «силою». Считаем, что эти исправления явились в результате самоцензуры и потому не вводим их в основной текст.
В главе XXII (вошедшей в пятом издании в состав главы XVI) исключены: 1) в 3-м абзаце, стр. 291, строка 22, слово «законное», 2) в том же абзаце — от слов: «что я даю собранные мною векселя», стр. 291, строка 23, кончая словами: «Я увидал», стр. 291, строка 26, 3) в 7-м абзаце, стр. 293, строки 4—5, слова: «насилием, как грабительницы пчелы», 4) конец того же абзаца, начиная со слов: «Я понял, что несчастия людей происходят от рабства», стр. 293, строка 8, 5) конец 8-го абзаца, начиная со слов: «как можно меньше предъявлять своих прав», стр. 293, строка 25, 6) в 9-м абзаце, стр. 293, строка 37, слова: «ни посредством службы правительству», 7) в 11-м абзаце, стр. 294, строки 8—9, слова: «службы правительству», 8; в 12-м абзаце, стр. 294, строки 19—20, вместо «Стоит только человеку не желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами» напечатано: «Стоит только человеку не желать иметь земли и денег», 9) в том же абзаце, стр. 294, строки 24—25, исключены слова: «сольется с ним и станет плечо в плечо с ним и», 10) в абзаце 13-м, стр. 294, строки 29—30, исключены слова: «посредством службы, владения землею и деньгами».
Недостающее восполняем по рукописи № 69, в которой находятся главы XXII (без начала), XXIII и XXIV (без конца), окончательно проредактированные Толстым. Судя по типографским пометам, эта рукопись была в наборе (см. описание рукописей). В одном случае недостающее в этой рукописи место (утеряны две четвертушки) восполняем по рукописи № 70. Пользуемся также текстом корректуры, описанной под № 76. В ней набран весь текст главы по рукописи № 69, но зачеркнуты, скорее всего рукой С. А. Толстой, судя по характеру помет на полях, следующие слова: «Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег», стр. 293, строки 10—12, «поддерживаемыми насилием солдатства», стр. 293, строка 28, «ни посредством службы правительству», стр. 293, строка 37, «посредством службы правительству», стр. 294, строки 8—9, «службы», стр. 294, строки 20, 29. Если даже эти слова зачеркнуты рукой Толстого, что сомнительно, то сделано это, несомненно, в результате самоцензуры. Поэтому все указанные зачеркнутые слова вводим в основной текст.
Тексту главы XXIII соответствует глава XVII пятого издания. В этом издании исключены: 1) весь первый абзац, стр. 294, строка 34—стр. 295, строка 5: «Я увидал... искусными софизмами», 2) во 2-м абзаце, стр. 295, строки 6—7, слова «для того, чтобы не производить разврата и страданий людей», 3) весь 7-й абзац, стр. 295, строки 25—29: «Мы ходим на час... если хочешь ходить в горнице», 4) большая часть 11-го абзаца, стр. 296, строки 16—21, от слов: «У них голова кружится» и до конца и весь 12-й абзац, стр. 296, строки 22—30: «Для человека с десятью людьми... в которой он вымылся», 5) целиком абзац предпоследний: «Правда, что выгоды всех переплетены... тем он более работает».
Недостающее восполняем по рукописи № 69 и по тексту корректуры № 76, в которой текст этой рукописи перепечатан целиком. В ней, как и в рукописи, по сравнению с печатным текстом, после слов «разврата и страданий людей», стр. 295, строка 7, есть следующие лишние слова: «которые я не люблю, и чтобы не участвовать в порабощении других людей». Слова эти были вычеркнуты, очевидно, в последней корректуре, как делающие всю фразу стилистически шероховатой, и потому и мы их не вводим в основной текст. В корректуре после слов «если хочешь ходить в горнице», стр. 295, строки 28—29, зачеркнуто: «а то ходить под сарай» и после слов: «в которой живет богатый человек», стр. 296, строки 35—36, также зачеркнут следующий абзац:
Нынче утром я вышел в коридор, где топятся печи. Мужик топил печь, греющую комнату сына. Я зашел к нему: он спал. Было 11 часов утра. Нынче праздник, отговорки, уроков нет. Гладкий 18-тилетний малый с бородой, наевшись с вечера, спит до 11 часов. А мужик его лет встал с утра, переделал уже кучу дел и топит десятую его печку, а он спит. «Хоть бы не топил мужик его печку, чтоб не греть это гладкое, ленивое тело!» подумал я. Но тотчас же вспомнил, что печка эта греет и комнату экономки, 40-летней женщины, которая вчера до 3 часов ночи готовила всё к ужину, который ел и мой сын, и убирала посуду и встала всё-таки в семь. Ей нельзя самой топить; она не успеет. Мужик топит и для нее. А под ее фирмой греется ленивый.
Оба последние пропуска сделаны явно не из цензурных соображений. Первый, видимо, сделан для того, чтобы избежать излишней грубости в стиле, второй для того, чтобы не изображать в отрицательном свете члена семьи. Если даже эти пропуски сделаны рукой С. А. Толстой и по ее инициативе, то они никак не могут итти в один ряд с теми вынужденными пропусками, которые делались из цензурных соображений. Трудно думать, чтобы они могли вызвать внутреннее сопротивление со стороны Толстого. Поэтому в обоих случаях зачеркнутое в корректуре в этой главе и вошедшее во все полные издания статьи не вводим в основной текст.
Глава XXIV напечатана в пятом издании под заглавием «Жизнь в городе». В ней исключено: 1) в начале главы, стр. 297, строка 29, слово «стерва», замененное многоточием, 2) в начале главы, стр. 302, строка 34, слово «царские», 3) в том же абзаце, стр. 303, строки 2—3, где исключено слово «царские», вместо заключительных предложений, начиная со слов: «что не все они, мужчины, приходят в то состояние золоторотцев» и т. д. — напечатано: «что все не приходят в худшее состояние»; 4) далее, через один абзац, стр. 303, и строка 9 — стр. 304, строка 6, исключены три абзаца под ряд — «И вот показались со всех сторон кареты... но что этим самым они кормят бедных людей».
Недостающее восполняем по рукописи № 69, сверяя текст ее с текстом корректуры № 76, где набран весь текст соответствующей главы рукописи. Здесь также зачеркнуты явно из цензурных соображений слова «стерва» и «царские». Конец абзаца: «не приходит в то состояние золоторотцев» и т. д. не исправлен (он, очевидно, исправлен в последней корректуре). Так как всё пропущенное и исправленное в этой главе пропущено и исправлено явно в угоду цензуре, в окончательном тексте всё это восстанавливаем.
Под тем же заглавием «Жизнь в городе» эта глава напечатана в мартовской и апрельской книжках «Русского богатства» за 1885 г. Сравнительно с пятым изданием здесь находим три лишних абзаца, имеющихся в рукописях, описанных под №№ 22 и 25 и помещающихся между абзацами, начинающимися словами: «Так как же здесь, в этих наших весельях» (стр. 304, строка 16) и «Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал» (стр. 304, строка 19):
Мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой и нашей жизнью, а между тем связь эта должна бы резать нам глаза. Я меняю лишнюю рубашку и от этого имею приятный вид чистоплотности, она стирает лишнюю рубашку через силу и от этого умирает.
Мы можем сказать: «Не мы лично защемили хвост в лещетку», но отрицать того, что не будь защемленного хвоста, не было бы нашего веселья, мы не имеем никакого права.
Мы не видим, какая связь между прачкой и нашей роскошью; но это не оттого, что нет этой связи, но оттого, что мы поставили перед собой ширмы, чтобы не видеть этой связи.
Если бы не было ширм, мы бы не видели то, чего нельзя видеть.
(«Русское богатство», 1885, № 4, стр. 1—2.)
Этот вариант повторен во всех трех изданиях М. Элпидина книги «Какова моя жизнь?»
В корректуре № 76, а также в изданиях Элпидина, «Свободного слова», Сытина и от них зависящих конец главы XXIV (у Элпидина —XX) иной, чем в пятом издании и следующих, вплоть до двенадцатого. После слов: «Ответ на это простой» стр. 307, строка 6, — следует:
Если я заехал к диким и они угостили меня котлетами, которые мне показались вкусными, и я на другой день узнал (может быть, и сам видел), что вкусные котлеты эти сделаны из человека пленного, которого убили, чтоб сделать вкусные котлеты, — если я не признаю хорошим есть людей, то как бы вкусны ни были котлеты, как бы ни был общ обычай поедания людей между моими сожителями, как бы ни ничтожна была польза для пленных, приготовленных для съедения, от моего отказа от котлет, я не буду и не могу больше есть их. Может быть, я съем и человеческое мясо, когда голод заставит меня сделать это, но не буду делать угощений и не буду участвовать в угощениях из человеческого мяса, и не буду искать таких угощений и гордиться моим участием в них.
Этот вариант восходит к рукописям (см. автограф, описанный под № 21).
Вариант пятого издания, присутствующий и в тексте «Русского богатства» («Говорят: деятельность одного человека...» и далее — пересказ индийской сказки, стр. 307, строки 7—22) не находит себе соответствия в наличных рукописях. Однако мы печатаем его в основном тексте, так как нет никаких оснований предполагать, что в пятое издание и ранее в текст «Русского богатства» он попал вынужденно, из-за цензурных соображений: в варианте «Если я заехал к диким...» очевидно, ничего нецензурного нет. Видимо, вариант, принимаемый нами за основной, был вписан Толстым в последней корректуре.
Главы XXV и XXVI в извлечении напечатаны в пятом издании под заголовком «Жизнь в деревне», причем из главы XXVI напечатан лишь отрывок. Из главы XXV исключены следующие места. 1) в 3-м абзаце, стр. 307, строки 32—33, фраза: «В городе продолжается всё та же оргия богачей»; 2) в том же абзаце, стр. 307, строки 37—38, слова: «пользующихся трудом других людей»; 3) в том же абзаце, стр. 308, строки 6—7, слова: «и которых мы будто бы кормим, давая им работу». 4) В 4-м абзаце стр. 308, строки 21—30, — от слов: «всё красится масляной краской» до конца абзаца; 5) 5-й абзац, стр. 308, строки 31—37, исключен целиком; 6) в 7-м абзаце, стр. 309, строки 13—15, исключено от слов: «потому что тут, в деревне», 7) в 8-м абзаце, стр. 309, строки 17—23, исключено от слов: «Господа, живущие в деревне», до конца абзаца; 8) в 10-м абзаце, стр. 310, строки 16—17, исключены слова: «надо ли держать, корову, отбыть ли подати?»; 9) абзацы 11—15 и начало 16-го, стр. 311, строка 17—стр. 312, строка 22, исключены целиком, от слов: «А вот барский дом кончая: «каждый мальчик дорог»; 10) исключен конец 16-го абзаца, стр. 312, строки 22—35, от слов: «и в это время такая жизнь господ», кончая: «отнимая хлеб и труд от замученных работой людей»; 11) в 17-м абзаце, стр. 312, строка 40, исключены слова: «наслаждаемся, роскошествуем»; 12) исключен конец того же абзаца, стр. 313 строки 1—4, от слов: «мы не хотим видеть того»; 13) исключены заключительные слова 18-го абзаца, стр. 313, строки 6—7: «и что мы, живя, как мы живем, невинны и чисты, как голуби»; 14) наконец, стр. 313, строки 32—33, исключен заключительный, 23-й стих из книги пророка Исаии.
Недостающие места восполняем по корректуре № 76 (соответствующий текст рукописи № 70 Толстым не выправлен и в наборе не был). В корректуре, явно из цензурных соображений, зачеркнут в XXV главе 23-й стих V главы книги Исаии. Зачеркнутое в основном тексте восстанавливаем. Все печатные издания, где «Так что же нам делать?» напечатано полностью, в общем не отличаются от установленного нами текста главы, если не считать несущественных для смысла словарных вариантов, опечаток и разницы в расположении и числе абзацев.
В основной текст главы сравнительно с пятым изданием вносим следующие исправления:
Стр. 310, строка 3, вместо «судье» — «к судье», как во всех рукописях.
Стр. 310, строка 10, вместо «выдают» — «выедают». В рукописях, как и в пятом издании, — «выдают», но это очевидная описка.
Из главы XXVI напечатан лишь небольшой отрывок (абзацы 4-й, 5-й, 6-й и 7-й), следующий непосредственно за текстом, относящимся к главе XXV, и особо не выделенный. Начинается: «Хорошо ли, дурно ли сделал тот Бог», оканчивается: «и не могут одолеть ее», стр. 314, строка 35 — стр. 315, строка 28.
Печатаем текст этой главы по рукописи № 70 (на листах ее исправления рукой Толстого и пометки наборщика) и по корректуре № 76. В последней из цензурных соображений зачеркнут абзац, начинающийся словами «Все богословские тонкости», стр. 317, строка 21. В основном тексте восстанавливаем его. Отличия других печатных изданий полного текста «Так что же нам делать?» в этой главе, по сравнению с печатаемым нами текстом, такого же рода, как и варианты главы XXV.
Глава XXVII в пятое издание не вошла. Печатаем ее по рукописи № 70, где она выправлена рукой Толстого. Текст почти всей главы, кроме начала и конца (первые два и последний абзацы), обведен сбоку карандашной чертой. Типографские пометы в этой главе — только на первой и на последней странице — указание на то, что набирались лишь те места, которые не были отчеркнуты карандашом, но и они в текст пятого издания не попали. В корректуре № 76 они напечатаны и здесь вместе с текстом следующей главы объединены в одну XXVII главу.
Главы XXVIII—XXXVIII с большими или меньшими купюрами в пятом издании объединены в статье «О назначении науки и искусства», поделенной на семь глав.
Из главы XXVIII в пятое издание вошла лишь незначительная по объему часть — конец главы: («Научная теория говорит... оправдание нашего времени», стр. 330, строки 14—33). Печатаем эту главу по рукописи № 70, где она выправлена рукой Толстого и заключает в себе типографские пометы, свидетельствующие о том, что глава эта набиралась для печати, и по корректуре № 76, где она набрана целиком. В последней зачеркнута часть текста от слов: «сплотившееся в один чудовищный обман», кончая: «и держится только по инерции», стр. 326, строка 38—стр. 327, стр. 22. Так как зачеркнутое представляет явный случай самоцензуры, то в основном тексте восстанавливаем его.
Из главы XXIX в пятом издании исключены первые три абзаца «Проповедуется новое учение... толпы праздных, богатых людей». В рукописи № 70 они обведены карандашом и в корректуру также не попали. В 4-м абзаце, стр. 331, строка 38, выпущены слова: «как и причина успеха теории падения и искупления человека». Эти слова обведены карандашом, и в корректуре они отсутствуют. Из того же абзаца, стр. 332, строки 1—7, исключен конец, начиная со слов: «И точно так же, как в богословии на теории искупления». Всё это место в рукописи не отчеркнуто; оно попало в корректуру № 74, но здесь Толстым вычеркнуто, конечно, по соображениям цензурного характера. В 5-м абзаце, стр. 332, строка 16, исключены слова: «что как лжехристианство, так и» и в связи с этим ниже вместо слов «ни то, ни другое» напечатано: «оно». Эти исправления сделаны самим Толстым в корректуре (самоцензура). Далее исключен конец 5-го абзаца, стр. 332, строки 19—26, начиная со слов: «Если мы теперь скажем новому образованному человеку». В корректуре № 74 всё это место оставлено, но в корректуре № 76 зачеркнуто. В 8-м абзаце, в первой строке, стр. 333, строка 3, стоит вместо «богословы» — «старинные учители». Это исправление сделано в корректуре № 73 рукой Толстого. Первоначально же как в рукописи, так и в корректуре, стояло «богословы». Так как исправление сделано было Толстым, очевидно, по цензурным соображениям, то восстанавливаем первоначальное написание «богословы». В 9-м абзаце, стр. 334, строки 4—5 и 8—10, выпущены следующие слова: «не происходит от жестокости, эгоизма и неразумия людей богатых и властных, а оно», и «и потому богатые и властные классы нисколько не виноваты и могут спокойно продолжать жить, как жили». Эти слова еще удержались в корректуре № 76 и исключены, очевидно, в последней корректуре. В 10-м абзаце, стр. 334, строки 20—22, исключены слова, взятые в скобки: «она, как искупление в богословии, для большинства служит популярным выражением всего нового вероучения». Они из рукописи перешли в корректуру № 74 и были зачеркнуты в корректуре № 76. В 13-м абзаце, стр. 335, строка 9, исключены слова: «и с богословием и с философией», не попавшие и в корректуру. В предпоследнем абзаце, стр. 336, строка 8, исключены слова «покойно пожирать труды других гибнущих людей», а слово «утешая» в связи с этим заменено словом «утешать». Все эти слова в корректуре № 76 оставались и исключены, очевидно, в последней корректуре. Всё недостающее восполняем по корректуре № 76 и по рукописи № 70, восстанавливая все указанные зачеркнутые места, как такие, которые зачеркнуты по цензурным соображениям.
В главе ХХХ, в 1-м абзаце, стр. 337, строки 23—25, словам: «существование троичного бога и тому подобных теологических положений» в пятом издании соответствуют слова: «существование всякого невидимого фантастического существа». Эта замена сделана была собственноручно Толстым в корректуре № 74, но так как второй вариант совершенно очевидно является результатом приспособления к цензурным требованиям, то принимаем первоначальное чтение. В том же абзаце, стр. 336, строка 31, в пятом издании напечатано: «Канта». Считаем такое написание опечаткой и заменяем его словом «Конта» в согласии с совершенно явственным написанием Толстого в корректуре, а также по связи с контекстом: выражение «потакало царствующему злу» здесь гораздо более подходит к Конту, чем к Канту. Абзацы 4—9 — «И по предмету и по форме это новое вероучение»... «но одинаково признающими основные догматы», стр. 339—341 исключены; они отсутствуют и в корректуре. В 10-м абзаце, стр. 341, строка 19, исключены начальные слова абзаца: «Василий Великий этого вероучения»; они отсутствуют и в корректуре. В 15-м абзаце, стр. 342, строка 1, в пятом издании и в корректуре стоит: «по совершенству». Исправляем по рукописи № 70, где рукой Толстого написано: «по совершенству строения». Видимо, наборщик пропустил механически последнее слово, и при корректуре Толстой этого пропуска не заметил. В 20-м абзаце, стр. 342, строки 33—35, выпущены начальные строки — «Замечательно также»... «против логики». Они отсутствуют и в корректуре. В 21-м абзаце, стр. 343, строки 15—21, исключено всё его начало: «Верующим в троичность Бога... доказать всё. что хотите». Оно отсутствует и в корректуре. Конец предпоследнего абзаца, стр. 342, строки 27—30 («Как только те... а святейшими».) в пятом издании читается так: «Как только папы почувствовали, что в них не осталось ничего святого, так они назвали себя святейшими». В корректуре сначала не было текста, соответствующего данному месту, затем в ней рукой Толстого написан второй, смягченный вариант.
Всё недостающее и измененное по цензурным соображениям восстанавливаем по рукописи № 70, в которой страницы, не попавшие в корректуру и в текст пятого издания, обведены карандашом и не имеют на себе, в отличие от прочих, типографских помет.
В главе XXXI, в 1-м абзаце, стр. 344, строки 5—13, исключен ряд фраз, начиная со слов: «Богословская теория доказывала», кончая; «То же и с научной наукой».
Все эти фразы имеются в корректурах №№ 74 и 76 и исключены, очевидно, в последней корректуре. В корректуре № 76 рукой С. А. Толстой вместо зачеркнутого «Екатерины или Пугачева», стр. 344, строка 7, написано: «Бонапарта или Бурбона». В том же абзаце, стр. 344, строки 26—28, исключены слова: «но, говоря это, ведь они говорят точь-в-точь то же, что говорит богослов: есть власть, и потому она от Бога, какая бы она ни была». В связи с этим дальше, стр. 344, строки 30, 33, исключены слова: «власть и» и «эту власть от Бога или от себя и делали мы». В корректуре № 74 всё это имеется, но в корректуре № 76 зачеркнуто. В 3-м абзаце, стр. 345, строки 23—25, исключено его начало: «То, что составляет главное общественное бедствие... количество чиновников». Исключенное в корректурах 74 и 76 имеется. В 4-м абзаце исключены слова: «правительства, церкви, науки и искусства», стр. 345, строка 32 и «с людьми правительства, церкви, науки и искусства», стр. 346, строки 2—3. Эти слова напечатаны в корректуре, но тут же зачеркнуты рукой Толстого, разумеется, по цензурным соображениям. В 5-м абзаце, стр. 346, строки 23—25, слова: «который прежде богословы называли божеским назначением, потом философы — необходимыми формами жизни» переделаны так: «который прежде называли разными именами, например: философы — необходимыми формами жизни». Этого исправления в корректуре № 74 нет. В корректуре № 76 оно сделано рукой
С. А. Толстой. В 6-м абзаце, стр. 346, строки 32—35, исключена часть фразы, от слов: «И как прежде для духовенства», кончая: «так теперь». Она имеется в обеих корректурах, но в корректуре № 76 слово «духовенства» зачеркнуто и вместо него рукой С. А. Толстой написано «жрецов». 7-й абзац, стр. 346, строка 39—стр. 347, стр. 2, «Но бог с ними... не развращали людей» — исключен полностью. В обеих корректурах он имеется. Конец 8-го абзаца, стр. 347, строки 9—15, начиная со слов: «Стоял страшный, старый обман», в корректуре № 76 рукой Толстого изменен так: «С страшными борьбою и трудом люди понемногу высвободились из многих обманов. И вот, новый, еще злейший обман» и т. д., как в основном печатном тексте. Слова о церковном обмане были зачеркнуты самим Толстым в корректуре № 74, упоминание же об обмане государственном, философском здесь еще уцелело. В 9-м абзаце, стр. 347 строка 18—19, исключены слова: «в церковном учении внешнее было откровение», и в связи с этим другая часть фразы несколько видоизменена: «в научном обмане это внешнее — наблюдение». Это исключение сделано самим Толстым в корректуре № 74, конечно, по цензурным соображениям.
Всё недостающее и переделанное явно по соображениям цензурным восстанавливаем по корректуре № 74, в которой эта глава напечатана целиком по рукописи № 70.
Из главы XXXII напечатана меньшая ее часть. Исключена огромная часть 3-го абзаца, начиная со слов «там, где происходит самое простое, старинное насилие» и до конца, весь 4-й абзац и начало 5-го абзаца, кончая: «под предлогом доставления им духовной пищи» стр. 348, строка 37 — стр. 351, строка 16. В обеих корректурах всё исключенное имеется, лишь слова «Катехизисом Филарета, священными историями Соколовых и» и «сводов законов», стр. 350, строки 25—26, 27, в корректуре № 76 зачеркнуты. В 5-м абзаце, стр. 351, строка 27, исключены слова: «подобно тому, как богословы о бессемейном зачатии». Они зачеркнуты и в корректуре № 74 самим Толстым (самоцензура).
Всё недостающее восполняем по рукописи № 70 и по корректуре № 74, в которой эта глава также полностью напечатана по рукописи № 70.
Из главы XXXIII напечатана приблизительно половина. Исключены целиком абзацы 1-й и 2-й («Было время, что церковь...пользоваться трудами народа»), причем начало 1-го абзаца, кончая словами: «и люди отвернулись от нее», стр. 252, строка 17, вошло в корректуру, остальное же, отчеркнутое в рукописи № 70 карандашом, в корректуру вовсе не попало. Исключено и начало 3-го абзаца, напечатанное в корректуре: «То же сделала наука и искусство с помощью государственной власти, которую они взялись поддерживать». В связи с этим внесены незначительные логические поправки в следующую фразу и далее, стр. 353, строка 9, выпущены слова: «и так же, как их предшественники». В корректуре № 76 лишь зачеркнуты следующие слова: «с помощью государственной власти, которую они взялись поддерживать». Исключен далее почти целиком 5-й абзац, стр. 353, строки 13—16: «Церковь и государство много дали... но несмотря на это» и логически в связи с этим слова, стоящие в начале 6-го абзаца, стр. 353, строка 17: «Точно так же и». В обеих корректурах и то и другое имеется. В последнем абзаце, стр. 354, строки 14—16, исключены слова, имеющиеся в обеих корректурах: «и словом и, главное, делом, учат других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того», и в связи с этим несколько иначе грамматически средактировано окончание фразы.
Недостающее восполняем по рукописи № 70 и по корректурам. Из корректуры № 76 в основной текст вносим сделанные в ней рукой Толстого стилистические поправки.
В главе XXXIV, в 3-м абзаце, стр. 355, строки 20—25, исключена фраза, начинающаяся словами: «Если есть телеграфы» и кончающаяся словами: «рабочий узнает о требовании на этот предмет». В 5-м абзаце, стр. 356, строки 9—13, исключен его конец, начиная со слов: «Ведь мы все знаем, что о рабочем человеке». Целиком исключен 7-й абзац, стр. 356, строки 17—38: «Не будем по крайней мере...кому деятельность эта вредна». В 11-м абзаце стр. 358, строка 33, исключены слова: «могут пользоваться трудами многих» и конец абзаца, стр. 358, строки 36—39, начиная со слов: «квартиры, пищи, нужников». В 12-м абзаце, стр. 359. строки 29—30, исключены слова: «то разделение, т. е. захват чужого труда, который существует, не будет считать себя в праве». В 13-м абзаце, стр. 360, строки 10—11, исключен его конец: «у нас особенно к правительству». В 19-м абзаце, стр. 360, строки 8—11, фраза: «Академии художеств... и не нужны народу» переделана так: «Тратят миллионы на поощрение искусств, а произведения этого искусства и непонятны и не нужны народу». В предпоследнем абзаце, стр. 362, строки 7—12, исключен его конец, начиная со слов: «А разве не худшее сумашествие». В последнем абзаце исключено его начало, кончая словами: «поглощать труды этого народа», стр. 362, строки 13—16.
Все исключенные и исправленные места имеются в корректуре № 74, точно воспроизводящей текст рукописи № 70, и в сохранившейся части этой главы в корректуре № 76. По корректурам и восполняем их.
В главе XXXV, в 1-м абзаце, стр. 362, строка 28 исключены слова «т. е. захват чужого труда». Начало 5-го абзаца, стр. 363 строки 22—27, «Всегда была истинная церковь...называли себя этим именем» переделано так: «Всегда была истинная наука и искусство, но истинными науки и искусства были не потому, что они называли себя этим именем».
Исключенное и исправленное имеется в неприкосновенном виде в корректуре № 74, точно воспроизводящей текст рукописи № 70, и по корректуре восстанавливаем первоначальные написания.
Глава XXXVI пострадала от цензуры очень мало. Исключены слова — в 7-м абзаце, стр. 366, строки 15, 16: «Моисея» и «Христа», в 8-м абзаце, стр. 366, строки 38—39 и стр. 367, строки 7—8: «хотя стоит только вникнуть в эти учения, чтобы увидать одинаковую сущность», «Таковы строители Конфуций, Будда, Моисей, Христос», в предпоследнем абзаце, стр. 369, строки 37—38, «Исаий, Давидов».
Все исключенные слова имеются в неприкосновенном виде в корректуре № 74, точно воспроизводящей текст рукописи № 70, и по корректуре восстанавливаем их. Кроме того, рукой Толстого, в корректуре № 76, очевидно из цензурных соображений, зачеркнуты слова: «как церковь», стр. 366, строка 1 и «как папа назывался святейшим», стр. 367, строки 11—12, которые также восстанавливаем.
В главе XXXVII из 2-го абзаца, стр. 371, строки 22—32, исключен его конец, начиная со слов: «И потому мы имеем право называть наукой». Целиком исключены 3-й и 4-й абзацы, стр. 371, строка 34—стр. 372, строка 32, «Точно так же как бы ни называли себя те ученые...благу всего человечества или общества». Из 12-го абзаца, стр. 374, строки 3—7, исключено его начало: «До тех пор была церковь...говорит староверческая пословица». В 15-м абзаце, стр. 374, строки 20—29, исключено, начиная со слов: «Законы Конфуция — наука», кончая: «никто не смотрит серьезно». В предпоследнем, 18-м абзаце, стр. 375, строки 24—26, 28—29, 31, исключены слова: «мы мошенничеством захватили это место и обманом поддерживаем его», «духовенство, наше или католическое, как оно ни было развратно», «подкопались под них, доказали людям, что они обманывают», «а совсем соки народа и зa это». Из последнего абзаца исключен его конец, начиная со слов: «Мы поедаем людские жизни», стр. 376, строки 4—7.
Всё исключенное имеется в корректуре № 74, воспроизводящей текст рукописи № 70. По корректуре восстанавливаем исключенные места.
Слова: «До тех пор...учительская деятельность», «Место настоящей науки...не смотрят серьезно», «духовенство, наше или католическое, как оно ни было развратно», «подкопались под них, доказали людям, что они обманывают» — зачеркнуты рукой Толстого в корректуре № 76, очевидно из цензурных соображений.
В изданиях «Свободного слова» и восходящих к нему, а также в изданиях Элпидина и Сытина вслед зa фразой 1-го абзаца «обыкновенно говорят... привилегированное положение», напечатанной не в той окончательной редакции, какая читается в корректуре № 76, напечатан следующий абзац:
Во-первых, нельзя устанавливать преемственность между прежними деятелями и теперешними; как святая жизнь первых христиан не имеет ничего общего с жизнью пап, так и деятельность Галилеев, Шекспиров, Бетховенов не имеет ничего общего с деятельностью Тиндалей, Гюго и Вагнеров. Как святые отцы отреклись бы от родства пап, так и старинные деятели науки отреклись бы от родства с теперешними.
В корректуре № 74 в этом абзаце слова «Шекспиров, Бетховенов» исправлены на «Галилеев», а «Гюго и Вагнеров» на «и Месонье», а в корректуре № 76 весь абзац зачеркнут, в связи с чем в 1-м абзаце после слов: «обыкновенно говорят это» также зачеркнуто:
Стараясь установить преемственность, от которой в других случаях они отрекаются, между деятельностью прежних ученых и художников с настоящими и, кроме того,
и далее конец абзаца стилистически несколько перередактирован.
Нет никаких оснований думать, чтобы указанные исключения были сделаны Толстым из соображений цензурного характера и потому исключенное не вводим в текст настоящего издания, воспроизводя в данном случае в точности текст пятого издания.
В главе XXXVIII, в 16-м абзаце, стр. 381, строка 25, исключены слова: «губя их жизнь». В 23-м абзаце, стр. 381, строки 33—40, исключены слова: «Мужик Бондарев, написавший об этом статью, осветил для меня мудрость этого изречения» и всё примечание, относящееся к этим словам. В 5-м с конца абзаце, стр. 392, строки 3—5, исключены слова: «Если только дело в выгоде одних людей без соображения о благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и вкусно».
Всё недостающее восполняем по корректуре № 74, воспроизводящей без пропусков текст рукописи № 70.
В 32-м абзаце, стр. 388, строка 17, исправляем ошибочно напечатанные слова: «что если не работать» на «что есть и не работать» в согласии с тем, как читаем в корректуре № 74 и рукописи 70.
Глава XXXIX в пятом издании напечатана под заглавием «О труде и роскоши». В ней очень много пропусков. В 4-м абзаце, стр. 394, строки 5—9, исключена часть текста от слов: «в наше время вся лучшая часть», кончая: «оправдания все разрушены». Целиком исключены 5-й и 6-й абзацы, стр. 394, строка 15—стр. 395, стр. 7, «Опасность нашей жизни... только переменою жизни». В связи с исключением этих двух абзацев в следующем 7-м абзаце стр. 395, строка 8, вместо «Три причины» напечатано «Две причины» и исключены далее слова «и угрожающая опасность жизни, не устранимая никакими внешними средствами» и «и устраняла бы опасность». Из 10-го абзаца, стр. 395, строки 37—40, исключен его конец, начиная со слов: «Будет третье то». В 11-м абзаце, стр. 396, строки 12—13, 36—39, исключены слова: «(извините за подробности) держим себе горшок», а также часть текста, от слов: «Освещение, гром пушек», кончая: «отсутствия важности дела». Кроме того, слова «громе пушек и в мундирах», стр. 396, строка 36, изменены так: «громе и блеске». Целиком исключены абзацы от 14-го по 19-й включительно, стр. 397, строка 27—стр. 399, строка 17: «Кажущийся неразрешимым вопрос...и не могло быть его собственностью». Из 23-го абзаца, стр. 399, строка 36 — стр. 400, строка 2, исключен конец, начиная со слов: «А между тем в этом самом смысле». Из 24-го абзаца, стр. 400, строки 16—32, также исключен конец, начиная со слов: «и все те учреждения мира». В 29-м абзаце стр. 403, строки 8—10 исключена часть текста, начиная со слов: «не будут считать, что стыдно вывозить», кончая: «люди братья вывозили их». В 30-м абзаце, стр. 403, строка 28, исключены слова: «держать горшок». Из 33-го абзаца, стр. 404, строка 53—стр. 405, строка 7, исключена большая часть его, начиная со слов: «Стоит им только вдуматься» и до конца. 34-й и 35-й абзацы стр. 404, строки 8—23, — «А ведь вся жизнь богатых классов с тратою и опасностью жизни» — исключен целиком. Из З6-го, предпоследнего абзаца, стр. 405 строки 24—35, исключена большая его часть, от слов: «Придет время очень скоро» (начало абзаца), кончая: «на рубеже этой новой жизни».
Всё недостающее восполняем по корректурам №№ 74 и 75.
В текст 25-го абзаца, стр. 401, строки 24—25, вкрался явный недосмотр, нарушающий смысл фразы: очевидно, вместо слова «второй» следует читать «первый» и наоборот. Такая замена по смыслу неизбежна. И в рукописи и в корректуре — тот же недосмотр, который исправляем.
В изданиях «Свободного слова» и восходящих к нему и в несколько измененном виде в изданиях Сытина и Элпидина — в этой главе, вслед за словами: «несет зa собою страшные последствия» стр. 399, строка 8, читаем следующий вариант, имеющийся в рукописях, в том числе и в рукописи № 70, но в корректуре, после правки его, зачеркнутый Толстым, совершенно очевидно, не из цензурных соображений, так как ничего нецензурного в этом варианте усмотреть нельзя:
Возьмем хоть самый простой пример.
Я считаю себя своей собственностью и другого человека своей собственностью.
Мне нужно уметь готовить обед. Если бы я не имел суеверия о собственности другого человека, я бы выучил этому искусству, как и всякому другому, нужному мне, свою истинную собственность, т. е. свое тело, теперь же я учу воображаемую собственность, и результат тот, что повар мой не слушается меня, не желает угодить мне и даже убегает от меня или умирает, а я остаюсь с неудовлетворенной вызванной потребностью удовлетворить себя, и с отвычкой учиться, и с сознанием того, что я потратил на заботы об этом поваре столько же времени, сколько мне бы стоило самому выучиться. То же самое с собственностью построек, одежды, утвари, с собственностью земли, с собственностью денег.
Глава XL в пятом издании озаглавлена «Женщинам» и вошла в него почти целиком. Лишь в 7-м абзаце, стр. 408, строка 34, исключены слова «в мундирах и в освещенных залах», не зачеркнутые Толстым в корректуре.
В изданиях Элпидина и «Свободного слова» и восходящих к нему, а также в издании Сытина в этой главе напечатано несколько лишних вариантов, хотя и имеющихся в рукописях, в том числе и в рукописи № 70, но в корректуре № 74, после правки, зачеркнутые Толстым, опять, очевидно, не ив цензурных соображений.
Варианты эти следующие:
После слов: «Но еще есть время», стр. 408, строка 2:
Всё-таки еще больше женщин исполняет свой закон, чем мужчин, и потому есть еще в числе их разумные существа, и потому еще в руках некоторых женщин нашего круга есть возможность его спасения.
После слов: «и чувствуете всё то же удовлетворение», стр. 409, строка 26:
Вот в ваших руках, если вы такая, должна быть власть над людьми, и в ваших руках спасение. С каждым днем число ваше уменьшается: одни занимаются своим обаянием на мужчин, делаются уличными; другие заняты конкуренцией с мужчинами в их фальшивых, шуточных делах; третьи, еще не изменив своему призванию, уже в сознании отрекаются от него: совершают все подвиги женщины-матери, но нечаянно, с ропотом, с завистью к свободным, не рождающим женщинам, и лишают себя единственной награды за них — внутреннего сознания исполнения воли Бога —и, вместо удовлетворения, страдают тем, что составляет их счастие.
Мы так запутаны нашей ложной жизнью, мы, мужчины нашего круга, так все поголовно потеряли смысл жизни, что между нами нет уже различения. Взвалив всю тяжесть, всю опасность жизни на шею другим, мы не умеем назвать себя настоящим именем, подобающим людям, заставляющим других погибать вместо себя для добывания жизни: подлецы, трусы.
Но между женщинами есть еще различение. Есть женщины — человеческие существа, женщины, представляющие высшее проявление человека, и женщины — бляди. И различение это будут делать последующие поколения, и мы не можем не делать.
Всякая женщина, как бы она ни одевалась, как бы ни называла себя, как бы ни была утонченна, если она, не воздерживаясь от половых сношений, воздерживается от деторождения, — блядь.
И как бы ни была женщина падшая, — если она отдается сознательно рождению детей, она делает лучшее, высшее дело жизни, исполняя волю Бога, и не имеет никого выше себя.
После слов: «который имеет целью избавление себя от истинного труда», стр. 411, строка 3:
И пусть не говорят те женщины, которые, отрекаясь от призвания женщины, хотят пользоваться правами его, что такой взгляд на жизнь невозможен для матери, что мать слишком тесно связана любовью к детям, чтоб отказать детям в их лакомствах, утехах, нарядах, чтоб не бояться за необеспеченных детей, если муж не будет иметь состояния или обеспеченного положения, и чтобы не бояться за судьбу выходящих замуж дочерей и за сыновей, не получивших образования.
Всё это неправда, самая яркая неправда!
Истинная мать никогда не скажет этого. Вы не можете удержаться от желания дать конфект, игрушек и свести в цирк?
Но ведь вы не даете волчьих ягод, не пускаете одного в лодке, не водите в café chantant? Отчего же вы там можете удержаться, а здесь нет?
Оттого, что вы говорите неправду.
Вы говорите, что вы так любите детей, что боитесь за их жизнь, боитесь голоду, холоду и потому дорожите обеспеченностью, которую вам даст признаваемое вами неправильным положение мужа.
Вы так боитесь тех будущих случайностей, бедствий для ваших детей, очень далеких и сомнительных, и потому поощряете мужа в том, справедливость чего не признаете; но что вы теперь делаете, чтобы в настоящих условиях вашей жизни обеспечить ваших детей от несчастных случайностей теперешней жизни?
Много ли вы время проводите из дня с вашими детьми? хорошо, если 0,1 дня!
Остальное время они в руках чужих, наемных, часто с улицы взятых людей или в заведениях, предоставленные опасностям физической и нравственной заразы.
Дети ваши едят, питаются. Кто из чего готовит обед? Большею частью вы и не знаете. Нравственные понятия кем внушаются им? Вы тоже не знаете. Так не говорите о том, что вы терпите зло для блага детей, —это неправда. Вы делаете зло, потому что вы его любите.
Настоящая мать, та, которая в рождении и воспитании детей видит свое самоотверженное призвание жизни и исполнение воли Бога, не скажет этого.
Она не скажет потому, что она знает, что дело ее в том, чтобы сделать из своих детей то, что̀ ей или царствующему направлению вздумается, она знает, что дети, т. е. следующие поколения, есть самое великое и святое, что̀ дано людям видеть в действительности, и служение всем своим существом этой святыне есть ее жизнь.
Она знает сама, находясь беспрестанно между жизнью и смертью и выхаживая чуть брезжущую жизнь, что жизнь и смерть не ее дело, ее дело — служение жизни, и потому она не будет искать далеких путей этого служения, а только не будет уклоняться от близких.
Включение этих вариантов в окончательный текст ничем не оправдывается.
Особо печатается первоначальная редакция главы XVII «Так что же нам делать?» по сверстанной корректуре «Русской мысли».
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ И КОРРЕКТУР.
Рукописи и корректуры, относящиеся к «Так что же нам делать?» хранятся в Государственном Толстовском музее (сокр. — ГТМ), папки 10, 31, 32, 33, 34, Государственном Литературном музее (сокр. ГЛМ), шифры 2457/11, 11 а, 11 б, 11 в, 2457/12, 2457/35, и в Институте русской литературы Академии наук СССР (сокр. ИРЛИ), шифри во Всесоюзной библиотеке им. Ленина (сокр. БЛ) шифр 3021.
В виду обилия рукописей, а также редакций отдельных глав, выделение всех вариантов в особый отдел затруднило бы возможность разобраться, к какому этапу в работе над произведением тот или иной вариант относится. Поэтому особо печатаются только крупные варианты отдельных глав и частей их, отличающиеся законченностью мысли или картины: варианты же меньшей величины печатаются при описании тех рукописей, к которым они относятся.
1. Автограф ГТМ на 10 листах в 4°. Поля частью есть, частью отсутствуют. Первые шесть страниц не нумерованы. В дальнейшем рукой Толстого перенумерованы полулисты и четвертушки цыфрами от 1 до 5. Страницы 16-я и 20-я чистые, остальные исписаны (три не до конца). Вслед за 2-й страницей — пропуск в тексте. Пропуск этот восполняется зачеркнутым текстом на стр. 17, написанным большей частью на полях. Так как текст этот был написан неразборчиво и очень убористо, Толстой, видимо, переписал его заново, а пригодную для письма оборотную страницу (18-ю) использовал в дальнейшем для продолжения работы. Это подтверждается тем, что ближайшая копия этой рукописи точно воспроизводит на нужном месте зачеркнутое на стр. 17-й. Рукопись написана часто очень неразборчиво, в ней многое зачеркнуто и перечеркнуто, на полях — вставки и приписки, также частью зачеркнутые. Статья, носящая здесь еще заглавие «О помощи при переписи», по своему содержанию соответствует приблизительно первым восьми главам окончательного печатного текста. В ней после вступления, в котором идет речь о неудаче предложения Толстого в связи с переписью, и общих рассуждений о причине этой неудачи, следует рассказ о бедности деревенской и городской и сравнение той и другой, описывается посещение Хитрова рынка, затем Ржановского дома. Вслед за этим рассказывается о тех побуждениях, которые заставили Толстого принять участие в переписи, о попытках его привлечь к помощи бедным богатых людей, о посещении гостиной богатой особы, у которой дамы в пользу бедных шили куклы, наконец, о написании статьи по поводу переписи и о том впечатлении, какое произвела статья на окружающих.
От окончательного текста эта первоначальная редакция сильно разнится по содержанию. В ней есть много подробностей, впоследствии опущенных, но в общем она значительно кратче соответственной части статьи в окончательной ее отделке. Стилистически этот первый набросок явно неотделан.
Печатается полностью в вариантах (№ 1).340
2. Рукопись ГТМ на 17 листах в 4° (8 несшитых полулистов, согнутых пополам, и четвертушка писчей бумаги, с полями). Копия предыдущей рукописи, написанная лишь на лицевых страницах рукой яснополянского школьного учителя, с зачеркиваниями, поправками, приписками в тексте, между строк и на полях рукой Толстого. Полулисты и четвертушки пронумерованы рукой переписчика (1—9). Первоначальное заглавие рукописи «О помощи при переписи» зачеркнуто, затем сверху рукой Толстого написано новое заглавие, «Нельзя дѣлать добро», тоже зачеркнутое, и над ним рукой Толстого написано окончательное заглавие: «Такъ что жъ нам дѣлать?». Начало: «Изъ предложенiя моего по случаю переписи». Конец: «и продолжающій дѣлать дурное». Копия эта, не всегда точно воспроизводящая неразборчивый почерк Толстого, не воспроизводит рукописи целиком (конец копии утрачен) и обрывается на фразе: «Римляне потѣшались тѣмъ, что звѣри на глазахъ у нихъ разрывали». Исправления Толстого сводятся к следующему: зачеркнут эпиграф, сокращено и исправлено вступление, короче говорится о причинах деревенской бедности и тем самым краски, ее рисующие, смягчены; распространеннее рассказано о впечатлении, какое произвели на Толстого Хитров рынок и Ляпинский дом. Подробнее изложены размышления по поводу виденного там. В текст внесен целый ряд поправок, стилистических и смысловых.
3. Рукопись ГТМ на 12 листах в 4°, с полями, исписанная с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с исправлениями и приписками в тексте и на полях рукой Толстого. Состоит из пяти несшитых полулистов писчей бумаги, согнутых пополам, и двух четвертушек. Полулисты и четвертушки пронумерованы рукой переписчика, но неправильно: цыфра 6 поставлена вместо цыфры 8; в рукописи недостает двух полулистов, которые нужно было бы обозначить цыфрами 5 и 6. Они, вместе с еще одним полулистом и двумя четвертушками, заканчивавшими текст рукописи, вставлены в следующую рукопись (см. дальше). Таким образом рукопись обрывается на полуфразе: «А что теперь съѣзжаясь шить». Начало: «Изъ предложенія моего по случаю переписи». Она озаглавлена: «Так что ж нам делать?» и представляет собой копию предыдущей рукописи с теми поправками, какие сделаны в ней Толстым. Но она сохранила в себе значительно больше толстовского текста, чем предшествующая копия. Ряд строк оказался непереписанным, видимо потому, что переписчик не в состоянии был разобрать почерк Толстого. В левом углу первой страницы первого листа, рядом с заглавием, новым почерком написано: «Цицеро». Смысл этой пометы неясен: вряд ли рукопись с рядом неразобранных мест, замененных точками, обильно уснащенная поправками Толстого, могла предназначаться для набора. Да кроме того, никаких следов такого набора на рукописи не сохранилось. Поправки и изменения здесь сравнительно с предыдущей рукописью сводятся к следующему. Вступление еще более сокращается (Толстой вычеркивает целый абзац, заключающий в себе общие моральные соображения), зачеркивается то место, где речь идет о причинах, вызывающих деревенскую бедность, и о способах ее лечения («отберутъ мужика въ солдаты...», «отнимуіъ мужа-работника отъ семьи и посадятъ въ острогъ...», «отберутъ послѣднюю корову...», «отберетъ помѣщикъ или купецъ землю...»). Добавлены некоторые подробности при описании Ржановского дома; значительно изменено то место, где Толстой сообщает свои впечатления от посещения гостиной своей знакомой, у которой дамы шили куклы; добавлены выкладки (впоследствии выпущенные), в которых сопоставляется материальное состояние благотворительниц с той суммой, какую они вырабатывают шитьем кукол, но зато зачеркнуто рассуждение общего характера о том безумии, которое делают светские дамы-благотворительницы и которого они не сознают. Наконец добавлен следующий абзац:
Я много разъ видѣлъ, какъ тѣ Петры и Семены, не имѣющіе ничего, кромѣ своихъ рукъ, подаютъ милостыню: Недавно при мнѣ Семенъ далъ убогому 3 к. и спросилъ у него 2 к. сдачи. У убогого было сдачи только копѣйка. «Ну, Богъ съ тобой». А я знаю, что у Семена накоплено 7 руб. Онъ далъ, стало быть, 1/350 своего сбереженія. Мы всѣ, здоровые люди, находимся въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и Семенъ, т. е. можемъ и должны и хотимъ зарабатывать хлѣбъ и, кромѣ того, имѣемъ сбереженія: у кого милліонъ, у кого 500 т., у кого, какъ у меня, 200 т. Сколько же мнѣ надо дать нищему, чтобы поступить такъ, какъ Семенъ? 600 р. А тому, у кого милліонъ, 3000 р. Надо дать, такъ, какъ Семенъ, — 300 или 600, все равно, и «Богъ съ тобой».
Впоследствии — в измененной редакции — это место перенесено было в XV главу окончательного текста.
4. Рукопись ГТМ на 26 листах в 4°, с полями, исписанная тем же почерком, что и рукопись № 2, с поправками и приписками в тексте, на полях и на отдельном листке рукой Толстого. В нее вставлены три полулиста и две четвертушки, извлеченные из рукописи, описанной под № 3, так что получается связный текст. В начале рукописи стоит заглавие: «Так что же нам делать?». Начало: «В прошломъ году я написалъ статью». Конец: «и съ многими по нескольку разъ». Рукопись занимает девять полулистов писчей бумаги, согнутых пополам, семь четвертушек такой же бумаги и полулист почтовой бумаги малого формата, представляющий собой вставку между третьим и четвертым полулистом, написанную сплошь рукою Толстого. Все страницы, кроме последней, исписаны. Рукопись имеет нумерацию (не рукой Толстого), идущую по полулистам и четвертушкам (от 1 до 14), затем по страницам от 63 до 71. Текст сплошной, но нумерация неправильна. Цыфрой 5 дважды обозначены рядом стоящие четвертушка и полулист, цыфры 6 и 7 в обозначении пропущены. Нумерация 63—71 сделана наново вместо бывшей прежде и зачеркнутой потом 17—21. Пестрота нумерации объясняется, видимо, тем, что рукопись образовалась в результате комбинации разновременно написанных ее частей. Рукопись, не поделенная на главы, соответствует четырем первым главам окончательного печатного текста и началу пятой. В основном слое, написанном переписчиком (не А. П. Ивановым), она представляет собой копию части предыдущей рукописи с теми поправками, какие сделаны в ней Толстым, и заключает в себе в свою очередь много новых поправок и приписок в тексте, на полях и на отдельном вставном листе, сделанных рукой Толстого. В самом начале рукописи к существующему тексту рукой Толстого приписано следующее начало:
Въ прошломъ году я написалъ статью по случаю переписи, въ которой я предлагалъ богатымъ людямъ заняться бѣдными и отдать излишекъ своего досуга и богатства бѣднымъ, съ тѣмъ чтобы не было бѣдныхъ въ городѣ.
Далее, как и в предыдущей рукописи, следует: «Из предложения моего ничего не вышло».
Главнейшие особенности этой комбинированной рукописи сводятся к следующему. Вступительная часть статьи подвергается новому сокращению. По сравнению с предыдущими рукописями здесь находим ряд новых вариантов. Приводим наиболее существенные. Во вступлении читаем:
Стоитъ затѣять что нибудь серьезное, не игрушечное, чтобъ убѣдиться, что подъ ногами трясучее и вонючее болото, въ которомъ проваливаемся при каждомъ усиліи. Правы тѣ, которые изѣ чувства самосохраненія не позволяютъ себѣ, стоя на этомъ болотѣ, сдѣлать ни однаго настоящаго, естественнаго движенія; но неужели не правы и тѣ, которые, понявъ ненадежность болота, предлагаютъ сойти съ него?
В том же вступлении далее добавлено:
Постараюсь разсказать искренно, правдиво все, что я испыталъ, передумалъ и перечувствовалъ до написанія статьи, во время и послѣ ея. Какъ бы я не подтасовывалъ свои мысли, излагая ихъ въ искусственной связи, я скажу только то, что я перечувствовалъ и передумалъ. Такъ не лучше ли разсказать, какъ я все это думалъ и чувствовалъ?
Несколько ниже — следующий абзац, приписанный на полях:
Нормальное, естественное состояніе деревенскаго жителя-земледельца есть удовлетворенность; бѣдность, недостатки деревенскаго жителя составляютъ отступленіе отъ естественнаго порядка. Причины деревенской бѣдности — или роковыя бѣдствія, градобитіе, засухи, падежи, болѣзни, или слѣдствія жестокости людей: налоги, суды, солдатчина, но и то и другое — черныя пятна на золотомъ полѣ; какъ ни много этихъ пятенъ, вы чувствуете, что основа — это золотое поле, и если вы захотите содѣйствовать уничтоженію этихъ бѣдствій, вы знаете, что вамъ дѣлать, и при каждомъ усиліи вашемъ вы видите, что уменьшается черное пятно и выступаетъ золотое поле. Но не то съ городской бѣдностью.
В рассуждении о городской бедности, в том месте, где речь идет о том, что по признанию церкви всякий нищий есть Христос и его всё же ведут в участок, добавлено:
Зачѣмъ каждое воскресенье и каждый праздникъ стоятъ эти Христы въ двѣ шеренги, и всѣ набожные люди, отыскивая Христа, не останавливаются подлѣ нихъ и не дѣлаютъ по отношенію къ нимъ того, что нужно, чтобы Христосъ узналъ своихъ овецъ, а идутъ мимо ихъ и что-то дѣлаютъ въ церкви и рѣдко, рѣдко дадутъ 3 к. одному изъ этихъ Христовъ?
В связи с этим — дальнейшие размышления по поводу нищих. Этим paзмышлениям отведен большой новый абзац, написанный Толстым на полях и на отдельном листке (см. вариант № 2).341 Далее опять идет речь о деревенской бедности, но краски здесь значительно смягчены по сравнению с тем, что читаем в предыдущих рукописях:
Я понялъ, что здѣсь совсѣмъ не то, что въ деревнѣ. Тамъ у мужика нѣтъ хлѣба, нѣтъ лошади, у дѣтей нѣтъ молока. Дайте хлѣба, лошадь, корову и даже прямо деньги; если только это не испорченный городомъ мужикъ, то покроется нужда, задержанная несчастьемъ жизнь справится и потечетъ опять своимъ обычнымъ теченіемъ. Но здѣсь не то.
В описании Хитрова рынка и впечатления, произведенного им, добавлены кое-какие подробности (рассказ мужика, наварившего сбитень, о своем бедственном положении, рассказ о том, как дворник разгонял толпу). Новым по сравнению со всеми предшествующими рукописями является заключение главы. После слов о том, что Толстой мог бы отдать бедным всё свое имущество, читаем:
И я понялъ, что городская бѣдность — ужасная бѣдность, что напрашивавшееся мнѣ въ голову разсужденіе, что городскіе бѣдные сами виноваты тѣмъ, что не хотятъ работать, — очень скверное разсужденіе. Если десятки, сотни, тысячи, десятки тысячъ людей страдаютъ и гибнутъ въ Москвѣ отъ холода и голода, то не они въ этомъ виноваты. А если кто виноватъ, то это тѣ, которые живутъ во дворцахъ и ѣздятъ въ каретахъ. Разсужденіе это было ни на чемъ не основано, но такъ оно сказалось моему сердцу. Пройдите въ 6-мъ часу вечера зимой около пассажа и посмотрите на выставки магазиновъ, на прикащиковъ, покупателей и на таинственныя раздѣтыя фигуры во всѣхъ темныхъ углахъ, вглядитесь въ выраженія лицъ этихъ фигуръ, и вы испытаете то же чувство. Виноваты роскошные магазины пассажей въ нищетѣ этихъ. Какъ и почему это такъ, я не съумѣлъ бы доказать, но чуялось, что это такъ. И нужно будетъ изслѣдовать это.
Вслед за этим зачеркнут рассказ о первом впечатлении от наружного осмотра Ржановского дома, и речь идет о подготовке Толстого к переписи, об его обращении к знакомым с предложением принять в ней участие личным трудом и деньгами, о посещении гостиной той особы, у которой дамы шили куклы с благотворительной целью, наконец, о написании статьи по поводу переписи и о впечатлении, ею произведенном на разных людей. Далее уже говорится о первом посещении Ржановского дома и о наружном знакомстве с ним, а затем о вторичном посещении Ржановского дома.
5. Рукопись ГТМ без начала, на 3 листах в 4° (последний чистый), с полями, исписанная рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Начало: «съ дневной работы». Конец: «вонь становилась все сильнѣе и». Состоит из полулиста писчей бумаги, согнутого пополам, и вложенной в него четвертушки. Первая, исписанная четвертушка полулиста и вложенная четвертушка занумерованы цыфрами 9 и 70. На второй четвертушке текст обрывается на полуфразе. Продолжение его на четвертушке, обозначенной ранее цыфрой 71 и попавшей с изменением нумерации в контекст рукописи № 7 (см. ниже). Весь текст рукописи, переписанный Ивановым, представляет собою копию двух последних четвертушек предыдущей рукописи, сделанную специально в виду того, что на этих двух четвертушках добавлен собственноручно Толстым обширный заключительный абзац. Поправки Толстого очень многочисленны.
6. Рукопись ГТМ без начала на 11 листах в 4°, с полями, исписанных рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Начало: «Выяснили количество и степень». Конец: «больше тысячи жителей». Представляет собой сшитую тетрадь. Все страницы, за исключением последней, чистой, нумерованы. Первые 38 страниц (19 четвертушек) из этой тетради вырезаны и частью включены в рукопись № 7 (см. ниже). Таким образом в тетради сохранились лишь страницы 39—58. Основной слой этой рукописи, написанный рукой переписчика, вместе с вырезанными четвертушками, представляет собой копию рукописи № 4, но не доведенную до конца; она обрывается в начале IV главы (текст поделен здесь на главы) словами: „«Точно изъ Ржановской крѣпости вырвался», слышалъ я разъ брань извощиковъ“. Поправки Толстого сводятся главным образом к новой редакции некоторых абзацев и к устранению других. Так, устранен отсюда абзац, введенный в рукопись № 3 и рассказывающий о том, как Петры и Семены подают милостыню.
7. Рукопись ГТМ на 31 листе в 4° (последний чистый), с полями, исписанная вперемежку почерками обоих знакомых уже нам переписчиков с поправками, добавлениями и сокращениями рукой Толстого. Вслед зa заглавием «Такъ что жъ намъ дѣлать?» Начало: «Въ третьемъ году я написалъ статью». Конец: «и съ многими по нѣскольку разъ». Состав рукописи следующий. 1) десять четвертушек, исписанные рукой Иванова и вырезанные из рукописей № 6 (см. выше), 2) три четвертушки, исписанные рукой переписчика, работавшего над рукописью № 2, 3) одна четвертушка, исписанная поочередно обоими этими переписчиками, 4) две четвертушки, исписанные рукой А. П. Иванова, опять из тех, которые вырезаны из рукописи № 6, 5) тетрадь из шести согнутых пополам и сшитых полулистов, исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, 6) полулист, согнутый пополам, в котором первая страница исписана рукой А. П. Иванова, вторая рукой Толстого, две последние чистые; в этот полулист вложена четвертушка, продолжающая и заключающая предыдущий текст и извлеченная из рукописи № 5 (см. выше). Новым материалом здесь является текст, написанный в тетради и на полулисте. Этот текст в основном слое, написанном рукой переписчика, является копией уцелевшей части рукописи № 6, № 5 и части № 4. Рукопись имеет нумерацию. Четвертушки пронумерованы цыфрами от 1 до 30 (от 1 до 9 рукой переписчика, от 10 до 30 — заново рукой Толстого), причем одной и той же цыфрой 10 обозначены две рядом стоящие страницы; одна страница не занумерована, так как она целиком перечеркнута. Текст, написанный на обороте 17 страницы, обозначен цыфрой 26, и на полях этой страницы рукой Толстого написано: «Пропустить и послѣ 25». В дальнейшем рукой переписчика пронумерованы сшитая тетрадь, полулист и четвертушка последовательно цыфрами 1, 2, 3. В самом начале рукописи, на полях, карандашом, видимо рукой Толстого, проставлена дата: 1884. Текст поделен на пять глав. Судя по пометам на полях, часть рукописи (четвертушки, пронумерованные цифрами от 1 до 30) была в наборе (см. ниже). По сравнению с предшествующими рукописями здесь находим следующие — наиболее существенные изменения. Исключены эпизод с нищим и гренадером, а также мысли Толстого, вызванные этим эпизодом. Далее — после того места, где говорится о том, как обманули Толстого семь мужиков, обещавших прийти на работу и не пришедших, зачеркнуто всё, где речь идет о том, что некоторые старые люди — за 60 лет — делают неимоверно тяжелую работу, чтобы заработать 40 копеек. Вместо этого на полях приписано:
Такъ же обманывали меня и женщины. Женщина, увѣрявшая, что ей нужно только 2 рубля на проѣздъ, получивъ эти 2 рубля, попалась мнѣ черезъ недѣлю опять на улицѣ. Люди эти обманывали меня, но они отъ этаго не переставали быть жалкими. Страданія были написаны на ихъ лицахъ, на ихъ въ большинствѣ случаевъ худыхъ, болѣзненныхъ тѣлахъ.
Зачеркнуто вставленное в предшествующую рукопись место, начинающееся словами: «Пройдите въ 6-мъ часу вечера зимой около пассажей...» до конца абзаца. Зачеркнуты и некоторые другие места, в которых Толстой резко говорит о богатых и знатных людях. Так, зачеркнут следующий абзац:
Мнѣ казалось, что интересно было бы узнать: сколько людей не имѣютъ необходимыхъ одеждъ и у сколькихъ людей полы и лѣстницы обиты сукнами и коврами, сколько людей не имѣютъ достаточной свѣжей пищи и сколько людей не переставая объѣдаются, сколько людей задавлены работой, не смотря на старость и слабость, и сколько людей никогда ничего не работаютъ.
Зачеркнуто следующее место, описывающее дамское общество, собравшееся для шитья кукол:
увидалъ эти атрофированныя, прошедшія черезъ разныя притиранія, бѣлыя въ перстняхъ, неспособныя къ работѣ руки, копошащіяся въ тряпочкахъ, эти шиньоны, кружева и приторныя лица въ сотенныхъ пелеринкахъ.
Сделаны еще кое-какие сокращения и вставки, существенно однако не меняющие текста. В остальном всё, что говорится о приготовлениях к переписи, значительно приближается к окончательному печатному тексту. Дальнейший текст рукописи также приближается к печатному тексту. Описание Ржановского дома в нем значительно подробнее, чем во всех предыдущих рукописях. Очевидно, в самом начале Толстой решил ограничиться сообщением самых кратких сведений об этом доме, но затем, в окончательной редакции, Ржановскому дому отведено было целых восемь глав (с четвертой по одиннадцатую включительно). Некоторые подробности в этом описании, существовавшие в ранних редакциях (рукописи 1—3), были распределены между отдельными главами окончательного текста, другие опущены вовсе (напр., упоминание о старухе, называвшей себя княгиней Трубецкой, и о пьяном человеке, называвшем себя дворянином). При просмотре этой части рукописи Толстой произвел перестановки некоторых абзацев. На полях и на оборотной стороне чистой страницы несколько приписок и вставок. Наиболее интересна вставка, следующая за тем местом, где речь идет о том, что мальчик Ваня повел Толстого к счетчикам, под навес, откуда доносилась сильная вонь:
«Ну вот начинается», думалъ я, и мнѣ вспомнилось то чувство, которое я испытывалъ давно-давно, когда я въ сраженіи входилъ въ пространство, обстрѣливаемое непріятелемъ. То же чувство жутости и внутренній подъемъ духа, чтобы побѣдить эту жутость. Я точно шелъ на сраженіе.
В дальнейшем эти строки были выброшены. Впечатление о сравнительной обеспеченности обитателей 30 номера, в окончательной редакции выраженное полно и распространенно, здесь сообщено лишь в самой общей форме. В остальном — равница с печатным текстом лишь во второстепенных подробностях. Здесь однако мы не встречаем еще тех чисто стилистических особенностей, которые окончательной редакции «Так что же нам делать?» придают характер не только морально-философского, но художественного произведения и обнаруживаются в обилии образных подробностей.
8. Корректура журнала «Русская мысль», хранящаяся в ГТМ, на 5 гранках, представляющая собой набор части только что описанной рукописи. Набраны полностью первые шестнадцать четвертушек, пронумерованные цыфрами от 1 до 30 (см. выше). Набор начинается заглавием «Такъ чтожъ намъ дѣлать?» и далее словами: «Въ третьемъ году я написалъ статью по случаю переписи» и обрывается на той же части фразы — «нельзя ли поставить такіе вопросы, которые бы», на которой обрывается и текст последней четвертушки рукописи. Набранный текст поделен на главы. В нем — две первые главы целиком и первые три строки третьей главы. В корректуре очень многое исправлено рукой Толстого, зачеркнуто, перечеркнуто, на полях — целые новые абзацы, иногда перечеркнутые. Зачеркнуто сравнение городской и деревенской бедности; зачеркнута вся тирада о несоответствии факта преследования нищих с законами Христа, которые исповедуют преследующие. Зачеркнуто описание подробностей путешествия к Хитрову рынку.
Вслед зa первыми строками главы III: «Случилась перепись, и я принял участие в ней» — сделана следующая вставка, однако тут же перечеркнутая, как и всё набранное начало третьей главы:
Но я не внялъ голосу моего сердца. Я объяснилъ себѣ чувство, испытанное мною, состраданіемъ. Я даже радовался и умилялся на свою доброту. Въ этотъ же вечеръ я разсказывалъ свое впечатлѣніе одному пріятелю. Пріятель началъ говорить мнѣ, что [это] самое естественное явленіе, что я напрасно вижу въ этомъ что-то особенное и что это должно такъ быть. Я сталъ возражать своему пріятелю, но съ такимъ жаромъ и съ такою злобою, что жена прибѣжала изъ другой комнаты, спрашивая: что случилось? Оказалось, что я съ слезами въ голосѣ махалъ руками и кричалъ на своего пріятеля. Это было то негодованіе и злоба, которыя бываютъ только у людей, сознающихъ себя виноватыми и желающихъ оправдаться. Но я не понялъ, что первое мое чувство негодованія и презрѣнія и отвращенія къ себѣ было справедливое. Я рѣшилъ, что волнуетъ меня состраданіе, что я очень добрый человѣкъ и желаю помочь бѣднымъ. Съ этой цѣлью я и принялъ участіе въ переписи.
Кроме того, в корректуре ряд менее существенных вставок и исправлений отдельных слов и фраз.
9. Рукопись ГТМ на 25 листах в 4°, озаглавленная: «Такъ чтожъ намъ дѣлать?», исписанная рукой А. П. Иванова с собственноручными поправками и приписками Толстого. Начало: «Въ третьемъ году я написалъ статью». Конец: «которые онъ весь тутъ». Состоит из двух сшитых тетрадей и одного полулиста писчей бумаги, согнутого пополам. Листы исписаны с обеих сторон. В первую тетрадь между стр. 6 и 7 вложена четвертушка, на одной стороне которой рукой Толстого написано окончание эпизода посещения участка, начатого на полях стр. 6. Нумерация идет по четвертушкам, причем на оборотной стороне седьмой четвертушки в самом низу рукой переписчика написано: «Продолж. на 8 стр. печат.» Далее текст обрывается на середине описания Хитрова рынка, и затем следуют четвертушки, занумерованные цыфрами 11, 12, 13. На 11 четвертушке начинается рассказ о приготовлении к переписи. В начале этого рассказа поставлена цыфра III для обозначения новой главы. Следующая тетрадка непосредственно продолжает текст предыдущей. В левом углу тетрадки обозначено: № 2, а в правом стоит цыфра 14. Дальнейшая нумерация отсутствует. Текст этой тетради продолжается на полулисте, сплошь исписанном и помеченном № 3. По количеству текста, начальным и конечным строкам эта рукопись вполне совпадает с рукописью № 7. Она восходит непосредственно в первой своей части к исправленной Толстым корректуре, во второй же части ко второй половине рукописи № 7, следующей за первыми 15 четвертушками, бывшими в наборе. Копия корректуры, так же как и конец части рукописи № 7, подверглись автором новой переработке.
Существенные добавления и сокращения в тексте рукописи № 9, сделанные Толстым, сводятся к следующему. При описании городской бедности здесь впервые Толстой знакомит нас с фигурой нищего-дворянина в фуражке с кокардой, приседающего на одну ногу и застенчиво просящего милостыню; впервые также в этой редакции рукописи описана сцена посещения Толстым полицейского участка после того, как туда свез городовой нищего, больного водянкой. После описания Ляпинского дома Толстой начал третью главу со следующего абзаца, который, впрочем, зачеркнут:
Съ этаго дня случилось то, что я не могъ уже видѣть безъ отвращенія барина или барыню на рысакахъ, освѣщенныхъ магазиновъ съ заманчиво разложенной ѣдою, не могъ видѣть дворцовъ съ освѣщенными подъѣздами, лѣстницами и швейцарами, не могъ видѣтъ всю ту бездушную роскошь, которая окружала меня, не могъ садиться за столъ, входить въ свою комнату, ложиться въ постель отъ отвращенія и живаго воспоминанія всѣхъ тѣхъ людей, которыхъ я видѣлъ у дверей Ляпинскаго дома. Они и нынче и завтра будутъ тамъ въ томъ же положеніи, а я буду съ папиросой за послѣобѣденнымъ кофе сидѣть на пружинномъ креслѣ или сидѣть за вистовымъ столомъ съ 4-мя свѣчами.
Впоследствии это место было смягчено и вошло в окончательный текст, несколько отступя от начала главы. Вслед зa этим в рукописи идет рассказ о том, как Толстой делился со своими знакомыми впечатлениями от посещения Ляпинского дома и как это было ими принято. Этого рассказа в предыдущих редакциях не было, и он в стилистически видоизмененной форме и в переделанном виде вошел в окончательный текст сочинения. То место, где Толстой говорит о богатстве дам, собравшихся в гостиной для шитья кукол, и сравнивает материальную ценность сделанной ими работы с ценностью ненужных вещей, которыми эти дамы обладают, обведено на полях чертой и вдоль черты написано рукой Толстого: «пропустить». Как и в предыдущей рукописи, здесь первоначально написано было о том, что, окончивши статью о переписи, Толстой прочел ее сначала знакомому прокурору, потом либеральному писателю, наконец, в думе. Но затем упоминание о чтении статьи прокурору и литератору зачеркивается и остается лишь указание на то, что статья читалась в думе. Зачеркивается и переписанное переписчиком место, где говорится о колебаниях Толстого — печатать или не печатать статью — и о том, что статья была напечатана по настоянию одного человека, который передал автору единственную свою десятирублевую бумажку на дело помощи бедным. Далее — зачеркнута часть текста (около двух страниц), где идет описание первого впечатления от Ржановского дома при наружном с ним знакомстве. В предыдущих редакциях неоднократно говорилось о том, что впечатление, вынесенное Толстым от знакомства его с Ржановским домом, было совсем не то, какого он ожидал, что люди, этот дом населявшие, не вызывали сострадания и что положение их было лучше, чем положение деревенских жителей. Все эти замечания здесь оказались зачеркнутыми рукой Толстого.
10. Автограф ГТМ без начала и конца на 2 ненумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон, с поправками, приписками на полях, перечеркиваниями текста. Начало: «Не возбудили во мнѣ того чувства». Конец: «производство тѣхъ несчастныхъ, которыхъ я видѣлъ въ Ляпинскомъ домѣ». Текст по содержанию близок к главе VI окончательного печатного текста, заключая в себе ряд вариантов к нему. Наиболее существенный — следующий:
Таково было первое впечатлѣніе. Я обходилъ всѣ квартиры и днемъ и ночью, 5 разъ, я узналъ почти всѣхъ жителей этихъ домовъ, я понялъ, что это первое впечатлѣніе было впечатлѣніе хирурга, приступающаго къ лѣченію раны и еще не понявшаго всего зла. Когда я осмотрѣлъ рану въ эти 5 обходовъ, я убѣдился, что рана не только ужасна и хуже въ 100 разъ того, что я предполагалъ, но я убѣдился, что она неизлѣчима и что страданіе не только въ больномъ мѣстѣ, но во всемъ организмѣ, и что лѣчить рану нельзя, а единственная надежда излѣченія есть воздѣйствіе на тѣ части, который кажутся не гнилыми, но которыя поражены точно такъ же.
11. Рукопись ГТМ без начала и конца на 3 нумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой переписчика рукописи № 2, с поправками, перечеркиваниями и вставками в тексте и на полях рукой Толстого. Четвертушки занумерованы цыфрами 29, 30, 31. Начало: «Я испыталъ въ Ляпинскомъ домѣ». Конец: «торгующей своей 14-ти лѣтней дочерью». Текст, переписанный рукой переписчика, восходит непосредственно к предшествующей рукописи, представляя собой вновь исправленную Толстым копию.
12. Рукопись ГТМ на 35 листах в 4°, озаглавленная «Такъ чтожъ намъ дѣлать?», исписанная той же рукой, что и рукопись № 2, с собственноручными поправками, перечеркиваниями, приписками в тексте и на полях рукой Толстого. Листы исписаны с обеих сторон. Начало: «Въ третьемъ году я написалъ статью». Конец: «которое я испьталъ въ Ляпинскомъ домѣ». Среди страниц, исписанных чужой рукой, — две четвертушки, исписанные с обеих сторон сплошь рукой Толстого, и полулист почтовой бумаги малого формата, с одной стороны исписанный его же рукой. Рукопись состоит 1) из сшитой тетрадки в 40 страниц с нумерацией от 1 до 20 по четвертушкам (между страницами 30 и 31 — незанумерованный полулист почтовой бумаги, на одной странице которого рукой Толстого написан новый текст взамен зачеркрутого в тетради), 2) из девяти четвертушек и трех полулистов, согнутых пополам, — всего 30 страниц, из которых две последние — чистые. В рукописи недостает двух четвертушек, которые должны были быть занумерованы цыфрами 21 и 22: вслед за цыфрой 20 идет цыфра 23, и счет четвертушек последовательно идет до 28, затем — четвертушка, исписанная рукой Толстого и не занумерованная, далее — две четвертушки с оторванными левыми углами, обозначенные вверху цыфрами 59 и 60, что указывает на то, что они вошли в состав данной рукописи из другой — именно рукописи № 4; затем прерванный счет продолжается, и идут четвертушки, пронумерованные цыфрами от 29 до 32, причем после 28 и 31 четвертушек вставлены две четвертушки, исписанные рукой Толстого. Кроме этого счета, четвертушки, начиная с 23, и полулисты имеют еще другой счет, сделанный сбоку на полях рукой Толстого цыфрами от 3 до 15, причем цыфрой 12 обозначены две рядом стоящие четвертушки. Рукопись поделена на пять глав. Глава V обрывается на полуфразе: «Такъ что первый обходъ Ржановскаго дома не возбудилъ во...» Текст рукописи по содержанию соответствует первым шести главам окончательного печатного текста. Данная рукопись непосредственно восходит к рукописям №№ 9 и 11, воспроизводя все исправления Толстого и заключая в себе очень много новых его исправлений, сокращений и дополнений. Здесь — дальнейшее приближение к окончательной печатной редакции. Всё вступление, где говорится о написании статьи о переписи и о причинах ее неудачи, сначала исправлено рукой Толстого, а затем вовсе зачеркнуто. Первые незачеркнутые и выправленные строки в этой рукописи и глава I почти совпадают с началом сочинения в печатной редакции.
Глава II здесь после поправок Толстого также почти во всем совпадает с соответствующей главой окончательной печатной редакции, если не считать несущественных стилистических и словарных вариантов. Главные ее отличия от печатного текста следующие. О худом юноше, пившем вторым сбитень, Толстой в этой рукописи говорит так:
Худой юноша, блѣдный, съ оттѣнкомъ интеллигенции т. е. умственного разврата на лицѣ... протерся ко мнѣ черезъ толпу.
Эти слова, появляющиеся здесь впервые, в печатном тексте были опущены. После того, как сказано о горбоносом в ситцевой рубахе, в этой рукописи, написано:
Потомъ старикъ длинный, клиномъ борода, въ пальто, подпоясанъ веревкой и въ лаптяхъ, пьяный. Потомъ краснорыжій въ лохмотьяхъ, пальто и опоркахъ, на босу ногу; потомъ что то офицерское.
Конец главы, в котором говорится о неосновательности пришедшего Толстому в голову рассуждения о том, что бедные сами виноваты в своей участи, зачеркнут. Главы III, IV и V, после ряда исправлений, сделанных Толстым в рукописи, также очень значительно, не только по содержанию, но и по текстуальным подробностям, приблизились к окончательной печатной редакции. В пятой главе зачеркнуто место, в котором отожествляются ощущения, какие испытывал Толстой на поле сражения и при входе в Ржановский дом. Что касается главы VI, которая в рукописи не обозначена как отдельная глава, то она значительно больше разнится здесь от окончательного текста. Некоторые подробности ее впоследствии вовсе были опущены (напр., рассказ о том, что проститутки при виде счетчиков тотчас закуривали, смеялись и игриво обращались с мальчиком-половым, сопровождавшим счетчиков; затем — упоминание о больном лихорадкой офицере, проедающем свое последнее пальто, упоминание о слепом зверообразном старике-закладчике). Рассказ о том, как для заполнения карточек вызывался «ученый» человек, с удовольствием делавший эту работу, оказался в печатном тексте перенесенным в следующую главу, а упоминание о матери-проститутке, торгующей своей малолетней дочерью, — в главу VIII, где оно сопровождается уже характеристикой матери и дочери и рассказом о бесплодных попытках спасти дочь. В данной рукописи речь идет о мальчике, оставшемся в Ржановском доме после того, как его отца — сапожника посадили в острог за убийство. И дальше говорится, что мальчик этот взят был в семью лавочника, у которого своих было пятеро. Вместо этой подробности в главе VI печатного текста говорится уже о девочке, оставшейся сиротой и взятой в семью портного, у которого было своих трое. О мальчике же подробно сказано в главе IX печатного текста, но там он оказывается взятым не лавочником, а самим Толстым, от которого, впрочем, сбежал. В рукописи глава заключается замечанием о беседе Толстого со студентами-счетчиками по поводу опроса особенно нуждающихся. Впоследствии это заключение было выброшено.
13. Автограф ГTM, 3 отдельные четвертушки. Три отрывка, относящиеся к IV главе окончательного печатного текста, написанные на одной стороне листа. Начало первого отрывка: «За три дня до начала обхода я одинъ пошелъ осмотрѣть назначенный мнѣ кварталъ». Конец: «Я подошелъ къ воротамъ съ Проточнаго переулка съ ужасомъ». Начало второго отрывка: «По плану, который мнѣ дали, я зналъ»... Конец: «Я вошелъ въ открытыя ворота». Начало третьего отрывка: «Я въ первый разъ это очень понялъ»... Конец: «и пришелъ къ нему часовъ въ 12».
14. Рукопись ГТМ на 28 листах в 4°, написанная крайне неразборчиво, с массой поправок и помарок рукой Толстого, зa исключением семи страниц, исписанных рукой С. А. Толстой и исправленных Толстым. Начало: «VII». Я такъ былъ пьянъ самооболыценіемъ». Конец: «которые кормютъ меня убогаго». Состоит из четырнадцати четвертушек и семи полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. Все листы, за исключением трех, исписаны с обеих сторон. Рукопись пронумерована рукой Толстого по страницам. Нумерация начинается с цыфры 2 и кончается цыфрой 53. Страницы с цыфрой 18 недостает — она утрачена. Сплошь зачеркнутые страницы не занумерованы; не занумерованы также оборотные чистые страницы. Текст рукописи поделен на главы, обозначенные цыфрами VII, VIII, IX, и соответствует главам VII—XVI окончательного печатного текста, к которому он стоит довольно близко. В рукописи — многочисленные, хотя и несущественные для содержания и небольшие по объему варианты сравнительно с окончательным печатным текстом и в ряде случаев иное расположение отдельных абзацев, иная их последовательность. Из более существенных отличий следует указать следующие. В рукописи отсутствует место, соответствующее концу XIII главы окончательного печатного текста и содержащее в себе замечания о том, что бедные относятся отрицательно к наблюдаемым ими у богатых роскоши и мотовству, и рассказ о фактах гибельного влияния господской роскоши на прислугу; отсутствует далее место, соответствующее началу XV главы окончательного печатного текста и заключающее в себе размышления о разных способах благотворительности. Вслед за размышлениями о том, что для сближения с бедными необходимо разрушить стену чистоты и образования, ставшую между ними и нами, размышлениями, замыкающими XIV главу окончательного печатного текста, Толстым написан был следующий абзац, тут же зачеркнутый:
И я тогда написалъ слѣдующее. «Чтожъ, такъ и оставить это? — спрашивалъ я себя. — Забыть и продолжать жить? Хорошо тѣмъ, которые могутъ это сдѣлать, но что же дѣлать намъ — а я знаю, что насъ много, — которые не могутъ забыть и которым нечѣмъ другимъ жить, кромѣ желанія поправить это, которымъ опротивѣли послѣднія радости при сознаніи того, что то есть. Не могу я спокойно обѣдать, когда подъ окномъ кричать отъ боли и стонутъ умирающіе. Да еще и стоны умирающихъ я бы перенесъ и привыкъ бы къ німъ. Но корчи гибели дѵшъ человѣческихъ — этаго нельзя видѣть, нельзя терпѣть, если это есть. Чтожъ — такъ и сидѣть, какъ сидитъ человѣкъ въ темницѣ и видитъ, какъ подъ окнами гибнутъ люди? Нельзя такъ сидѣть. Нельзя проскочить сквозь стѣны темницы, чтобъ помочь гибнущему, такъ надо сломать эти стѣны; зубами, ногтями, — но сломаемъ стѣны. Единственный смыслъ жизни — пока нельзя дѣлать дѣло помощи, ломать то, что мѣшаетъ этому дѣлу. Мы хотимъ помочь братьямъ, но мы разобщены съ ними. Такъ сломаемъ то, что разобщаетъ насъ».
15. Рукопись ГТМ на 16 листах в 4°, без начала. Состоит из семи согнутых пополам полулистов писчей бумаги и двух четвертушек такой же бумаги. Все страницы, кроме одной, исписаны: первые четыре и начало пятой — рукой С. А. Толстой, с многочисленными поправками и приписками в тексте и на полях рукой Толстого, остальные сплошь рукой Толстого. Систематической нумерации рукопись не имеет. Пронумерованы рукой Толстого лишь первые, собственноручно написанные им, семь страниц. Начало: «тысячи людей будутъ трудиться на поддержаніе этой никому не нужной жизни»... Конец: «Человѣкъ перестаетъ быть человѣкомъ и становится животнымъ, да еще хищнымъ». Рукопись, не поделенная на главы, заключает в себе текст, соответствующий концу главы XVI и главам XVII — XX первоначальной печатной редакции («Русской мысли»), но вполне с ней не совпадает. Порядок текста здесъ еще иной, чем тот, который был в «Русской мысли». Текст, соответствующий главе XX редакции, напечатанной в «Русской мысли», и XXIV окончательного печатного текста («Прошлого года, в марте, я поздно вечером возвращался домой...») и текст, соответствующий главе XVIII редакции «Русской мысли» и главе XXII окончательного печатного текста («Меня всегда удивляют часто повторяемые слова: да, это так по теории...») переставлены здесь один вместо другого.
Текст рукописи довольно близок к тексту «Русской мысли», но распорядок абзацев в отдельных главах там и здесь часто различен. Есть и варианты, не попавшие в редакцию текста «Русской мысли».
Так, вслед зa окончанием текста, соответствующего главе XVII, в рукописи читаются следующие два абзаца:
И вотъ я пришелъ къ сознанію, что мнѣ, богатому, помогать бѣднымъ — это все равно, что грязными руками вытирать запыленное стекло. Чѣмъ больше я стараюсь, тѣмъ хуже.
Ну такъ что же? Перестать дѣлать то, что глупо, т. е. грязью вытирать чистое, и сидѣть сложа руки и ждать, чтобы власть принимала такія мѣры, которыя исправили бы это зло, или того, чтобы по соціологическимъ законамъ зло это исправилось само собой. Но разъ увидавъ то, что есть, я уже не могъ такъ прищурить глаза, чтобы перестать видѣть это. Я видѣлъ это во всемъ, вездѣ. Мнѣ даже казалось, что какая то злая случайность постоянно наталкиваетъ меня на исключительныя зрѣлища, нарушающія мое спокойствіе. Но это мнѣ только казалось такъ, какъ кажется, что по особенной случайности всегда толкнешься именно больнымъ пальцемъ. Больное мѣсто болѣло у меня, и мнѣ казалось, что все било по немъ.
В тексте рукописи, соответствующем концу главы XIX в редакции «Русской мысли» и концу главы XXIII окончательной печатной редакции, там, где речь идет о сыне, спящем до 11 часов утра, употреблены более резкие выражения, чем в печатном тексте: вместо «малый» — «мерин», вместо «наевшись» — «нажравшись».
Кроме того, текст, соответствующий главе XVIII «Русской мысли», вслед зa последним абзацем: «Третья причина» и т. д. имеет здесь еще продолжение, уже в корректуре зачеркнутое (см. вариант № 3).342
16. Рукопись ГТМ, озаглавленная «Такъ чтожъ намъ дѣлать?» на 104 листах, в 4° из которых первых 30 исписаны рукой переписчика рукописи № 2, остальные рукой С. А. Толстой, за исключением 11/2 страниц, написанных рукой неизвестной. Начало: «Я всю жизнь прожилъ не в городѣ». Конец: «животнымъ, да еще хищнымъ». Переписанный текст заключает в себе поправки, перечеркивания и вставки в тексте и на полях рукой Толстого. Рукопись состоит из несшитых 42 четвертушек и 31 полулиста обыкновенной писчей бумаги, согнутого пополам. Первые 30 четвертушек входили первоначально в сшитую тетрадь, которая при наборе (см. ниже) была расшита. Нумерация по четвертушкам, большею частью синим карандашом, сделана рукой Толстого в следующем порядке: 1—30, 1—50, 1—26. Судя по типографским пометам, эта рукопись была в наборе. Она поделена на одиннадцать глав. Последняя, одиннадцатая глава слишком обширна по объему; видимо, она должна была иметь внутри себя деления, но они не обозначены в рукописи. Первые шесть глав восходят непосредственно к рукописи, описанной под № 12, представляя собой ее исправленную и вновь проредактированную Толстым копию. Такую же копию рукописей, описанных под №№ 14 и 15, представляет собой вся остальная часть рукописи. Наиболее существенные отличия этой рукописи от своих непосредственных предшественниц сводятся к следующему. В самом начале текста, вслед за заглавием, приведено три эпиграфа из Евангелия: «Блаженны нищіе», «Нельзя богатому войти въ царствіе Божіе» и «Нельзя служить Богу и мамону». В гл. VI зачеркнут эпизод с ученым человеком, предлагающим услуги для заполнения карточек. В гл. VIII зачеркнут следующий абзац, первоначально входивший в рукопись, описанную под № 14:
Одинъ разъ, направляясь туда, я встрѣтилъ доктора энтузіаста, онъ ѣхалъ ко мнѣ. Онъ говорилъ, что прочелъ мою статью, въ восторгѣ отъ нея. Онъ говорилъ, что это новая эра, что это можетъ имѣть огромныя послѣдствія. Я пригласилъ его ѣхать со мной. Мы поѣхали и вмѣстѣ пошли по квартирамъ. Докторъ сталъ спрашивать больныхъ, слушалъ, щупалъ — все, какъ дѣлаютъ доктора. Помню, мнѣ стало ужасно стыдно. Я узналъ себя. Какъ докторъ, разспросивъ и ощупавъ, не поможетъ, такъ и я.
Помимо этого, ряд других исправлений и дополнений, приближающих рукопись к печатному тексту. Внутри отдельных глав часты перестановки абзацев и более крупных частей глав.
17. Корректура «Русской мысли» на 37 гранках, хранящихся в ГТМ и представляющая собой набор рукописи, описанной под № 16. Начало: «Я всю жизнь прожилъ не в городѣ». Конец: «Тогда, когда». В корректуре — правка типографского корректора и многочисленные исправления рукой Толстого. Особенно их много в гранках 31 и 32, так что они сделаны не только на самих гранках, но и на трех отдельных листочках, исписанных частью рукой Толстого, частью рукой неизвестного и приложенных к соответствующим гранкам. Гранки не покрывают всего текста рукописи. Видимо, в набор сдана была лишь часть рукописи, первые 160 страниц (занумерованные по четвертушкам цыфрами 1—30 и 1—50), соответствующие первым шестнадцати главам печатного текста и обрывающиеся началом фразы: «тогда, когда». Этими же словами обрывается и текст последней гранки на середине строки, что как раз и свидетельствует о том, что у наборщика не было под руками продолжения рукописи, чтобы закончить набор начатой строки. Как и в рукописи, в корректуре текст поделен на одиннадцать глав, но рукой Толстого это деление исправлено, и текст поделен им вновь на шестнадцать глав.
Наиболее существенные исправления и дополнения, сделанные рукой Толстого в корректуре, сводятся к следующему.
Приведенные эпиграфы зачеркнуты и вместо них написано: «Ибо легче верблюду пройти сквозь игольныя уши, нежели богатому войти в царствіе Божіе. Луки XVIII, 25. Мф. XIX, 24. Марка X, 25». Кроме того, на полях приписка «Выписать Мф. VI, 19 по 26 и съ 31—34». В дальнейшем основная работа над корректурой идет у Толстого по таким направлениям: 1) выправление стиля, 2) привнесение ряда подробностей, способствующих приданию речи образности и большей выразительности, 3) устранение некоторых (немногих) деталей, 4) введение, довольно частое, новых фраз, абзацев, новых подробностей, 5) перестановки отдельных абзацев.
Чисто словарные исправления ничем особенным на себя внимания не обращают. Отметим лишь, что в процессе редакционных переработок Толстой устранял бывшие в ранних редакциях непечатные слова. В корректуре их уже не оставалось, и в ней вычеркивается такое, напр., слово, как «испражняться».
Работа над образными средствами речи шла у Толстого по мере того, как двигалась его редакторская работа над рукописями. Так, в рукописи, описанной под № 15, первоначальное «дверь отлипла» исправлено на «дверь, чмокнувъ, отлипла». В корректуре находим еще ряд таких новых деталей. Во фразе «Прежде выбѣжала худая женщина въ безцвѣтномъ платьѣ» «безцвѣтномъ» исправлено на «слинявшемъ розовомъ». Во фразе «Мальчикъ бросилъ салфетку и надѣлъ пальто сверхъ бѣлой рубахи и бѣлыхъ штановъ и картузъ большой съ козырькомъ и повелъ меня черезъ заднія двери съ блокомъ» — между словами «и» и «повелъ» вставлено: «быстро семеня бѣлыми ногами». Вместо: «которая несла требуху» — «которая бережно несла куда-то очень вонючую требуху». Вместо: «Мальчикъ повелъ меня» — «Мальчикъ, оберегая свои бѣлыя панталоны, осторожно повелъ меня». Вместо: «старикъ въ одной рубахѣ» — «старикъ въ одной рубахѣ, торопившійся около нужника». Вместо: «И пошли по темному корридору» — «И пошли по заплеванному полу темнаго корридора». Вместо: «были чайники» — «былъ чайникъ съ жестянымъ носикомъ».
Вместо: «начиналъ разсказывать про тѣ несправедливости, которыя онъ претерпѣлъ, тѣ несчастія» — «начиналъ разсказывать затверженную, какъ молитва, исторію про тѣ несчастія». Вместо: «молодой, чисто одѣтый» — «молодой, одѣтый въ сѣрую суконную поддевку». Вместо: «И сказавъ это» — «И сказавъ это съ чуть замѣтной почтительной улыбкой удовольствія». Вместо: «и смотрѣли на насъ» — «и всѣ три вытянули шеи и, сдерживая дыханіе, съ выраженіемъ ужаса смотрѣли на насъ». Вместо: «Она сказала, все не глядя» — «Она сказала, все не глядя, той же лихорадочной скороговоркой». Вместо: «сидѣлъ, какъ вкопанный» — «сидѣлъ, какъ истуканъ». Вместо: «Шелъ человѣкъ съ фонаремъ» — «Шелъ Ваня въ пальто и бѣлыхъ штанахъ».
Отметим далее важнейшие вычеркнутые в корректуре, очевидно в целях смягчения тона, места.
При описании гостиной в которой дамы шили куклы (в гл. III), зачеркнута следующая фраза:
Въ прежнее время, пока я самъ не былъ благотворителемъ, я бы съ омерзеніемъ ушелъ изъ этой гостиной, въ которой, очевидно, самымъ наглымъ образомъ смѣялись надъ тѣмъ, что есть основнаго въ человѣкѣ, надъ его любовью къ ближнему.
В рассуждении о проститутке, сидевшей в трактире Ржановского дома <в гл. VIII>, зачеркнуты следующие строки:
Гдѣ онѣ, тѣ дамы, которыя не страдаютъ этимъ же зломъ въ худшей степени? Ее это привело сидѣтъ въ трактирѣ. Дамъ нашихъ это не привело въ трактиръ, но привело сидѣть оголенными на балѣ, привело къ искусственному нерожденію дѣтей, но корень зла тотъ же и плоды тѣ же.
В тех же целях смягчения тона зачеркнута фраза из гл. XIII:
Чиновники, землевладѣльцы, торговцы, заводчики, кабачники, деревенскіе ростовщики обираютъ у сельскихъ жителей ихъ богатства для того, чтобы пользоваться ими.
Вместо нее читаем:
Богатства сельскихъ производителей переходятъ въ руки торговцевъ, землевладѣльцевъ, чиновниковъ, фабрикантовъ, и люди, получившіе эти богатства, хотятъ пользоваться ими.
Зачеркнут далее в гл. XIII и следующий абзац:
И въ самомъ дѣлѣ, если вдуматься только въ цѣль жизни тѣхъ людей, которые приходятъ кормиться въ городъ, и въ тѣ условія, въ которыя они становятся въ городѣ, то удивляешься только тому, какъ среди нихъ есть еще люди, тяжелымъ трудомъ добывающіе себѣ хлѣбъ, какъ Петръ и Семенъ, съ которыми я пилилъ дрова на Сетуни, какъ тѣ сапожники, щеточники, токари, столяры, которыхъ я видѣлъ въ Ржановскомъ домѣ, которые такимъ тяжелымъ трудомъ добываютъ такъ мало и могли бы, точно такъ же какъ тѣ мужики, которые просили у меня денегъ на пилу, нищенствомъ, или какъ барышники, или какъ мужики, болѣе легкими способами добывать себѣ не меньше. Надо только вдуматься въ то, что происходить вокругъ этихъ людей, надо понять весь ужасъ для нихъ той безумной оргіи, которая не переставая происходить на ихъ глазахъ въ городахъ, какъ Москва или Петербургъ или Парижъ, чтобы удивляться ихъ добродѣтелямъ.
18. Корректура «Русской мысли» на 23 гранках, хранящаяся в ГТМ. Начало: «Вспоминаю всѣ сотни и тысячи людей городскихъ». Конец: «что я былъ удивленъ ея молодостью». Первые двенадцать гранок представляют собой новую корректуру текста, набранного на десяти последних гранках предыдущей корректуры. Так как текст этих десяти гранок (большая часть главы XIII, главы XIV, XV, начало XVI) подвергся особенно радикальным исправлениям и к нему добавлено много нового текста, то, прежде чем верстать, пришлось, очевидно, дать еще одну корректуру в гранках. Начиная с 13 гранки — набор недобранного текста рукописи, описанной под № 16. Однако гранки сохранились не все. Часть набранного текста на гранке 19 вырезана (см. ниже). Пронумерованы гранки неправильно. Главы XVIII и XX переставлены в обратном порядке по сравнению с тем, как они расположены были в рукописях, описанных под №№ 15 и 16. Как первые 12 гранок, так и остальные, заключают в себе очень много поправок рукой Толстого и перестановок абзацев внутри отдельных глав. Поправки в большинстве случаев сводятся к добавлению отдельных подробностей, часто занимающих несколько строк, к стилистическим исправлениям, к привнесению отмеченных уже при описании предыдущей корректуры отдельных деталей и штрихов, увеличивающих образные средства речи. Так, в двадцатой главе, описывающей встречу с проституткой, напечатанное в корректуре: «Она достала папироску» исправлено на: «Она достала согнутую папироску»; «слюнявыя губы» — на «слюнявыя, опущенныя въ углахъ губы»; «тѣло худое и слабое» — на «тѣло ширококостое и слабое»; «перхала всю ночь» — на «перхала всю ночь, какъ овца»; «Городовой пришелъ» — на «Городовой съ пистолетомъ пришелъ».
Из зачеркнутого отметим наиболее существенное.
В гл. XIII вычеркнуто следующее место:
бѣдные люди никогда не смотрятъ на это равнодушно: роскошь эта всегда представляется имъ чѣмъ то неестественнымъ, ужаснымъ, возмутительнымъ, и они никогда не перестанутъ осуждать и ненавидѣть ее. Они видятъ магазины, пассажи, Фульда, театръ, трактиры и знаютъ, что люди покупаютъ здѣсь, знаютъ, какъ швыряются здѣсь тѣ деньги, которыя добыть для нужды они едва могутъ, и не считаютъ это хорошимъ.
В гл. XVII зачеркнут включенный сюда ряд фраз, начиная со слов: «Но разъ я увидалъ то, что есть, я уже не могъ такъ прищурить глаза, чтобы перестать видѣть это», — до конца абзаца (см. описание рукописи № 15).
Как указано было выше, при описании рукописи № 16, в корректуре уничтожено несколько абзацев, которыми заканчиваются рукописи, описанные под №№ 15 и 16 (начиная со слов «Ты добрый человек...»): часть текста вырезана, другая часть, занимавшая, видимо, отдельную гранку, устранена путем исключения из корректуры этой гранки.
Перестановки абзацев сделаны в главах XIV и XVII.
С первых тридцати гранок корректуры, описанной под № 17, и с продолжения ее — корректуры, описанной под № 18, была сделана новая корректура, опять в гранках (59 гранок, хранящихся в ГТМ). Правка — типографского корректора, надписавшего на первой гранке: «Исправив, верстать и затем представить в редакцию сверстанные экземпляры в пяти экземплярах. А. П.» Гранки эти заключают в себе полностью текст двадцати глав, предназначавшийся для «Русской мысли». Выправлены исключительно типографские ошибки, вкравшиеся при наборе.
19. Две сверстанные корректуры «Русской мысли», хранящиеся в ГТМ и восходящие непосредственно к только что упомянутым 59 гранкам, одновременно оттиснутые, с пагинацией (от 201—282), разбитые на 20 глав. В одной корректуре не хватает страниц 249 и 250 и с 253 по 262, в другой пропуск со страницы 249 по 280.
Первый оттиск правлен почти исключительно рукой Толстого. В нем свыше тридцати вставок на полях, от одного слова до нескольких строк. Отметим из них лишь две, сделанные с чисто художественными намерениями: Фраза: «Городовой... съ какой то книжкой стоялъ въ сѣняхъ у окна и дожидался» исправлена так: «Городовой..., сидя въ сѣняхъ на подоконникѣ, глядѣлъ уныло въ какую то записную книжку». «Он дрожалъ» исправлено на «Он только жалобно улыбался и дрожалъ». В главе XIX зачеркнуты два и в главе XX три заключительных абзаца.
Во втором оттиске на первых двух печатных листах рукой, очевидно, типографского корректора воспроизведены все исправления, сделанные Толстым в первом оттиске. На третьем листе следов корректуры почти нет: всего три мелких поправки корректора и на последней странице этого листа поправки рукой Толстого, частью воспроизводящие точно поправки первого оттиска, частью вносящие новые. Далее — большой пропуск страниц. Сохранилась лишь последняя, на которой первые два из трех зачеркнутых абзацев восстановлены, но переставлены один на место другого. Последний — третий абзац — и здесь зачеркнут. При описании лица покойницы эпитет «важное» заменен другим — «удивленное». Вслед затем — следующее добавление рукой Толстого, тут же зачеркнутое, кроме двух последних предложений:
Мнѣ по крайней [мѣрѣ] казалось, что она удивлялась на то, что вотъ тѣ люди, которые только ругали и гоняли ее, пока она была жива, чувствовала и страдала, теперь собрали по двугривенному ей на гробъ и на саванъ и разыскали ея брата въ пальто съ барашковымъ воротникомъ, который, пока она жива, не приходилъ къ ней, и даже чужой дьячекъ пришелъ и читаетъ, и я, чужой господинъ, пришелъ и соболѣзнуетъ теперь надъ ея тѣломъ, не тогда, когда ей было нужно, а тогда, когда ей ничего не нужно. Выраженіе ея удивленія было то же самое, которое я видѣлъ на лицѣ 15-лѣтней проститутки, когда я спросилъ ее, есть ли у нея мать, то же, которое было на лицахъ, глядѣвшихъ черезъ перегородку, то же, которое было на лицахъ оборванцевъ изъ Ляпинскаго дома, когда имъ показалось, что я жалѣю ихъ.
И въ самомъ дѣлѣ, есть чему удивляться. Люди, считающіе себя образованными
20. Отпечатанные листы статьи для январского номера «Русской мысли» 1885 г., хранящиеся в ГТМ и восходящие ко второму оттиску описанной выше корректуры. Сохранились полностью (страницы 202—262) в составе пятнадцати глав. XV глава оканчивается словами: «Так что же делать? На этот вопрос, если кому-нибудь нужен еще ответ на него, я отвечу подробно, если Бог позволит, в следующем нумере». Вслед зa этим — имя и фамилия автора. Таким образом в январской книжке журнала предполагалось напечатать лишь первые пятнадцать глав статьи.
21. Автограф ГТМ на 9 листах в 4°, написан на двух согнутых пополам полулистах обыкновенной писчей бумаги и пяти четвертушках такой же бумаги, без нумерации. Рукопись написана очень неразборчиво, с массой помарок и вставок на полях и среди текста; страницы 4, 17 и 18 чистые. Начало: «Только тотъ хитрый обманъ». Конец: «Или къ корыту зa мытье рубашекъ». В основном текст соответствует второй половине главы XXIV окончательного печатного текста «Так что же нам делать?» В начале рукописи рукой Толстого для обозначения главы проставлена цыфра не то XVIII, не то XXIII, вернее — первая. Рукопись начинается несколькими абзацами, в печатные издания не вошедшими (см. вариант № 4).343
После упоминания о том, что автор живет среди фабрик, изготовляющих предметы, нужные для балов, идет текст, в печатных изданиях отсутствующий:
Я знаю хорошо одну фабрику — это маленькую чулочную фабрику. Она выходитъ одной стороной на Оболенскій переулокъ. Оболенскій переулокъ пустынный, особенно вечеромъ, и я часто хожу по немъ и смотрю въ незавѣшенныя окна на рабочихъ во время ихъ работы. Я вижу эти однообразныя, сосредоточенныя лица на одномъ и томъ же дѣлѣ, эти однообразныя, быстро двигающіяся, какъ машина, пальцы и эти однообразно унылыя лица и вижу ихъ такими всегда, всегда одинаковыми, точно какъ строенія. Я иногда мѣсяцы не хожу, иногда уѣзжаю въ деревню, возвращаюсь, прихожу къ окну — и опять тѣ же лица и тѣ же выраженія, тѣ же движенія. Дѣвочка въ послѣднемъ окнѣ выросла съ тѣхъ поръ, все стоя на томъ же мѣстѣ и дѣлая тѣ же быстрыя, однообразныя движения своими костлявыми пальцами. Одинъ мастеръ во 2-мъ окнѣ очень пожелтѣлъ и похудѣлъ все на томъ же мѣстѣ и за тѣми же занятіями. То же самое вѣдь на всѣхъ другихъ фабрикахъ, гдѣ тысячи, 10 тысячъ, 100 тысячъ такихъ же людей.
После описания времяпрепровождения рабочих, выпущенных на улицу после работы и предающихся разгулу и разврату, следует такое замечание, в печатном тексте выпущенное:
Что бы я сдѣлалъ, когда мнѣ было 20 лѣтъ и когда бы меня держали всю жизнь за станкомъ и выпустили бы на праздникъ съ 10 рублями въ карманѣ, и трактирами съ органами, и дѣвками, и извощиками, готовыми свезти, куда хочу, на каждомъ перекрестке?
Сказав о беспечности едущих на бал и не хотящих знать о том, какая связь между этим балом и теми рабочими, которые ходят по улице пьяными после утомительной работы для изготовления предметов, нужных для бала, Толстой продолжает (это место выпущено в окончательном печатном тексте):
Но мало того, что они не хотятъ знать того, кто и какъ сдѣлалъ имъ ихъ бархаты, вѣера, конфеты, они не видятъ и того, что сотни людей не спали въ эту ночь, отправляя ихъ господъ и дожидаясь ихъ, и сотни кучеровъ, многіе старики, сидѣли въ эту ночь до 7-го часа на козлахъ, махая то той, то другой рукой и удерживая прозябшихъ лошадей (морозъ доходилъ до 25 градусовъ), <поглядывая въ освѣщенныя окна, прислушиваясь къ слабымъ звукамъ музыки и желая только однаго, чтобы у «нашей» заболѣло что-нибудь и чтобы надо было свезти ее домой и самому отогрѣться въ кучерской, а не простудиться на смерть.>
Далее на полях следующая вставка, тут же зачеркнутая:
При этомъ надо помнить, что всѣ тѣ люди на фабрикахъ, которые готовили всѣ предметы, нужные для бала, и вся та прислуга — кучера и другіе, которые служили участникамъ бала, — это все счастливцы, побѣдившіе въ борьбѣ за существованіе, что рядомъ съ этими счастливцами есть въ той же Москвѣ десятки тысячъ людей, вытѣсненные этими счастливцами, — не получившіе мѣстъ на фабрикахъ и въ прислугу и въ эту самую ночь съ пустымъ желудкомъ валяющіеся въ ночлежныхъ домахъ, и нѣкоторые умирали, какъ прачка.
Несколько ниже — на протяжении почти целой страницы, захватывая поля, речь идет всё о том же — о вопиющем контрасте между тем, что делается на балах, и тем, что происходит в это время на улице — среди прислуги, дожидающейся своих господ, и бедного, не имеющего пристанища люда. Всё это зачеркнуто.
Немного отступя, следует абзац, частью выпущенный в печатном тексте, частью в измененном виде перенесенный сначала в главу XXII рукописной редакции (см. ниже), а затем в главу XXV окончательного печатного текста:
Мы живемъ такъ, какъ будто нѣтъ никакой связи между умирающей прачкой, 14-лѣтней проституткой, замерзшимъ отставнымъ солдатомъ и нашей жизнью, а между тѣмъ связь эта должна бы рѣзать намъ глаза. Мы можемъ сказать: «Но не мы лично защемили хвостъ въ лещетку», но отрицать того, что не будь защемленнаго хвоста, не было бы нашего веселья, мы не имѣемъ никакого права. Мы не видимъ, какая связь между прачкой и нашей роскошью, но это не отъ того, что нѣтъ этой связи, но отъ того, что мы поставили передъ собой ширмы, чтобы не видѣть. Если бы не было ширмъ, мы бы видѣли то, чего нельзя не видѣть.
<Какія же это ширмы?>
Ниже читаем в рукописи еще два абзаца, в печатном тексте отсутствующие:
[1] Если еще были бы какія-нибудь отговорки для того, чтобы заставить всѣхъ этихъ людей нести этотъ постылый и тяжелый трудъ. А то никакихъ. Весь трудъ этотъ понесенъ людьми въ нуждѣ для того, чтобы онѣ, безстыдно оголенныя, могли, обнявшись съ молодцами, кружиться по комнатѣ.
[2] Я привелъ свое воспоминаніе о балѣ именно потому, что въ этомъ безобразномъ явленіи бала, болѣе уродливомъ въ наше время, чѣмъ циркъ съ мучениками во времена Августовъ, поразительнѣе этотъ обманъ, представляющій покупку и наемъ, т. е. употребленіе для себя денегъ, какъ что то самое естественное и безвредное.
Рукопись заканчивается примером драки собак (см. гл. XXIV окончательного текста), после которого следует еще такое заключение:
Вѣдь бархатъ и папироски дѣлаютъ, во-первыхъ, отъ того, что ты съ другими ихъ любишь, а во-вторыхъ, отъ того, что ты съ другими своимъ пріобрѣтеніемъ тѣхъ денегъ, на которыя ты покупаешь, привелъ съ другими людей на фабрику, или за папироски, или къ корыту за мытье рубашекъ.
Что касается стилистических и более мелких фактических отличий текста рукописи от окончательного печатного текста, то они встречаются не так уж часто и существенного интереса не представляют. Следует лишь отметить, что в тексте рукописи эпизод с набивкой папирос двумя женщинами, рассказанный в конце главы XXIV окончательного печатного текста, происходит не в комнате «одного знакомого», а в комнате сына Толстого.
22. Рукопись ГТМ на 12 нумерованных по четвертушкам листах в 4° (нумерация от 283 до 293 включительно), состоящая из пяти несшитых полулистов обыкновенной писчей бумаги, согнутых пополам, и двух четвертушек. Три страницы чистые и не нумерованы. Написана с обеих сторон рукой С. А. Толстой, с поправками Толстого. Мы имеем тут дело лишь с остатком большой рукописи, которая, судя по типографским пометам, была в наборе. Начало: «Я прошелъ мимо покойницы». Конец: «своимъ заработкомъ» для больной». На основании целого ряда текстуальных совпадений нужно думать, что с этой рукописи набирались самостоятельные отрывки из «Так что же нам делать?», напечатанные в «Русском богатстве» за 1885 г. под заглавием: «Жизнь в городе», «Из воспоминаний о переписи» и «Деревня и город». Уцелевшая часть рукописи заключает в себе частично текст, легший в основу статьи «Жизнь в городе». Текст рукописи не вполне совпадает с печатным текстом (последний между прочим значительно сокращен). Очевидно, в авторской правке корректур, до нас не дошедших, сделаны были Толстым соответствующие изменения. В самом начале рукопись воспроизводит исправленную Толстым последнюю страницу второго оттиска сверстанной корректуры, описанной под № 19, от слов «Я прошелъ мимо покойницы въ уголъ хозяйки и разспросилъ ее обо всемъ». Далее воспроизводится незачеркнутый конец приписки Толстого к этой странице корректуры и продолжение этой приписки, в корректуре не уместившееся, написанное, видимо, на отдельном утерянном листке. Вся эта приписка рукой Толстого зачеркнута. Воспроизводим ее:
И въ самомъ дѣлѣ, есть чему удивляться. Люди, считающіе себя образованными, гуманными, либеральными, люди добрые, люди, называющіе себя христіанами, уморили добрую, молодую женщину тѣмъ, что заставляли ее, чахоточную, мыть рубашки, и всѣ отшатнулись отъ нея въ то время, когда она страдала душой и тѣломъ, когда она отчаивалась въ Богѣ и умерла въ лужѣ; и вотъ, когда она уже въ гробу, люди эти пришли — братъ ея съ барашковымъ воротникомъ, дьячекъ съ книжкой, хозяйка, давшая деньги на гробъ, и я, только когда она уже умерла, услышавши про это. И мы всѣ теперь, когда она уже не чувствуетъ и не страдаетъ, стоимъ и соболѣзнуемъ или притворяемся, что соболѣзнуемъ.
Далее — точная копия автографа, описанного под № 21. Поправки в рукописи, сделанные Толстым, в большинстве случаев носят стилистический характер. Механически зачеркнут последний, заключительный абзац («Вѣдь бархатъ и папироски дѣлаютъ оттого»...), так что рукопись заканчивается словами «Ужъ начали, попортили, такъ отчего же и мнѣ не попользоваться?» (ср. соответствующее место в гл. XXIV окончательного печатного текста). Но две поправки Толстого здесь были результатом вмешательства переписчицы — С. А. Толстой. Против того места, где говорится о сборах семьи Толстого на бал, о бесплодности внушить домашним свой взгляд на бал как на безнравственное явление, о том, наконец, что при таких сборах Толстой уходил из дому, чтобы не видать домашних «в развратных одеждах» (см. последний абзац варианта № 4, извлеченного из рукописи № 21), — на полях рукой С. А. Толстой написано: «К делу не идет, видна злоба и само-оправдание-хвальство. Можно бы публично не браниться». В результате Толстой зачеркивает «мои домашніе ѣхали на балъ» и вместо этого пишет: «Въ Москвѣ былъ балъ». Зачеркивает и всё продолжение абзаца, ничем его не заменяя.
Далее — по рукописи, с которой делала копию Софья Андреевна, эпизод с набивкой папирос, как указано было выше, происходил в комнате сына. В этой рукописи читалось так:
Сейчасъ я оторвался отъ своего писанья и сошелъ внизъ. Проходя около комнаты сына, я увидалъ двухъ женщинъ за столомъ.
Далее следует описание процесса набивки папирос, сопровождаемое укорами по адресу того, кто нанимал женщин для этой работы. Переписав это место, Софья Андреевна на полях приписала: «Сережа просит сейчас, нельзя ли его личность не выставлять». Толстой заменяет сына знакомым и в соответствии с этим слегка перефразирует абзац.
Против того места, где Толстой говорит о том, как «пять или шесть человѣкъ старыхъ, почтенныхъ, часто хворыхъ, лакеевъ и горничныхъ, не спали и хлопотали» из-за своей госпожи, — на полях Софья Андреевна приписала: «а чаще мертвецки пьяных». Но на эту реплику Толстой никак не реагировал.
В середине рукописи перед словами: «Можетъ быть, очень весело на балахъ» рукой Толстого для обозначения главы поставлена цыфра XXI.
23. Автограф ГТМ на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Содержит в себе текст, соответствующий XXV главе окончательной редакции. Конец его утрачен. Из сохранившихся трех листов два представляют собой вставки. Для обозначения главы поставлена цыфра XXII. Начало: «Мы говоримъ, что не мы это сдѣлали». Конец: «потому что я знаю, что онъ».
24. Рукопись БЛ на 56 листах, из которых 54 in F°, 2 (вставка-автограф) — в 40°. Исписана с обеих сторон. Последний лист чистый. Первые 24 листа — литографированный текст (почерк неизвестный). Всё остальное, за исключением вставки-автографа к листу 55, исписано рукой А. П. Иванова. Вслед за заголовком «Такъ что же намъ дѣлать?» и эпиграфами из Евангелия начало: «Я всю жизнь прожилъ не въ городѣ». Конец: «Деньги же всѣ». Текст содержит в себе первые семнадцать глав и часть восемнадцатой. Рукопись, обрывающаяся на начале фразы, представляет собой копию соответствующей части первого оттиска корректуры № 19. В тексте первых шестнадцати глав (лл. 11—46) исправлений рукой Толстого нет вовсе; в главе XVI (л. 46 об.) их всего два. Но в главах XVII и XVIII (с листа 47) их уже очень большое количество; в ряде случаев целые абзацы зачеркнуты и вместо них написаны новые.
25. Рукопись ГТМ — на 47 листах в 4°, написанная в большей своей части рукою А. П. Иванова и в меньшей рукою другого переписчика, с исправлениями, перечеркиваниями и вставками среди текста, на полях и на отдельной четвертушке рукой Толстого. Внешний состав рукописи: 15 четвертушек писчей бумаги, из которых первые девять с обрезанным по буквам левым краем, + тетрадь, сшитая из пяти полулистов такой же бумаги, согнутых пополам, с четвертушкой, вставленной в тетрадь, и с вырезанной на 2/3 левой стороной последней четвертушки + 2 четвертушки + сшитая из четырех полулистов, согнутых пополам, тетрадь, в которую вложены четыре четвертушки и три полулиста согнутой пополам бумаги. Все страницы, кроме трех, исписаны. Последние восемь страниц — чистые. Начало: «отъ земли, хлѣба, та помогла нищему». Конец: Мы старательно сами заводимъ это». Рукопись, за исключением последних чистых страниц, нумерована по четвертушкам. Нумерация — от 68 до 105. Недостающие первые 67 четвертушек вошли в состав рукописи № 70. Текст глав XVI и XVII — копия соответствующего текста рукописи № 24. Из главы XVII извлекаем вариант № 5. Четвертушки 73 недостает. Ряд цыфр дублирован (напр. 79, 79/2, и т. д.).
Рукопись начинается с середины фразы, заключающей собой главу XVI в редакции «Русской мысли». После абзаца, начинающегося со слов: «Человѣкъ продаетъ произведенія своего труда прежняго» — идет большая вставка, во всех печатных текстах отсутствующая (см. вариант № 6). В дальнейшем, исключая небольшие стилистические варианты, текст рукописи совпадает с текстом «Русской мысли». Сверх этого в рукописи добавлено:
Источникъ же этаго рабства есть насиліе — насиліе правительства, взыскивающее силой деньги съ своихъ подданныхъ. Гдѣ будетъ насиліе, возведенное въ законъ, тамъ будетъ и рабство, т. е. поѣданіе однаго человѣка другимъ, будетъ жестокость однихъ людей и страданіе другихъ. Будетъ ли насиліе выражаться тѣмъ, что будутъ наѣзжать князья съ дружиной и побивать женъ и дѣтей и спускать на дымъ селенія, или въ томъ, что будутъ собиратели дани разъѣзжать съ плетьми по селамъ, или господа съ рабами или министерство внутреннихъ дѣлъ будетъ собирать деньги черезъ губернаторовъ и становыхъ, — покуда будетъ насиліе, въ послѣдней инстанціи поддерживаемое штыками, будетъ все то же самое, будутъ жестоки богатые и задавлены бѣдные, и не будетъ распредѣленія богатства между людьми, а богатство будетъ все уходить къ насильникамъ. Сколько дыръ ни сдѣлай на днѣ ведра и въ какомъ мѣстѣ ихъ ни сдѣлай и сколько ихъ ни заткни, если останется хоть одна дыра, вся вода утечетъ. Дыра въ ведрѣ теперь есть деньги, собираемыя правительствомъ, имъ же чеканенныя и печатанный и огражденныя штыками, как священное право.
Главы XVIII и XIX рукописи представляют собой точное воспроизведение первого оттиска сверстанной корректуры «Русской мысли», описанной под № 19, с правками, сделанными в ней рукой Толстого. В этих главах исправлений рукой Толстого вовсе нет. Глава XX воспроизводит в точности текст главы XX указанной сверстанной корректуры вместе с поправками Толстого, заключает в себе новые его исправления и имеет продолжение, отсутствующее в корректуре «Русской мысли», но присутствующее во всех других печатных изданиях сочинения. Это продолжение, судя по характеру текста нашей рукописи, восходит к исправленной, частью сокращенной, частью дополненной (в конце) Толстым копии рукописи, описанной у нас под № 22. В описываемой рукописи глава эта обозначена цыфрой XX, которая зачеркнута и заменена цыфрой XIX, написанной, так же как и первая, рукой переписчика, но не чернилами, а карандашом. Над цыфрой рукой Толстого написано слово «Сцены», затем зачеркнутое, и далее «Жизнь въ христіанскомъ городѣ. Тексты 1-й и послѣдній». Это заглавие также зачеркнуто карандашом. Над текстом, начинающимся словами: «Можетъ быть, очень весело на балахъ», поставлена цыфра XXI, но она также зачеркнута карандашом и никакой другой не заменена.
Поправки части текста, списанного с корректуры, вызваны почти исключительно стремлением к большей художественной выразительности и оживлению описания, а также к большей психологичнисти.
Особенно характерны следующие
Вместо «Она достала согнутую папироску и спичку» — «Она держала въ одной рукѣ согнувшуюся дугой папироску, другой — сѣрнички». Вместо «опущенныя въ углахъ губы, тѣло ширококостое и слабое» — «опущенныя въ углахъ губы и выбившаяся изъ-подъ платка короткая прядь сухихъ волосъ. Талія длинная и плоская и короткія руки и ноги». Вместо «и пошла внизъ» — «и, перекачиваясь, пошла внизъ». Вместо «Городовой съ пистолетомъ пришелъ» — «Городовой съ саблей и пистолетомъ на красномъ шнурѣ пришелъ». Фразу «Я пошелъ домой» Толстой распространяет следующим образом: «Я завернулъ въ калитку и вошелъ въ домъ и спросилъ, вернулись ли мои дочери? Мнѣ сказали, что онѣ были на вечерѣ, очень веселились, вернулись и уже спятъ». Говоря о больной прачке, Толстой первоначально написал: «но въ послѣднее время ее не взлюбили зa то, что она перхала всю ночь, какъ овца». Так как о прачке речь идет здесь от лица самого Толстого, то образное выражение «перхала, какъ овца», ему, естественно, показалось грубым и обидным по отношению к несчастной женщине, и он заменяет его словами «кашляла». Но образ перхающей овцы не исчез вовсе и появляется вновь в применении к той же прачке, когда ее болезнь передается уже в восприятии восьмидесятилетней старухи, ее соседки. И к фразе: «Старуха... поѣдомъ ѣла ее» добавлено «за то, что она спать не даетъ и всю ночь перхаетъ, какъ овца».
Начиная со слов: «Въ тотъ день, какъ я записывалъ это, въ Москвѣ былъ большой балъ», рукопись, как указано было выше, воспроизводит недошедшую до нас исправленную Толстым копию рукописи, описанной под № 22. За немногими несущественными исключениями, в описываемой части рукописи мы имеем, после новых поправок Толстого, почти полное и буквальное совпадение с окончательным печатным текстом, как он дан в главе XXIV. На листе 96—97 сплошь рукой Толстого написано окончание главы, отсутствующее в рукописи, описанной под № 22. Вслед за словами: «Ужъ начали, попортили, такъ отчего же не попользоваться?» до конца главы — автограф Толстого, начинающийся словами: «Ну что же будетъ, если я буду носить грязную рубашку и дѣлать самъ себѣ папироски?» и кончающийся словами: «и гордиться моимъ участіемъ въ нихъ». Текст на листе 96 зачеркнут и вместе с автографом Толстого переписан заново на четвертушках, обозначенных цыфрами 97 и 98.
В конце главы той же рукой, которая писала рукопись, в скобках написано: «Следует гл. XXII». Эта ссылка зачеркнута синим карандашом, но вслед за этим, действительно, идет глава, обозначенная цыфрой XXII, написанная, кроме одной вставной четвертушки, иным почерком, чем тот, каким написана первая часть рукописи. (Вставная четвертушка написана рукой А. П. Иванова). Текст главы XXII написан на несшитых полулистах, согнутых пополам, рукой не Иванова, а другого, неизвестного переписчика. Эти листы вставлены в сшитую тетрадку, заключающую в себе текст предыдущей главы. Таким образом мы имеем дело с рукописью, скомпанованной из двух частей в два приема. Органическая связь обеих частей рукописи устанавливается однако непрерывностью нумерации четвертушек, проходящей через обе части рукописи. Это копия автографа, описанного под № 23, с авторскими поправками, сокращениями и дополнениями между строк и на полях. По своему содержанию текст этой последней части рукописи, как указано выше, соответствует тексту главы XXV окончательной печатной редакции, но в ряде подробностей и эпизодов сильно от него разнится. Первые две с половиной приблизительно страницы с теми поправками, какие внесены Толстым, почти буквально соответствуют началу главы XXV окончательного печатного текста, если не считать следующего места, в рукописи однако зачеркнутого:
Очень, очень много новыхъ поселеній богачей по деревнямъ сдѣлалось послѣ освобожденія, и совсѣмъ на новыхъ мѣстахъ, гдѣ не было прежде усадебъ, и поселенія эти всѣ сдѣланы съ особенною новою роскошью, не бывавшей прежде.
Существенные отличия от печатного текста начинаются там, где речь заходит о двух семействах — дворянском и чиновничьем, приезжающих на лето в деревню, и где жизнь этих семейств и их времяпрепровождение сопоставляются с жизнью и работой крестьян. В печатном тексте говорится вообще — к примеру — о двух абстрактных барских семействах: «Вот живет в деревне образованное дворянское или чиновничье семейство» и т. д. В рукописи же речь идет о семействе самого Толстого и о знакомом с его семьей чиновничьем семействе: «Прошлого года нас жило в деревне два образованные и, смело скажу относительно большинства, честные — дворянское и чиновничье семейства». И далее употребляются такие выражения, как «наше житье», «вокруг нас», «мы затеяли», «мы приходили», «я спросил» и т. д. Один мужик-работник назван по имени (Григорий); по фамилии назван ямщик (Камушкин), привозящий гостей в деревню из Тулы. Одним словом, ясно дается понять, что место действия — Ясная поляна, точнее — усадьба Толстого.
Кроме того, в рукописи находим несколько вариантов, в печатном тексте отсутствующих. Первый наиболее обширный выделяем (см. вариант № 7). После абзаца, где говорится об окончании полевых работ до следующего утра, в рукописи идет следующий, отсутствующий в печатном тексте, абзац:
Въ этотъ же вечеръ, возвращаясь домой, я встрѣтилъ сына моей кормилицы. Мужикъ лѣтъ 40, одинокій, съ малыми дѣтьми, и достаточный относительно другихъ. Онъ шелъ босикомъ [1 неразобр.] нескороженной пашни. Онъ только спуталъ лошадей и пустилъ ихъ въ болото. Мы разговорились. Я сталъ хвалить ему крестьянское житье. Но онъ былъ не въ духѣ. «Самое каторжное житье — сказалъ онъ. — Хуже ужъ нѣтъ. Бьешься, бьешься, никакъ не ухватишь всѣхъ дѣловъ. Мальчикъ малъ. Цѣлый день работаешь, и поужинать некогда. Вѣрите ли — другой годъ плетень не могу доплесть. Все руки не доходятъ». Слова его имѣли для меня значеніе, потому что я знаю, что онъ трудолюбивый мужикъ и не пьющій. «Посмотришь на людей, какъ у васъ на барскомъ дворѣ живутъ. Вотъ жизнь. И какого они Бога молили».
Оканчивается рукопись следующим абзацем:
Ихъ человѣкъ 15 здоровыхъ мущинъ и женщинъ, и человѣкъ 30 здоровенныхъ работниковъ и работницъ работаютъ на нихъ. И это происходить тамъ, гдѣ каждый часъ, каждый мальчикъ дорогъ. Это уже не потому, что фабрики и города заведены. Это ужъ они заводятъ. Никакой нѣтъ фабрики сажать и поливать цвѣты, а мы сами оторвали мужика отъ покоса и заставили его это дѣлать. Никакой нѣтъ фабрики ѣсть съ утра до вечера, играть въ карты и венгерскіе танцы, и кормить людей, которые не работаютъ, и содержать лошадей, собакъ для забавы, а мы сами оторвали эту ѣду себѣ и лошадямъ отъ работающихъ лошадей и людей. Стало быть, нечего намъ ссылаться на то, что такъ заведено. Мы старательно сами заводимъ это.344
26. Рукопись ГТМ на 14 листах в 4° без полей. Состоит из двенадцати несшитых, исписанных с обеих сторон четвертушек, из которых семь обрезано по левому краю, так что в каждой строке не хватает одной — двух букв, и одного полулиста писчей бумаги, согнутого пополам и также сплошь исписанного. Судя по содержанию рукописи, четвертушки и полулист входили в тетрадь, из которой они были потом выделены. Нумерация идет по четвертушкам от 68 до 77/4. Четвертушки 69 и 77/1 утрачены. Между четвертушками, обозначенными цыфрами 77/2 и 77/3 вставлены две четвертушки, сплошь исписанные рукой Толстого. На обеих этих четвертушках рукой переписчика обозначено: «к 77/2». Кроме двух указанных четвертушек, всё остальное исписано рукой А. П. Иванова. Как обычно, переписанное подвергалось многочисленным исправлениям, сделанным рукой Толстого. Большая часть текста перечеркнута переписчиком. Рукопись начинается с полуфразы и так же обрывается. Начало: «отъ земли хлѣба, та помогла нищему». Конец: «Деньги — деньги — цѣнность всегда равная самой себѣ и считающаяся всегда вполнѣ правильною и». В середине первой страницы, перед словами: «Въ заблужденіе о томъ, что я могу помогать другимъ, меня ввело то, что у меня были лишнія деньги», для обозначения главы проставлена переписчиком цыфра XVII, зачеркнутая, видимо, рукой Толстого. Далее, в середине текста, рукой Толстого перед словами: «Князья разорили и побили Древлянъ» вставлено: «XX глава». В основном своем слое, переписанном рукой А. П. Иванова, рукопись представляет собой копию первых восемнадцати страниц предыдущей рукописи с учетом всех исправлений, сделанных Толстым. Новые поправки и дополнения, принадлежащие Толстому, приближают текст рукописи к печатному тексту главы XVII в редакции «Русской мысли» и заключают в себе некоторые абзацы, которые в несколько измененном виде войдут в главу XVIII окончательного печатного текста.
27. Рукопись ГТМ без начала, на 6 ненумерованных, очевидно вырезанных из тетради, листах в 4°, написанная рукой А. П. Иванова, с исправлениями рукой Толстого. Все четвертушки, кроме последней, исписаны с обеих сторон. Начало: «работа, о напряженіи которой сколько бы мы ни слышали». Конец: «какія же это ширмы?» В огромной своей части, исключая конца, сохранившаяся часть рукописи, в том ее слое, который написан рукой Иванова, представляет собой копию конца последних десяти страниц рукописи, описанной под № 25, с воспроизведением всех поправок Толстого. Новые поправки Толстого, сделанные в этой копии, приближают текст рукописи, особенно вначале, почти дословно к окончательному печатному тексту (гл. XXV). Все указанные выше варианты зачеркнуты. Все указания и намеки на семейство Толстого и на семейство его знакомых устранены, соответствующие места переделаны и читаются так же, как и в печатном тексте. По сравнению с предыдущей рукописью данная копия имеет продолжение, в котором в измененном несколько виде по сравнению с рукописью, описанной под № 21, идет речь о том, что мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой, четырнадцатилетней проституткой и нашей жизнью. Рукопись заканчивается словами: «Если бы не было этихъ ширмъ, мы бы видѣли то, чего нельзя не видѣть... Какія же это ширмы?»
28. Рукопись ГТМ на 2 ненумерованных листах в 4°. Первый исписан с обеих сторон рукой А. П. Иванова с поправками и дополнением в конце, сделанным рукой Толстого. Второй — с одной стороны — рукой Толстого. Рукопись начинается с конца фразы: «нужно на день въ Россіи, чтобы не померли люди». Конец: «Отчего это случилось?». В слое, написанном рукой переписчика, рукопись представляет копию конца рукописи № 27 с воспроизведением поправок Толстого. Помимо исправлений отдельных слов и строк, Толстой зачеркнул здесь большую часть варианта приведенного нами при описании рукописи № 25, начиная со слов: «Никакой нѣтъ фабрики ѣсть съ утра до вечера». Радикально переделан абзац, начинающийся словами: «Мы живемъ такъ, какъ будто нѣтъ никакой связи между умирающей прачкой». В результате переделок это место буквально совпадает с печатным текстом. Далее — зачеркнуты слова о ширмах и добавлено всё то, что читается в печатном тексте главы XXV, начиная со слов: «Нам кажется, что страдания сами по себе» и до конца — («Отчего это случилось?»). В рукописи указаны лишь главы и стихи из пророка Исаии и Евангелия от Матфея, но сами стихи здесь не списаны.
29. Рукопись ГТМ на 6 сшитых листах писчей бумаги. Исписаны лишь первые шесть страниц — рукой А. П. Иванова. Нумерация отсутствует. Никаких поправок рукой Толстого нет. В начале первой страницы для обозначения главы поставлена цыфра XVIII, затем следует начало: «Стоить только возстановить въ своей памяти всѣ извѣстныя намъ формы установленія насилій однихъ людей надъ другими». Конец: «и угрожали еще повысить, если Какабо не уплатитъ ихъ скоро». Данная рукопись восходит к несохранившемуся оригиналу и заключает в себе текст, соответствующий по содержанию начальным страницам главы XVIII окончательного печатного текста, стилистически и в ряде второстепенных подробностей однако отличаясь от него. Здесь впервые — пересказ статьи профессора Янжула о народе, населяющем острова Фиджи. В рукописи лишь начало пересказа.
30. Рукопись ГТМ на 62 листах в 4°, с полями, исписанная в огромной своей части с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Состоит из двух сшитых тетрадок с вложенными в них, взамен зачеркнутого в тетрадях текста, четвертушками и десяти отдельных четвертушек. Некоторые четвертушки в тетрадях вырезаны и заменены другими. Принадлежность вырезанных четвертушек к составу рукописи определяется тем, что в результате прилаживания их по линии обреза к оставшимся краям страниц получается сплошной осмысленный текст. Систематической нумерации нет. Начало рукописи пронумеровано переписчиком по четвертушкам цыфрами (1—42). Среди этих пронумерованных четвертушек — несколько без всякой нумерации. Дальше нумерация прерывается и возобновляется в конце рукописи — частью по четвертушкам, частью по страницам (1—6 и 6—10/2). Как явствует из текста двух копий этой рукописи, описываемых далее под 31 и 32, Толстой дважды исправлял текст рукописи. Некоторые четвертушки, подвергнутые Толстым усиленной правке, переписаны вновь и вновь Толстым исправлены. Текст рукописи поделен на главы: XVII, XVIII и XIX. В основу текста этой рукописи взяты тексты рукописей, описанных под №№ 26 и 29. Но наша рукопись восходит к этим рукописям не непосредственно, а через одно или несколько промежуточных звеньев, которые утрачены.
Глава XVII начинается словами: «Въ заблужденіе о томъ, что я могу помогать другимъ, меня ввело то, что у меня были лишнія деньги» и т. д., как в рукописи № 25. Но затем этот абзац зачеркнут, и на полях рукой Толстого вместо него написано: «Деньги! Что же такое деньги? Въ деньгахъ ничего нѣтъ дурнаго» и т. д. По своему содержанию глава эта соответствует главам XVII и XIX окончательного печатного текста, отличаясь от них очень многими, хотя и не существенными для сути излагаемого подробностями. Глава XVIII рукописи соответствует XVIII главе окончательного печатного текста. Центральную часть ее составляет пересказ статьи проф. Янжула о фиджианцах, близкий к окончательной печатной редакции. Глава XIX представляет собой переработку той части текста рукописи, описанной под № 25, которой заканчивается глава XVII этой рукописи, в некоторых подробностях совпадая с главой XXI окончательного печатного текста, особенно с концом ее.
31. Рукопись ГТМ на 21 листе в 4°, с полями, исписанная рукой А. М. Кузминского, с поправками рукой Толстого. Состоит из сшитой тетради в четвертую долю писчего листа с вложенной в нее четвертушкой, исписанной с обеих сторон рукой Толстого, и двух четвертушек, исписанных рукой переписчика. Все листы рукописи исписаны с обеих сторон. Страницы в тетради не нумерованы. В самом начале ее для обозначения главы поставлена цыфра XVII и далее начало: «Въ заблужденіе о томъ, что я могу помогать другимъ». В тетради глава закончена. В конце рукой Толстого сделана приписка: «Слѣдуетъ XX. Причина порабощенія и т. д.» Четвертушки пронумерованы цыфрами 1 и 2. На первой для обозначения главы поставлена цыфра XVIII. Глава обрывается в самом начале изложения статьи проф. Янжула словами: «Если бы я старался придумать». Продолжение текста, начатого на этих четвертушках, вошло в рукопись № 70, начиная с листа 96. В основном своем слое, написанном рукой переписчика, данная рукопись представляет собой копию соответствующей части рукописи № 30, с учетом тех исправлений, которые сделаны были Толстым в первой ее редакции. Новые исправления Толстого не заключают в себе сколько-нибудь существенных вариантов по сравнению с печатным текстом. Отметим лишь такую замену. Стоящую в рукописи фразу: «Точно такъ же какъ охотникъ въ лѣсу безъ ружья немыслимъ иначе, какъ если кто-нибудь отнялъ у него ружье» и т. д. Толстой исправил так: «Какъ немыслимъ рыбакъ на сухомъ мѣстѣ и безъ снастей иначе, какъ если кто-нибудь согналъ его съ воды и отнялъ у него снасти»... и т. д. Новым моментом является разбивка здесь главы XVII на две: в середине рукописи сделана обширная вставка на отдельной четвертушке, соответствующая по содержанию концу главы XVII окончательного печатного текста, и вслед за последней строкой этой вставки рукой Толстого написано: «Слѣдуетъ XVIII глава: Живетъ народецъ». Этими именно словами в копии, сделанной переписчиком, и начинается глава XVIII, сохранившаяся лишь в своей начальной части, на двух четвертушках. Сверху этих слов рукой Толстого приписано: «Откуда берутся деньги? При какихъ условіяхъ жизни народа всегда бываютъ деньги?» и т. д., т. е. здесь глава XVIII начинается почти буквально так же, как она начинается в окончательном печатном тексте. Вторая часть главы XVII, следовательно, должна образовать главу XIX, хоть это в рукописи никак не отмечено. Таким образом порядок глав XVII, XVIII, XIX и их содержание оказываются теперь совпадающими в рукописи и в окончательном печатном тексте.
32. Рукопись ГТМ, без полей, на 23 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с исправлениями и дополнениями, сделанными рукой Толстого в самом тексте и иногда на оборотных сторонах четвертушек. Четвертушки нумерованы первоначально последовательно цыфрами от 1 до 12. 13-я четвертушка вошла в состав рукописи № 70 (л. 116): на следующих четвертушках, цыфры 14, 15, 16 зачеркнуты и заменены цыфрами 3, 4, 5. Начало: «Деньги! Чтожъ такое деньги?». Рукопись обрывается на полуфразе: «онъ назначитъ дорогую цѣну зa». Продолжение этой рукописи и конец (четвертушка 17—22) попали в рукопись № 70 (лл. 121—126), войдя в состав главы XIX. Впоследствии вставлены новые четвертушки, обозначенные цыфрами 8/2, 8/3, 11/2, 12/2 и т. д. В начале рукописи для обозначения главы переписчиком поставлена цыфра XVII. На четвертушке 12-й рукой Толстого перед словами «Если бы эта воображаемая наука» поставлена цыфра XIX. (Ср. начало XIX главы печатного текста.) В основном слое, исписанном рукой переписчика, четвертушки, пронумерованные одной цыфрой, являются копией соответствующей части рукописи № 30 во второй ее авторской редакции, четвертушки же, обозначенные двойными цыфрами, представляют копию некоторых исправленных и дополненных страниц рукописи № 31. В результате этой комбинации получилась новая редакция главы XVII полностью и начало главы XIX. Существенные поправки в этой рукописи, сделанные Толстым, сводятся к следующему. В самом начале главы зачеркнут абзац:
Значеніе же денегъ, состоящее въ томъ, для чего мы всѣ и всѣ вокругъ насъ употребляютъ ихъ, именно то, что посредствомъ ихъ одни люди заставляютъ работать на себя другихъ,— это значеніе денегъ совершенно не разсматривается. Когда же говорится объ этомъ, то говорится никакъ не о томъ, что мы всѣ видимъ и знаемъ, а говорится о какихъ-то такихъ вещахъ, которыхъ никто не видалъ и не знаетъ, такъ что надо долго ломать голову, чтобы только понять то, о чемъ говорится. Чтобы сказать то простое и понятное каждому человѣку дѣло, что тѣ, у кого есть деньги, могутъ заставлять другихъ не только на себя работать, но выматывать жилы изъ тѣхъ, у кого нѣтъ денегъ; чтобы сказать это, говорится о законѣ, по которому рабочая плата всегда стремится къ пониженію до степени удовлетворенія только самыхъ первыхъ потребностей рабочихъ, а капиталъ и рента съ земли вообще стремятся увеличиваться. Вмѣсто того чтобы сказать то, что есть важно всякому, т. е. то, что тотъ, у кого есть больше денегъ, чѣмъ предъявляемыхъ къ нему требованій, имѣетъ неограниченную власть надъ тѣмъ, у кого меньше денегъ, чѣмъ предъявляемыхъ к нему требованій, и отчего это такъ, говорится о процентѣ, рабочей платѣ, рентѣ, о словахъ, въ которыхъ не только простые смертные, но и ученые по этой части перепутались такъ, что въ каждомъ новомъ сочиненіи опровергаются старыя и даются новыя опредѣленія. (Смотри Progress and Poverty George, гдѣ онъ показываетъ ложныя положенія и опредѣленія Спенсера, Льюиса и др.). Одинъ человѣкъ посредствомъ денегъ можетъ изъ другаго вить веревки, это, по наукѣ, — законъ процента, ренты, заработной платы. И потому, казалось бы, необходимо понять, какимъ образомъ деньги сдѣлались орудіемъ порабощенія людей. Но наука не хочетъ задавать себѣ этаго простаго вопроса.
Далее зачеркнуто такое сравнение:
Имъ кажется, что обладаніе деньгами и нужда въ нихъ такъ же свойственны человѣчеству, какъ медъ пчеламъ, и что люди, какъ трутни и рабочія пчелы въ ульѣ, такъ и родятся: одни съ банками и монетными дворами, a другіе съ обязательствомъ платить деньги и потому съ необходимостью продавать за эти деньги всѣ продукты своего труда, точно такъ же какъ въ древности не только глупцамъ, но Ксенофонту, Платону и Аристотелю казалось, что рабство свойственно людямъ, какъ рабство муравьевъ.
После слов: «Всѣ эти свойства экономисты навываютъ желѣзнымъ закономъ» зачеркнута фраза: «этому глупому слову «желѣзный законъ» очень посчастливилось». Кроме того, в рукописи еще ряд сокращений, менее характерных и существенных. С другой стороны, в некоторых случаях текст пополнен новыми вставками. Так, много места уделено перечислению ряда факторов производства, кроме земли, капитала и труда (вошло в окончательный печатный текст). Есть и другие вставки, приближающие текст рукописи к окончательному печатному тексту.
33. Рукопись ГТМ, на 13 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Первоначальная нумерация переписчика (1—13) заменена Толстым другой, не совпадающей с первой. Четыре четвертушки разрезаны поперек на две части и на некоторых из этих частей рукой Толстого проставлены цыфры. Всё это указывает на то, что рукопись, после редактирования ее Толстым, отдельными своими частями вошла в новую текстовую комбинацию. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XVII и далее начало: «Деньги. Чтожъ такое деньги?» Конец: «Посмотримъ, так ли это?» В том виде, как рукопись переписана переписчиком, она представляет собой копию XVII главы рукописи, описанной под № 32, с учетом поправок, сделанных Толстым. В ряде случаев текст подвергся здесь дальнейшему сокращению путем зачеркивания отдельных фраз и абзацев. И сокращения и поправки, сделанные в рукописи Толстым, являются дальнейшим этапом на пути к приближению текста рукописи к окончательному печатному тексту.
34. Рукопись ГТМ, без полей, на 9 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Одна четвертушка этой рукописи, после того как ее лицевая сторона была переписана, использована Толстым с оборотной чистой стороны, где он сделал вставку во всю страницу, вошедшую в состав рукописи, описанной ниже под № 43. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XVII и далее начало: «Деньги! Чтожъ такое деньги?» Рукопись обрывается на полуфразе: «И какъ только наука поставитъ себѣ». Первоначальная нумерация переписчика (1—9) исправлена и заменена новой, так как отдельные четвертушки опять вошли в новую текстовую комбинацию. По той же причине три четвертушки разрезаны поперек на две части, и каждая часть пронумерована особо. В том виде, как рукопись переписана была переписчиком, она представляет собой обычную копию рукописи № 33, после того как она была окончательно препарирована при помощи ножниц и новой нумерации. Поправки, сокращения и дополнения, перетасовки в тексте, сделанные Толстым в рукописи, приближают ее к окончательному печатному тексту главы XVII.
35. Рукопись ГТМ, без полей, на 15 листах в 4°, из которых 14 исписаны с одной стороны рукой А. П. Иванова и заключают в себе поправку рукой Толстого, и одна, приблизительно на треть страницы, рукой Толстого. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XVII и далее начало: «Деньги! Чтожъ такое деньги?» Рукопись обрывается на полуфразе: «какъ въ древнемъ мірѣ дѣленіемъ людей на гражданъ и рабовъ утверждали». В середине рукописи, в разных ее частях, недостает четырех четвертушек. Рукопись пронумерована переписчиком, но нумерация исправлена Толстым, так как и тут отдельные четвертушки и части их вошли в новую текстовую комбинацию. В своем первоначальном виде рукопись представляет собой копию рукописи № 34, после того как рукопись эта указанным образом была препарирована. Поправки, дополнения, сокращения (сокращений больше, чем дополнений), перетасовки в тексте еще более приближают рукопись к тексту главы XVII в окончательной печатной редакции.
36. Рукопись ГТМ, без полей, на 11 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. В рукописи не хватает первых трех четвертушек и нескольких в середине. Начало: «дѣленіемъ факторовъ производства, которое свѣжему человѣку всегда представляется искусственнымъ». Конец: «Посмотрим, так ли это?». Нумерация на сохранившихся четвертушках идет от 4 до 15, с пропуском четвертушек 9, 10 и 11, которые вошли в состав рукописи № 70 (лл. 78—80), затем следуют четвертушки с цыфрами 19, 20, 21. Четвертушки 16, 17, 18 вошли в состав рукописи № 70 исправленными на 20, 21, 22 (лл. 87—89). В основном своем слое, исписанном рукой переписчика, рукопись представляет собой обычную копию знакомым нам способом препарированной рукописи, описанной под № 33. В результате исправлений, дополнений и сокращений, сделанных в ней рукой Толстого, она в сохранившейся своей части почти слово в слово совпадает с соответствующими местами окончательной печатной редакции главы XVII.
37. Автограф ГТМ на 2 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Содержит в себе текст, соответствующий XX главе окончательной редакции. Начало: «Сущность рабства есть пользованіе одними людьми». Конец: «но не исключаетъ ихъ совершенно». Для обозначения главы поставлена цыфра XX.
38. Рукопись ГТМ на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Два из них, нумерованные цыфрами 1 и 3, исписаны рукой А. П. Иванова, один — рукой Толстого. Начало: «Сущность рабства есть пользованіе». Конец: «для удовлетворенія этаго требованія». Переписанное рукой Иванова представляет собой остаток копии предыдущей рукописи, с поправками рукой Толстого. Написанное сплошь рукой Толстого — продолжение текста 1-го листа. На нем для обозначения главы поставлена цыфра XIX, и в углу написано: «зa 42 страницей». Это обозначает, что рукопись должна быть помещена вслед за 42 четвертушкой рукописи, описанной под № 30. Как раз в этой рукописи на обороте этой четвертушки заканчивается глава XVIII.
39. Рукопись ГТМ, с полями, на 14 листах в 4° из которых 12 исписаны с обеих сторон рукой А. П. Иванова; на них поправки, сокращения и дополнения на полях и среди текста, сделанные рукой Толстого. Две четвертушки, представляющие собой вставку, исписаны сплошь рукой Толстого. Рукопись, за исключением четвертушек, написанных рукой Толстого, имеет двойную нумерацию по четвертушкам: сначала идут четвертушки со счетом от 1 до 7 (4-я четвертушка утеряна), затем — со счетом от 5 до 10. Судя по различию чернил в первой группе четвертушек и во второй, такой счет получился в результате соединения частей двух разновременно написанных рукописей, но так, что перерыва в тексте не получилось. В начале рукописи рукой переписчика для обозначения главы поставлена цыфра XIX; она перечеркнута, и вместо нее рукой Толстого проставлена цыфра XX и далее начало: «Причина бѣдственного состоянія большинства людей». Конец: На оборотной стороне последней четвертушки глава заканчивается и далее следует новая, начинающаяся словами: «Князья разорили и побили Древлянъ» и обозначенная переписчиком цыфрой XX. Но и цыфра и начало главы зачеркнуты. Рукопись обрывается на половине фразы: «Живут свободно и справ —». На первой четвертушке, в начале рукописи, сбоку стоит помета переписчика: «Раз эта новая глава стала XIX, то глава XIX стала XX». После разбивки главы XVII на две — XVII и XIX (см. описание рукописи № 31), текст рассматриваемой сейчас рукописи образовал собой естественно главу XX, а глава, начинающаяся словами: «Князья раззорили и побили Древлянъ», должна была лечь в основу главы XXI. По содержанию рукопись соответствует главе XX окончательного печатного текста, но кратче ее. Варианты несущественны с точки зрения смысловой и стилистической. Поправки Толстого сводятся в ряде случаев, во-первых, к уточнению высказываемых мыслей, во-вторых, к сокращению текста. Начиналась рукопись сперва словами: «Сущность рабства есть пользованіе одними людьми трудами другихъ». Затем это начало зачеркнуто Толстым и заменено другим: «Причина бѣдственнаго состоянія большинства людей и отчужденія отъ нихъ земли и ихъ орудій труда есть порабощеніе однихъ людей другими».
40. Рукопись ГТМ, без полей, на 20 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, дополнениями между строк и сокращениями, сделанными рукой Толстого. В одной четвертушке сохранилась лишь верхняя ее половина, три разрезаны на несколько частей в целях новой комбинации текста. В рукописи шести четвертушек недостает. Нумерация идет по четвертушкам (1—24) с удвоением некоторых цыфр (9, 9/2 и др). На некоторых четвертушках, а также на отрезках четвертушек нумерация исправлена или проставлена вновь. Некоторые четвертушки рукой переписчика перечеркнуты для обозначения того, что они наново переписаны. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XX, далее начало: «Причины бѣдственнаго состоянія большинства людей». Конец: «только имѣя перед собой эту надежду». Данная рукопись представляет собой копию предыдущей, однако с добавлением некоторых подробностей (как, напр., сравнение трех форм рабства с тремя винтами), для которых оригинала не сохранилось. Исправления, сделанные в рукописи Толстым, приближают рукопись к окончательному печатному тексту. Пять начальных строк зачеркнуто, и рукопись начинается так же, как соответствующая ей глава XX печатного текста: «Всякое порабощеніе одного человѣка другимъ основано только на томъ» и т. д.
41. Рукопись ГТМ, без полей, на 11 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями между строк и на оборотных страницах четвертушек, сделанными рукой Толстого. Одна четвертушка разрезана поперек на две части в целях новой комбинации текста. Рукопись нумерована по четвертушкам (1—23), причем некоторые четвертушки пронумерованы двумя цифрами (18/2, 18/3) на некоторых нумерация исправлена рукой Толстого. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XX и далее начало: «Всякое порабощеніе одного человѣка другим» конец: «для того чтобы собирать подати». В рукописи недостает четырнадцати или пятнадцати четвертушек. Семь четвертушек отсюда перенесены в рукопись № 70 (лл. 130—135 и 141) и вошли в состав главы XX. Большая часть четвертушек перечеркнута переписчиком поперечной чертой. Рукопись представляет собой обычную копию предыдущей после того, как последняя была заново препарирована при помощи ножниц. Исправления, сделанные здесь рукой Толстого, — следующий этап по пути приближения рукописи к окончательному печатному тексту.
42. Рукопись ГТМ, без полей, на 7 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями между строк и на оборотных страницах четвертушек рукой Толстого. Большей части четвертушек не сохранилось. Сохранились лишь четвертушки, обозначенные цыфрами 2, 10, 11, 12, 15/2, 18/4 и 23 (последняя). Девять четвертушек отсюда, в том числе первая, перенесены в рукопись № 70 (лл. 127, 142, 148—151, 154—156) и вошли в состав главы XX. Одна четвертушка разрезана на две части. Большая часть текста перечеркнута переписчиком поперечной чертой. Начало: «только вслѣдствіе того, что за неисполненіе всего этаго ему угрожаютъ лишеніемъ жизни». Конец: «порабощеніе людей держится на тѣхъ милліардахъ податей, собираемыхъ правительствами съ ихъ подданныхъ, т. е. рабовъ». По содержанию рукопись соответствует главе XX окончательного печатного текста и в сохранившейся своей части представляет собой копию рукописи, описанной под № 41. Многочисленные поправки и дополнения, сделанные в рукописи Толстым, очень сильно, хотя и не буквально, приближают текст рукописи к главе XX окончательного печатного текста.
43. Автограф ГТМ, с полями, на 3 листах в 4°. Состоит из полулиста писчей бумаги, согнутого пополам, и одной четвертушки. Страницы не нумерованы. В рукописи нет середины текста. Начало: «Не удивительно то, что сами рабы съ древнѣйшихъ временъ подвергаемые всѣмъ тремъ формамъ рабства». Конец: «какъ со стороны собирающихъ подати и платящихъ ихъ поистинѣ ужасно». В начале рукописи для обозначения главы рукой Толстого поставлена цыфра XXI. Содержание рукописи в сохранившейся ее части соответствует содержанию начала главы XXI окончательного печатного текста, но изложение в рукописи значительно распространеннее по сравнению с печатной редакцией.
44. Рукопись ГТМ, без полей, на 3 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. На оборотной стороне четвертушек — текст, соответствующий содержанию главы XXVI окончательного печатного текста. Всё написанное с обеих сторон четвертушек перечеркнуто поперечной чертой. Четвертушки пронумерованы последовательно цыфрами 1, 2, 3, впоследствии зачеркнутыми. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XXI, также зачеркнутая, и далее начало: «Неудивительно то, что сами рабы». Текст обрывается на полуфразе: «для управленія другими и поученія». Сохранившаяся часть текста соответствует по содержанию началу главы XXI окончательного печатного текста, отличаясь, как и в предыдущей рукописи, большей сравнительно с ним распространенностью в изложении. Данная рукопись восходит к автографу, описанному под № 43, но не непосредственно, а через какую-то промежуточную рукопись, до нас не дошедшую.
45. Рукопись ГТМ на 20 листах в 4°, 13 четвертушек, с полями, исписаны с обеих сторон рукой Т. Л. Толстой; на них многочисленные исправления и приписки среди текста и на полях рукой Толстого. 7 четвертушек, без полей, вставленных вслед зa первой, начальной четвертушкой, написаны сплошь рукой Толстого; из них 5 — с обеих сторон. Одна, переписанная рукой Т. Л. Толстой, четвертушка, принадлежащая органически этой рукописи, перенесена в рукопись № 70 (л. 185) и вошла в состав главы XX. Большая часть четвертушек имеет нумерацию, но крайне запутанную и непоследовательную. Ряд цыфр зачеркнут и заменен другими. Большая часть текста перечеркнута, видимо, частью переписчиком, частью Толстым. В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XX и далее начало: «Не удивительно то, что сами рабы». Конец: «земельной собственности и начала». В первой своей половине данная рукопись в своем основном слое, написанном рукой переписчицы, восходит, как и рукопись, описанная под № 44, к автографу, описанному под № 43, но также не непосредственно, а через недошедшую до нас промежуточную рукопись; во второй половине она является копией второй части главы XIX, в том ее виде, как она читается в рукописи, описанной под № 30. В целом текст рукописи соответствует по содержанию главе XXI окончательного печатного текста. Дополнения и исправления, сделанные в рукописи Толстым, очень многочисленны. Часть дополнений вошла в окончательную печатную редакцию главы XXI, часть была опущена. Отмечаем наиболее существенные варианты, опущенные в дальнейшей редакции главы.
Вслед за тем местом, где политическая экономия сравнивается с ленивой, заминающейся лошадью (это место вошло и в печатный текст), читаем текст, который приводим в вариантах (№ 8).
Далее, вслед зa пятью абзацами, начинающимися однообразно, как и в печатном тексте, словами: «Вы спрашиваете...» и очень близкими текстуально к печатному тексту, читаем текст, который также приводим в вариантах (№ 9). Ряд поправок и дополнений, сделанных Толстым в этой рукописи, вошли в окончательный печатный текст главы XXI.
46. Рукопись ГТМ, без полей, на 15 листах в 4°, из которых 3 с отрезанными нижними долями. Исписаны с одной стороны рукой А. П. Иванова; в них обычные поправки и дополнения рукой Толстого. Текст без начала и конца; в середине также недостает нескольких четвертушек. Четвертушки перенумерованы (2—19). Весь текст рукописи перечеркнут переписчиком. Начало: «не удивительно также и то, что могутъ находиться люди». Конец: «не можетъ разъяснять, а можетъ только затемнятъ вопросы, что оно и дѣлаетъ». По содержанию рукопись соответствует главе XXI окончательного печатного текста и в сохранившейся своей части представляет собой копию рукописи № 45.
47. Рукопись ГТМ, без полей, на 14 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с исправлениями, сокращениями и дополнениями, сделанными рукой Толстого между строк и на оборотных страницах некоторых четвертушек. Три последние четвертушки представляют собой копию предыдущих, так как последние были радикально исправлены Толстым. Текст без начала и конца; в середине также недостает нескольких четвертушек. Четвертушки перенумерованы (3—19 и 16—18). 18-я четвертушка сохранилась только в своей верхней половине. Нижняя ее половина, также следующие четвертушки — 19—22 и 24—25 (конец текста главы), затем четвертушки 4, 5, 6 переложены в рукопись № 70 (лл. 180—184, 186—187, 161—163) и вошли в состав главы XXI. Весь текст рукописи перечеркнут переписчиком. Начало: «ей нужно итти куда то въ сторону по своему дѣлу». Конец: «оказывается, что общее благо независимо отъ блага отдельныхъ людей. Оказывается». По содержанию рукопись соответствует главе XXI окончательного печатного текста и в сохранившейся своей части представляет копию рукописи № 45. Исправления, сделанные Толстым, приближают текст рукописи к окончательному печатному тексту главы XXI, но до текстуального совпадения тут еще далеко. Очевидно, текст главы перерабатывался и дальше, но эти дальнейшие переработки до нас не дошли.
48. Автограф ГТМ на 8 листах в 4°, частью с полями, частью без полей. Состоит из согнутого пополам полулиста писчей бумаги, в который вложено шесть четвертушек, исписанных с обеих сторон. Первая четвертушка полулиста, служащая обложкой рукописи, — чистая, вторая — исписана с обеих сторон. Все исписанные четвертушки пронумерованы рукой Толстого последовательно цыфрами от 1 до 7. На обложке рукой А. П. Иванова написано «Черновая XXI гл. Так чтож нам делать», причем цыфра XXI зачеркнута карандашом. Рукопись начинается с нескольких зачеркнутых строк, не связанных с последующим текстом, затем идет проставленная рукой Толстого цыфра XXII, и начинается текст словами: «Какія же это ширмы?», т. е. теми самыми, какие мы находим в конце рукописи, описанной под № 27, и какие были и в рукописи, описанной под № 21. Это, так же как и обозначение главы цыфрой XXII, заставляет поставить вопрос, не написана ли была эта рукопись раньше, чем написаны были новые пять глав о деньгах, заменившие первоначальную главу XVII. Конец рукописи: «культурой, наукой и искусствомъ». По своему содержанию текст описываемой рукописи представляет собой первую редакцию той главы, которая в качестве XXVI вошла в окончательный печатный текст. В вариантах печатаем ее полностью (№ 10).
49. Рукопись ГТМ, без полей, на 19 листах в 4°, исписанных рукой А. П. Иванова, с многочисленными поправками, вставками между строк, сокращениями и приписками на оборотных страницах рукой Толстого. Состоит из 18 несшитых, исписанных с одной стороны четвертушек, и одной полосы, равной приблизительно половине четвертушки. Две четвертушки разрезаны поперек на неравные части в целях новой комбинации текста. Четвертушки нумерованы, но беспорядочно. На первых семи четвертушках нумерация идет последовательно от 1 до 7, 8-я четвертушка отсутствует, затем идут 9-я, 10-я. Дальнейшая правильная нумерация от 11 до 20 зачеркнута, и вместо нее проставлены последовательно следующие цыфры: 18, 19, 20, 3, 19, 20, 23, 24, 25, 26. В том слое, который переписан рукой переписчика, рукопись представляет собой копию автографа, описанного под № 48, хотя и не точную и не аккуратную. В начале рукописи для обозначения главы стоит цыфра XXI, написанная рукой переписчика, но зачеркнутая, видимо, Толстым, и далее начало: «Какие же это ширмы». Конец: «жестокость и гнусность ихъ измѣны». Редакторская работа Толстого в этой рукописи очень велика: ряд вставок, еще больше зачеркнутых мест, написанных не только рукой переписчика, но и рукой самого Толстого. Текст рукописи в переработанном виде приблизительно наполовину приближается к окончательному печатному тексту главы XXVI.
50. Рукопись ГТМ, без полей, на 23 листах в 4°, исписанных рукой А. П. Иванова с одной стороны. Четвертушки нумерованы цыфрами от 1 до 24. Вслед зa четвертушкой, обозначенной цыфрой 3, идет четвертушка, помеченная 3/2. Седьмая четвертушка обозначена двумя цыфрами — 7 и 10, на восьмой четвертушке цыфра 8 зачеркнута и заменена цыфрой 11. Цыфра 10 зачеркнута, вместо нее написано 13, исправленное на 11. (Отсутствие четвертушки с цыфрой 10 не обозначает однако перерыва в тексте.) Четвертушки, которые должны были бы быть обозначены цыфрами 19 и 20, утрачены. Переписанный текст, зa исключением шести четвертушек, исправлен рукой Толстого; им же сделаны приписки между строк; некоторые места в тексте зачеркнуты вдоль строк и поперек. В начале рукописи написано: «ХХІІІ-я глава» и далее начало: «Какимъ образомъ могли дойти люди до того». Конец: «ни начальникъ, ни старый колдунъ не нужны». Текст соответствует главе XXVI окончательного печатного текста и представляет собой, в результате поправок Толстого, дальнейшее приближение к нему, но далеко еще с ним не совпадает. Данная рукопись близко стоит к рукописи, описанной под № 49, но не является ее прямой копией. В особенности это явствует из расположения отдельных абзацев, иного, чем тот, которое находим в рукописи № 49. Текст рукописи не имеет конца, до которого недостает приблизительно одной страницы. Заканчивается абзацем о тонущем судне, представляющем собой измененный вариант, по сравнению с тем, как это место читается в рукописях, описанных под №№ 44 и 45, и потому приводим его:
Судно заливается водой. Чтобы не потонуть, всѣмъ, находящимся на суднѣ, надо работать, непрестанно отливать воду, и всѣ работаютъ. Работаютъ до истощенія — многіе гибнутъ въ этой работѣ, и ихъ выбрасываютъ. Только страшными напряженіями судно поддерживается надъ водою. Но есть сильный человѣкъ, который уволился отъ работы и хитростью привелъ людей къ убѣжденію, что имъ будетъ выгоднѣе, если онъ не будетъ выкачивать, а будетъ распоряжаться ими. Оставшіеся люди продолжаютъ работать и отчасти роптатъ на измѣнника. Тогда сильный измѣнникъ избираетъ изъ работающихъ ловкого человѣка съ тѣмъ, чтобы ловкій человѣкъ поддерживалъ его, пугалъ бы другихъ тѣмъ, что онъ заколдуетъ ихъ, если они заставять сильного измѣнника работать. И ловкій человѣкъ тоже увольняется отъ работы и начинаетъ колдовать. Но вотъ является еще новый измѣнникъ. Этотъ тоже увольняется отъ работы подъ тѣмъ предлогомъ, что прежнее колдовство не хорошо. Онъ знаетъ новое, которое спасетъ всѣхъ работающихь отъ ихъ труда и даже потопленія. Измѣннику этому вѣрятъ, но измѣнникъ дѣлаетъ двойную измѣну: онъ поддѣлывается къ сильному; обѣщаетъ ему служить ему, а между тѣмъ понемногу подкапывается подъ него и подъ колдуна и показываетъ людямъ, что ни начальникъ, ни старый колдунъ не нужны.
51. Рукопись ГТМ, разрозненная, без полей, на 7 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. На оборотной стороне трех четвертушек прежде написанный текст той же — XXVI — главы, перечеркнутый продольной чертой. Текст рукописи без начала и конца, одна четвертушка (13-я) в середине утеряна. Начало: «уволили себя отъ трудовъ». Конец: «въ которое вѣрятъ люди нашего времени». Нумерация сначала шла от 11 до 18, затем, в процессе комбинации четвертушек, она исправлена, так что четвертушки обозначены последовательно цыфрами 15, 12, 14, 15, 13, 14, 15.
В рукописи много поправок рукой Толстого. Большая часть четвертушек перечеркнута частью или сплошь. Сплошные зачеркивающие черты сделаны другими чернилами, чем частично зачеркивающие. Последние, видимо, делались рукой Толстого, первые — рукой переписчика и во всех случаях (не только в этой рукописи) означали, что сплошь зачеркнутый текст переписан заново.
В сохранившейся своей части, в слое, переписанном рукой переписчика, рукопись представляет копию предыдущей, описанной под № 50.
52. Рукопись ГТМ, без полей, разрозненная, на 6 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. На оборотной стороне двух четвертушек одна из редакций той же — XXVI — главы, зачеркнутая поперечной чертой. На оборотной стороне предпоследней четвертушка вставка, написанная рукой Толстого и перечеркнутая поперечной чертой. Она вошла в дальнейшие редакции этой главы. Рукопись нумерована. Сохранились четвертушки, обозначенные цыфрами 4, 11—15. Четвертушки 1—3 переложены в рукопись № 70 (лл. 230, 232, 233) и вошли в состав главы XXVI. Четвертушка 12 была разрезана на две части, и на второй, нижней ее части поставлена цыфра 16, затем следующие цыфры 13, 14, 15 исправлены на 17, 18, 19. Все четвертушки перечеркнуты — частично рукой Толстого, затем сплошь рукой переписчика. Начало: «силъ въ этой борьбѣ». Конец: «вѣчному закону труда всего человечества, для поддержанія жизни». Под этой фразой черта, означающая, что глава закончена. В основном слое, написанном рукой переписчика, сохранившаяся часть рукописи представляет собой копию предыдущей рукописи, описанной под № 52.
53. Рукопись ГТМ, разрозненная, без полей, на 7 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с исправлениями рукой Толстого. Часть одной четвертушки срезана. Нумерация четвертушек несколько paз исправлена, в зависимости от тех комбинаций, в какие попадали отдельные четвертушки и части их. В начале рукописи не хватает нескольких четвертушек, то же и в середине. Начало: «Кромѣ того, каждый изъ насъ, гдѣ бы онъ не жилъ». Конец «для того, чтобы они искренно могли вѣрить въ законность своего положенія?» Почти вся рукопись перечеркнута рукой переписчика. По содержанию своему она является одной из редакций текста, вошедшего в главу XXVI окончательного печатного текста. В основном своем слое, переписанном рукой переписчика, она является копией предыдущей рукописи, описанной под № 52, с учетом, как всегда, всех исправлений Толстого. Новые поправки, вставки, сокращения, сделанные здесь Толстым, делают данную рукопись новым этапом в приближении ее текста к окончательному печатному тексту.
54. Рукопись ГТМ, без полей, на 4 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками Толстого. Четвертушки нумерованы цыфрами от 11 до 14. Начало: «Если прислушаться къ тому, что говорится и печатается въ наше время»... Конец: «это все то же старое оправданіе, отличающееся отъ прежнихъ только тѣмъ, что оно менѣе основательно». В основном слое, переписанном рукой переписчика, данная рукопись представляет собой копию части предыдущей, описанной под № 53, с учетом поправок Толстого. Новые поправки, сделанные Толстым, — исключительно стилистического характера. Вся рукопись перечеркнута сплошными вертикальными чертами.
55. Ряд разрозненных четвертушек, целых и разрезанных на две части, и отдельных полос, хранящихся в ГТМ и исписанных рукой А. П. Иванова, частью с одной стороны, частью с обеих сторон, с поправками, вставками и сокращениями, сделанными рукой Толстого. Таких четвертушек всего 33, полос — 4. Кроме того, — 6 четвертушек, исписанных сплошь или большей частью рукой Толстого. Начало: «Оправданіе фараона и жрецовъ». Конец: «и для нашихъ братьевъ». Весь этот разрозненный материал относится к главе XXVI «Так что же нам делать?» Мы имеем здесь дело со случайно уцелевшими, очень немногими страницами ряда промежуточных редакций указанной главы. В иных случаях мы встречаем 5—6 вариаций одного и того же отрывка текста на 6—7 четвертушках. Это свидетельствует об исключительно большой работе, которая затрачена была Толстым на написание этой главы, но состояние рукописей, к ней относящихся, таково, что во всех деталях эта работа прослежена быть не может.
56. Автограф ГТМ на полулисте обыкновенной писчей бумаги, согнутом пополам. Лицевые страницы рукой постороннего пронумерованы цыфрами 1, 2. Заполнены первые две страницы и несколько больше половины третьей, четвертая чистая. Перед текстом поставлена цыфра XXIII для обозначения главы. Начало: «Увольненіе себя отъ общаго труда человѣчества». Конец: «Наукой признается то, что признается научнымъ тѣми, которые себя признаютъ людьми науки». Сбоку на 2-й странице приписка, синтаксически не связанная с текстом рукописи: «Признакъ науки, что она не нужна». По содержанию текст рукописи относится к главе XXVII окончательного текста, представляя собой один из ее вариантов, не вошедших ни в окончательный печатный текст, ни в промежуточные его редакции.
Приводим поэтому рукопись полностью в вариантах (№ 11).
57. Рукопись ГТМ, без полей, состоящая из 8 цельных четвертушек обыкновенной писчей бумаги, одной четвертушки со срезанной верхней ее половиной, трех четвертушек, разрезанных поперек на две части для новой комбинации текста, двух полулистов почтовой бумаги малого формата и двух полулистов обыкновенной писчей бумаги, согнутых пополам. Все четвертушки — цельные и разрезанные — исписаны с одной стороны рукой А. П. Иванова и заключают в себе многочисленные поправки, сокращения и дополнения, сделанные рукой Толстого. Дополнения Толстого настолько многочисленны, что они занимают место не только между строк переписчика, но заполняют оставшиеся недописанными некоторые нижние части страниц и переходят на оборотные стороны страниц, большей частью занимая всю страницу. Текст на двух полулистах почтовой бумаги и на двух полулистах обыкновенной писчей бумаги сплошь написан на лицевых и оборотных страницах рукой Толстого. Четвертушки пронумерованы рукой переписчика цыфрами от 20 до 29. Нумерация не выдержана, в некоторых местах исправлена, и некоторые цыфры повторяются дважды. На четвертушках, обозначенных цыфрами 27, 28, 29, где особенно много написано рукой Толстого, рядом с этими цыфрами стоят последовательно цыфры 1, 2, 3 и далее — по лицевым страницам — 4, 5 (всё рукой Толстого), 6, 7, 8, 9 (рукой переписчика). Перед текстом рукописи, в самом начале, для обозначения главы поставлена цыфра XXIII, однако зачеркнутая, далее следует начало: «Прежде всего будущаго историка освободившихъ себя отъ труда людей нашего времени поразитъ въ сравненіи съ прежнимъ временемъ». Это начало, переписанное рукой переписчика с недошедшего до нас оригинала, исправлено рукой Толстого так: «Прежде всего, разсматривая людей нашего времени, освобожденныхъ отъ труда за жизнь, поражаетъ та особенность, что въ сравненіи съ прежнимъ временемъ». Далее, через две с половиной страницы, в начале отрезанной четвертушки, поставлена снова цыфра XXIII, после которой следует фраза: «Очень недавно было то, что всѣ нерабочіе люди, для того чтобы имѣть право» и т. д. В середине рукописи, в начале текста, написанного на первом полулисте почтового формата, перед словами: «Государственный человѣкъ иногда по старой привычкѣ защищаетъ» поставлена рукой Толстого для обозначения главы цыфра XXIV. Рукопись обрывается на полуфразе: «Стоитъ просто прямо посмотрѣть на суевѣріе, заявляя къ нему простые требования не научнаго, а здраваго». Все страницы рукописи, зa исключением двух последних полулистов, перечеркнуты переписчиком поперечной чертой. По своему содержанию текст рукописи соответствует тексту глав XXVII, XXVIII и XXX окончательного печатного текста. Текст, соответствующий главе ХХІХ, написан был позднее (см. ниже). В ряде подробностей, расположении отдельных абзацев, в формулировке мыслей и высказываемых положений текст рукописи еще во многом отличается от текста указанных глав окончательного печатного текста. Это нужно сказать особенно в отношении главы XXX. Глава XXVIII окончательной редакции значительно увеличилась по сравнению с ее объемом в рукописи.
Вместо небольшого абзаца главы XXVII окончательного печатного текста, начинающегося словами: «Вся деятельность республиканской партии считается вредной радикальной партией» в рукописи стоит абзац гораздо более распространенный:
Противъ всякаго императора, короля, президента, министра и ихъ чиновниковъ существуетъ враждебная партія, утверждающая и доказывающая, что деятельность этихъ людей вредна и пагубна людямъ. Республиканцы во время Бурбоновъ и Бонапартовъ утверждаютъ, что вся ихъ дѣятельность вредна и пагубна для народа. Бонапартисты и роялисты утверждаютъ то же во время республики и роялисты во время Бонапартовъ и наоборотъ. То же происходитъ и между партіями министровъ не только въ либеральныхъ странахъ, но и у насъ. Партія Лорисъ-Меликовыхъ говоритъ, что теперешняя вся дѣятельность правительства и его чиновниковъ погибельна, то же самое говоритъ теперь царствующая партія о дѣятельности либеральныхъ чиновниковъ.
Особенно много отличий от печатного текста во второй части рукописи, первоначально обозначенной как глава XXIV и по содержанию соответствующей отчасти главе XXVIII окончательного печатного текста, но преимущественно XXX.
Главу эту по данной рукописи, за исключением конца, близкого к концу главы XXX окончательного печатного текста, приводим в вариантах (№ 12).
58. Рукопись ГТМ, без полей, на 39 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, дополнениями и сокращениями, сделанными рукой Толстого. 2 листа разрезаны поперек на две части, а у двух других срезаны верхние полосы. Текст поделен на главы: XXIII и XXIV. Последняя цыфра зачеркнута. Текст каждой главы имеет особую нумерацию, сделанную переписчиком. В тексте главы XXIII нумерация идет по четвертушкам, от 1 до 22, причем отсутствуют четвертушки 9 и 19. В тексте главы XXIV нумерация идет последовательно также по четвертушкам от 1 до 16, причем четвертушки 14-й недостает, затем на 17-й четвертушке цыфра 17 исправлена на 37, следующая по порядку четвертушка отсутствует, 19 исправлена на 39, 20 на 40. Но и цыфра 40 зачеркнута, вместо нее поставлена цыфра 30, тоже зачеркнутая, и окончательно рукой Толстого поставлена очерченная дугой цыфра 22, затем следует последняя четвертушка, помеченная сначала цыфрой 40, зачеркнутой потом и замененной цыфрой 41. Текст обеих глав обрывается на полуфразе. Начало: «Очень недавно, до французской революции». Конец: «все человечество можно разсматривать». Данная рукопись в основном своем слое, написанном рукой переписчика, представляет собой копию, недостаточно исправную, предыдущей рукописи, описанной под № 57, с учетом всех исправлений, сделанных Толстым. Текст рукописи скопирован, начиная с того места предыдущей рукописи, где проставлена вторично цыфра XXIII, т. е. со слов «Очень недавно было то, что всѣ нерабочіе люди, для того чтобы имѣть право» и т. д. По сравнению с оригиналом копия заключает в себе еще одну лишнюю страницу текста, списанную с утраченного конца оригинала. Некоторые страницы сплошь перечеркнуты рукой переписчика.
Что касается исправлений, сделанных здесь Толстым, то они, с одной стороны, приближают текст рукописи к окончательному печатному тексту, с другой — заключают в себе ряд вариантов, не вошедших в печатный текст. И то и другое особенно касается тех мест, где речь идет о науке и искусстве, с одной стороны, и о воззрении на человеческое общество как на организм, с другой. Так, в главе XXIV читаем вариант, который печатаем отдельно (№ 13).
59. Рукопись ГТМ, без полей, исписанная с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями рукой Толстого, на 18 листах в 4°. На некоторых оборотных страницах — дополнения рукой Толстого. Большая часть текста, в том числе написанного рукой Толстого, перечеркнута рукой переписчика. Нумерация идет по четвертушкам от 1 до 36, причем отсутствуют четвертушки, которые должны были бы быть обозначены цыфрами 4, 7—11, 13—15, 18—24, 31—33. Четвертушки 13—15, 18, 20, 21 перенесены в рукопись № 70 (лл. 259—261, 264, 266, 267) и вошли в состав главы XXVII. В рукописи недостает конца, и она обрывается на самом начале фразы. Начало: «Новое выраженіе это появилось». Конец: «подождите немножко, подойдутъ. Самые». Текст поделен на главы. В начале рукописи для обозначения главы поставлена рукой переписчика цыфра XXIII, однако зачеркнутая, затем на четвертушках третьей та же цыфра рукой Толстого, также зачеркнутая, и на четвертушке двадцать второй, перед тем местом, где говорится о «лжехристианском» учении Павла, — незачеркнутая цыфра XXIV, написанная рукой Толстого. В основном слое, написанном рукой переписчика, сохранившаяся часть рукописи представляет собой копию предыдущей, с учетом поправок, сделанных Толстым. Новые поправки Толстого (насколько можно судить по состоянию рукописи, очень дефектной) в сильной степени приближают ее текст к тексту глав XXVII, XXVIII и XXX окончательной печатной редакции.
60. Автограф ГТМ, на 32 листах в 4°, из которых 2 чистые. Состоит из восьми отдельных четвертушек и двенадцати полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. Большая часть четвертушек пронумерована (не рукой Толстого), но нумерация несистематическая и повторяющаяся. Между стр. 14 и 15 — перерыв в тексте: видимо, утрачена одна четвертушка. Поля, большей частью, есть; некоторые из них заполнены вставками, относящимися к основному тексту. В рукописи довольно много исправлений и зачеркнутых и перечеркнутых мест. В начале рукописи и на стр. 37 рукой Толстого поставлены подряд три крестика в роде римской цыфры XXX. Эти крестики, видимо, означают начало новой главы. На стр. 7 рукой переписчика сбоку написано: «Конец гл. XXV». Начало: «Мальтусу, написавшему много плохихъ сочиненій, пришло въ голову написать трактатъ о народонаселеніи». Конец: «Такъ вотъ, что дѣлать? Не лгать, смириться и счастье жізни полагать не въ наслажденіи, а въ трудѣ». А затем следующая пометка, свидетельствующая о том, что на этом Толстой первоначально собирался закончить свое сочинение: «23 Октября. Ясн[ая] Пол[яна], Л. Т.» По своему содержанию рукопись представляет первоначальную, черновую редакцию текста, соответствующего главам XXIX и XXXVIII статьи. От окончательного печатного текста текст данной рукописи отличается преимущественно большей краткостью изложения и в ряде случаев иным, чем в окончательной печатной редакции, расположением отдельных абзацев в пределах одной главы или даже смежных глав. Существенных с точки зрения содержания вариантов в рукописи нет. Зачеркнутые строки и абзацы также не представляют сколько-нибудь значительного интереса. Исключением является текст, легший в основу главы XXVIII и отвечающий на вопрос, что же нам делать. Первоначальная редакция не только гораздо короче окончательной, печатной, но и разнится с ней по изложению. Поэтому приводим ее в вариантах целиком (№ 14).
61. Рукопись ГТМ, без полей, на 60 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями между строк, иногда на оборотных сторонах четвертушек рукой Толстого. Часть четвертушек разрезана поперек на две части; некоторые части разрезанных четвертушек не сохранились. Текст большей частью перечеркнут переписчиком. Четвертушки пронумерованы, но нумерация хаотическая. Многие четвертушки, судя по перерывам в тексте, утрачены. Часть их (четвертушки 6—8, 13—23, 33—37) переложена в рукопись № 70 (лл. 433—437, 405—418) и вошла в состав главы XXXVII. Текст в четырех местах рукой Толстого поделен на части тремя крестиками в роде римской цыфры XXX. Начало: «Мальтусу, написавшему много плохихъ сочиненій». Конец: «не лгать покаяться и работать руками». Рукопись в основном своем слое, написанном рукой переписчика, представляет собой копию автографа, описанного под № 60. Поправки и дополнения, довольно многочисленные, сделанные Толстым, а также новая комбинация отдельных частей четвертушек, после того как они были paзрезаны поперек, приближает текст рукописи к окончательному печатному тексту.
62. Рукопись ГТМ, без полей, на 5 листах в 4° (из них один разрезан на две части поперек), исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями между строк и на оборотных сторонах четвертушек рукой Толстого. Бòльшая часть текста перечеркнута переписчиком. Четвертушки последовательно пронумерованы цыфрами от 16 до 20. В основном слое, написанном переписчиком, данная рукопись представляет собой копию части предыдущей рукописи, именно страниц 16, 17, 18 и отчасти 19, подвергшихся усиленной авторской переработке и значительно дополненных. Поправки, вновь сделанные Толстым, — дальнейший этап на пути к окончательному печатному тексту. На оборотной стороне 20-й четвертушки сплошь рукой Толстого написан текст, соответствующий почти точно первым двум абзацам главы XXXIII окончательного печатного текста. Начало: «Было время, что церковь руководила духовной жизнью». Конец: «предались праздности и больше умственному, чѣмъ чувственному разврату».
63. Рукопись ГТМ, без полей, на 10 листах в 4°. Исписана с одной стороны рукой А. П. Иванова; многочисленные поправки рукой Толстого. Часть оборотных страниц четвертушек чистая, часть заполнена переписанными А. П. Ивановым и зачеркнутыми текстами из «Так что же нам делать?», не стоящими в непосредственной связи с данной рукописью, наконец, часть целиком исписана рукой Толстого, представляя собой новые вставки к тексту. Большая часть текста перечеркнута. Огромного большинства четвертушек в этой рукописи недостает. Три четвертушки отсюда почему-то попали в самый конец рукописи № 70 (лл. 561—563) без всякой связи с контекстом. Нумерация по четвертушкам с большими пропусками идет от 37 до 87. Начало: «съ величайшей увѣренностью и толпа съ благоговѣніемъ принимала». Конец: «и возврата къ простому, ясному и общечеловѣческому мышленію». В сохранившейся своей части рукопись представляет собой копию текста рукописей, №№ 61 и 62, и заключает в себе отрывки текста, соответствующие главам XXIX и XXXI окончательного печатного текста. Поправки и дополнения, сделанные здесь Толстым, — дальнейший шаг на пути к окончательной редакции печатного текста.
64. Автограф ГТМ на 1 листе в 4°, без полей, исписанном с обеих сторон. В начале для обозначения главы поставлена цыфра XXXIX. Начало: «Но вы только даете другое, не согласное съ наукой, более тѣсное опредѣленіе». Конец: «только тогда, когда будутъ имѣть въ виду эту цѣль — служить этому благу». По своему содержанию рукопись представляет почти буквальное соответствие началу (первым четырем абзацам) главы XXXVII окончательного печатного текста.
65. Рукопись ГТМ на 4 ненумерованных листах, в 4°, из которых 3 исписаны сплошь рукой Толстого; одна (оборотная) страница чистая, одна (тоже оборотная) исписана наполовину рукой Иванова, наполовину — Толстого и заключает в себе текст, относящийся к «Так что же нам делать?», но посторонний контексту данной рукописи. Начало: «Такъ что же дѣлать? Что жъ намъ дѣлать?» Конец: «получится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастья человѣка». Данная рукопись представляет собой уцелевшие части автографа новой редакции главы XXXVIII. Большая часть текста не сохранилась, и сохранившиеся листки не представляют собой даже части связного текста. То, что уцелело, очень близко в текстуальном отношении к соответствующим местам главы XXXVIII окончательного печатного текста.
66. Рукопись ГТМ, без полей, на 13 нумерованных по страницам (3—36), листов, из которых 12 исписаны с одной стороны, а тринадцатый с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками между строк и вставкой на обороте одной четвертушки, написанной рукой Толстого. Текст перечеркнут переписчиком. В рукописи недостает первых двух четвертушек и двадцати двух в середине, в разных местах. Большей частью эти недостающие четвертушки, в том числе первые две, перенесены в рукопись № 70 и вошли там в состав главы XXXVIII. Начало: «лжетъ съ утра до вечера: дома нѣтъ, когда я дома». Конец: «безъ которой не можетъ быть ни радостной, ни разумной жизни человѣка. 28 Октября. Ясная Поляна. Л. Толстой». При сопоставлении совпадающих мест данной рукописи и уцелевших частей автографа, описанного под № 65, убеждаемся в том, что данная рукопись в основном слое, написанном переписчиком, представляет собой копию автографа. Поправки, сделанные Толстым в начале рукописи, имеют большей частью стилистический характер, и текст рукописи в начале почти буквально совпадает с печатным текстом. Дальше от печатного текста отстоит конец рукописи, и здесь особенно обильны поправки и дополнения, сделанные Толстым. И те и другие приближают текст рукописи к окончательному печатному тексту.
67. Рукопись ГТМ, без полей, на 4 листах в 4°, исписанных с одной стороны рукой А. П. Иванова, с поправками и дополнениями рукой Толстого между строк и на обороте последней четвертушки. На четвертушках последовательно проставлены цыфры 29, 37, 46, 47. Таким образом огромной части рукописи недостает. Часть четвертушек из этой рукописи утеряна, а восемь своей оборотной чистой стороной использованы для новой копии, которая вошла в рукопись № 70. Здесь четвертушки 491, 493, 495—500 на оборотной стороне заключают перечеркнутый текст, непосредственно связанный с текстом описываемой рукописи. Конец ее сохранился. Начало: «работалъ всѣ эти 40-къ лѣтъ рядовую работу съ рабочимъ народомъ». Конец: «бороться съ природою для поддержанія жизни своей и другихъ людей». В основном своем слое, написанном рукой переписчика, сохранившаяся часть рукописи, точно так же как и указанные 8 четвертушек из рукописи № 70, представляют собой копию текста рукописи № 66. Поправки и дополнения, сделанные Толстым, особенно многочисленны в самом конце рукописи. В результате новой редакторской работы текст данной рукописи (включая в нее и 8 четвертушек, перенесенных в рукопись № 70), почти буквально совпадает с окончательным печатным текстом главы XXVIII.
68. Автограф ГТМ на 17 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Состоит из несшитых шести полулистов писчей бумаги, согнутых пополам, четырех четвертушек такой же бумаги и одного полулиста почтовой бумаги обыкновенного формата. Полулисты и четвертушки имеют поля. Нумерация на полулистах и четвертушках идет последовательно по четвертушкам от 1 до 17, причем цыфра 10 поставлена на обороте четвертушки, обозначенной цыфрой 3. На полях 9-й четвертушки рукой А. П. Иванова написано: «См. назад, стр. 10, за 3-й, под чертой». В начале рукописи для обозначения главы поставлена цыфра XLI, после чего следует начало текста: «Я кончилъ, сказавъ все то, что касалось меня». Конец: «она будетъ знать, что исполнила все, что должна была сдѣлать, и всегда будет спокойна, счастлива и потому сильна». В рукописи недостает, видимо, нескольких конечных абзацев величиной, приблизительно, в половину печатной страницы. По своему содержанию рукопись соответствует главам XXXIX и XL окончательного печатного текста. Большая часть вариантов — объемом от одного или нескольких слов до нескольких строк и не имеет существенного значения. Следует отметить лишь один вариант в тексте, соответствующем концу главы XXXIX в ее окончательной печатной редакции. В рукописи вместо находящегося в печатном тексте ряда абзацев, начинающегося словами: «Все это будетъ тогда, когда этаго будет требовать общественное мнѣніе» и оканчивающегося словами: «и самому нести настоящій трудъ съ тратою и опасностью жизни» — стоит другой абзац, который был зачеркнут в корректуре (см. ниже, корректуру, описанную под № 74) и заменен рядом указанных абзацев.
69. Рукопись ГТМ, без полей, на 18 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Нумерация — не рукой Толстого — идет по четвертушкам: 2—6, 7—20. Таким образом в начале не хватает одной четвертушки, в середине также одной, в конце — неизвестно сколько. В начале — продолжение XXII главы (начало: «на бѣдныхъ же. И потому мнѣ стала ясна та нелѣпость»), затем помеченная соответствующей римской цыфрой глава XXIII и, наконец, глава XXIV, обрывающаяся на полуфразе: «какъ бы ни былъ общъ обычай поѣданія людей между моими». Текст глав XXII и XXIII заключает в себе сравнительно немногочисленные поправки рукой Толстого. В тексте главы XXIV таких поправок нет. Что касается основного слоя рукописи, переписанного рукой переписчика, то текст его восходит к соответствующим частям текста рукописи № 25, но не непосредственно, а через посредство недошедших до нас промежуточных текстов. На рукописи типографские пометы, свидетельствующие о том, что с нее делали набор, очевидно, для пятого издания сочинений Толстого.
70. Рукопись ИРЛИ на 564 листах в 4° (последний чистый), написанных различными почерками, чаще всего рукой А. П. Иванова, с поправками, сокращениями и дополнениями, сделанными рукой Толстого. На первой странице заглавие: «Такъ что жъ намъ дѣлать?» Рукопись переплетена в темнозеленый коленкоровый переплет, за исключением трех сшитых тетрадей, заключающих в себе текст глав XXII—XXV и вставленных между главами XXI и ХХVІ. На форзаце запись рукой М. А. Шмидт: «Очень прошу беречь рукопись, как глаз свой. М. Шмидт». Рукопись составлена из разновременно написанных частей: в целом ряде случаев из описанных выше рукописей брались отдельные четвертушки, полулисты, согнутые пополам, или группа их и прилаживались к основному корпусу с исправлением ранее бывшей нумерации. Окончательная нумерация — по четвертушкам — двойная: верхняя, исчисляющая листы одной главы или по нескольких рядом стоящих глав (1—68, 1—24, 1—20, 1—11, 1—31 и т. д.) (три вставные тетради верхней нумерации не имеют), и нижняя, сплошная, проведенная также по четвертушкам, систематически от 1 до 564. Последняя, сделанная красным карандашом, принадлежит, видимо, музейному библиотекарю. В большинстве исписаны лишь лицевые страницы; 128 четвертушек исписаны с обеих сторон; на 47 четвертушках — на оборотной странице — черновые, исправленные Толстым и аннулированные им тексты, относящиеся к «Так что же нам делать?», но состоящие вне общего контекста. Поля большей частью отсутствуют. На четвертушках, занятых главой XVI, и далее, начиная с текста главы XXVI и до конца, на огромной части четвертушек типографские пометы, свидетельствующие о том, что эта часть рукописи была в наборе (для пятого издания сочинений Толстого).
Вся рукопись, зa исключением последних четырех четвертушек, механически к ней прикрепленных (см. выше), заключает в себе полный текст «Так что же нам делать?», разбитый на сорок глав, как и в окончательной печатной редакции.
Основной слой рукописи, написанный переписчиками, как указано было выше, с одной стороны составился из частей некоторых выше описанных рукописей, с другой — представляет собой исправленные Толстым копии других описанных выше рукописей.
Поправки Толстого, довольно многочисленные, имеются в большей части глав текста. Совершенно нет поправок в главах I—XI, XIV—XVI, XXII—XXV.
В результате этих поправок огромное большинство которых имеет стилистический характер, текст рукописи приблизился еще более к окончательному печатному тексту, сохраняя, впрочем, ряд разночтений, которые использованы были в изданиях «Свободного слова» под редакцией В. Г. Черткова, в 12-м издании С. А. Толстой и в издании Сытина под редакцией П. И. Бирюкова. В главе XXXIX сохранен абзац, о котором речь шла при описании рукописи № 68.
71. Рукопись ГТМ на 293 листах формата большого почтового листа, с полями, тщательно исписанная рукой М. А. Шмидт, с несколькими поправками рукой Толстого. Переплетена в коленкоровый переплет с кожаным корешком и кожаными углами. На первом чистом листе рукой С. А. Толстой надписано: «Граф. Софья Толстая». Далее идет заглавие «Так что же нам делать?» и первые шестнадцать глав, нумерованные по страницам (1—162). Вслед за этим 4 страницы чистые. Следующие четыре главы (XVII—XX) имеют новую нумерацию (тоже по страницам) (1—85), затем, после пяти чистых страниц, идут все остальные главы, начиная с XXI с нумерацией страниц от 1 до 325. Последние три страницы чистые. В тексте поправки, сделанные посторонней рукой и исправляющие мелкие ошибки, сделанные М. А. Шмидт при переписке. Той же рукой карандашом в разных местах сделаны двойные ссылки на страницы, очевидно, каких-то рукописных текстов «Так что же нам делать»?, напр.: «стр. 304». Некоторые места на полях отчеркнуты, и сбоку сделаны тем же почерком записи: «переделано», «изменено». Поправки Толстого также сводятся к исправлению ошибок, сделанных при переписке. Они встречаются на протяжении рукописи одиннадцать paз. В рукописи полный текст сочинения, поделенный на сорок глав. Она представляет собой копию предыдущей рукописи, с некоторыми поправками в тексте первых шестнадцати глав, очевидно, по корректуре «Русской мысли».
72. Рукопись ГТМ, без полей, на 39 листах почтовой бумаги обыкновенного формата, из которых последний чистый. Исписана рукой А. П. Иванова и заключает в себе поправки, сделанные рукой Толстого. Состоит из четырех сшитых и перенумерованных тетрадок: «№ 1 тетр.», «№ 2 тетр.» и т. д. Кроме того, перенумерованы цыфрами от 1 до 10 первые 10 полулистов первой тетрадки. Все тетрадки заключены в папку из плотной синей бумаги. Рукопись поделена на главы и содержит в себе полностью текст глав XVII—XX. Начало: «Деньги! Что жъ такое деньги?» Конец: «которое содержится податями». Эта новая копия с поправками Толстого, особенно многочисленными в XX главе, должна быть признана последним хронологически известным нам этапом в работе Толстого над главами XVII—XX. Текст ее в отношении указанных глав нужно считать наиболее авторитетным. Он лег в основу издания Элпидина и В. Г. Черткова («Свободное слово»).
73. Автограф ГТМ на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Часть текста, относящегося к XXXIX главе и написанного взамен зачеркнутого текста в корректуре, описанной под № 74. Начало: «Все это будетъ тогда». Конец: «И дѣла съ опасностью».
74. Корректура, хранящаяся в ГЛМ и ГТМ, на 54 гранках с добавлением двух полулистов рукописи, исписанных рукой С. А. Толстой, представляющих собой копию предыдущей рукописи и относящихся к главе XXXIX. 6 гранок хранятся в ГЛМ, остальное — в ГТМ. На гранке 16 Толстой написал: «Здѣсь набрать два листа рукописи». Кроме того, на трех листах рукой С. А. Толстой выписаны особенно значительные по объему вставки в корректуру, сделанные Толстым, с пометкой: «переписано для ясности». Гранки размечены цыфрами: 1—6, 3—33, 1—2, 1—16, 18—22. Таким образом в корректуре недостает одной гранки в середине (из главы XL). Сохранившиеся гранки заключают в себе набор от XXVI главы до XL включительно, т. е. до конца, зa вычетом текста, который приходился на утерянную в последней главе гранку. Главы пронумерованы, но нумерация их невыдержанная, с ошибками. Ошибки и непоследовательность остались в ней и после того, как отдельные цыфры были исправлены Толстым. На всех гранках — правка рукой Толстого, иногда очень обильная. На первых 27 гранках, кроме того, и техническая правка типографского корректора. Данная корректура, видимо первая по времени, представляет собой набор текста, предназначавшегося для пятого издания собрания сочинений Толстого, где однако статья в том виде, как она была набрана, не была опубликована из-за цензурного запрета: напечатаны были лишь извлечения из нее, по объему довольно значительные. Оригиналом для набора послужил частью текст, вошедший в состав рукописи, описанной под № 70. Но в этой рукописи отчеркнуты были карандашом некоторые абзацы и отдельные строки, которые явно вызвали бы сопротивление цензуры, и эти места в корректуре не были набраны. При правке гранок Толстой продолжал исправлять отдельные рискованные в цензурном отношении места, набранные в корректуре, заменяя их другими. Так, вместо «богословское учение», получилось «гегелевское учение»; вместо «богословы» — «старинные учители»; вместо «троичного Бога и тому подобных теологических положений» — «всякого невидимого фантастического существа» и т. д. Очень характерны поправки, сделанные в следующей фразе главы XXXVII: «так и деятельность Шекспиров, Бетховенов не имеет ничего общего с деятельностью Тиндалей, Гюго и Вагнеров». В корректуре слова «Шекспиров, Бетховенов» зачеркнуты, и вместо них написано: «Галилеев». Слова «Гюго и Вагнеров» также зачеркнуты и вместо них написано: «и Месонье». Больше всего исправлений и дополнений внесено Толстым в последние шесть глав, особенно же в главы XXXIX и XL. В конце главы XXXIX напечатан абзац, о котором говорилось при описании рукописи № 68 и который не вошел ни в одно печатное издание. В корректуре он был окончательно отредактирован и затем зачеркнут. Приводим его в вариантах (№ 15). Зачеркнута далее в корректуре и следующая фраза:
И невозможно будетъ и думать о томъ, чтобы открыто, передъ всѣми дать не только 25 р., но 50-тъ коп. за мѣсто въ концертѣ или въ театрѣ.
В главе XL набранное в корректуре:
Жены-матери, спасенье людей только въ вашихъ рукахъ!!!
Толстым исправлено так:
Жены-матери богатыхъ классовъ, спасенье людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ.
75. Корректура, хранящаяся в ГТМ, на 7 нумерованных гранках. На них сохранился набранный вновь текст, относящийся в главе XXXIX и писанный рукой С. А. Толстой (см. выше), от слов: «Всякий хороший юноша считает, что стыдно не помочь старику» и часть текста, относящегося к главе XL, кончая словами: «думает деньгами мужа или дипломами обеспечить будущую жизнь в детях». Данная корректура — вторая по порядку, представляющая собой новый набор текста по первой, исправленной корректуре. В ней сделаны новые исправления рукой Толстого, далеко не столь многочисленные, как в первой корректуре. В этой второй корректуре для соответствующих мест текста «Так что же нам делать?» мы имеем последнюю нам известную авторскую редакцию.
76. Сверстанные листы корректуры двенадцатого тома пятого издания сочинений Толстого, хранящиеся в ГТМ и ГЛМ и восходящие непосредственно частью к утраченным, частью к сохранившимся гранкам корректур, описанных под №№ 74 и 75. Всего сохранилось: титульный лист (ГЛМ), 8 полных листов и 2 неполных листа с пагинацией 149—154 (ГЛМ), 233—248 (ГТМ), 249—280 (ГЛМ), 281—360 (ГТМ) и 361—390 (ГЛМ), заключающих в себе применительно к окончательному тексту текст глав I, II (без конца), XII (без начала), XIII—XIX, два последних абзаца XX главы,345 часть главы XXI, главы XXII—XXXVII и XXXVIII (без конца). К словам XII главы «Я бросил всё дело и с отчаянием в сердце уехал в деревню» в сноске под строкой сделано обширное «Примечание читавшего» (А. М. Иванцова-Платонова). В тексте правка рукой Толстого, С. А. Толстой и, видимо, типографского корректора (последняя исключительно технического характера). Рукой Толстого и отчасти С. А. Толстой, помимо исправления корректурных ошибок и второстепенных изменений смыслового и стилистического характера, внесено большое количество таких исправлений, которые большей частью явно рассчитаны на то, чтобы уберечь статью от цензурного запрещения. Все исправления такого рода оговорены выше. На страницах следы типографского набора.
77. Сверстанные листы корректуры, хранящиеся в ГТМ и ГЛМ. Всего сохранилось 14 полных печатных листов и 2 неполных, страницы 249—280 (ГТМ) и 179—260, 249—264, 299—328, 377—392, 407—434, 297—312, 361—376, 461—468 (ГЛМ). На некоторых из них вверху первой страницы напечатано «Корректурные листы». Некоторые листы — дублетные. Данный материал заключает в себе бόльшую часть печатного текста. Текст данной корректуры непосредственно восходит к тексту корректуры, описанной под № 76. Часть листов — без всяких исправлений и пометок; на бόльшей же части листов — технические исправления рукой С. А. Толстой и ее же рукой — заглавия отдельных частей трактата, совпадающие с заглавиями текста, напечатанного в двенадцатой части пятого издания сочинений Толстого. Видимо, рукой же С. А. Толстой сделаны многочисленные зачеркивания ряда абзацев, отсутствующих и в указанном издании, а также большая часть «Примечаний читавшего» (Иванцова-Платонова). По этим корректурам, на большей части которых следы типографского набора, должен был печататься текст трактата в двенадцатой части пятого издания сочинений Толстого.
78. 23 разного формата листа и обрезка, хранящиеся в ГТМ и представляющие собой остатки частью автографов, частью исправленных рукой Толстого копий. Приурочению к определенному этапу работы этот материал не поддается. Существенных вариантов в себе не заключает.
79. Рукопись ГТМ на 4 несшитых и ненумерованных листах писчей бумаги, исписанных рукой неизвестной, без поправок рукой Толстого. Листы согнуты пополам по вертикали, и текст помещается лишь на левых сторонах страниц; правые — чистые; второй полулист последнего листа — весь чистый. Рукопись озаглавлена: «Типы городской бедноты (очерк)» и представляет собой сокращенное изложение глав I и II окончательного текста «Так что же нам делать?», видимо, предназначавшееся в виде отдельной статьи для какого-нибудь журнала. Это явствует из начального абзаца очерка:
Въ большихъ городахъ нищимъ запрещено просить подаянія, и потому городскіе нищіе не похожи на деревенскихъ. Я хотѣлъ бы набросать нѣсколько типовъ такихъ нищихъ, описанныхъ мною болѣе подробно въ другомъ сочиненіи, которое я не имѣлъ возможности напечатать.
Этот очерк, как самостоятельный, нигде напечатан не был, но он воспроизводит один из этапов работы Толстого над текстом «Так что же нам делать?», не засвидетельствованный однако в дошедших дo нас автографах, относящихся к трактату.
————
Помимо этого в ГТМ сохранился ряд рукописных, гектографированных и литографированных копий, воспроизводящих текст «Так что же нам делать?» полностью или частично. Для истории текста произведения они не имеют почти никакого значения, так как не авторизованы. Несколько особое место занимает копия из архива Г. А. Русанова, ныне принадлежащая ГТМ, написанная рукой неизвестной и заключающая в себе текст «Так что же нам делать?» целиком (переплетенная в кожу и коленкор тетрадь, 493 нумерованных страницы). Эта копия внушила особое доверие П. И. Бирюкову, признавшему ее наиболее авторитетной с точки зрения текстологической и взявшему ее зa единственную основу при издании «Так что же нам делать?» в редактированном им «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого» (М. 1913, изд. И. Д. Сытина). Насколько П. И. Бирюков был прав, придавая такое авторитетное значение этой копии, — об этом говорится в том месте, где речь идет об истории печатного текста «Так что же нам делать?»
Примечания.
Стр. 184, строка 22. «Рабочие», или, точнее, «работные» дома возникли в России во второй половине XVIII в. В них заключались для принудительных работ промышлявшие милостыней нищие, а также обитатели городского «дна», не имевшие определенной работы. В Москве «работный дом» был построен в 1836 г. в Б. Харитоньевском переулке, в усадьбе кн. Б. Н. Юсупова, по имени которого он и получил свое название. «Работные дома» просуществовали в России вплоть до Октябрьской революции, не меняя своих функций.
Стр. 186. Знаменитый в Москве Хитров рынок, славившийся как место пребывания и житья всякого деклассированного и уголовного люда, изобиловавший притонами и трактирами, в которых ютились воры, проститутки и просто выбитые из жизненной колеи завсегдатаи московского «дна», занимал обширный участок между улицей Солянкой и Покровским бульваром. Тут было несколько ночлежных домов, в том числе в Трехсвятительском переулке, теперь Б. Вузовском, № 6, бесплатный Ляпинский дом, упоминаемый Толстым и построенный владельцами суконной фабрики братьями М. И. и Н. И. Ляпиными. В первые годы Октябрьской революции Хитров рынок закрыт. О нем подробнее см. Гор-ев, «Характеристика экономических и бытовых условий жизни безработных («Standart of life» на Хитровом рынке в Москве)». — «Мир божий», 1899, №№ 10 и 11, и В. А. Гиляровский, «Москва и москвичи», М. 1926.
Стр. 190, строки 6—7. Здесь речь идет о казни посредством гильотинирования некоего Франсуа Рише, которая имела место в Париже рано утром 6 апреля 1857 г. Толстой, совершая в этом году первое свое заграничное путешествие, как paз в это время жил зa границей и присутствовал на площади во время казни. В день казни он записал в своем Дневнике: «Больной, встал в 7 часов и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь, целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! Сильное и недаром прошедшее впечатление».
В гораздо более энергичных выражениях о впечатлении, произведенном на него казнью, Толстой говорит в своем письме к В. П. Боткину, написанном в тот же день. Подробнее об этом эпизоде в жизни Толстого см. во вступительной статье и в примечаниях В. Ф. Саводника к парижскому дневнику Толстого в книге «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения», изд. «Федерация». М. 1928, стр. 284—287, 338—341.
Стр. 192, строки 24—25. Перепись в Москве происходила 23, 24 и 25 января 1882 г. Толстой принял в ней личное участие и привлек к ней своих сыновей и добровольцев-студентов. Чтобы заинтересовать москвичей делом переписи, он написал статью «О переписи в Москве», которую напечатал в № 19 газеты «Современные известия» от 20 января. Для своей работы по переписи Толстой избрал, как сам об этом говорит, один из самых ужасных притонов нищеты и разврата — т. н. «Ржановский дом», или «Ржановскую крепость». Дом этот, стоящий на углу Проточного и 1-го Смоленского переулка,346 № 11/27, существует и поныне. Приблизительно до 1925—1926 г. в нем в большом количестве жили представители того же московского «дна», какие обитали тут и во время переписи 1882 г. Затем часть люда, ославившего Проточный и примыкающие к нему переулки, как один из самых небезопасных районов Москвы, была выселена из дома, часть занялась общественно-полезным трудом. О нравах и быте Проточного переулка и обитателей его домов еще в недавнее время — рассказывается в романе И. Эренбурга «В Проточном переулке», изд. «Зиф», М. 1927.
Стр. 233 и 386. В письме, написанном в 1900 годах к сотруднику Минусинского музея Лебедеву, о Сютаеве и Бондареве Толстой отзывался так: «Мое мнение то, что вся русская мысль с тех пор, как она выражается, не произвела со своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего подобного по значительности, силе и ясности тому, что высказали два мужика — Сютаев и Бондарев».347 А в беседе с Л. С. Пругавиным Толстой следующим образом расценивал влияние на себя Сютаева и Бондарева: «Знаете, что я вам скажу? Двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам, я обязан более, чем всем ученым и писателям всего мира». Специально же о Бондареве он сказал: «Бондарев превосходно, гениально... да, да, гениально доказал, что земледельческий труд должен быть нравственной обязанностью каждого человека. И я вполне убежден в том, что со временем эта обязанность действительно станет моральным, религиозным законом, которым будут руководствоваться все люди».348
Василий Кириллович Сютаев, крестьянин деревни Шевелино Новоторжского уезда Тверской губ., по ремеслу каменщик, родился около 1820 г. Будучи вначале усердным последователем православной веры, он в пожилом возрасте отошел от православия в результате усиленного чтения (по складам) книг «священного писания», преимущественно Нового завета. Читаемое он понимал и толковал не буквально, а «духовно». Он отрицал церковь, обрядность, проповедывал братство, любовь, восставал против собственности, в том числе и земельной, и всяких видов насилия, даже как средства противления злу. Принципиально отказываясь от платежа податей, так как они идут на содержание войска, он вместе с тем не оказывал никакого сопротивления, когда полиция описывала его имущество и продавала скот. Не умея писать, Сютаев свои мысли мог распространить только устно. Вокруг него сорганизовалась небольшая и непрочная группа последователей, известных под именем «сютаевцев». Примером личной жизни и устройством своего семейного быта Сютаев старался на практике осуществлять свое учение. Младший сын его, отказавшийся по религиозным убеждениям от военной службы, несколько лет просидел в Шлиссельбургской крепости. Умер Сютаев в 1892 г., около 73 лет от роду, в то время как он усиленно подготовлялся к практическому осуществлению своей давней мечты — организации земельной общины.
Впервые услышал Толстой о Сютаеве летом 1881 г. от А. С. Пругавина. Осенью того же года, живя у своих знакомых Бакуниных в Новоторжском уезде, он отправился к Сютаеву в его деревню, отстоявшую верстах в семи от имения Бакуниных. Так состоялось первое их знакомство, после которого Толстой записал в своем дневнике: «Был в Торжке у Сютаева. Утешение». В ноябре своему другу В. И. Алексееву Толстой писал: «Еще был я у Сютаева, тоже христианина, и на деле». И далее он сообщает, что с Сютаевым он единомышленник «во всем, до малейших подробностей». (Т. 63, стр. 81.)
В конце января 1882 г. Сютаев приехал к Толстому в Москву и поселился на его квартире в Денежном переулке. Здесь внимательно слушали его речи не только сам Толстой, и его семья, но и многие представители аристократического общества, бывавшие в доме Толстых. Выступал часто Сютаев со своей проповедью и в других домах, так что о нем стали усиленно говорить в Москве, тем более что об его учении стали писать в газетах с 1880 г., а затем о нем писал А. С. Пругавин в «Русской мысли», в статье «Алчущие и жаждущие правды» (1881 г., №№ 10 и 12, 1882 г., № 1). Насколько сам Толстой в ту пору захвачен был тем, что он слышал от Сютаева, свидетельствуют его письма к жене и в особенности следующие строки известного письма его к М. А. Энгельгардту конца 1882 — начала 1883 гг.: «Вы, верно, знаете про Сютаева. Вот вам безграмотный мужик, — а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, Белинскими вместе взятыми, начиная от Тредьяковского и до нашего времени» (Т. 63, стр. 122.)
Успех проповеди Сютаева обратил на себя внимание московских властей, и к Толстому на квартиру, по распоряжению генерал-губернатора кн. В. А. Долгорукого, за справками о личности подозрительного проповедника явился сначала жандармский ротмистр, а затем чиновник генерал-губернаторской канцелярии. Толстой обоих их, в особенности первого, принял очень резко и в какие бы то ни было объяснения с ними вступать отказался. Дальнейшего продолжения эта история не имела, так как вскоре после этого Сютаев уехал из Москвы. Расставшись с ним, Толстой на всю жизнь сохранил о нем самое преданное воспоминание, о чем свидетельствуют записи 1908—1909 гг. H. Н. Гусева и Христо Досева. (Подробнее о Сютаеве и об отношениях к нему Толстого см. в книге А. С. Пругавина «Сютаевцы». М. 1910, в книге Ильи Толстого «Мои воспоминания», изд. 2-е кооперативного издательства «Мир», М. 1933, стр. 162—164, и в особенности в статье К. С. Шохор-Троцкого «Сютаев и Бондарев». — «Толстовский ежегодник 1913 года», Спб. 1914, стр. 3—12. Здесь и исчерпывающая литература вопроса.)
Тимофей Михайлович Бондарев родился в 1820 г. в Области войска Донского, в крепостной крестьянской семье. Многообразные жестокости крепостного права, испытанные им, завершились тем, что на 37-м году жизни, будучи отцом пятерых детей, он отдан был помещиком в солдаты. Через десять лет, под влиянием секты субботников, он перешел в иудейство, подвергся обряду обрезания и стал именоваться Давидом Абрамовичем. За это в 1867 г. был сослан на поселение в деревню Иудино Минусинского уезда Енисейской губ., где прожил с женой и двумя детьми до конца жизни. Там он усиленным земледельческим трудом нажил себе домик и хозяйство, так что мог существовать безбедно. Считая земледельческий труд первородным законом, данным человеку, и полагая, что все бедствия человеческие происходят от неисполнения этого закона, Бондарев с убежденностью и страстностью стал проповедовать спасительность для людей этого труда. В течение пяти лет писал он первое свое сочинение, посвященное пропаганде своих идей и озаглавленное им «Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство». По окончании этой работы он отправил рукопись в Минусинский музей, откуда она, вероятно в копии, переслана была Глебу Успенскому, написавшему о ней статью «Трудами рук своих», напечатанную в № 11 «Русской мысли» за 1889 г. Познакомившись с этой статьей, Толстой сильно заинтересовался личностью Бондарева и его учением и через сотрудников Минусинского музея В. Лебедева и Л. Жебунева вступил с ним в переписку. Получив рукопись сочинения Бондарева, Толстой старался напечатать ее со своим предисловием, но на первых порах безуспешно. Отрывки из этого сочинения вместе с предисловием Толстого напечатаны были в №№ 12 и 13 газеты С. Ф. Шарапова «Русское дело» за 1888 г., причем газета получила за напечатание статьи второе предупреждение. В 1890 г. книжка Бондарева с предисловием Толстого напечатана была во французском переводе в Париже. В 1906 г. извлечения из сочинения Бондарева в сопровождении заметки Толстого о Бондареве, написанной в 1895 г. и напечатанной впервые в 1897 г. Венгеровым в V томе его «Критико-библиографического словаря», были напечатаны в издательстве «Посредник», но в 1908 г. книжка была конфискована и судебным постановлением изъята из продажи. Уцелевшие экземпляры, вновь поступившие в продажу в марте 1917 г., быстро распространились среди крестьянского населения.
Помимо этого труда, от Бондарева сохранился еще ряд рукописных сочинений, перечень которых см. в указанной статье К. С. Шохор-Троцкого «Сютаев и Бондарев». Там же — собственноручно составленная Бондаревым надпись для своего памятника, письмо Бондарева к Д. П. Маковицкому, письма к Бондареву Толстого и литература вопроса. Умер Бондарев в октябре 1898 г.
Переписку с Бондаревым Толстой спорадически поддерживал до самой смерти Бондарева, а думал о нем и его учении и после его смерти. Так, записывая 2 апреля 1906 г. в дневник свои мысли о том, что земледельческий труд есть самый главный и самый разумный, он заканчивает запись таким восклицанием: «Как прав Бондарев!»
Стр. 233, строка 22. Речь идет об единственной сестре Толстого Марии Николаевне Толстой (1830—1912), впоследствии монахини Шамардинского монастыря.
Стр. 243, строки 30—31. Штиглицы, Дервизы, Морозовы, Демидовы, Юсуповы — крупнейшие петербургские и московские богачи, миллионеры. Особенной известностью в ту пору пользовались: Александр Людвигович Штиглиц, банкир и владелец мануфактурных фабрик, Павел Григорьевич фон-Дервиз — концессионер и строитель железных дорог, сыновья Саввы Васильевича Морозова, владельцы крупных мануфактурных фабрик, Павел Павлович Демидов, князь Сан-Донато, владелец горных заводов на Урале, потомок московского вельможи Б. Н. Юсупова.
Стр. 256, строки 14—15. Речь идет о статье И. И. Янжула «Влияние финансовых учреждений на экономическое положение первобытных народов (Страница из истории островов Фиджи)», напечатанной в книге «XXV лет». 1859—1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, Спб. 1884, стр. 562—586. Книга эта была в Яснополянской библиотеке Толстого. Статья Янжула здесь в нескольких местах отчеркнута карандашом.
Стр. 299, строки 1—9. Речь идет об Александре Петровиче Иванове, бывшем артиллерийском офицере, работавшем у Толстого в качестве переписчика.
Стр. 302, строки 2—3. Толстой жил в ту пору в собственном доме по Долго-Хамовническому переулку. Теперь этот дом превращен в музей, а переулок переименован в улицу Толстого.
Стр. 309, строка 16. Петровки — праздник Петра и Павла, приходящийся на 29 июня. Православная церковь перед этим праздником установила пост.
В Дневнике Толстого, в записи от 3 июля читаем: «Пошел на покос. Косили и копнили, и опять косили. Очень устал. «Тимофей, голубчик, загони мою корову: у меня ребенок». Он — пустой, недобрый малый — уморился, и всё-таки бежит. Вот условия нравственные. «Анютка, беги, милая, загони овец». И семилетняя девченка летит босиком по скошенной траве. Вот условия. «Мальчик, принеси кружку напиться». Летит 5-тилетний и в минуту приносит. И пошел и сделал».
Стр. 333. Речь идет о сочинении Т.-Р. Мальтуса (1766—1834) «Essay on the Principle of Population», изданном впервые в 1798 г. Книга эта под заглавием «Опыт о законе народонаселения» вышла в русском переводе П. Бибикова в 1868 г.
Стр. 341—342. Толстой здесь имеет в виду сочинение Г. Спенсера «Social statics», 1850 г. («Социальная статика»).
Стр. 352, строка 19. Константин Великий, византийский император (ум. в 337 г.), утвердил в Византии гонимое до тех пор христианство как официальную господствующую религию. Духовенство освобождено было от налогов и получало содержание от казны. Вскоре оно получило ряд экономических и юридических привилегий и стало играть заметную политическую роль в жизни государства.
Стр. 358, строка 1. Никольская улица в Москве с середины 1870 г. стала центром, наводнявшим всю Россию очень низкопробной лубочной литературой, а также лубочными картинами такого же качества. Для противодействия литературе Никольской улицы возникло в 1885 г. издательство «Посредник», в судьбах которого Толстой принимал очень большое участие.
Стр. 387, строка 13. О Блохине почти сходно с этим местом Толстой говорит и в Дневнике 1884 г. (запись от 23 июня). О нем же идет речь в шуточном «Скорбном листе душевно-больных яснополянского госпиталя», предназначенном Толстым для «Почтового ящика» (см.). В письме к жене от 5 мая 1887 г. Толстой пишет: «Посетили меня за это время, кроме мужиков, кн. Блохин» («ПЖ», стр. 319). В том же году, в июле, Толстой писал И. Б. Фейнерману: «Блохин всё ходит» («Письма Л. Н. Толстого, 1848—1910 гг., собр. и ред. П. А. Сергеенко, М. 1910, стр. 159).
Стр. 391, строка 11. В начале 1880-х годов в России было несколько земледельческих общин, организованных представителями интеллигенции, участвовавшими в них своим личным трудом. Такова известная Буковская община А. Н. Энгельгардта в Смоленской губ., просуществовавшая приблизительно до 1884 года. Далее — община на Кавказе близ поста Лазаревского, между Туапсе и Сочи. Толстой имеет в виду, очевидно, одну из этих двух общин. (О них см. статью В. Скороходова «Из воспоминаний старого общинника» в журнале «Минувшие годы», 1908, №№2, 3, 4.
Стр. 404, строки 22—23. Евгений Скайлер — путешественник-англичанин, впервые навестивший Толстого в Ясной поляне в 1868 г. Его воспоминания о знакомстве с Толстым напечатаны в переводе с английского в «Русской старине», 1890, №№ 9 и 10. Передаваемый Толстым рассказ о поведении киргиз сообщен был ему Скайлером, видимо, в устной беседе.
Стр. 614, строки 4—8. Эпиграф к статье представляет соединение двух евангельских стихов, приведенных Толстым, видимо, по памяти и потому с ошибками и пропусками. Во втором стихе забытые слова заменены точками. Стихи эти в Евангелии от Матфея читаются так: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе человеку, через которого соблазн приходит... И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (XVIII, 7, 9). С некоторыми вариациями эти стихи читаются и в Евангелиях от Луки, XVII, 1 (первый стих) и от Марка, IX, 47 (второй стих).
Стр. 622, строка 46. «Юный прокурор», которому Толстой читал статью «О переписи в Москве», — Н. В. Давыдов, тогда прокурор Тульского окружного суда.
Стр. 623, строки 4—6. «Молодой даровитый писатель самого либерального, народного направления» — вероятно, И. И. Янжул, уже в ту пору солидный экономист. С ним Толстой познакомился как раз в связи с московской переписью 1882 г. (См. Ак. И. Янжул. «Мое знакомство с Толстым» — «Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко. М. 1909, стр. 407 и след.).
Стр. 623, строки 24—25. Редактор газеты — очевидно, Н. П. Гиляров-Платонов, редактор «Современных известий», где была напечатана статья «О переписи в Москве».
Стр. 624, строки 7—8. Здесь имеется в виду евангельский рассказ о самарянине, который, встретив израненного и ограбленного разбойниками еврея, мимо которого равнодушно прошли священники и левит (служитель храма) перевязал ему раны, посадил на осла, привез его в город и позаботился о его лечении (Евангелие от Луки, XI, 30—35). Евреи были во вражде с самарянами и не общались с ними.
Стр. 624, строка 8. «Не судите и не присуждайте» — из Евангелия от Матфея, VII, 1. Все заповеди, приведенные здесь после слова «сказано» взяты из «Нагорной проповеди» (Евангелие от Матфея, V, 40, 84, 28—29, 42).
„ВЫДЕРЖКА ИЗ ЧАСТНОГО ПИСЬМА ПО ПОВОДУ ВОЗРАЖЕНИЙ НА СТАТЬЮ «ЖЕНЩИНАМ»“.
«Частное письмо» это было написано Толстым 17—18 апреля 1886 г. В. Г. Черткову.349 В нем сначала сообщается о недовольстве С. А. Толстой появлением в «Русском богатстве» трех толстовских легенд, затем о радости, испытанной Толстым от общения с людьми, сближающимися с истиной, далее выражается удовлетворение по поводу того, что Л. Е. Оболенский, редактор журнала «Русское богатство», хорошо защитил его от нападок на него за его взгляды на призвание женщины и на науку. Тут же выражается недоумение, почему можно бранить барынь с локонами и нельзя дурно отзываться о женских курсах, оспаривается взгляд, по которому женщины должны одинаково любить своих и чужих детей. Вслед за этим, со слов: «Призвание всякого человека, и мужчины и женщины» и до конца письма речь идет о различии труда мужчин и женщин.
Статья «Женщинам», о которой упоминается в заглавии, — последняя глава обширной статьи «Мысли, вызванные переписью», появившейся впервые в печати в 1886 г., в XII томе пятого издания сочинений Толстого, и во всех последующих изданиях печатавшейся под заглавием „Отрывок из статьи: «Так что же нам делать?»“
По поводу главы «Женщинам» А. М. Скабичевским в № 91 газеты «Новости» за 1886 г. была напечатана резкая, почти издевательская заметка «Граф Л. Н. Толстой о женском вопросе», в которой критик попутно осуждал Толстого и за его взгляды на науку и искусство. В ответ на эту заметку Л. Е. Оболенский напечатал в 4-й книжке «Русского богатства» за 1886 г. статью «Лев Толстой о женском вопросе, искусстве и науке (По поводу заметки г. Скабичевского)», в которой взял Толстого под свою защиту.
В связи с полемикой Оболенского со Скабичевским, а также, видимо, в связи с нападками на Толстого в обществе по поводу его взглядов на женский вопрос Толстой еще раз и высказался по этому поводу в письме к Черткову.
Вслед за получением письма В. Г. Чертков сделал выписку из него, начиная с того места, где письмо утрачивает характер личного обращения и до конца, и, передав ее Толстому при свидании с ним, просил его разрешения напечатать ее. 22—23 апреля Толстой писал Черткову: «Выписку о женском труде я еще пересмотрю и тогда напишу».350
Вскоре однако Толстой решил отправить эту выписку Л. Е. Оболенскому для напечатания ее в «Русском богатстве», В сохранившемся начале неотосланного письма к нему Толстой в середине мая 1886 г. писал: «Сейчас видел Черткова. Он мне передал выписку из письма моего. Я просмотрел ее и посылаю вам. Напечатайте, если найдете годящимся».351 Однако выписка была несколько задержана с отсылкой, видимо, для более тщательной ее отделки. Она напечатана была в №№ 5—6 «Русского богатства» за 1886 г. под заглавием „Труд мужчин и женщин. Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью «Женщинам»“. В собрания сочинений Толстого статья эта стала входить начиная с шестого издания 1886 г. и в той же редакции, какая напечатана была в «Русском богатстве», но с сокращенным заглавием (слова «Труд мужчин и женщин» были выпущены).
Эта редакция от текста самого письма отличается, помимо того что в ней опущено всё начало письма до слов: «Призвание всякого человека, и мужчины и женщины, в том, чтобы служить людям», еще исправлением нескольких фраз. Исправления эти, впрочем, ничего существенно нового не вносят и сводятся лишь к сглаживанию стилистических шероховатостей или к уточнению высказанных мыслей. Так, фраза: «Разница между мущинами и женщинами въ исполненіи этаго назначенія есть большая по средствамъ, которыми они служатъ людямъ» — исправлена так: «Разница между мущинами и женщинами въ исполненіи этого назначенія только въ средствахъ, которыми они его достигаютъ, т. е. чѣмъ они служатъ людямъ». Фраза: «Мущина служитъ людямъ и физическимъ, и умственнымъ, и нравственнымъ трудомъ» исправлена и распространена: «Мущина служитъ людямъ и физической работой — приобрѣтая средства пропитанія, и работой умственной — изученіемъ законовъ природы для побѣжденія ея, и работой общественной — учрежденіемъ формъ жизни, установленіемъ отношеній между людьми». Фраза: «Мущина призван исполнять свой многообразный трудъ, но трудъ его только тогда полезенъ и его работа (хлѣбъ пахать или пушки дѣлать), и его умственная дѣятельность (облегчать жизнь людей или считать деньги), и его религіозная дѣятельность (сближать людей или пѣть молебны) тогда только плодотворны, когда они совершаются во имя высшей доступной человѣку истины» исправлена так: «Мущина призванъ исполнять свой многообразный труд, но трудъ его тогда только полезенъ, и его работа, и физическая, и умственная, и общественная тогда только плодотворны, когда они совершаются во имя истины и блага другихъ людей». Очевидно, новая редакция последней фразы обусловлена была в первую очередь не соображениями цензурного характера, а тем, что при вторичном обдумывании этой фразы Толстой со своей точки зрения не мог не усмотреть в ней известной двусмысленности: делать пушки, считать деньги, петь молебны — всё это, по его взгляду, ни при каких условиях человек не может считать полезной и плодотворной работой.
В таком же роде и другие исправления.
В книжке «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого», вышедшей в издании «Свободного слова» (Christchurch, 1901) В. Г. Чертков опубликовал отрывки из письма к нему Толстого в первоначальной редакции, также начиная со слов: «Призвание всякого человека...», но с пропуском нескольких заключительных фраз в двух последних абзацах (стр. 75—78).
Так как Толстым к печати предназначался им самим выправленный текст «Выдержки» в редакции, опубликованной в «Русском богатстве», то этот именно текст и печатается в настоящем издании.
«УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ».
«Учение двенадцати апостолов» открыто было митрополитом серронским, впоследствии никомидийским, Филофеем Вриением в 1875 г. и издано им в конце 1883 г. в Константинополе. Издание сделано было по рукописному сборнику, найденному Вриением в библиотеке иерусалимского подворья в Константинополе. Сборник этот составлен был некиим Леонтием в 1056 г. и заключает в себе, помимо «Учения двенадцати апостолов», еще пять сочинений религиозно-поучительного характера.
«Учение» имеет два заглавия: первое краткое — «Διδαϰήτών δώδεϰα άποστόλων» («Учение двенадцати апостолов») и второе — более пространное — «Διδαχή Κύριου διά τών δώδεϰα άποστόλων τοῖς ἔϑνεσιν» («Учение Господа (преподанное) народам через двенадцать апостолов»). Издатель — Вриений — полагал, что второе заглавие принадлежит самому автору сочинения, а первое сделано впоследствии и служит сокращением второго.
По мнению ученых, занимавшихся исследованием этого памятника, он мог быть написан только в конце I или в начале II века. Древность и подлинность этого сочинения подтверждается свидетельством о нем древних церковных писателей. Эти свидетельства, впрочем, не многочисленны, и самые древние из них не восходят ранее конца II века (190 г.) Первые следы пользования «Учением двенадцати апостолов» находят в сочинениях Климента Александрийского (ум. около 217 г.)
Еще в древности «Учение» причислялось некоторыми к священным книгам и известно было многим церковным учителям (особенно александрийским), что усматривается из свидетельств Евсевия Кессарийского и Афанасия Великого. Однако позднее, в IV в., «Учение» уже не относилось к священным книгам, но не причислялось и к апокрифическим, а помещалось в разряде книг «άναγινωσϰομἐνων» — предназначенных для чтения оглашенным. В конце VIII, нач. IX в. Никифор, патриарх Константинопольский, уже относит «Учение» к книгам апокрифическим.
Что касается места происхождения «Учения», то больше всего оснований думать, что оно возникло в Египте.
При своем появлении в печати «Учение двенадцати апостолов» было настоящим событием в богословском мире. Памятник этот вызвал к себе очень большой интерес и породил сразу же обширную литературу. Вскоре интерес этот перекинулся и в русские богословские сферы.
«Учение» почти одновременно напечатано было в двyх русских переводах: в ноябрьской книжке «Трудов Киевской духовной академии» за 1884 г., с обстоятельным предисловием и примечаниями К. Д. Попова, и в декабрьской книжке журнала «Странник» за тот же год, с редакционным предисловием и послесловием. Киевский перевод напечатан был и отдельной брошюрой.352
С «Учением двенадцати апостолов» Толстой познакомился уже в январе месяце 1885 г. в оригинале, а также по русскому (киевскому) и немецкому его переводам353 и тогда же решил сам перевести его наново. В конце января этого же года он пишет жене из Тулы, где он гостил у князя Л. Д. Урусова: «Пишу от князя. Я вчера приехал к нему в 11-м... Переночевал у него, поговорили тихо, и я у него сел заниматься над переводом «Учения 12-ти апостолов». Оно очень заняло меня. Оно очень глубоко, и может выйти большой важности народная книга, что я и намерен из нее сделать».354 Работа над «Учением» продолжалась далее у Толстого, видимо, очень интенсивно до двадцатых чисел февраля, судя по тому, что он пишет кн. Л. Д. Урусову в письме, написанном около 26 февраля: «Я всё это время не писал ничего, кроме перевода 12 Апостолов и предисловия к ним».355 15 февраля Толстой телеграфирует В. Г. Черткову: «Учение апостолов исправлю, пришлю»,356 а 24 февраля пишет ему: «Учение Апостолов я отдал Маракуеву.357 Он хотел попытаться провести через цензуру. Оболенскому,358 я думаю, неудобно напечатать. А впрочем, пришлю».359 О передаче рукописи Маракуеву Толстой пишет и жене 22 февраля.360
Таким образом приблизительно 20 февраля работа Толстого над переводом «Учения двенадцати апостолов», предисловием к нему и послесловием была закончена. К ней относятся 12 рукописей, хранящихся в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке СССР имени Ленина (папка XXIII) и в Государственном Толстовском музее в Москве (АЧ, папка 8).
Предлагаем описание рукописей, относящихся к «Учению двенадцати апостолов», указывая попутно процесс работы Толстого над этим произведением.
1. Автограф АТБ, без заглавия, на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Заключает в себе текст, соответствующий предисловию и послесловию перевода. Начало: «Ученіе это господа Іисуса Христа».
Конец: «и придемъ къ нему». Сравнительно с текстом окончательной печатной редакции, текст, соответствующий предисловию, кратче. К первой части «Учения» отнесены не шесть первых глав, а лишь пять. Кроме того, тут читаем в 3-м абзаце следующие строки, в дальнейших редакциях исключенные:
Всѣми церквами христіанъ, и нашею православною, писаніе это признано истиннымъ.
Текст, соответствующий послесловию, зa исключением одного большого варианта, отличается от окончательной печатной редакции несущественными, преимущественно стилистическими разночтениями. Вариант, о котором упомянуто, относится к тому месту окончательной печатной редакции, где отношение Христа к человеку сравнивается с отношением отца к сыну. В данной рукописи вместо отца и сына для сравнения взяты отношения хозяина и работника, и в связи с этим — существенные текстуальные особенности варианта, который печатаем отдельно (см. вариант № 1).
2. Рукопись АТБ, озаглавленная «Учение двенадцати Апостолов. Учение Господа двенадцати Апостолов язычникам», на 12 листах в 4°, исписанных рукой С. А. Толстой, с поправками рукой Толстого, Начало: «Есть два пути». Конец: «на облакахъ небесных». Все страницы, кроме первых двух и последней, исписаны. Рукопись с полями, нумерована по лицевым страницам четвертушек, начиная со второй, цыфрами от 1 до 11. Текст заключает в себе перевод шестнадцати глав «Учения», без предисловия и послесловия. Поправок Толстого немного; зато очень много исправлений, сделанных рукой С. А. Толстой, свидетельствующих о том, что рукопись сверялась с каким-то текстом сочинения. Текст перевода в этой рукописи близок к переводу Попова, помещенному в «Трудах Киевской духовной академии».
3. Рукопись ГТМ на 12 листах в 4о, исписанных с обеих сторон писарской рукой, с поправками Толстого. Сшитая тетрадь, состоящая из шести полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. Один полулист употреблен на обложку, на которой рукой М. Л. Толстой карандашом написано: «Учение двенадцати апостолов». Листы не нумерованы. На 1-й странице текста зачеркнуто заглавие «Учение двенадцати апостолов» и рукой неизвестного карандашом написано новое: «Два пути жизни», а затем, также карандашом, рукой Толстого: «Апостольское поучение». Непосредственно вслед за заглавием — приписка Толстого карандашом, зачеркнутая затем чернилами: «Виньетка: Христосъ на перекресткѣ: праведники идутъ въ одну, грѣшники въ другую. М. 25. 46». Начало текста: «Два есть пути». Конец: «на облакахъ небесныхъ». Рукопись заключает в себе текст «Учения», разбитый на 16 глав, без предисловия и послесловия, и является в основном своем слое, написанном рукой переписчика, копией предыдущей рукописи. Поправки Толстого сводятся к довольно многочисленным заменам одних слов и предложений другими, в целях большей точности перевода. Кроме того, Толстой сократил текст и свел его вместо шестнадцати глав к двенадцати. Глава VII зачеркнута целиком, глава VIII частично, до слов: «не молитесь, как лицемеры», и для обозначения ее поставлена цыфра VII; главы IX и X опять целиком зачеркнуты; в главе XI текст зачеркнут в середине и в конце, и она обозначена цифрой VIII; глава XII уцелела и обозначена цифрой IX; глава XIII зачеркнута целиком; в главе XIV зачеркнуты две последние строки: «ибо я... у язычников», и она обозначена цыфрой X. В главе XV зачеркнуто начало, до слов: «Обличайте друг друга», и она стала XI; в главе XVI зачеркнуто несколько строк в середине и весь конец, начиная со слов: «сначала знамение отверстых небес», и она обозначена цыфрой XII.
4. Рукопись ГТМ на 8 листах в 4°, исписанных рукой неизвестного, с немногочисленными поправками рукой Толстого. Несшитая тетрадь, состоящая из четырех полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. Исписаны лишь две первых четвертушки, с обеих сторон, и часть третьей четвертушки — с одной стороны. Заглавие скопировано с предыдущей рукописи: «Два пути жизни. Ученіе апостоловъ». Ниже — запись о виньетке. Начало текста: «Есть 2 пути» Конец: «Таковъ путь жизни». Текст заключает в себе лишь четыре главы учения. Вслед за текстом главы IV поставлена цыфра V, но текста под ней нет. Данная рукопись восходит к предыдущей, но не непосредственно, а через какую-то промежуточную, до нас не дошедшую рукопись.
5. Рукопись АТБ на 12 листах в 4°, исписанных вперемежку рукой Т. Л. Толстой и двух неизвестных, с поправками рукой Толстого. Состоит из шести полулистов писчей линованной бумаги, согнутых пополам. Начала (одной четвертушки текста) недостает. Начало: «Тотъ же, кто беретъ безъ нужды». Конец: «грядущаго на облакахъ небесныхъ». Рукопись нумерована рукой переписчиков по страницам (3—25), причем страница 4-я, 8-я, 17-я — чистые, чистые и две последние ненумерованные страницы. Текст заключает в себе 16 глав «Учения» (от 1-й сохранился лишь конец), без предисловия и послесловия, и не восходит непосредственно к текстам предшествующих рукописей, хотя по всем признакам является дальнейшей ступенью в работе над переводом. В главе IV фраза: «Не отнимай руки своей отъ сына своего или отъ дочери своей» зачеркнута и исправлена Толстьм так: «Не переставай руководить сына своего или дочь свою». В той же главе во фразе: «Во гнѣвѣ своемъ не повелѣвай рабу» зачеркнуто Толстым: «Во гнѣвѣ своемъ». Следует отметить здесь колебание Толстого относительно следующей смущавшей его фразы в главе IV: «Вы же, рабы, повинуйтесь господамъ своимъ, какъ образу Божію, въ почтеніи и страхѣ». Эта фраза, написанная рукой переписчика, зачеркивается Толстым продольными, по строкам, чертами. Затем однако сверху зачеркнутых строк рукой Толстого вновь написано: «Вы же, рабы, повинуйтесь господамъ нашимъ, какъ образу Божію, въ почтеніи и страхѣ». Затем все зачеркнутое и вновь над зачеркнутым написанное опять зачеркивается поперечными чертами и, наконец, написанное сверху вновь восстанавливается волнистыми чертами, наложенными на поперечные. В главе VII слова «крещеніе» и «крестить» зачеркнуты и заменены написанными рукой Толстого словами: «омовеніе» и «омывать». В главе IX слова «Что касается евхаристіи» исправлены: «Что же касается до благодарности за пищу»; вместо слов «сперва относительно чаши» — «сперва о питьѣ»; вместо «а относительно преломляемаго хлѣба» — «А объ ѣдѣ»; вместо «въ твое царство» — «во власти твоей»; вместо «веденіе» — «разумъ». Фраза: «Но никто да не вкушаетъ, не піетъ отъ вашей евхаристіи, кромѣ крещеныхъ во имя Госнодне» исправлена так: «Но пусть никто не ѣсть, не пьетъ оть вашей трапезы, кромѣ омытыхь во имя Господне». В главе XI и XV слово «апостолъ» везде заменено Толстым словом «посланникъ Господа», слова «говорящій въ Духѣ» — словами «говорящій о божественномъ», слово «церкви» — словом «общины». В главе XVI слова «преломите хлѣбъ» заменены словом «ѣшьте».
6. Рукопись АТБ, исписанная с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Одна четвертушка, обозначенная цыфрой 2 и заключающая в себе отрывок текста послесловия. Начало: «Въ этомъ древнемъ ученіи». Конец: «люди, не любящіе Бога и ближняго». В сохранившейся своей части рукопись восходит к соответствующей части автографа, но не непосредственно, а через недошедшую до нас исправленную авторами копию.
7. Рукопись ГТМ на 15 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Состоит из семи полулистов писчей бумаги, согнутых пополам, и одной четвертушки такой же писчей бумаги. Рукопись без нумерации. Четыре последних страницы чистые. Начало: „«Ученіе Господа Іисуса Христа, проповѣданное апостолами народамъ» было неизвѣстно намъ“. Конец: «и придемъ къ нему». Текст заключает в себе предисловие, пять глав «Учения» и послесловие. Текст предисловия очень близок к соответствующему тексту автографа, но восходит к нему, видимо, через какую-то промежуточную рукопись. Во фразе: «Всѣми церквами христіань» исключены слова «и нашего православнаго». Текст пяти глав «Учения» представляет здесь копию соответствующего текста предыдущей рукописи и заключает в себе очень немногочисленные новые поправки рукою Толстого. Текст послесловия не восходит непосредственно к соответствующей части текста автографа: в данной рукописи изложение пространнее, чем в автографе, а также чем в окончательном печатном тексте, но значительных смысловых или стилистических вариантов не заключает. Текст послесловия, сохранившийся на четвертушке, описанной под №6, указывает на то, что именно с этого несохранившегося целиком текста сделана была описываемая здесь копия. Отметим лишь, что тут хозяин поручает работнику не колодезь копать, а молоть жерновом рожь.
8. Рукопись АТБ на 19 листах в 4о исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками, довольно многочисленными, рукой Толстого. Последняя страница чистая. Нумерация частью по страницам, частью по четвертушкам (0, 1—28). Начало: „«Ученіе Господа Іисуса Христа, проповѣданное апостолами народамъ», было неизвестно намъ до сихъ поръ“. Конец: «и придемъ къ нему». По всей вероятности, это второй экземпляр копии, сделанной переписчиком вслед за первым, описанным под № 7. Этот экземпляр полнее, так как он, помимо предисловия и послесловия, содержит в себе 16 глав «Учения». И Толстой, видимо, исправлял обе эти копии, независимо одна от другой, причем во вторую копию внесено было поправок гораздо больше, чем в первую. В предисловии исключены из 3-го абзаца слова: «и нашего православнаго» (см. выше). К первой части «Учения», как и в окончательном печатном тексте, здесь отнесены не пять первых глав, а шесть. Поправки, довольно многочисленные, большей частью словарные, в тексте «Учения» имеются только в первых пяти главах. В послесловии зачеркнуто всё то место, где речь идет о хозяине и работнике, и вместо него написан рукой Толстого новый абзац, который приводим в вариантах (№ 2).
9. Рукопись АТБ на 6 листах в 4о, исписанная с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с многочисленными поправками рукой Толстого. Состоит их трех полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. На первой странице рукой А. П. Иванова лишь обозначено содержание рукописи: «Предисловие со включением 5-ти первых глав учения Господа Иисуса Христа и послесловие». Вторая страница чистая. Далее идут страницы, пронумерованные по чётвертушкам от 9-ти до 13-ти. Следовательно, недостает восьми четвертушек или четырех полулистов, и в рукописи таким образом утеряны предисловие, перевод «Учения» и начало послесловия. Текст начинается со второй половины слова. Начало: «числено 5: убійство, развратъ, идолопоклонство» Конец: «и придемъ къ нему». В сохранявшейся своей части, в основном слое, написанном рукой переписчика, рукопись представляет копию предыдущей. Толстым здесь сделано много словарных и стилистических исправлений, перестановок отдельных абзацев, а также сокращений. Особенно радикальной переделке подвергся последний абзац: «не рассердиться не могу» (см. вариант № 1), который в большей своей части перенесен на другое место, ближе к середине текста. Приводим его в вариантах (№3).
10. Рукопись ГТМ и АТБ, разрозненная, на 9 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Состоит из четырех полулистов писчей бумаги, согнутых пополам, и из одной четвертушке такой же бумаги. Первый полулист, нумерованный по четвертушкам цыфрами 1 и 2, принадлежит ГТМ, следующие три полулиста и четвертушка, нумерованные также по четвертушкам цыфрами от 7 до 13, — АТБ. В рукописи недостает таким образом четырех четвертушек или двух полулистов. Они включали в себя предисловие, пять глав «Учения» и послесловие. Сохранилось полностью предисловие, начало текста «Учения» и большая часть послесловия (за исключением его начала). Начало: «Напечатанное здѣсь «Ученіе Господа Іисуса Христа, проповѣданное апостолами народамъ» есть древняя рукопись». Конец: «и придемъ къ нему». В сохранившейся своей части, в основном слое, написанном рукой переписчика, данная рукопись представляет собой копию предыдущей. В предисловии зачеркнуты слова: «Всѣми церквами христіанъ писаніе это признано истиннымъ», и вместо них рукой Толстого написано: «Писаніе это есть самое древнее изложеніе проповѣди Іисуса Христа». В послесловии много сокращений. Зачеркнут между прочим, абзац, в котором речь идет о человеке, заблудившемся в снежную метель, и рукой Толстого написан новый абзац, в котором, как и в окончательном печатном тексте, отношение Христа к человеку сравнивается с отношением отца к сыну, отправляющемуся в дорогу.
11. Рукопись АТБ на 3 листах в 4° без начала, исписанная рукой А. П. Иванова, с поправками Толстого. Состоит из полулиста писчей бумаги, согнутого пополам и исписанного с обеих сторон, и из четвертушки, исписанной с одной стороны. Нумерация идет по четвертушкам от 11 до 13. Это конец послесловия. Начало: «что, понимая его, намъ нельзя». Конец: «и придемъ къ нему». В сохранившейся своей части, в основном слое, написанном рукой переписчика, рукопись представляет собой копию предыдущей. Помимо стилистических исправлений, принадлежащих Толстому, здесь дальнейшие сокращения текста. Вычеркнут между прочим целиком весь абзац, приведенный в вариантах под № 3.
12. Рукопись АТБ на 12 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой А. П. Иванова, с поправками рукой Толстого. Состоит из 6 полулистов писчей бумаги, согнутых пополам. Нумерована по четвертушкам (1—12). Последняя страница чистая. Начало: «Напечатанное здѣсь «Ученіе двѣнадцати апостоловъ» есть древняя рукопись». Конец: «и придемъ къ Нему». Текст заключает в себе предисловие, пять глав «Учения» и послесловие. Вслед sa текстом пятой главы рукой Иванова карандашом приписано: «После этого продолжать до 16 главы, а затем нижеследующее» (т. е. послесловие). Из сравнения этой рукописи с текстом предыдущей, с сохранившейся ее части, убеждаемся, что данная рукопись является копией рукописи, описанной под № 11. Поправки, сделанные здесь Толстым, немногочисленны. Текст рукописи (предисловие, пять глав учения и послесловие) буквально совпадает с окончательным печатным текстом. Этот текст является таким образом окончательной редакцией работы Толстого.
Печатание «Учения двенадцати апостолов» отдельной брошюрой встретило, видимо, цензурные затруднения, и его взялся напечатать священник Г. П. Смирнов-Платонов в редактировавшемся им журнале «Детская помощь». В начале мая Толстой об этом писал кн. Л. Д. Урусову: «Другой священник, бывший издатель «Православного обозрения» Смирнов-Платонов, издающий теперь журнал филантропический «Детская помощь», обещался напечатать мой перевод учения 12 Апостолов с моим послесловием».361
Перевод с предисловием и послесловием Толстого, но без его подписи, разумеется, из предосторожности, был действительно напечатан в № 8 журнала «Детская помощь» от 24 мая 1885 г. в сопровождении статьи редактора, озаглавленной «Пятидесятница».
В связи с этим Толстой 17—18 июня писал В. Г. Черткову: «Я узнал, что в «Детской помощи» издатель священник напечатал мой перевод с примечанием «Учения двенадцати апостолов» и что на него за это напали. Я никак не думал, что его напечатают, и потому оставил очень много небрежного и слишком смелого, неопределенного в переводе. Я не видал напечатанного. Они мне прислали 25 экземпляров в Москву».362
Толстой здесь сильно преувеличил вкравшиеся якобы неисправности в текст статьи, напечатанной в «Детской помощи». По крайней мере впоследствии он не исправил того, что считал «небрежным и слишком смелым, неопределенным в переводе». Текст, напечатанный в «Детской помощи», отличается немногими, самыми несущественными разночтениями по сравнению, напр., с текстом в издании «Свободного слова», напечатанным весьма исправно.
Придавая «Учению» большое значение, Толстой не оставлял мысли напечатать свой перевод отдельной брошюрой. В письме к П. И. Бирюкову, написанном во второй половине июля 1885 г., он, рекомендуя для тюремной библиотеки Евангелие от Матфея и «Учение двенадцати апостолов» в киевском издании, вслед зa этим говорит: «В журнале «Детская помощь», № 8, 1885, напечатан мой перевод с предисловием и послесловием. Нельзя ли попытаться провести его через цензуру, разумеется, не упоминая, главное, моего имени?»363 Но, видимо, и на этот раз попытки оказались тщетными.
Тогда же Толстой задумал ввести текст «Учения двенадцати апостолов» в текст брошюры «Фабиола», представлявшей собой переделку, принадлежавшую главным образом Е. Свешниковой, романа Евгении Тур «Катакомбы» и вышедшую в издании «Посредника» в 1886 г. По этому поводу В. Г. Чертков 25 августа писал Толстому: „В «Фабиоле», мне кажется, неблагоразумно помещать учение 12 апостолов в виду скандала, возбужденного напечатанием его в «Детской помощи»“.364 В ответ на это Толстой 29—30 августа пишет: «В «Фабиоле» лучше бы поместить «Учение 12 Апостолов» не в моем переводе, а по Киевскому переводу первые пять глав».3651 сентября В. Г. Чертков на это отвечает: «Получил ваше письмо и согласен с вами про киевский перевод «Учения 12 Апостолов», что лучше всего его поместить в Фабиоле» (АТБ).
Однако в «Фабиолу» вошла только 1-я глава «Учения».
Впервые отдельной брошюрой «Учение двенадцати апостолов» напечатано было за границей, в Женеве: «Учение 12 Апостолов. Графа Л. Н. Толстого». Изданіе М. К. Эльпидина. Genève, М. Elpidine, Libraire-éditeur. 68, rue de Rhône 68, 1892. Текст этого издания исправнее текста, напечатанного в «Детской помощи», и восходит к последней авторской редакции статьи, но, как большинство элпидинских текстов, заключает в себе несколько неточностей и опечаток.
Следующее издание «Учения» сделано было «Свободным словом» под редакцией В. Г. Черткова в X т. «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого», Christchurch, 1904. Это издание было тщательно сверено с рукописью и не заключает в себе ни неисправностей, ни опечаток. Так же как и в издании Элпидина, здесь слова главы 4-й: «Вы же, рабы, повинуйтесь господам нашим, как образу Божию, в почтении и страхе» снабжены подстрочным примечанием Толстого, отсутствующим в тексте «Детской помощи».
В России «Учение двенадцати апостолов» впервые отдельной брошюрой напечатано было издательством «Посредник» в 1906 г. (№588). В 1911 г. это издание было повторено без всяких изменений (тот же номер). Текст «Посредника» в точности воспроизводит текст издания «Свободного слова», зa исключением следующих слов главы 4-й: «Вы же, рабы, повинуйтесь господам нашим, как образу божию в почтении и страхе». Вместе с устранением этих слов, которые позднее, очевидно, показались Толстому двусмысленными и противоречащими духу всего «Учения», отпало и примечание к ним.
Первые пять глав «Учения» в редакции «Посредника» вошли в оба издания «Круга чтения» (1904 и 1910 гг.). Специально для «Круга чтения» написано было новое предисловие взамен прежнего. Во втором издании книги (1910 г.) в предисловии этом были смягчены Толстым те строки, в которых речь идет о Ницше и Верлене (Это второе предисловие см. в тексте «Круга чтения» — недельное чтение на декабрь месяц).
В собраниях сочинений Толстого (в 12-м издании, М. 1911, часть четырнадцатая, и в издании И. Д. Сытина под редакцией П. И. Бирюкова, М. 1912, т. XII) «Учение двенадцати апостолов» напечатано по тексту «Посредника», но с двумя предисловиями — старым и новым, в редакции первого издания «Круга чтения».
В настоящем издании текст «Учения» печатается по тексту рукописи, описанной под № 12, как окончательному.
————
«ГРЕЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ СОКРАТ».
В начале 1885 г. по инициативе В. Г. Черткова при ближайшем сотрудничестве П. И. Бирюкова возникло издательство «Посредник». Толстой принимал самое горячее участие в делах издательства. Он, как известно, сам представил ему ряд своих рассказов, и по его почину другие известные писатели сделали то же. Но широко задуманная организация печатания литературы для народа, одинаково удовлетворявшей требованиям художественным и идейным, страдала от недостатка подходящего материала. С целью восполнить этот недостаток к составлению книжек для народа привлечены были различные лица, разделявшие те задачи, какие поставил себе «Посредник», и способные их осуществлять. На их долю выпало или сочинение оригинальных рассказов религиозно-морального характера или компилирование произведений нравственно-поучительной литературы, особенно житий святых. Одной из таких компиляций, напечатанной «Посредником» в 1886 г., была книжка «Греческий учитель Сократ», написанная А. М. Калмыковой366 в тесном сотрудничестве с Толстым. Толстой не только усиленно переделывал и исправлял текст Калмыковой, но и сам почти целиком написал IX главу этой книжки — «Что нужно знать каждому человеку?»
Знакомство Калмыковой с Толстым произошло во время проезда Толстого через Харьков, очевидно в 20-х числах марта 1885 г., когда он возвращался из Крыма, куда сопровождал больного своего друга кн. Л. Д. Урусова. В письме к нему от начала апреля того же года Толстой пишет: «В Харькове меня-таки встретили дамы и одна, Калмыкова, проехала со мной до Орла. Ее жизнь Сократа вышла превосходная книжка, если она еще поправит ее.367 Видимо, на пути между Харьковом и Орлом Калмыкова ознакомила Толстого со своей работой и получила от него ряд советов и указаний для исправления и дополнения этой работы. 23 марта она пишет Толстому: «Сократа внимательно перечла и усердно дополню. Вы сняли с меня мешавшие путы — страх отступить от истории, заботу об объеме очерка. Через три недели, надеюсь, рукопись будет у вас» (АТБ). Днем раньше Толстой сам писал Калмыковой по поводу Сократа: «Пожалуйста, пришлите мне поскорее вашего Сократа. Вы увидите, что я с любовью сделаю всё, что съумею и смогу, над этой работой».368 Приблизительно через неделю Толстой вновь торопит Калмыкову с присылкой: «Сократа пришлите поскорее. Я надеюсь отдать его в народное издание. Будет хорошая книга».369 6 апреля Калмыкова отвечает: «Сократа надеюсь выслать через неделю» (АТБ). Около 16 апреля Толстой пишет ей: «Очень рад был получить сегодничнее ваше письмо. Я только что стал беспокоиться о вашей работе — Сократ, а вы пишете, что скоро кончите и привезете. Очень рад и тому и другому. По всем вероятиям я буду в Москве, и если надо будет и можно, то поправлю вашу рукопись, и отдадим печатать».370
Работа Калмыковой сильно заинтересовала и В. Г. Черткова, который, прослушав отрывок из нее, 26 апреля написал Толстому восторженный отзыв как о самой работе, так и о личности Сократа.371
В конце апреля Калмыкова приехала в Ясную поляну и прочла Толстому то, что успела переделать и дополнить в своей книжке. 2 мая по этому поводу Толстой пишет В. Г. Черткову: «Калмыкова была и читала то, что она поправила и прибавила. Эта книга будет лучше всех, т. е. значительнее всех».372
Вернувшись из Ясной поляны в Харьков, Калмыкова тотчас принялась за дальнейшую переработку Сократа, которая вскоре была закончена. 9 мая она пишет Толстому: «Вчера послала Вам Сократа, Лев Николаевич, послала даже не перечитавши толком переписанное набело... Название глав я написала карандашом, чтобы вы могли изменить их по своему усмотрению. Названиям глав я придаю значение, а потому, пожалуйста, обратите на них внимание... Более всего дорожу главой — «Что нужно знать каждому человеку».373 Лучше написать сил нехватило. Лев Николаевич, просмотрите ее и измените по-своему, если нужно. Нарочно оставила для этого чистые листы. Последний закон — любовь к прекрасному (искусство) и познание полезного (знания) долго меня мучил. Нужно бы понятнее формулировать, но не сумею»374 (АТБ).
В письме к В. Г. Черткову от 10—11 мая Толстой сообщает о получении им «Сократа», которого он называет «превосходным», но опасается, что цензура его запретит.375 В середине мая о получении рукописи и о работе над ней Толстой извещает и Калмыкову: «Получил рукопись. Нынче целый день занимался ею. Хотелось бы сделать всё, что умею, для улучшения формы. Содержание очень хорошо... Когда отдам набирать, напишу... Хочется много поправлять. Согласны ли вы?».376 Тогда же приблизительно, 15 мая, Толстой пишет В. Г. Черткову: «Я поправляю Сократа и, боюсь, не скоро кончу. Хочется, чтобы было как можно лучше. Постараюсь скорее».377
Калмыкова с большой радостью предоставила Толстому переделывать рукопись по его усмотрению. В ответ на его письмо она пишет ему 18 мая: «Ужасно счастлива, что вы приложили свою руку к «Сократу». Другого Сократа по богатству биографического материала в истории нет, и мне испортить эту тему было бы крайне больно. Великое вам спасибо и даже не вам, а судьбе, богу, давшим мне возможность работать при таких условиях» (АТБ).
Пользуясь разрешением Калмыковой, Толстой принялся зa радикальную переработку написанного ею. 24 мая он пишет ей: «Сократа вашего я мараю отчаянно. Сохраните у себя черновую, а то я так измараю и запутаюсь, что бывало со мной, и то испорчу, и своего не сделаю. Очень уж хорошо и значительно. Я более недели пристально занимаюсь им. Так как ни вам не нужно авторское удовлетворение, ни мне, то дело только в том, чтобы было на пользу людям. — Сколько бы я не переделывал, основа ваша. Не было бы вашей умной, доброй и смелой работы — не над чем и было бы работать. — Мне остается последний разговор о святости, который я хочу вставить из Энтифроона, и потом Апологию и беседу о загробной жизни и смерть пересмотреть. Всё же перед этим я кончил начерно, и дочь переписывает... Да еще хочется из Протагора разговор о том, почему люди, зная, чтò дурно, делают дурное, и из этого рассуждение о том, что нравственности можно и должно учиться».378
Около того же времени, 20—22 мая, об усиленной работе своей над «Сократом» Толстой пишет В. Г. Черткову в Англию: «Сократа я взял с собою в деревню и вот уже несколько дней работаю над ним с большим увлечением. Надеюсь, что Калмыкова простит меня за мои перемены. Основа та же, но переделываю много. Предмет необыкновенной важности. Столько самого главного можно сказать свободно в этой форме. Надеюсь дня через два кончить. Потом надо переписать, и тогда пришлю в Петербург. Напишите, какой адрес. Очень желательно, чтобы прошло в цензуре».379
О том же — в письме к П. И. Бирюкову от начала июня: «Сократа я пачкаю и порчу и даже запутался в нем и потому не присылаю. Я им очень дорожу и надеюсь, что мы с А. М. Калмыковой доведем это до еще много лучшего. Я ей писал и жду ответа».380
Тогда же Толстой пишет В. Г. Черткову: «С Сократом случилась беда. Я стал переделывать, стал читать Меморабилии,381 Платона и увидал, что всё это можно сделать лучше. Сделать я всего не сделал, но всё измарал, и Калмыковское и свое, и запутал и остановился пока. Я писал об этом Калмыковой и жду ее ответа. Можно напечатать, как было, ее изложение, а потом вновь переделать его; но можно, и по-моему лучше, не торопиться и с ней вместе обдумать и исправить. Удивительное учение — всё то же, как и Христос, только на низшей ступени. И потому особенно драгоценно. Если ясно выразить то, до чего дошло учение истины на низшей ступени, то очевидно будет, что оно могло пойти дальше в том же направлении (как оно и было), а не пойти назад, как это выходит по церковным толкованиям. Бог нас наставит как лучше, но теперь не готово».382
В связи с этой работой В. Г. Чертков время от времени делится с Толстым своими мыслями о личности и учении Сократа. Так, он пишет ему о том, что, по словам сведущих людей, личная жизнь Сократа была далеко не безупречной, а во многих отношениях даже скверной, и, быть может, не следует замалчивать эти отрицательные стороны его характера, чтобы неискушенные читатели не приравняли Сократа к святым и не ставили его учение рядом с учением Христа.383 В ответ на это Толстой пишет Черткову 9—10 июня: «То, что вы говорите о Сократе, и правда, и нет, по-моему. Правда важная и которую вы мне часто напоминаете, что всякая ложь неизбежно влечет зa собою зло, но неправда, мне кажется, то, чтобы жизнь Сократа была дурная. По Эпиктету и Платону — напротив. Я согласен, что не следует приписывать Сократу того, что мы узнаем от Христа, но и не следует подчеркивать того слабого, что мы найдем в нем, если мы и найдем такое. Ваше замечание мне полезно. Если я кончу это дело, то я воспользуюсь им — вашим замечанием».384
В это время у Толстого в работе над «Сократом» происходит некоторый перерыв. «Я что-то вышел из колеи умственной работы, и Сократ не подвигается», пишет он А. М. Калмыковой 11 июня.385 Но к началу июля эта работа была закончена и окончательно переслана Калмыковой, судя пo следующим строкам письма Толстого к П. И. Бирюкову, написанного около этого времени: «Передайте привет Александре Михайловне. Она прекрасный сотрудник. Что Сократ?»386
19 июля Калмыкова пишет Толстому:
«Вчера перечла Сократа и только вчера почувствовала, сколько вы для него сделали, Лев Николаевич. Как чудесно просто, картинно вышел миф о Геркулесе.387 Как вы хорошо дополнили главу более всего тревожившую меня: «Какое знание больше всего нужно людям?»388 Она вышла очень серьезной; быть может, легкомысленные и не одолеют, а без нее бы Сократ и цены не имел. Будут же и такие, и не мало их, которые и прочтут, и поймут и толковать о ней будут» (АТБ).
Как видим из приведенного материала переписки, Толстой проявил исключительный интерес к книжке Калмыковой и сам потратил на переработку и дополнение ее много времени и энергии. Это, конечно, потому, что личность Сократа и его учение были очень близки и дороги Толстому. Видимо, Толстой и в жизненной судьбе Сократа усматривал нечто напоминающее его собственную судьбу. Некоторые места книжки написаны так, что они легко могли бы быть применены и к самому Толстому и к его биографии.
Мы располагаем следующими рукописными материалами, относящимися к «Сократу» и хранящимися в Институте русской литературы Академии наук СССР.
1. Расшитая тетрадь, состоящая из 48 четвертушек (3 чистые) с полями, исписанная рукою А. М. Калмыковой, с многочисленными исправлениями, перечеркиваниями текста, приписками и вставками среди текста и на полях рукой Толстого. Толстым же здесь написаны новые заглавия взамен некоторых калмыковских и изменен порядок отдельных глав. Исписанные страницы пронумерованы от 1 до 75 рукой Калмыковой, от 75 до 90 — рукой Толстого. В тетради 9 глав статьи и начало 10-й (на последней странице). В последней четвертушке с левой стороны оторвана часть текста. Его продолжение переложено в рукопись № 2. Заглавия отдельных глав написаны рукой Калмыковой, карандашом. Таким образом мы имеем здесь дело с той рукописью, которая послана была Калмыковой Толстому 8 мая 1885 года и о которой она говорит в письме к нему от 9 мая (см. выше). Первоначальное заглавие статьи «Учитель греческого народа Сократ», данное Калмыковой всей книжке, переделано Толстым так: «Греческій учитель Сократъ».
2. Сшитая тетрадь в 61 четвертушку (122 страницы, из которых 8 чистые). На 1-й ненумерованной странице — заглавие: «Греческий учитель Сократ», на 2-й, также ненумерованной, — оглавление книжки. И то и другое написано рукою Калмыковой. Далее на 76-ти страницах идут первые девять глав статьи, переписанные рукою T. Л. Толстой и рукой неизвестной (всего 4 страницы) с рукописи Калмыковой, исправленной Толстым и описанной нами под № 1. Страницы нумерованы рукой переписчицы. Копия очень исправная. В ней всего три поправки рукой Толстого, и на полях его же рукой проставлены три нотабены. Последняя — 76-я страница, в большей своей части оставшаяся незаполненной переписчицей, заполнена началом главы X («Суд над Сократом»), написанным рукой Калмыковой. Вслед за этим к копии, написанной T. Л. Толстой, пришито написанное рукой Калмыковой продолжение тетради, описанной под № 1, начиная со страницы 91 до конца. Здесь поправок, сделанных Толстым, гораздо меньше, чем в рукописи № 1, заключающей в себе первые девять глав и начало десятой. Поэтому эта часть калмыковской рукописи не переписывалась и механически присоединена была к переписанным первым девяти главам. Начиная с 91-й страницы нумерация сделана рукой Толстого. Текст, заключавшийся между страницами 120 и 127 (гл. XII — «Последняя беседа Сократа») и затем после страницы 132-й, вырезан, и вместо него вклеены две исписанные с обеих сторон рукой Калмыковой ненумерованные четвертушки. Очевидно, на вырезанных четвертушках находилось слишком много исправлений Толстого и зачеркнутых им мест, и исправленный текст этих четвертушек переписан был заново. В двух случаях Толстым сплошной текст выделен в особые главы: «Сократ в тюрьме» и «Последняя беседа Сократа» (заглавия принадлежат Толстому).
3. Автограф Толстого на одной четвертушке, исписанной с обеих сторон, озаглавленный «Чему надо учиться?» Заключает в себе начало беседы Сократа с Протагором. Это, видимо, начало новой главы, которую Толстой собирался ввести в книжку о Сократе. Печатаем этот автограф целиком в отделе вариантов.
4. Автограф Толстого на одной четвертушке. Исписана (не до конца) лишь лицевая страница. Начало: «Были в то время въ Афинах учителя». Конец: «чтобы людямъ хорошо жить было». Это — вторая попытка написать главу, посвященную беседе Сократа с Протагором, так же как и первая, неосуществленная.
Исправления, сделанные Толстым в первых девяти главах рукописи Калмыковой, таковы, что они, в сущности, сводят на нет всю первоначальную работу Калмыковой в пределах этих глав. Нет почти ни одной фразы, которая не была бы переделана Толстым. В большинстве случаев Толстой зачеркивает всё написанное Калмыковой и между строк и на полях пишет свое. Работа Толстого сводилась, с одной стороны, к изменению содержания статьи, внесению одних подробностей и устранению других и, с другой стороны, — к стилистической переработке текста. Книжно-литературный язык Калмыковой упрощался в направлении той литературной манеры, какая характерна для народных рассказов самого Толстого.
Вот параллели:
Калмыкова:
Покровительницей города Афин считалась богиня Афина: в честь ее и был назван город. Изображали эту богиню в виде девушки с строгим лицом, в шлеме и с копьем в руке. Подходя к Афинам, всякий издали мог заметить блестевший на солнце золотой шлем и копье богини.
Толстой:
Послѣ Зевса въ почетѣ была еще богиня Аөина. Въ честь ея и былъ названъ городъ. Была такая кукла большая вытесана изъ камня и поставлена на главной площади. На головѣ у нея былъ золотой шлемъ, въ рукѣ было золотое копье.
Калмыкова:
Но известно было также, что Афина хитра и жестока, что часто помогает своим любимцам во вред другим людям.
Толстой:
По разсказамъ была эта Аөина хитрая и жестокая, помогала своимъ любимцамъ, а другимъ вредила безъ вины.
Калмыкова:
О других богах греческих ходили такие же рассказы.
Толстой:
Про другихъ боговъ учили про такiя же плохія дѣла.
Работу Калмыковой в пределах первых девяти глав можно рассматривать как источник, которым воспользовался Толстой для собственной работы, такой же источник, как народные легенды, сказки или жития святых, подвергнутые Толстым литературной обработке. На этом основании мы вправе первые девять глав «Сократа» причислить к произведениям Толстого.
Что касается четырех следующих глав, то, как указано было выше, доля участия Толстого в обработке их гораздо меньшая, чем в первых девяти главах, и сводится преимущественно к стилистическим поправкам и разбивке глав, которым даны новые заглавия. Однако в двух случаях и здесь текст Калмыковой, видимо, радикально был переработан Толстым (стр. 121—126, 133, 134; см. выше).389
С самого начала работы Толстой серьезно опасался за то, что цензура не пропустит книжку, и в связи с этим подумывал о том, как ослабить цензурные угрозы. В середине апреля он пишет Калмыковой: «Не лучше ли Сократа отдать в цензуру Харьковскую? Я думаю, у вас есть знакомые, и там пройдет легче. Если так, то подготовьте».390 10—11 мая в письме к В. Г. Черткову Толстой также высказывает беспокойство относительно цензуры: «Сейчас получил Сократа от Калмыковой. Это будет превосходно, но ужасно боюсь за цензуру. Какие ваши планы были об этом? В Москве или Петербурге?»391
Дело в том, что московская цензура была гораздо строже петербургской и провинциальной, и потому наиболее рискованные в цензурном отношении произведения «Посредник» предпочитал пропускать не через московскую цензуру, а через петербургскую или провинциальную, притом представляя их туда не от имени издательства, а от имени какого-либо частного лица, к издательству близко стоявшего. При этом в ряде случаев на обложке некоторых наиболее рискованных книжек намеренно не указывалось, что они изданы «Посредником».
В. Г. Чертков сам рекомендовал Толстому обратиться в петербургскую цензуру и предполагал воспользоваться при этом услугами книгоиздателя Павленкова. 11 мая он пишет Толстому: «Павленков здесь охотно взялся представлять в цензуру наши рассказы. Ему лучше всего отдать Сократа... Пожалуйста, если какая-нибудь урезка постигнет какой-нибудь из ваших рассказов или текстов, то раньше, чем помириться с этим, пришлите их ко мне для испытания здешней, более, говорят, самостоятельной цензуры».392
И действительно, петербургская цензура оказалась к «Сократу» очень терпимой: она пропустила его без всяких урезок и изменений. 13 сентября Калмыкова пишет Толстому: «Вчера отправилась в цензурный комитет со страхом и трепетом узнать о судьбе Сократа, но страх мой скоро перешел в ликование: рукопись возвратили без единой помарки и с дозволением печатать» (АТБ). 20 декабря В. Г. Чертков сообщает Толстому: „«Сократ» выйдет на этих днях“.393 Книжка напечатана была, как и все издания «Посредника», в типографии И. Д. Сытина, но без указания на то, что она является изданием «Посредника». Год издания, проставленный на ней — 1886. Цензурное разрешение — 8 сентября 1885 г., на обложке — 21 ноября 1885 г. На обложке заглавие «Сократ» и затем — на первой странице — «Греческий учитель Сократ». На передней и задней страницах обложки — рисунки художника А. Д. Кившенко. Имена составителей книжки не указаны. 17 августа Калмыкова писала Толстому: «Если вы не согласны подписаться под Сократом, то пусть и моего имени не будет так же, как и на всех следующих работах, если бог приведет что-нибудь написать» (АТБ).
Все издания книжки, начиная с первого, выполнены очень небрежно. Так, в первом издании ее и во всех последующих в I главе после слов: «как люди на земле», стр. 430 строка 23, выпущен весь конец абзаца, начиная со слов: «и женятся, и блудят», и вместо него напечатано: «и друг на друга и на людей зло держат». Благодаря этому начало следующего абзаца: «Начал же царствовать на небе Зевс» является неосмысленным, так как до этого о Зевсе в книге ничего не говорится. Далее после слов: «и обманывал ее», стр. 430 строки 31—32, во всех изданиях выпущен большой кусок текста от слов: «как напивался допьяна», стр. 430 строка З2, кончая: «про такие же плохие дела», стр. 431 строка 8. После слов: «а дела их были человеческие», стр. 431 строка 9, выпущены слова: «да еще часто плохие». В первом издании, во II главе, выпущен очень большой кусок текста, начиная со слов: «что для того, чтобы земля родила», стр. 434 строка 36, кончая: «чтобы на старости», стр. 435 строки 38—39, отчего в книжке читается бессмысленная фраза: «Ведь ты сам знаешь, не каяться на свою глупость и не помереть, не угодив ни себе, ни людям, ни богу». В последующих изданиях этот пропуск восстановлен. Кроме того, во всех печатных изданиях «Сократа» много более мелких пропусков, ошибок и опечаток.
В настоящем издании текст «Сократа» печатаем по просмотренной и исправленной Толстым рукописи, описанной под № 2, привлекая для первых девяти глав и текст рукописи, описанный под № 1.
Первые девять глав печатаем как произведение Толстого корпусом, четыре же последние главы — петитом, выделяя в них корпусом слова, принадлежащие Толстому. В сносках внизу страницы печатается первоначально написанное Калмыковой, зачеркнутое Толстым и замененное им или не замененное другими словами. Слово «зачеркнуто» с соответствующей сноской в тексте и внизу страницы под строкой означает, что данное слово или слова зачеркнуты Толстым после того слова текста, около которого поставлена сноска.
————
«СТРАДАНИЯ» СВЯТЫХ.
Попытка Толстого ввести в круг народного чтения жития святых относится еще к 1870-м годам. В ноябре 1874 г. он пишет П. Д. Голохвастову: «Вы говорили как-то, что Леонид394 знаток житий и готов помочь составлению чтения для народа. Не будет ли он так милостив составить список наилучших, наинароднейших житий из Макарьевских, Дмитрия Ростовского и из Патерика? Я хочу попытаться не переделать, а выбрать для народного чтения и издать».395
Но в ту пору замысел Толстого не осуществился. К нему он вернулся через десять лет в связи с возникновением издательства «Посредник», для которого и сам стал писать жития и поручал это делать отдельным сотрудникам издательства. В течение 1886 г. оно выпустило несколько книжек на житийные темы. Главным источником, каким пользовались авторы этих книжек, были Четьи-Минеи Димитрия Ростовского. Ими преимущественно пользовался и сам Толстой в своей работе, и из них он выбирал отдельные жития, которые распределял между своими сотрудниками. Так, в начале июня 1885 г. он пишет П. И. Бирюкову: «Я на-днях выпишу страницы из отмеченных Житий Святых Дмитрия Ростовского, как мне пишет Владимир Григорьевич,396 и пришлю вам».397
В эту пору Толстым написаны «Страдания святого мученика Феодора» и «Страдания святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины».
Автограф первого сочинения хранится в ГТМ (AЧ, папка 103). Он занимает четвертушку писчей бумаги, исписанной с обеих сторон, и озаглавлен: «21 Апрѣля. Страданіе святаго мученика Өеодора». В нем недостает конца: автограф обрывается на половине фразы: «Я узналъ безсиліе ложныхъ». В АТБ (папка VII) хранится копия автографа, написанная рукой А. П. Иванова на лицевых страницах трех полулистов писчей бумаги, без поправок Толстого, но с сохранившимся концом статьи, недостающим в автографе. Как в автографе, так и в копии его, текст распространеннее печатного; особенно распространены диалоги. В рукописях, кроме того, не упоминается о матери Феодора, а ему самому отрубают голову, а не распинают на кресте, как в печатном тексте. Статья напечатана была в 1886 г. «Посредником» — вместе с житием Павлина Ноланского, составленным П. И. Бирюковым, и Никифора, составленным одним из сотрудников «Посредника» — в книжке «Житие святого Павлина Ноланского и страдания св. мученика Феодора и Никифора. Составлено по Четьи-Минеи св. Дмитрия Ростовского» (издательство не указано). Цензурное разрешение — 14 января 1886 г. Судя по этой дате, статья была написана Толстым в 1885 г.
Очевидно, в этом же году написана была и вторая упомянутая статья.
Автограф второй статьи хранится также в ГТМ (AЧ, папка 103) и занимает часть писчего листа, несколько больше четвертушки, исписанного с обеих сторон, и часть писчего листа меньше четвертушки, также исписанного с обеих сторон. Заглавие: «Мая 18 страданіе святыхъ Петра, Діонисія, Андрея, Павла и Христины». Нижняя часть второго листка срезана и вместе с ней срезана часть текста (около трех строк). Эти недостающие строки восполняются копией автографа, хранящейся в АТБ (папкаVІІ) и написанной на лицевых страницах трех полулистов писчей бумаги рукой А. П. Иванова, без поправок Толстого.
Первая статья печатается здесь по изданию «Посредника» 1886 г., вторая — по автографу; недостающие строки ее восполняются по копии А. П. Иванова.
————
«ТРУДОЛЮБИЕ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА».
С содержанием сочинения Т. М. Бондарева398 «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство», предисловием к которому является данная статья, Толстой познакомился по статье Глеба Успенского «Трудами рук своих», напечатанной в № 11 «Русской мысли» за 1884 г. Это явствует из письма Толстого к В. Г. Черткову от 13—14 июля 1885 г.: «Вчера же получил — пишет он — письмо с рукописью того сибирского молоканина,399 про которого, помните, пишет Успенский, — о первородном законе «в поте лица снèси хлеб». Удивительно верно и сильно. Я написал ему письмо, а рукопись перепишу для вас».400О том же около 14 июля Толстой сообщает и в письме к кн. Л. Д. Урусову.401
Но письмо к Бондареву было написано между 15 и 20 июля 1885 г. Толстой писал ему, в начале своего письма: «Доставили мне на-днях вашу рукопись — сокращенное изложение вашего учения, я прежде читал из нее извлечения,402 и меня они очень поразили тем, что всё это правда и хорошо высказано, но прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, — это святая истина, и то, что высказали, не пропадает даром; оно обличит неправду людей. Я буду стараться разъяснять то же самое».403
По поводу этого письма сотрудник Минусинского музея Л. Н. Жебунев 13 января 1886 г. пишет Толстому: «Прочитав внимательно ваше письмо к Бондареву, я заметил, что вы извещаете его о получении «сокращенного изложения» его учения, тогда как я послал вам в мае 1885 г. через редакцию «Русской мысли» полное изложение учения Бондарева» (АТБ). Очевидно, произошло недоразумение, и то, что Толстой считал сокращенным изложением бондаревского учения, было на самом деле его полным изложением.
В марте 1886 г. Толстой пишет Бондареву второе письмо: «Я получил в прошлом году ваше письмо, на которое не успел ответить, a вчера получил письмо от Л[еонида] Н[иколаевича]404 о вас же; и теперь отвечаю на то и на другое. Вашу проповедь я списал для многих моих друзей, но печатать ее еще не отдавал. С нынешней почтой пошло в Петербург, в журнал «Русское богатство», и приложу всё старание, чтобы она была отпечатана так, как вы хотите, без всякого приложения и отнятия».405
27 января 1886 г. другой сотрудник минусинского музея В. Лебедев послал Толстому дополнение к первой работе Бондарева, озаглавленное «Добавление к прежде написанному мною, Бондаревым, «О трудолюбии и тунеядстве», почерпнутого из первородного источника: в поте лица твоего снèси хлеб твой». В сопроводительном письме Лебедев писал: „Посылаю вам полученные от Бондарева для вас «Добавления»“ (АТБ). 26 марта Толстой пишет Бондареву: «Прочел я и большую вашу рукопись и прибавление. И то и другое очень хорошо и вполне верно. Я буду стараться и сохранить рукопись и распространить ее в списках или в печати, сколько вовможно... Надеюсь, что вы найдете во мне помощника. Дело наше одно».406
Еще 8 февраля Толстой поручает В. Г. Черткову обратиться к редактору «Русского богатства» Л. Е. Оболенскому с просьбой напечатать в журнале статью Бондарева: «Статью Бондарева, Тимофея Михайловича, Сибирского молоканина — она у вас есть — свою я затерял — попросите Оболенского напечатать. Он наверное сделает хорошее объяснение и пропустит ее в цензуре. Бондарев просит, чтоб печатали ее без отнятия и приложения. И писали бы прежде и после что от себя».407 Таким образом статью Бондарева Толстой тогда еще не предполагал снабдить своим предисловием.
На первых порах у Оболенского была надежда провести эту статью через цензуру, и он Толстому сообщил об этом. В ответ на это сообщение Толстой в середине мая писал Оболенскому: «Очень радуюсь тому, что вы надеетесь провести Бондарева. Это нужно».408 Вскоре статья была набрана и корректура ее отправлена Толстому. В начале июня Толстой запрашивает П. И. Бирюкова: «Что значит присылка корректуры статьи Бондарева? Пропущена она или нет?»409 Но цензура статью не пропустила, о чем Оболенский известил Толстого в письме от 15 октября (АТБ).
Вероятно, в связи с получением корректуры бондаревской статьи Толстой задумал написать к ней предисловие. Около 20 мая он пишет Н. Н. Златовратскому: «Я душевно радуюсь тому сочувствию, которое вы выражаете и испытываете к Бондареву. Я еще больше полюбил вас за это. Я написал кое-что в виде предисловия. Пожалуйста, прочтите и напишите мне свое мнение. Я очень недоволен написанным».410
В ГТМ (AЧ, папка 7) сохранилось четыре рукописи, относящиеся к «Предисловию».
1. Автограф на 1 листе в 4°, исписанном с обеих сторон. Начало первого варианта предисловия к книге Бондарева. Печатается целиком в вариантах (№ 1).
2. Автограф на 2 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Вариант продолжения предисловия, обрывающийся на полуфразе. Печатается целиком в вариантах (№ 2).
3. Автограф на 15 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. Нумерации нет. Начало: «Предисловіе. Сочиненіе это Тимофея Михайловича Бондарева». Конец: «ты прійдешь къ исполненію ея». Это полный текст предисловия к сочинению Бондарева, в основном довольно близкий к окончательному печатному. В рукописи ряд поправок, зачеркнутых мест и приписок на полях, органически связанных с контекстом. Из зачеркнутого приводится самое значительное по объему — часть текста, в рукописи занимающую место между абзацами, начинающимися словами: «Мы так привыкли к порядку жизни»..., стр. 468 строка 4, и «Обсуживаем же мы всякого рода»..., стр. 468 строка 11 (см. вариант № 3).
4. Рукопись, исписанная рукой В. Г. Черткова, с поправками и дополнениями рукой Толстого. Состоит из двух занумерованных цыфрами 1 и 2 тетрадей в синих обложках, из которых одна исписана полностью, другая наполовину. В первой тетради 32 исписанных страницы, а во второй — 17 исписанных и 15 чистых. Страницы не нумерованы. На обложках тетрадей заглавие рукой переписчика: «Предисловие к сочинению Бондарева». Начало и конец — те же, что и в предыдущей рукописи. Текст рукописи — очень исправная копия предыдущей рукописи (автографа). Поправки, сделанные Толстым, довольно многочисленны.
Потерпев неудачу с печатанием статьи Бондарева в «Русском богатстве», Толстой в конце 1887 г. задумал напечатать ее вместе со своим предисловием в «Русской старине». 19 декабря 1887 г. редактор «Русской старины М. И. Семевский извещает Толстого о том, что он получил рукопись сочинения Бондарева и предисловие к ней Толстого. Но так как рукопись бондаревской статьи написана крайне неразборчиво, Семевский просит разрешения прислать ее обратно для восстановления бледных, совершенно неразборчивых строк (АТБ). Видимо, он решил печатать пока одно лишь предисловие, отложив печатание самой статьи Бондарева. 18 января 1888 г. он сообщает Толстому, что получил назад корректуру предисловия к статье и письмо от 17 января (АТБ). В своем письме Толстой еще раз просил о напечатании статьи Бондарева: «Рукопись Бондарева очень стоит того, чтобы быть напечатанной, и вы сделаете доброе дело, издав ее».411 Но и на этот раз ни предисловие Толстого, предназначенное для № 2 «Русской старины» зa 1888 г., ни статья Бондарева не были пропущены цензурой. В библиотеке Ленинградского университета хранится корректурный оттиск предисловия без следов авторской правки (шифр IV. 777. L. 23441). Текст этого оттиска заключает в себе ряд значительно смягченных в цензурном отношении мест по сравнению с окончательно проредактированным текстом Толстого, описанным нами под № 4. Видимо, мы имеем тут дело не с внешней правительственной цензурой, а с цензурой внутренней, проделанной, по всей вероятности, или самим Толстым или близкими ему людьми во избежание запрета статьи.
24 января 1888 г. Толстой писал Страхову: «Кругом виноват перед вами, дорогой Николай Николаевич. До вас верно уже дошло от Семевского то предисловие, которое я его просил доставить вам, а сам же я еще не написал вам, прося вас продержать эту корректуру. Очень прошу вас не столько об этом, но и о том, чтобы выключить или изменить там всё то, что вы найдете нужным. О том, что вы по этому сделаете, спорить и прекословить не буду».412 Очевидно, поправив корректуру и отослав ее Семевскому, Толстой хотел, чтобы Страхов продержал вторую корректуру, исключив из статьи всё то, к чему могла придраться цензура. Но до 5 февраля Страхов корректуры не получал: в этот день он писал Толстому: «Простите, бесценный Лев Николаевич, что не тотчас отвечал вам. Я поджидал, что, может быть, еще придет от Семевского та корректура, о которой вы пишете. Но вот прошла неделя — ничего нет. Вероятно, Семевский заупрямился, как это я и предчувствовал».413 «Семевский заупрямился», вероятно, означало то, что он решил попробовать провести статью без новых ее смягчений со стороны Страхова, но это ему не удалось.
Наконец, статья Бондарева в значительно сокращенном виде, с кратким редакционным предисловием, и статья Толстого о ней в той же редакции, какая предназначалась для «Русской старины», напечатаны были в марте в газете С. Ф. Шарапова «Русское дело», №№ 12 и 13. За помещение обеих статей, как сказано было раньше, С. Ф. Шарапов получил от министерства внутренних дел предупреждение (см. № 14 «Русского дела»: «Распоряжение министерства внутренних дел»).
Когда печатание отрывков статьи Бондарева и предисловия к ней в «Русской старине» было запрещено, Толстой решил печатать их за границей. 2 февраля 1888 г. он пишет В. Г. Черткову: «В «Русской старине» запретили мое предисловие и статью Бондарева. Я хочу ее перевести по-английски и напечатать в Америке».414 В тот же день и о том же он пишет и П. И. Бирюкову: «Вчера после вашего отъезда я решил отдать перевести статью Бондарева по-английски и предложил сделать это нашей гувернантке. Она это хорошо сделает с помощью Маши.415 Очень уж меня пробрал Бондарев, я не могу опомниться от полученного опять впечатления».416 В письме Толстого к Черткову от 9 февраля того же года читаем: «Статью Бондарева и предисловие теперь хочу печатать за границей».417 Там они появились впервые на французском языке в Париже, в 1890 г.: «Léon Tolstoï et Timothée Bondareff. Le travail. Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pagẻs».
На английском языке, в авторизованном переводе, книжка появилась лишь в 1896 г.418
В 1890 г. приспособленный для цензуры текст предисловия под заглавием «Трудолюбие, или торжество земледельца» напечатан был впервые в собрании сочинений Толстого: «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть тринадцатая. Произведения последних годов». Москва, 1890. Здесь — перепечатка текста, предназначенного для «Русской старины» и напечатанного в «Русском деле». Во всех последующих изданиях, вышедших в России, текст предисловия перепечатывался без всяких изменений по сравнению с изданием 1890 г.
Впервые нецензурованный текст предисловия, воспроизводящий текст рукописи, описанной у нас под № 4, был напечатан в издании М. К. Элпидина в Женеве в 1892 г. в брошюре, озаглавленной «Учение М. К. (Sic!) Бондарева. Предисловие и изложение графа Л. Н. Толстого» и содержащей в себе «Предисловие к сочинению Т. М. Бондарева» (стр. 3—26) и притчу «Три сына» (стр. 27—32). Но в этом издании имеется ряд неисправностей, отступлений в расположении отдельных абзацев, в сравнении с рукописью, и опечаток. Далее — в вышедшем в 1904 г. (Christchurch, Англия) X томе «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого» в издании «Свободного слова» под редакцией В. Г. Черткова предисловие было напечатано под заглавием „Предисловие к сочинению Т. М. Бондарева «О хлебном труде»“. В этом издании текст представляет собой произведенную редактором сложную комбинацию двух редакций сочинения Толстого: той, которая печаталась в России, начиная с 1888 г., под заглавием «Трудолюбие, или торжество земледельца», и той, которая имеется в рукописи, описанной нами под № 4, переписанной самим В. Г. Чертковым и исправленной Толстым. В результате получилась новая редакция, для усвоения которой Толстому у нас нет данных.
В тексте издания «Свободного слова», как и издания М. К. Элпидина, предисловие, воспроизводя текст рукописи № 4, начинается так: «Сочинение это предлагается здесь совершенно в том же виде, как оно было написано. Различие с подлинником только в том, что особенная орфография его заменена той, которая обыкновенно употребляется в книжках; и еще — в том, что всё сочинение разделено на две части: самое изложение и дополнения. В дополнении я отделил всё то, что мне казалось или повторением, или отступлением от изложения самого предмета» (стр. 47). Очевидно, что такое начало предисловия рассчитано было на то, что вслед за предисловием последует и самое сочинение Бондарева, но так как это не осуществилось и так как в собрании сочинений, куда Толстой ввел свое предисловие, неуместно было печатать сочинение, Толстому не принадлежащее, то начало предисловия пришлось изменить так, чтобы оправдывалось его печатание без самого сочинения Бондарева. Толстой это и сделал, использовав для заглавия статьи несколько переиначенное и сокращенное заглавие книги Бондарева — «Трудолюбие, или торжество земледельца».
Затем Толстой устранил в печатном тексте два обращения к читателю, имеющихся в тексте конца рукописи № 4: 1) «Читатель и милый брат, кто бы ты ни был, я люблю тебя и не только не желаю огорчить, обидеть тебя, внести зло в твою жизнь, но желаю одного — служить тебе». (Это обращение, перепечатанное в издании Элпидина, опущено и в издании «Свободного слова».) и 2) «Я боюсь этого, боюсь гордостью своего ума, холодностью своею повредить тебе» (перепечатано в издании Элпидина и «Свободного слова»).
Наконец, был сделан еще ряд преимущественно стилистических исправлений, устранено, как сказано выше, вероятно, самим Толстым или его друзьями всё то, что могло встретить сопротивление со стороны цензуры, и рукопись была отправлена в печать.
В основу печатаемого нами текста мы кладем текст корректуры «Русской старины», удерживая и данное статье самим Толстым заглавие «Трудолюбие, или торжество земледельца». При этом пропущенное или измененное явно по цензурным соображениям вводим в основной текст по рукописи, описанной под № 4.
Пользуясь этой рукописью, в текст корректуры «Русской старины» вносим следующие исправления.
Стр. 464, строки 13—14, вслед за словами: бессмысленным толкованиям вводим из рукописи слово: богословами
Стр. 464, строки 16—17, вместо: чтоб некоторые с недоверием относились к такому положению. печатаем, как в рукописи: чтоб с презрением относиться к такому положению.
Стр. 464, строка 19, вслед за словами: основать всё, что хочешь, вводим из рукописи слова: и что там всё — вранье.
Стр. 464, строки 24—28, вместо: Надо не забывать того, что если допустишь, что то, что называется Св. Писанием, есть произведение людей, то надо объяснить, почему именно это людское писание, а не какое-нибудь другое, принято людьми за писание самого Бога. На это должна же быть какая-нибудь причина. печатаем, как в рукописи: Надо не забывать того, что если допустить, что то, что̀ называется Св. Писанием, не есть произведение Бога, а людей, то то, что именно это людское писание, а не какое-нибудь другое, принято людьми за писание самого Бога, имеет же какую-нибудь причину.
Стр. 464, строка 30, вместо: Если допустить, что Писание это есть произведение людей, то названо оно людьми Божьим именно потому, печатаем, как в рукописи: Писание это названо суеверными людьми Божьим потому,
Стр. 464, строка 32, вместо: отрицали некоторые люди, печатаем, как в рукописи: отрицали люди,
Стр. 464, строка 35, вместо: высшая мудрость печатаем, как в рукописи: высшая человеческая мудрость.
Стр. 464, строки 35—36, вместо: И таково, действительно, Писание, печатаем, как в рукописи: И таково во многих местах своих Писание.
Стр. 464, строка 40, вместо: первые события райской жизни, печатаем, как в рукописи: весь миф райской жизни,
Стр. 465, строки 11—12, вместо: Изречение это важно не только потому, что оно сказано Богом печатаем, как в рукописи: Изречение это важно не потому, что оно будто-бы сказано Богом
Стр. 465, строка 26, вместо: от высшего лица до низшего, печатаем, как в рукописи: от царя до нищего.
Стр. 472, строка 9, вслед за словами: служить голодному и холодному человечеству вводим из рукописи: писанием резолюций,
Стр. 472, строка 36, вслед за словами: истинной мудрости людской вводим из рукописи: от конфуцианства и до магометанства
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ ДЛЯ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА».
С осени 1882 г. в Ясной поляне был заведен, так называемый, «почтовый ящик», наполнявшийся шуточными произведениями — записками, заметками, вопросами, стихами и т. п., писавшимися обитателями яснополянского дома — членами семьи Толстых, Кузминских, учителями, гувернантками и гостями. Больше всего было написано самим Толстым и его близкими — С. А. Толстой, Т. А. Кузминской, С. Л. Толстым и др. В архиве Т. А. Кузминской, хранящемся в ГТМ, помимо копий шуточных вещей Толстого, сохранились в значительном количестве и вещи, написанные для «почтового ящика» членами обеих семей и посторонними лицами.
Т. А. Кузминская в письме к П. И. Бирюкову дает такие сведения о «почтовом ящике»: «Так как обе семьи наши были многочисленны и молодежи от 15—20 лет было много, а событий разных — еще больше, то часто хотелось и подсмеяться над чем-нибудь, и вывести секреты наружу, и похвалить, и осудить, то и был заключен договор между молодежью, что пускай в течение недели всякий пишет всё, что ему угодно, не подписывая, конечно, своего имени. А в воскресенье вечером зa чайным столом один кто-нибудь будет читать вслух все труды за неделю. Читал всегда один из нас трех: Лев Николаевич, сестра или я. Писано всё было на листках бумаги, часто и на обрывках. Писали длинно и коротко, писали прозою и стихами. Темы самые разнообразные: печальные, поэтические, юмористичные; секреты выходили наружу. Описывались события. Иногда писали целый лист в виде газеты. Писали и передовые статьи, был параграф о приезжих. Но больше сочинений выходило отдельными клочками. Сестра всегда писала почти стихами. Лев Николаевич тоже иногда писал нам, очень интересовался «почтовым ящиком», всегда слушал всё со вниманием. У меня сохранились некоторые его произведения, как-то: «Лист прискорбно больных». Он описал всех нас сумасшедшими, именуя каждого номером. Начинал с самого себя. Уморительно, с латинскими названиями болезни и пр.
Почтовым ящиком называлось это оттого, что в передней повесили ящик с прорезом, запертый на ключ, и туда опускались в течение недели все произведения. Писали все: и дети, и учителя, и гувернантки, и большие, и часто живущие подолгу в Ясной. Цензуры предварительной не было. А читающий, если было что обидное или нецензурное, пропускал по усмотрению».419
Существовал «почтовый ящик», по свидетельству И. Л. Толстого, до середины восьмидесятых годов.
Рукописи, относящиеся к произведениям Толстого, написанным для «почтового ящика», хранятся в ГТМ (в основном собрании и в архивах Т. А. Кузминской и А. Л. Толстой) и в АТБ.
В автографах имеются:
1) Стихотворение «При погоде при прекрасной» — в записной книжке Толстого 1882—1883 гг. (ГТМ, папка 10), в двух редакциях; первая редакция — на стр. 113—116, вторая — на стр. 117—121, 2) прочие стихотворения, 3) вопросы: «Скоро ли наступит то время...» и «Какая бы была разница...», 4) заметки — «Одна дама садилась в пролетку...» и «Из Апрельского номера «Русской старины» 2085 года» — в ГТМ (архив А. Л. Толстой, конверт под № 8 с надписью рукой С. А. Толстой: «Рукописи кое-какие Л. Н-ча и переписанные С. А. отрывки») — все на отдельных листах и клочках бумаги, 5) ответ Толстого: «Таких лет, чтобы не успеть влюбиться ни в кого»... — в ГТМ (архив Т. А. Кузминской, папка 20), на клочке бумаги.
«Скорбный лист душевно-больных яснополянского госпиталя» в неполном виде сохранился в копии с поправками и приписками рукой Толстого. Хранится в АТБ, папка XXXIV. Согнутый пополам полулист писчей бумаги и одна четвертушка, исписанные с обеих сторон рукой переписчика — яснополянского учителя. Переписаны лишь №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, в которых сделаны, как сказано, поправки и приписки рукой Толстого. В той же папке на полулисте, исписанном на части первой страницы рукой С. А. Толстой, за исключением первых трех строк, написанных рукой Толстого, — вариант номера 10-го, обозначенного здесь цыфрой 11.
Второй полный список «Скорбного листа», написанный рукой Т. А. Кузминской на первых 18-ти страницах отдельной тетради, без следов руки Толстого, хранится в ГТМ, архив Т. А. Кузминской, папка 20. В той же тетради и той же рукой переписан вопрос: «Почему Устюша, Маша, Алена, Петр и пр....» В другой тетради и на отдельных листках, большей частью рукой Т. А. Кузминской, переписаны: «Все люди похожи на фрукты, ягоды или овощи» (Две совершенно совпадающие по тексту копии, подписанные именами Л. Н. Толстого и Т. А. Кузминской), «Старый хрен продолжает спрашивать», «Дьявол — не главный дьявол, а один из ординарных» («Сусойчик»), «Спрашивают: что ужаснее скотский падеж...» (две совпадающие по тексту копии).
Кроме того, на двух отдельных клочках рукой Т. А. Кузминской и другой рукой неизвестной написаны две копии стихотворения «При погоде при прекрасной». Обе копии не совпадают с автографом и друг с другом.
Вероятно, этим материалом исчерпывается всё или почти всё, написанное Толстым для «почтового ящика». В большей своей части он напечатан в книге И. Л. Толстого «Мои воспоминания», М. 1914, стр. 93—113, второе издание — М. 1933, стр. 93—110. Стихотворение «При погоде при прекрасной», кроме того, напечатано — по сводной редакции — П. И. Бирюковым во втором томе его «Биографии Л. Н. Толстого», издание 3-е, М. 1923, стр. 206. Сатирические заметки «из Апрельского номера русской старины» впервые опубликованы в издании «Лев Толстой. Неизданные тексты», стр. 29—30, и одновременно во втором издании книги И. Л. Толстого «Мои воспоминания», стр. 94—95. В настоящем издании сохранившееся в автографах печатаем по автографам, дошедшее до нас лишь в копиях — по копиям. Публикуя материал, сохранившийся лишь в копиях, в которых нет никаких следов руки самого Толстого, мы полагаемся на семейную традицию, подтверждающую в лице Т. А. Кузминской и И. Л. Толстого принадлежность публикуемых вещей Толстому. Не доверять этой традиции у нас нет оснований. Нет также оснований думать, чтобы копии в чем-нибудь существенно расходились с оригиналом. Судим так на основании сличения копий, дошедших до нас в нескольких случаях в двух экземплярах.
Примечания.
В стихотворении «При погоде при прекрасной» речь идет о Татьяне Андреевне Кузминской, свояченице Толстого, и о двух ее дочерях — Марии Александровне и Вере Александровне Кузминских. В копии, переписанной рукой Т. А. Кузминской, это стихотворение датируется 1883 годом.
Первое двустишье, посвященное Татьяне Андреевне Кузминской, намекает на ее горячность в спорах на религиозно-философские темы.
Во втором двустишьи речь идет о сладком пироге, называемом «анковским» по имени профессора-медика Н. Б. Анке, жена которого сообщила его рецепт матери С. А. Толстой и Т. А. Кузминской. «Анковский пирог» был традиционным угощеньем на всех праздничных и именинных обедах в семье Толстых и Кузминских. Т. А. Кузминская особенно его любила. О нем см. в «Моих воспоминаниях» И. Л. Толстого, изд. 2-е, стр. 56—57, и в книге Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», часть третья, М., 1926, стр. 164.
Стихотворение «Поутру была как баба» посвящено дочери Толстого Татьяне Львовне. В связи с этим стихотворением С. А. Толстая пишет в своих воспоминаниях «Моя жизнь» (рукопись АТБ, т. I, стр. 438): «Писал и еще Лев Николаевич шуточное четырехстишье [ошибочно, вместо шестистишье. Н. Г.] на то, что все барышни завели себе огромные красные шляпы, а утром на работу одевались в русские платья, как наши крестьянки. Таня разыгрывала шарады в разных костюмах, и всякий непростой наряд приписывался влиянию света». И. Л. Толстой в примечании к слову «Капниста» пишет: «Таня в это время выезжала и часто бывала в доме гр. Капнист». («Мои воспоминания», стр. 109.)
Поводом для написания рассказа «Сусойчик», по словам И. Л. Толстого, была привычка Т. А. Кузминской посылать всех к чорту, когда она бывала почему-либо не в духе. В рассказе фигурируют, кроме Л. Н. Толстого, Александр Михайлович Кузминский, муж Т. А. Кузминской, Михаил Владимирович Иславин, ее двоюродный брат по матери, Вячеслав Андреевич Берс, ее родной брат, Сергей Львович Толстой, ее племянник, и кн. Леонид Дмитриевич Урусов, в то время тульский вице-губернатор, близкий к семье Толстых человек. Время написания рассказа определяется датировкой события, о котором идет речь в рассказе: он был написан, очевидно, 6—7 августа 1884 г.
В «Скорбном листе душевно-больных яснополянского госпиталя» запись № 1 относится к самому Толстому, № 2 — к С. А. Толстой, № 3 — к А. М. Кузминскому, бывшему в то время председателем окружного суда, № 4 — к гувернантке Толстых — m-me Seuron, № 5 — к какой нибудь из юных обитательниц яснополянского дома, поклонниц красивой, хотя и пожилой гувернантки m-me Seuron, весьма вероятно, к учительнице музыки в семье Толстых Е. Н. Кашевской, № 6 — к Татьяне Андреевне Кузминской, № 7 — по свидетельству И. Л. Толстого — к Сергею Львовичу Толстому, № 8 — к Илье Львовичу Толстому (упоминаемый здесь Прохор — яснополянский плотник),420 № 9 — по очень правоподобной догадке, сообщенной нам С. Л. Толстым, — к кн. Л. Д. Урусову,421 № 10, по предположению И. Л. Толстого, — к дочери Кузминских Марье Александровне, неравнодушной к ее знакомым молодым людям, жившим в Петербурге, — гр. П. А. Капнисту и кн. И. Мещерскому, № 11, по догадке С. Л. Толстого, — к Льву Львовичу Толстому, № 12, по предположению И. Л. Толстого, — к Марье Львовне Толстой, по мнению же С. Л. Толстого — к кому-нибудь из яснополянских гостей, может быть, к И. И. Шидловской. № 13, по свидетельству И. Л. Толстого, — к Вере Александровне Кузминской, № 14, по догадке С. Л. Толстого, — к Марье Львовне Толстой, № 15, по его же догадке, — к сыну Кузминских — Михаилу Александровичу (дядя Леля — Лев Львович Толстой), №№ 16—19, — видимо, к детям, жившим в яснополянском доме, № 20, по свидетельству И. Л. Толстого, — к Александре Львовне Толстой, тогда грудному ребенку, № 21 — к сумасшедшему крестьянину Блохину, о котором Толстой говорит в записи Дневника от 19 июня 1884 г. и подробнее — в XXXVIII главе «Так что же нам делать?», наконец, № 22, по свидетельству И. Л. Толстого, — к брату Льва Николаевича — Сергею Николаевичу Толстому, отличавшемуся консервативным образом мыслей (он был уездным предводителем дворянства и по делам службы ездил в г. Крапивну — отсюда упоминание Крапивны).
Время написания «Скорбного листа» определяется записью Толстого в Дневнике от 22 августа 1884 г.: «Почтовый ящик... Я написал о больных ясно-полянского госпиталя. Хорошо было. Что-то трогает как-то их. Я не знаю как».
Два семейства «совершенно одичавших людей», противополагаемых в заметке «Из Апрельского номера «Русской старины» 2085 года» 70-ти крестьянским семействам — семейства Толстых и Кузминских. Время написания заметки определяется 1885 годом, упоминаемым в самой заметке.
Тем же годом и по тем же основаниям датируем и заметку «Одна дама садилась в пролетку...»
В вопросах Толстого «старый хрен» — шуточное прозвище Толстого. Ушаков (Сергей Петрович) — в то время тульский губернатор; сербский офицер — случайный гость Толстых. Устюша, Маша, Алена, Петр — яснополянские слуги. Илья — Илья Львович Толстой, Головин (Яков Иванович) — его приятель, сын соседнего помещика. Оба увлекались охотой.
В заметке «Все люди похожи на фрукты, ягоды или овощи», написанной Толстым совместно с Т. А. Кузминской, — Таня, Сережа, Илюша, little Маша и Леля — дети Л. Н. и С. А. Толстых, Alcide — сын гувернантки m-me Seuron, big Маша и Вера — дочери А. М. и Т. А. Кузминских, Екатерина Николаевна — Е. Н. Кашевская — учительница музыки в семье Толстых, Лазарев — яснополянский врач (указание С. Л. Толстого). Кто такая Ольга Дмитриевна, установить не удалось.
[РЕЧЬ О НАРОДНЫХ ИЗДАНИЯХ.]
В «Канве жизни Толстого» (изд. Толстовского музея Академии наук СССР, Л. 1928, стр. 25) фиксируется декабрь месяц 1883 г., на который падает план издания книг «для образования русских людей», как первое зерно «Посредника». К истории этого первого зерна «Посредника» и относится речь Толстого о народных изданиях. Сохранилась она в личном архиве М. П. Щепкина (1882—1908) и передана для опубликования его сыном, Д. М. Щепкиным, который сообщил следующие данные в связи с рукописью: «В 1883—1884 гг. Толстой задумал образовать общество по изданию книг для народного чтения. Он приступил к подготовке этого дела при ближайшем участии М. П. Щепкина. Намечались пути осуществления издания, обсуждался круг лиц, которых предполагалось привлечь в такое общество, а также возможная программа его деятельности. У Льва Николаевича в Хамовниках было созвано несколько совещаний для обсуждения вопроса. Для одного из таких совещаний Толстой написал краткие свои соображения о направлении издательства по народному чтению. Щепкин, имевший ряд возражений против установки дела, предлагаемого Львом Николаевичем, изложил свои соображения в подробном к нему письме. Рукопись доклада Толстого и черновик ответного письма Щепкина сохранились в бумагах Щепкина. Рукопись эта никогда в печати не появлялась и Щепкиным для использования никому не давалась».
Митрофан Павлович Щепкин был известным в свое время в Москве общественным деятелем, публицистом, гласным московской городской Думы и губернского земства; в 1860-ых гг. он читал лекции в Петровской академии по политической экономии; в 1862—1863 гг. он был редактором «Московских ведомостей», впоследствии участвовал в газете «Русские ведомости». Он много писал по вопросам общественного самоуправления. Его перу принадлежит двухтомный труд «Опыты изучения общественного хозяйства и управления городов» (М. 1882).
Общая установка у Щепкина и Толстого особенно сблизила их в эпоху писания Толстым «В чем моя вера?». В отношении этой статьи Щепкин играл ту же роль, что Страхов при редактировании художественных произведений Толстого. Еще ранее Щепкин имел значение в духовной биографии Толстого, поскольку он обратил внимание Льва Николаевича на Сютаева. Через Щепкина Толстой получил доступ к судебному производству по делам Сютаева. Являясь основателем статистического отдела московской городской думы, Щепкин был организатором переписи 1882 г., к которой был привлечен Толстой. Щепкину в 1880-ых гг. принадлежала типография, в которой печатались некоторые книги Толстого.
Другое выдающееся лицо, привлеченное первоначально Толстым к организации дела народных изданий, был Маракуев, писатель, член географического общества. О нем, как деятельном участнике совещаний у Толстого, свидетельствует ответное письмо Щепкина. Он писал: «На последнем совещании у вас мы слышали от одного из участников нашего предприятия г. Маракуева, что он печатает некоторые рассказы гр. Толстого также десятками тысяч экземпляров, и все они распространяются в народе и дают издателю барыш. Наконец, он же, Маракуев, сказал, что он дожидается только срока для свободного издания Пушкина, чтобы сразу выпустить на рынок целую серию его сочинений и всё для народного чтения».
Владимир Николаевич Маракуев был видным деятелем в деле народного образования. До некоторой степени он предвосхитил идею «Посредника». С 1882 г. он положил основание новой издательской фирме «Народная библиотека», поставившей своей задачей «распространять в народе через посредство школ, армии и коробейников действительно хорошие книги, дать народу здоровую и разумную пищу, противодействовать книжной спекуляции и лубочным безграмотным издателям». В двух речах, напечатанных впоследствии в виде отдельных брошюр, Маракуев высказал свои взгляды на народное издательское дело. На съезде земских учителей 26 августа 1883 г. Маракуев остановился на вопросе о школьных библиотеках. Учитывая оторванность образованного общества от народных масс, Маракуев предостерегал против той точки зрения, будто очень легко удовлетворить подлинные потребности народа соответствующим материалом для чтения. Маракуев говорит так: «Все эти цивилизаторские эксперименты вызваны не страстным желанием пролить свет и знание в народные массы, поднять таким образом дух народа, а суть порождения моды или заносчивого тщеславия, мнящего в детской наивности привить к народу фантазии. Народные массы во всем мире крайне упорны и самобытны, что и составляет их щит против многих затей городской праздности». («О школьных библиотеках», М. 1884, стр. 9.) Маракуев очень отчетливо показывает, что произведения изящной словесности XIX века иногда очень далеко отстоят от запросов народа и не могут считаться подходящим материалом для чтения, — в этом отношении он высказывает мысли, близкие точке зрения Толстого, когда последний готов был заклеймить собственное художественное творчество как неприемлемое для народа. «Едва ли — писал Маракуев — у лучших наших авторов действительно найдется много такого, что понравится народу. Ведь странно же забывать, что наши изящные авторы творили под влиянием болезненных общественных явлений, не понятных народу. Для народных масс понятны только вечные действительные идеалы, понятна только правда. Странно поэтому сетование газетных писак на то, что народ не знает Жуковского. «Анна Каренина», «Дворянское гнездо» — для нас вещи хорошие, но для народа они равняются нулю» (там же, стр. 11).
В другом своем публичном чтении в Политехническом музее 9 марта 1884 г. Маракуев остановился на вопросе «Что читал и читает русский народ». Вывод Маракуева здесь таков: «Теперь, кажется, очевидно, — говорит он, — что не достает чего-то нашей деятельности; это что-то и есть правильная постановка вопроса, а она заключается в том, что надо мужика, деревенщину, признать зa человека, которому доступно все, что доступно и городскому обывателю, лишь с тою разницею, что городской обыватель по большей части духовно и нравственно больной, а деревенский — здоров и полон сил душевных, не заражен всяким сумбуром в роде любви с ее миллионами перипетий. Раз мы признаем, что мужик — человек, вопрос разрешается просто: дайте ему доступ ко всему высокому, истинно человеческому,— всё равно, откуда бы оно ни было взято, с запада или востока». (Маракуев, «Что читал и читает русский народ». М. 1886, стр. 37.)
Высказанные здесь взгляды вполне могли бы служить отправным пунктом для деятельности «Посредника». Тут несомненный консонанс у Толстого с Маракуевым; это подтверждается и фактом их общения о ту пору. Лекция читана Маракуевым 9 марта, а на 26 марта 1884 г. падает дневниковая запись Толстого: «Пришел Златовратский и Маракуев». Несомненно они говорили на данные темы. На обложке первой книжки Маракуева перечислены выпущенные им зa первые два года его деятельности брошюры. Здесь имеются такие рассказы Толстого, как «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Кавказский пленник», так что в этом отношении состав вполне «посреднический».
Деятельность Маракуева развивалась и после основания «Посредника». В 1885 г. он открыл книжный магазин и при нем склад народных изданий.422
Третьим участником этой первоначальной издательской группы можно назвать Рафаила Алексеевича Писарева (1850—1906). В письме к Черткову от 47 февраля 1884 г. Толстой пишет: «Я увлекаюсь всё больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей... Писарев принимает участие».423 Писарев был земским деятелем Тульской губ.; он с большой энергией отдавался делу организации сети школ в Епифанском уезде.
Р. А. Писарев описал В. Г. Черткову совещание, на котором была заслушана речь Толстого (письмо от 7 февраля 1884 г.): Толстой продолжает находиться в том же живом настроении и, возвратившись из деревни..., он с большим еще интересом относится к вопросу об издании доступных для грамотного люда книг. Он задается мыслью издавать такого рода книги, которые имеют вечное мировое значение и при этом, не имея в виду лишь один народ, но вообще всех, исходящих из той точки зрения, что эти творения должны быть читаны всеми и одинаково для всех будут понятны. Черпать эти издания он предполагает в древних и средневековых классиках, не гнушаясь и нашими летописями, былинами и т. п. Как примеры он выставляет возможность и необходимость издать Геродота, Montaigne’a, Pascal’я, конечно, не целиком, а делая выборку. Третьего дня у него, Толстого, было собрание людей, сочувствующих этому делу; на первый раз Толстой собрал человек десять, но в этот вечер ни к чему окончательному еще не пришли. Мысль эта несомненно хорошая, и так было бы хорошо, если бы она осуществилась. Толстой очень горячо относится к ней» (AЧ).
В письме от конца февраля 1884 г. Толстой писал Черткову: «О книгах вы правы, мне кажется: те, какие есть, скорее вредны, чем полезны. Мое занятие книгами больше и больше захватывает меня. Хотелось бы оплачивать чем могу зa свои пятидесятилетние харчи. Не пишу всё подробно, потому что кое-как рассказать не хочется, а мысль мне очень дорога, да еще и подвергнется многим изменениям, когда начнется самое дело».424 В свою очередь Чертков так писал 25 сентября 1884 г., излагая свой план издания «Народного листка»: «Ах, если б я был свободен, как я махнул бы к вам на несколько дней, чтобы на этих первых порах переговорить обо всем этом с вами. Ведь мне даже не пришлось в Москве послушать то, что говорили у вас на собраниях по поводу издания новых книжек общедоступных».425
С точностью сказать, кто, кроме поименованных выше лиц (Щепкина, Маракуева и Писарева), еще был участником той беседы, где была заслушана программная речь Толстого, — затруднительно. Возможно, что участвовали Златовратский и Усов, упоминающийся в Дневнике, также Н. И. Стороженко, В. Н. Сабашников, С. А. Юрьев, А. Ф. Фортунатов, А. Н. Веселовский, И. И. Янжул. Быть может, присутствовал и кто-либо из знакомых художников: И. Е. Репин или В. Е. Маковский.
В данном собрании ни до чего не договорились, выявились некоторые несомненные разногласия, и Толстой, в качестве выхода, предложил сделать опыт — выпустить на пробу какое-либо издание с тем, чтобы в основном столковаться впоследствии. Щепкин возражал против такой попытки выйти из затруднения; с его точки зрения следовало первоначально договориться, найти некоторые исходные позиции и затем уже приступить к делу. Толстой остался недоволен выступлением Щепкина, записав в своем Дневнике под 6 марта: «После пошел походить и к Усову... Он поддержал мое отвращение к обществу нормальному, к которому приглашает письмо Щепкина». Под этим же числом значится: «Письмо от Щепкина — нелепо и нехорошо по мотивам».
В начале своего письма Щепкин так сформулировал свою точку зрения: «Последнее совещание наше по делу об издании книг для «народного чтения» не имело успеха, потому что не было выяснено, что такое «народное» чтение. Хотя вы и прочли нам ваши краткие соображения по этому предмету, но они, мне кажется, не были достаточно усвоены всеми людьми, принимавшими участие в совещании. Поставленный вами термин «народный» принимался некоторыми в смысле «простонародный», и задачей задуманного вами предприятия ставилось издание книг для чтения простого народа, знающего грамоту. При этом высказано было такое мнение, что именно для «простого народа» необходимо издавать такие книги, которые были бы полезны для его обихода, не исключая даже лечебников. Задача предприятия получилась в том, чтобы учить народ, действовать на него посредством издания книг, которые так называемая интеллигенция признала бы для него полезными, научить так, чтобы учителей, руководителей не было бы видно; или, как вы указали в вашей записке, — «настроить народ по своему».
Такое понимание противоречит тому, что задумано вами, к чему вы стремитесь, составляя общество для издания народных книг. Несмотря на неудачу нашего первого совещания, вы решились всё-таки сделать опыт, т. е. на пробу издать несколько книг для народного чтения и на этом опыте показать, какая именно «пища», как вы говорите, нужна народу и какую он охотно принял бы из наших рук. Я не согласен с такой постановкой дела или, вернее сказать, с таким приемом практического разрешения задачи. Я думаю всё-таки, что наперед необходимо условиться в понимании основного положения, что разумеется под именем народного чтения? До тех пор нечего и приступать к самому делу.
А уяснить эти общие положения, договориться до чего-нибудь определенного можно лишь в более тесном кругу лиц, сочувствующих вашему предприятию».
За первую половину 1884 г. имеются еще следующие записи в Дневнике Толстого, касающиеся Щепкина.
19/31 марта. «Зашел в банк, Щепкин не спокоен». (Щепкин был членом правления Купеческого банка.)
30 апреля/12 мая. «После обеда к Щепкину и Собачникову. Щепкин очень мил — обещал. Сережа из окна рассказывал, как Щепкин критикует меня, и я вижу, что я решен для него». (Сережа — Сергей Николаевич Толстой, с которым Щепкин был близок.)
Толстой в своей статье подвергает критике ряд изданий и книг, которые в то время имели распространение в народе. Следует отметить его отрицательное отношение к Пашковским изданиям, поскольку они преследуют цель «настроить читателей по своему», по выражению Толстого. Еще более резко об этом сказано в дневниковой записи того времени (от 13 апреля 1884 г.): «За обедом пришел Васильев [съ] Яковом Сириянином — молоканом пашковцем. Тяжелая беседа. Самоуверенная и профессиональная невежественность». Пашковцы — очень известная в свое время в России (1880—1890 гг.) религиозная секта, организовавшаяся под идеологическим воздействием лорда Редстока и получившая свое имя от энергичного деятеля секты полковника Василия Александровича Пашкова. Учрежденное им общество выпустило более 200 брошюр по очень низкой цене. Брошюры получили широкое распространение. Часть их была признана синодом вредной, и сам Пашков подвергся религиозным преследованиям.
Безусловно отрицательно относясь к продвигаемым в народ книгам, которые были наполнены интеллигентскими исканиями, отмахиваясь даже от подлинной изящной литературы самых крупных писателей XIX века, Толстой не мог не проявить внимания к популярным лубочным книжкам, поскольку на них был громадный спрос. Толстой самым резким образом клеймил такие издания, как «Весельчак», распространявшийся в десятках изданий по глухим уголкам России. Если в то время Толстой специально просматривал эту книжку, то, вероятно, в его руках было одно из изданий, вышедших в двух видах в 1879 г.: 1) «Весельчак — рассказчик. Смешные сцены и веселенькие куплеты из народного и еврейского быта. Издание Шарапова. М.» 2) «Весельчак — каламбурист или новая новинка... изд. Аврамовых. М.» Чтобы судить о тоне подобных изданий достаточно привести текст титульного листа, который весьма показателен.
«Весельчак — каламбурист или новая новинка из быта русского, немецкого, французского, американского, еврейского, военного. Веселые рассказы для вечеров и в семье.
Веселиться кто любит, Пусть рассказы мои купит. Распотешу и уважу И не дорого возьму. Вдоволь только насмеетесь И разгоните тоску. Так берите ж поскорее Шутки чудные мои.Москва. Цена 1 рубль».
К другим изданиям аналогичного типа у Толстого более колеблющееся отношение. Так, в своей статье он безусловно клеймит продукцию издателя Преснова. В соответствующем же месте Дневника у него сказано: «Читал «Похождения Ярославца». Неправда, чтобы книги в народе Пресновых и др. были дурны. Они лучше тех, которые им дают». (Запись от 9 марта 1884 г.)
В данном случае имеется в виду следующее издание: «Ай да Ярославцы! Вот так народец! Правдивый рассказ о том, как один ярославец пришел пешком в Питер, надул чорта, одурачил немца, сделался буфетчиком и женился на старостихиной дочке». Изд. А. Холмушкина.
Внешне, публикуемая рукопись представляет собою два писчих листа большого формата, сплошь исписанных рукой Толстого, с многочисленными поправками и зачеркнутыми местами. Хранится в ГЛМ. Впервые она была опубликована в издании «Лев Толстой». Неизданные тексты. стр. 325—332.
«НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ».
Мысль издать отрывки из Евангелия с введениями или объяснениями, судя по письмам В. Г. Черткова, приходила Толстому в то время, когда он только что начал серьезно задумываться над идеей создания народной нравственной литературы, совещаясь в начале 1884 года по этим вопросам с В. Г. Чертковым и другими лицами. По письмам Черткова к Толстому видно, что Толстой сообщал ему об этом в Петербург в одном из апрельских писем; 25 апреля этого года Чертков пишет Толстому, очевидно, в ответ на его запрос, что он наводил справки относительно печатания отрывков из Евангелия и получил в этом отношении неблагоприятные известия от своего родственника, известного В. А. Пашкова, который говорит, что «наверное не допустят к печатанию несколько глав из Евангелия». «Теперь стали особенно строги, — читаем дальше, — и не пропускают даже несколько paз уже изданные книги» (АТБ). Через два дня В. Г. Чертков опять писал Толстому про то же, что «люди опытные говорят в один голос, что несколько глав из Евангелия, отдельно взятых, никогда не допустят у нас к печати, что издание Евангелия составляет прерогативу синода и что только он пользуется правом (!) издавать Евангелие. Тем не менее, — прибавляет Чертков, — если пришлете ваше вступление, то сделаю всё возможное». «Сегодня, — пишет Чертков в том же письме, — мне пришла мысль такого рода: если нельзя издавать дословно целые главы Евангелия, отчего же вам не изложить своими словами сущность содержания Нагорной проповеди? Заповеди Христа, переданные вами тем простым, детски-народным слогом, который имеет такую прелесть и силу, и изданные в самом дешевом, доступном каждому издании, принесли бы многим много пользы. И опять скажу, что краткое вступление, поясняющее, кто, кому, когда предлагал это учение, и заключение, в котором было бы указано, что сам учитель этот неотступно в своей жизни следовал этим заповедям, не отступая даже перед смертью, — с этими дополнениями книжечка получила бы совсем особое значение, и действительно могла бы совершить настоящий переворот в сознании многих темных и не темных людей» (АТБ). В тот же самый день, когда писалось это письмо (27 апр. 1884 г.), Толстой пишет как бы ответ на него: «Начал я, — говорит он, — писать введение к Нагорной Проповеди и написал два таких, но оба не годятся, и я убедился, что я не могу и не имею права писать такого введения».
Надо сказать, что в рукописях Толстого сохранилось только одно введение к «Нагорной проповеди», и может быть оно и есть одно из тех, о которых он здесь говорит. «Я вновь, — продолжает он, — несколько раз перечел Нагорную проповедь, и не думайте, чтобы было преувеличение в моих словах: слова Евангелия 5, 6, 7 глав Матфея так святы, так божественны, все от начала до конца..., что прибавлять к ним, рядом с ними ставить какое-нибудь объяснение, толкование — есть кощунство, которое я не могу делать. Я не только бы мог, но я и хочу написать объяснение к Нагорной Проповеди, но только потому, что она ложно перетолковывается, что смысл ее умышленно скрывается». «Всё, что можно, — говорит далее Толстой, — это сделать заглавие: Проповедь народу и заповеди спасения Господа нашего Иисуса Христа. Если бы только в таком виде, в нашем переводе... можно было бы напечатать ее, и то было бы доброе дело. А я думаю, что напишу именно введение к Нагорной Проповеди, но не стесняясь уже церковно-цензурными соображениями».426 После этого только через год Толстой снова упоминает в письмах к Черткову о «Нагорной проповеди»: 26 апреля 1885 г. он пишет, что хочет «набрать 10 картинок и 10 рассказов»; в числе картинок «три Евангельские картины» и в первой из них он объединяет: «Христос Келера и Нагорная проповедь».427 Толстой говорит о картине И. П. Келера, петербургского профессора исторической живописи, известной под названием «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» (Матф. XI. 28). Эту картину Чертков передал Сытину вместе с текстом «Нагорной проповеди», предполагая поместить ее всю на полях картины «без обозначения стихов и с разделением на параграфы по смыслу содержания».428 Но Толстой, повидимому, этим не удовлетворился и передал Сытину другой текст для картин «Нагорной проповеди». «Мне кажется,— пишет Толстой В. Г. Черткову 17 мая, — что лучше бы без первых 16-ти стихов и без последних 2-х стихов не потому, чтобы были менее важны эти исключаемые стихи, но потому, что более цельное вся проповедь, начинающаяся увещанием исполнения и кончающаяся тем же»429 (т. е. начинающаяся гл. V, 17 Матфея, кончающаяся гл. VII, 27). В ответ на это Чертков 23 мая писал, что он вполне согласен относительно помещения «Нагорной проповеди» не всей и не думает, чтобы это было труднее провести через цензуру; он только предлагает вместо заглавия «Нагорная проповедь» поместить какое-нибудь изречение Иисуса Христа.430 С этим согласился и Толстой в письме к Черткову от 1—2 июня, остановившись вместо заглавия на словах «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» и пр., как подписи под картиной Келера.431 В августе у Толстого еще была мысль о напечатании Нагорной проповеди (письмо к Черткову 29—30 августа 1885 г.);432 в конце концов духовная цензура разрешила «Нагорную проповедь», но только с пропуском двух мест. Это остановило печатание. Так окончились работы Толстого над «Нагорной проповедью» для «Посредника».
Статья имеется только в одной рукописи-автографе, хранящейся в АТБ (папка V), 4 листа в 4° (л. 4 оборван). На л. 1 только заглавие: «Нагорн[ая] пропов[ѣдь]». Ha л. 2 другое заглавие: «Проповѣдь къ народу Господа нашего Іисуса Христа». Текст с помарками, перестановками и перечеркиваниями. Первые слова: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ далъ намъ <ученіе> спасеніе. Спасенье наше» — зачеркнуты и оставлены следующие слова: «Іисусъ, вышедши, увидѣлъ множество народа и сжалился надъ ними», которые и представляют начало читаемого текста.
В настоящем издании текст «Нагорной проповеди» печатается по этой рукописи.
«КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ».
Три статейки — «Книги Конфуцы», «Великое учение» и «Книга пути и истины», объединенные общим заглавием «Китайская мудрость», возникли у Толстого в связи с усиленным его интересом к китайским религиозным и философским системам, особенно к учению Конфуция и Лао-Тзе. Интерес этот обнаруживается у Толстого уже в начале 1880-х гг.433 В конце февраля 1884 г. он писал В. Г. Черткову: «Я сижу дома в жару с сильнейшим насморком и читаю Конфуция второй день. Трудно представить себе, что это за необычайная нравственная высота. Наслаждаешься, видя, как это учение достигает иногда высоты христианского учения».434 4—6 марта он пишет ему же: «Я занят китайской религией. Очень много почерпнул хорошего, полезного и радостного для себя. Хочу поделиться с другими, если Бог поможет».435 11 марта того же года Толстой вновь пишет Черткову: «Я занят очень китайской мудростью. Очень бы хотелось сообщить вам и всем ту нравственную пользу, которую мне сделали эти книги».436 27 марта 1884 г. в Дневнике Толстой делает такую запись: «Мое нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и — главное — Лаотцы». Кроме того, в Дневнике за март и апрель 1884 г. еще несколько записей о чтении Конфуция. О своем интересе к Конфуцию и Лао-Тзе Толстой пишет Черткову и 27—28 мая 1886 г. и затем 15—16 июля того же года.437
Интерес Толстого к Конфуцию (латинизированное имя знаменитого китайского ученого, моралиста и основателя религиозного учения — Кунфу-цзы, жившего с 551 до 479 до н. э.) объясняется, видимо, главным образом тем, что учение китайского мыслителя было чуждо всего неясного, трансцендентного, чудесного. Его не интересовали абстрактные проблемы, вопросы религиозной метафизики, и он сосредоточился исключительно на уяснении вопросов практической морали и основ человеческого общежития. Высокая гуманность и проповедь самоотвержения и любви к людям, отличающие учение Конфуция, очень сходились с мыслями по этому поводу самого Толстого.
Что касается Лао-Тзе (или Лао-цзы, Лао-си, китайского философа, жившего в VI в. до н. э., называвшегося также Ли-Эр, а после смерти Лао-динь), то он сильно заинтересовал Толстого общим характером своего учения, умозрительным, рационалистическим по преимуществу, представлявшим противоположность позитивному направлению учения Конфуция. Мысли Лао-тзе были изложены им в книге «Тао-те-цзин» («Книга пути и добродетели», или, как переводит Толстой, «Книга пути и истины»). В этой книге Толстого особенно привлекала проповедь телесного воздержания и совершенствования в себе духовного начала, составляющего основу жизни человека.
Толстой набросал незаконченный очерк «Книги Конфуцы», в котором кратко успел сказать лишь о характере китайского народа и немного об их вере (автограф ГТМ, AЧ, папка 103, на листе писчей бумаги, в котором исписаны только первые две страницы). Затем он полностью перевел, видимо с английского языка, из книги S. Legge «Chinese-Classics», приписываемое Конфуцию сочинение «Великая наука», представляющее собой одну из глав священной китайской книги «Кинг», или «Главная книга» автограф ГТМ, AЧ, папка 103, на листе писчей бумаги (исписаны лишь первые две страницы). Наконец, видимо, из книги St. Julien’a «Le livre de la Voie et de la Vertu», которая, по словам самого Толстого, оказала на него «огромное» влияние,438 он перевел несколько изречений Лао-тзе (автограф ГТМ, AЧ папка 103, на листе писчей бумаги; исписана лишь первая страница и начало второй).
Все перечисленные статьи, печатаемые нами впервые в настоящем издании с автографов, написаны, вероятно, в 1884 г. В Дневнике, в записи 6 марта 1884 г., читаем: «Переводил Лаоцы. Не выходит то, что я хотел». Здесь, очевидно, имеется в виду третий из только что указанных автографов — «Книга пути и истины», представляющий собою незаконченный перевод изречений Лао-Тзе. Два другие автографа по формату бумаги и цвету чернил очень похожи на этот третий и, видимо, написаны были приблизительно одновременно с ним.
Тогда же, видимо, Толстой по книге St. Julien’a составил перечень глав из книги Лао-Тзе, которые следовало перевести. В той же папке 103, AЧ, хранится неисправная копия трех указанных автографов Толстого, написанная рукой неизвестного, без авторских поправок. Копия эта заключается припиской: «Перечень глав из книги Лаодзе, из черновика Л. Н. (карандашом на клочке бумаги)». И далее следует самый перечень 67-ми глав. Рядом с цыфрами, обозначающими главы, Толстым сделаны указания, какую часть главы нужно перевести, а также — в ряде случаев — им поставлены отметки, характеризующие качество отдельных глав: «метафизика прелестна» (1 раз), «прелестно» (8 раз), «удивительно» (1 раз), «прекрасно» (1 раз).
Учением Конфуция и Лао-Тзе Толстой продолжал интересоваться в течение всей своей жизни. Начиная с 1880-х гг. имена эти очень часто фигурируют и в его статьях и в письмах. В 1893—1894 гг. он часто запрашивает В. В. Стасова о литературе, касающейся китайской философии, преимущественно учения Лао-тзе, и получает от Стасова очень подробные указания на этот счет.439 В 1904 г. в издании «Посредника» вышла книжка П. А. Буланже «Жизнь и учение Конфуция» со статьей «Изложение китайского учения», составленной автором книжки на основе черновых бумаг Толстого. Содержание этой статьи свидетельствует о том, что Толстой заново начал писать о Конфуции, после того как в середине 1880-х гг. он посвятил ему первые два своих очерка. В 1910 г. в том же издательстве напечатана была брошюра «Изречения китайского мудреца Лаотзе, избранные Л. Н. Толстым» (№ 763). Изречения в количестве 64-х, выбранные, по всей вероятности, по плану, о котором сказано выше, предваряются здесь маленькой статьей Толстого «О сущности учения Лао-тзе».
————
[«О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»].
Издатель «Детской помощи», о котором упоминается в этом отрывке, священник Г. П. Смирнов-Платонов. «Статья в газетах о помощи бедным во время переписи» — это статья «О переписи в Москве», напечатанная первоначально в № 19 газеты «Современные известия» от 20 января 1882 г. Статья в «Русскую мысль» — статья «Так что же нам делать», предназначавшаяся для январского номера «Русской мысли» за 1885 г., но запрещенная цензурой.
Судя по тому, что получение просьбы Смирнова-Платонова о сотрудничестве приурочивается к тому времени, когда Толстой заканчивал эту последнюю статью, сама просьба получена была в конце 1884 г. В № 8 «Детской помощи» от 24 мая 1885 г. напечатано было переведенное Толстым «Учение двенадцати апостолов» с его предисловием и послесловием, и таким образом к этому времени просьба издателя была удовлетворена, но Толстой послал ему не статью о благотворительности, которую в начале намерен был послать, но которую он не закончил, а другую. Следовательно, написание неоконченного отрывка нужно отнести ко времени между концом 1884 г. и маем месяцем 1885 г.
Очевидно, отрывок написан был в первой половине 1885 года.
Рукопись его (автограф), хранится в АТБ (папка 50). Она состоит из четвертушки писчей бумаги с полями, исписанной с обеих сторон, и полулиста такой же писчей бумаги, также с полями, согнутого пополам. На полулисте исписана только первая страница, и то не полностью. Заглавия рукопись не имеет. Заканчивается она зачеркнутым словом «надо». Ряд слов и отдельных фраз зачеркнуты поперечными и продольными чертами. Зачеркнутое не представляет существенного интереса.
Впервые статья эта напечатана была в 1904 г. в X т. «Полного собрания сочинений, запрещенных в России, Л. Н. Толстого», изд. «Свободного слова», под редакцией В. Г. Черткова. Но редактор выпустил первые строки статьи («Издатель... посвящено издание»), оговорив, впрочем, что он печатает „отрывок из черновой статьи, начатой для журнала «Детская помощь»“, и допустил два несущественных текстуальных отступления от текста рукописи. Вместо 1885 года он датировал отрывок 1886-м годом.
Впоследствии статья из этого издания без всяких изменений перепечатана была в собрании сочинений Толстого (издание 12-е, 1911 г., часть пятнадцатая, и издание И. Д. Сытина под редакцией П. И. Бирюкова, 1913 г., т. XIII).
В настоящем издании статья печатается по рукописи АТБ.
«СИДДАРТА, ПРОЗВАННЫЙ БУДДОЙ».
К работе над Буддой — вернее к собиранию материала о нем — Толстой приступил, видимо, в конце 1885 или в начале 1886 г.
16—17 января 1886 г. он пишет В. Г. Черткову: «Занимался я тоже Буддой. Хотелось бы с божьей помощью составить эту книжку».440 Следующее упоминание о работе над Буддой — в письме к С. А. Толстой от 7 мая того же года: «С нынешнего дня я взялся зa Будду. Он очень занимает меня».441 Возможно, что здесь мы уже имеем указание на начало писания статьи. Работа над Буддой шла у Толстого наравне с изучением литературы о браманизме, о Конфуции, Лао-Тзе. 27—28 мая он пишет В. Г. Черткову: «Очень меня занимает теперь не только Будда, но и браманизм и Конфуций, и Лаодци. Может быть, ничего не выйдет, а может быть выйдет что-то, о чем не стану писать, потому что в письме не расскажешь».442
В. Г. Чертков в письме от 10 июня очень поддерживал Толстого в этих планах: «Я был очень рад узнать из вашего письма, что вы думаете о Будде и других. Вы одни можете это сделать, и это очень нужно. Сократ имеет такой громадный успех! А это еще важнее и глубже, если я не ошибаюсь» (АТБ).
Около 1 июля Толстой сообщает Черткову о том, что его планы писать «Будду» видоизменились и усложнились. Ему хочется написать книги о семи основных религиозных учениях: «Мне хочется это сделать, — продолжает он, — и, разумеется, в самой простой, доступной форме. Вот чем я занят, если могу сказать, что чем-нибудь занят эти последние 3 недели».443
21 июля H. H. Страхов пишет Толстому, что дня через два он пришлет ему известное сочинение о буддизме «Лотос» Г. Бюрнуфа,444 о котором Толстой говорил, что оно на ряду с книгой о Будде Э. Шюре оказало на него «огромное» влияние.445 Тогда же, приблизительно Чертков прислал Толстому книгу С. Биля «Очерк истории буддизма по китайским источникам» (Samuel Beal «Outline of Buddhism. From chinese sources», London, 1870), которая широко была использована Толстым в его работе.
Вероятно, к этому времени Толстой успел написать лишь вступление к статье и отложил дальнейшую работу над ней.
Вступление это — черновой автограф — хранится в рукописном собрании ГТМ (AЧ, папка 103). Оно написано на полулисте писчей бумаги, согнутом пополам и исписанном с обеих сторон, и на согнутом пополам небольшом листке бумаги, в котором исписано только начало первой страницы. Тексту предшествует заглавие: «Сиддарта, прозванный Будда, т. е. святой. Жизнь и учение его». В рукописи ряд исправлений и зачеркнутых мест, не представляющих особого интереса. В состав вступления входит также рассказ о рождении Сиддарты и о предсказании его судьбы волхвами и старцем-пустынником (см. вариант № 1).
Написанное было передано затем Черткову для переписки. Посылая Толстому переписанный черновик, Чертков просит его, в случае недостатка времени, написать хотя бы конспект дальнейшего, по которому эта работа могла бы быть продолжена кем-либо из сотрудников «Посредника». В ответ на это Толстой пишет Черткову 21 февраля 1887 г.: «За Будду благодарю, попытаюсь продолжать и кончить его, а если не пойдет, то сделаю как вы хотите».446
Очевидно, вслед зa этим Толстой написал 1-ю главу, краткий конспект следующих глав (до 22-й включительно) и на полях конспекта — вторую главу. Все это — в черновом автографе ГТМ (AЧ, папка 103), на трех ненумерованных с полями четвертушках, из которых первые исписаны с обеих сторон, а последняя — с одной. Несколько мест здесь исправлено и зачеркнуто. В большинстве случаев зачеркнутое не существенно и по содержанию и по объему, за исключением одного абзаца, который приводим в отделе вариантов (№ 2) (конспект глав 2—22 печатается отдельно).
На этом самостоятельная работа Толстого над статьей остановилась, и он сначала решил поручить продолжение ее по своему конспекту одному из сыновей, а затем, когда работа сына не пошла, за нее взялись сотрудники «Посредника» М. А. Новоселов, А. И. Эртель, А. П. Барыкова и особенно Чертков.447 4 июля 1887 г. Толстой писал Черткову: «Рукопись о Будде я отдал Новоселову. Он хотел писать. Здесь у меня только английская поэма,448 а то всё в Москве. Если хотите, я добуду из Москвы, и пришлю вам».449 Затем 8 февраля 1888 г. ему же Толстой пишет. «О Будде книжку я знаю, какую вы спрашиваете. Arnold’a поэма? Эта, кажется, у вас. Ссылки же у меня на Beal английском изложении китайского текста о Будде. Книга эта была у меня из Румянцевской библиотеки. Купить ее вам? Или выписать, так как ее, когда я спрашивал, не было?»450 Через несколько дней Толстой обещает выписать для Черткова книгу Биля через книжный магазин, сообщая в то же время, что поэма Арнольда, несмотря на стихотворную форму, очень верна Билю и заимствовала у него всё существенное.451
Работа сотрудников «Посредника» над «Буддой» заняла после этого около года. То, что сделано было ими, однако, не удовлетворило Толстого. 15 февраля 1889 г. он пишет Черткову: «Будду начал поправлять и не мог итти пока дальше. Надо всё переделывать. Тон языка фальшив. Я еще попытаюсь поправлять, если же не осилю, то пришлю вам как есть с поправленными первыми страницами: по ним вы можете сами поправить. Если же нет, то опять я буду делать. Уж очень хорошо — важно содержание. Надо, чтобы не пропало».452 Через три дня, 18 февраля, Толстой опять пишет ему же: «Рукописи ваши пришлю на-днях. Я хочу еще просмотреть «Будду» да не успеваю».453 Из тех, кто работал над «Буддой», Толстого удовлетворяли больше всего Чертков и А. И. Эртель. Черткову Толстой пишет 20 апреля 1889 г.: «Прочел я вашу проповедь «Будды» и кое-что отметил, преимущественно выключил лишнее, по моему. Всё это хорошо, но что будет дальше? Выпускать и в таком виде не только стоит, но очень хорошо. Я постараюсь вам сыскать другие материалы о Будде.454 Я читал много, что — теперь не помню. Но и Ольденберг455 очень вам будет нужен — именно для проповеди. Там точнее».456 О работе Эртеля 9 ноября 1889 г. Толстой так отозвался в письме к Черткову: «Переделка Эртеля очень хороша, она совсем другое, чем то, что бы мы с вами сделали: освещение дорогих нам истин через Будду. Она беспристрастнее. Изложение прекрасно Будды по Арнольду. Итак, очень, очень хороша. Кому нужно, тот найдет всё, что надо».457 Однако и в работе Эртеля Толстой находил недостатки. В тот же день он пишет Черткову: «В главе 4-й соединено в одно рассуждение о том, что труд есть страдание и что существа пожирают друг друга. Сколько мне помнится, там это разделено. Вообще же всё слишком цветисто, слишком подделка под библейский тон. Упростить — выиграет».458
В конце концов отпала и работа Эртеля, и продолжением «Будды» по конспекту Толстого занялся один лишь В. Г. Чертков, но и он не довел дело до конца. В 1916 г. он напечатал в журнале «Единение», №№ 1 и 2, статью «Из жизни Сиддарты, прозванного Буддой, т. е. святым», в которую вошли вступление и первые две главы, написанные Толстым, и главы 3—8, написанные и просмотренные Толстым. Вслед за текстом 8-й главы напечатано: «Не окончено» со ссылкой на примечание, сделанное в начале статьи. В этом примечании Чертков излагает историю замысла статьи у Толстого и указывает на то, что Толстым написаны были вступление, первые две главы и конспект дальнейшего; далее, говоря о своем участии в работе, заключает: «В настоящем выпуске нашего журнала печатается первая часть исполненной тогда работы, начиная с вступления и первых глав, принадлежащих перу Льва Николаевича. Дальнейшее же приводимое здесь изложение, составленное мною, было просмотрено и тщательно исправлено Львом Николаевичем».459 В ГТМ (AЧ, папка 85) хранится рукопись этой статьи, написанная рукой В. Г. Черткова и исправленная, действительно очень тщательно, рукой Толстого. Она заключает в себе главу 7-ю (в двух редакциях), главу 8-ю и начало 9-й.
Написанные Толстым единолично вступление и первые две главы перепечатываются из журнала «Единение». Здесь текст отличается от текста черновых автографов преимущественно иным расположением некоторых абзацев (и то лишь во вступлении), а также тем, что во вступлении отсутствует рассказ о рождении Сиддарты и о предсказаниях его судьбы. Это отличие нужно отнести на счет тех авторских исправлений, которым, как мы видели выше, подвергался в копиях черновой автограф.460
К работе над «Буддой» Толстой вернулся в связи с составлением сборника «Круг чтения». В 1905 г. им написан был очерк «Будда». В 1908 г. для второго издания «Круга чтения» этот очерк был заново проредактирован. Кроме того, под руководством и под редакцией Толстого в 1909—1910 гг. написана была книжка П. А. Буланже «Жизнь и учение Сиддарты Готамы, прозванного Буддой (совершеннейшим)», изд. «Посредник», М. 1911.
Конспект глав 2—22 печатается по автографу.
————
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.
В настоящий указатель введены имена личные и географические, названия исторических событий (войн, революций и т. п.), учреждений, издательств, заглавия книг, названия статей, журналов, газет, произведений слова, скульптуры, музыки, имена героев художественных произведений не Толстого и Толстого, когда они упоминаются не в тех произведениях, где они выведены, а также, когда они приведены в комментарии. Знак || означает, что цыфры страниц, стоящие после него, указывают на страницы текста не Толстого.
Августин (350—430) — епископ иппонийский — || 707, 708.
Авраам — библейский патриарх — 93, || 485.
Австралия — 255.
Агафья — обитательница Ржанова дома — 216, 217, 224.
Агафья Михайловна— крестьянка из Ясной поляны — || 742.
Агни — одно из названий бога у индусов — 541.
Ад — греческий бог подземного царства — 430.
Адам — имя первого человека по библейскому преданию — 97, 332, 465, 511, 512
Азита — «святой старец», предсказавший Сиддарте-Будде, что он будет спасителем — 659.
Азия — 262.
«Ай да Ярославцы! Вот так народец! Правдивый рассказ о том, как один ярославец пришел пешком в Питер, надул чорта, одурачил немца, сделался буфетчиком и женился на старостихиной дочке», изд. А. Холмушкина — || 879.
Академия художеств в Петербурге (Ленинграде) — 361, || 775.
Акулина — обитательница Ржанова дома — 222.
Александр III (1845—1894) — || 716.
Александрия — город в Египте, на берегу Средиземного моря — 92.
Алексеев Василий Иванович (1848—1919) — учитель сыновей Толстого в 1877—1881 гг. — || 665, 835.
Алена — яснополянская служанка Толстых — 521, || 870, 873.
Алкид (Alcide) — сын гувернантки Толстых А. Серон — 521, || 873.
Алупка — город на южном берегу Крыма — || 679.
Алчевская Христина Даниловна (1843—1918) — деятельница по народному образованию — || 852.
— «Что читать народу?» — || 852.
Альтман М., «Л. Толстой и Геродот» — || 697.
Амазонка — река в Америке — 527.
Америка — 256, 257, 262, 264, 279, 288, 290, 315, 321, 351, 352, 356, 532, 631, || 865.
Англия — 260, 263, 264, 280, 290, 352, || 720, 753, 759, 760, 854.
Андрей — древний христианский мученик — 538, 539, || 861.
Анке Николай Богданович (1803—1872) — врач, знакомый Толстых — || 871.
Антонин (138—161) — римский император — 462.
«Апология Сократа» — диалог Платона — || 854.
Арбат — улица в Москве — 197.
Аристарх — сосед Сократа — 438, 439, 440.
Аристон — собеседник Сократа — 433, 435.
Аристотель (384—322 до н. э.) — греческий философ — 281, 340, 526, || 812.
Арнольд Эдвин (1831—1904) — английский поэт и публицист — || 888, 889.
— «The light of Asia («Свет Азии») — || 888, 889.
Архангельск — 100, || 709.
Архив В. Г. Черткова (Москва) (AЧ) — || 664, 667, 668, 675, 677, 712.
Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (АТБ) — || 664, 669, 698, 750, 752, 754, 758, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 853, 854, 856, 859, 860, 862, 864, 870, 871, 880, 882, 886, 887.
Афанасий Великий (293—373) — церковный писатель — 416, || 843.
Афанасьев A. H., «Народные русские легенды», — || 666, 700, 723, 725, 726, 732, 735.
Афанасьевский переулок в Москве — 183.
Афина — греческая богиня, покровительница городов — 430, 431, || 857
Афины — 374, 429, 432, 445, 454, 655, 857.
Афон — гористый полуостров в южной Македонии, место средоточия многих монастырей — 92.
Африка — 255, 397.
Байдары — селение на южном берегу Крыма — || 679.
Бакунины — знакомые Толстого — || 835.
Балканский полуостров — 397.
Барсов Ельпидифор Васильевич (1837—1913) — собиратель и исследователь письменности и народного творчества — || 665.
Барыкова Анна Павловна, рожденная Каменская (1839—1893) — писательница — || 888.
Бастиа Фредерик (1801—1850) — французский экономист — || 633.
Бахметев Николай Николаевич (1847?—1909) — журналист, секретарь журнала «Русская мысль» в 1880-х годах — || 744.
Белинский Виссарион Григорьевич (1812—1848) — 333, || 835.
Бем А. Л., «Библиографический указатель творений Л. Н. Толстого» — || 840, 853.
Береговой проезд — в Москве — 196, 197, 199.
Бернар Сарра (1844—1923) — французская драматическая актриса — 194.
Берс Вячеслав Андреевич (1861—1907) — шурин Толстого — 514, || 872.
Берс Петр Андреевич (1849—1910) — шурин Толстого — || 666, 667.
Берс Татьяна Андреевна. См. Кузминская Т. А.
Берс Софья Андреевна. См. Толстая С. А.
Бетховен Людвиг (1770—1827) — немецкий композитор — 371, 372, || 831.
Бибиков Петр Алексеевич (1832—1875) — переводчик на русский язык книги Мальтуса о законе народонаселения — || 838.
Библия — 272, 386, 406, 464, 473.
Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — биограф Толстого, его друг и один из его первых единомышленников — || 704, 708, 715, 716, 750, 761, 829, 833, 852, 860, 869, 871.
— «Биография Льва Николаевича Толстого» — || 708, 715, 747, 755, 870, 871, 887.
Битовт Ю., «Граф Л. Толстой в литературе и искусстве», — || 866.
Биша Мари-Франсуа-Ксавье (1779—1802) — французский анатом, физиолог и врач — 336.
Блохин Григорий — крестьянин, знакомый Толстого — 387, 406, 515, 516, 518, 519, || 838.
Большая Дворянская улица в Петербурге — || 691.
Большой Трехсвятительский (Безуховский) переулок в Москве — || 833.
Большой Харитоньевский переулок в Москве — || 833.
Бонапарты — потомки французского императора Наполеона I Бонапарта, один из которых — Наполеон III — был также французским императором — 823, 773.
Бондарев Тимофей Михайлович — 386, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 473, 658, || 776, 834, 836, 837, 862, 863, 864, 865, 866.
— «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство» — 386, 463, || 836, 862.
— «Добавление к прежде написанному мною, Бондаревым, «О трудолюбии и тунеядстве», почерпнутого из первородного источника: в поте лица твоего снеси хлеб твой» — || 863.
Боричевский И. П., «Народные славянские рассказы», — || 723.
Боровицкие ворота в московском Кремле — 624, || 741.
Боткин Василий Петрович (1811—1869) — писатель — || 834.
Боярщина — деревня в Заонежьи — || 655.
Брама — одно из названий бога у индусов — 541.
Бриений Филофей (Вриений) — греческий митрополит, открывший «Учение двенадцати апостолов» и в 1883 г. впервые напечатавший его — 416, || 843.
Бруно Джиордано (1548—1600) — итальянский философ — 331, 371.
Буало Николай (1636—1711) — французский поэт — 527.
Бугро (W. A. Bouguereau) (1825—ум.?) — французский художник — || 675, 713.
— «Истязание Христа» — картина— || 675, 713.
Будда — (Сиддарта — Гаутама) — 292, 366, 367, 369, 540, 541, 542, 543, 659, || 776, 887, 888, 889, 890.
Буковская община в Смоленской губ. — || 838.
Буланже П. А., «Жизнь и учение Сиддарты Готамы, прозванного Буддой (совершеннейшим)» — || 890.
— «Жизнь и учения Конфуция» — || 885.
Бурбоны — королевская династия во Франции, свергнутая революцией в 1789 году, вновь воцарившаяся в 1813 г. и окончательно низложенная революцией 1830 г. — 823, || 773.
Бухара — 540.
Бытия книга — первая книга из входящих в состав Библии — 272 (цит.), 273 (цит.), 274 (цит.), 463 (цит.).
Бюрнуф — автор книги «Лотос». См. Burnouf, Е.
Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор — 350, || 831.
Ваня — мальчик, трактирный слуга — 200, 219.
Варавва — разбойник, упоминаемый в истории казни Иисуса, освобожденный Пилатом по требованию народа вместо Иисуса Христа к празднику пасхи — 114, 589.
Варуна — одно из названий бога у индусов — 541.
Василий — 513.
Василий Великий (329—378) — церковный писатель — 341.
Веды — древние священные книги индусов — 540.
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — критик, историк литературы и библиограф — || 836, 837.
— «Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых», т. V — || 836, 837.
Венера — богиня любви у древних римлян — 538.
Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт — || 851.
«Весельчак» — сборник — 525.
«Весельчак-каламбурист или новая новинка», изд. Аврамовых, М — || 878, 879.
«Весельчак-рассказчик. Смешные сцены и веселенькие куплеты из народного и еврейского быта», изд. Шарапова, М. — || 878.
«Вестник Европы» — журнал — || 678.
Византия — || 838.
Висвамитр — учитель Сиддарты-Будды — 543.
Вифания — селение вблизи Иерусалима — 96.
Вифлеем — город в Палестине — 96.
«Вокруг света» — журнал — || 761.
Волга — 70, || 736.
Воробьевы, ныне Ленинские горы в Москве — 185, 616.
Воронцовский дворец в Симеизе (Крым) — || 679.
Воскресения храм — в Иерусалиме — 94, 485.
Вриений. См. Бриений.
Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Рукописное отделение (Москва) (БЛ) — || 664, 669, 673, 701, 702, 709, 721, 724, 736, 738.
Второзаконие — книга Библии — 26 (цит.), || 712.
Гайдебуров Павел Петрович (1841—1893) — публицист, издатель и редактор «Недели» и «Книжек Недели» — || 716.
Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский математик и физик — 371, || 831.
Гартман Эдуард (1842—1896) — немецкий философ — 386.
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — писатель — || 713.
— «Полное собрание сочинений», 1910 — || 713, 714.
Гастер — || 665.
Ге Николай Николаевич (1831—1894) — художник — 139, 601, || 668, 701,720, 721.
— «Тайная вечеря» (картина) — 139, || 601, 720, 721.
Ге Николай Николаевич (род. 1857) — старший сын художника H. Н. Ге, хороший знакомый Толстого и одно время последователь его учения — || 717.
Гегель (1770—1831) — 317, 327, 331, 332, 334, 643.
Геркулес — герой многочисленных сказаний греческой мифологии — олицетворение физической силы — 433, 434, 435, || 855.
Германия — 280.
Геродот (род. в 80-х гг. V века до н. э., ум. в начале 30-х гг. V века до н. э.) — греческий историк — || 696, 697.
— «История» — || 697.
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 333.
Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — 527.
Гильфердинг Александр Федорович (1831—1872) —славист, собиратель русских былин — || 665.
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) — публицист, в 1867—1887 гг. издатель и редактор газеты «Современные известия» — || 839.
Гиляровский В. А., «Москва и москвичи» — || 833.
Гималайские горы — высочайшая на земле горная цепь, отделяющая Центральную Азию от Южной и Тибет от Индостана — 541.
Главкон — собеседник Сократа — 436, 437, 438.
Главное управление по делам печати — || 668, 717.
Гоанти — легендарный китайский император и мудрец — 533.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 526, 527.
Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, где по преданию был распят Иисус Христос — 94.
Головин Яков Иванович — сын соседнего помещика, приятель И. Л. Толстого — 521, || 873.
«Голос Толстого и Единение» — журнал — || 714.
Голохвастов Павел Дмитриевич (1839—1892) — писатель — || 860.
Гомер — имя древне-греческого поэта, которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи» — 369, 371.
Гордон — губернатор острова Фиджи — 261.
Горев, «Standart of life на Хитровом рынке в Москве» — || 833.
Государственный Литературный музей (Москва) (ГЛМ) — || 780, 830, 831, 832.
Государственный Толстовский музей (Москва) (ГТМ) — || 664, 667, 668, 669, 670, 673, 675, 677, 680, 685, 688, 691, 693, 694, 698, 699, 701, 705, 709, 712, 714, 717, 718, 721, 724, 732, 733, 736, 737, 741, 753, 761, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 798, 799, 800, 802, 804, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 844, 845, 846, 847, 848, 860, 861, 864, 869, 870, 884, 888, 890.
Готами — жена Сиддарты Будды — 661.
Греция — 429, 454.
Грибовский Вячеслав Михайлович (род. 1867) — в юности некоторое время увлекавшийся учением Толстого, впоследствии профессор-юрист —|| 754.
Григорий — работник в Ясной поляне — 633.
Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930) — историк литературы — || 681, 682, 683.
— «Источники рассказа Л. Н. Толстого: «Где любовь, там и бог» — || 681, 682, 683.
Гумбольт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1859) — немецкий географ и естествоиспытатель — 528.
Гуревич Любовь Яковлевна (р. 1866 г.) — писательница, с 1891 г. редактор (совместно с А. Л. Волынским) журнала «Северный вестник» — || 708
Гусев Николай Николаевич — || 836.
Гюго Виктор (1802—1885) — || 831.
Давид (XI—X в. до н. э.) — царь израильский, которому церковная традиция приписывает авторство псалмов — 80, 81, 369, 374, 421, 586, || 776.
Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — юрист и общественный деятель, близкий знакомый Толстого — || 839.
Даниил — игумен — || 704.
Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — публицист и естествоиспытатель — || 704, 710.
Данте Алигьери (1265—1321) — 526.
Дарвин Чарльз (1809—1882) — 317, 339, 646.
Декарт (1596—1650) — французский философ — 331.
Декий — римский император, упоминаемый в «страданиях св. Петра, Дионисия» и др. — 539.
Демидов кн. Сан-Донато Павел Павлович — владелец горных заводов на Урале — || 837.
Демидовы (см. примечания к «Так что же нам делать?») — 243, || 837.
Денежный переулок — в Москве — || 835.
Дервиз Павел Григорьевич — концессионер и строитель железных дорог — || 837.
Дервизы (см. примечания к «Так что же нам делать?») — 243, 837.
«Детская помощь» — журнал — 536, || 751, 849, 850, 886.
«Детский отдых» — журнал — 476, 477, 478, 479, || 666, 667, 668, 673, 674.
Детское село — город — || 852.
Джордж Генри (George Henry) (1839—1897) — американский экономист, автор книги «Прогресс и бедность» («Progress and Poverty) — 290, || 748, 749, 812.
Димитрий Ростовский (1651—1709) — церковный писатель, составитель «Четьи Миней» — || 860.
Дионисий — древний христианский мученик — 538, 539, || 861.
Диоскар — языческий жрец, обратившийся в христианство — 462.
Дмитровка — улица в Москве — 207.
Долгоруков кн. Владимир Андреевич (1810—1891) — московский генерал-губернатор — || 835.
Долгохамовнический переулок в Москве — || 837.
Дорогомиловский мост в Москве — 240.
Досев Кристо — || 836.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 350.
Дума городская в Москве — 195, 196, 221.
«Душеполезное чтение» — журнал — || 703.
Ева (Эва) — библейская прародительница — 511.
Евангелие — 36, 44, 45, 175, 330, 373, 472, 530, 533, 574, 575, 580, 613, 623, 625, || 684, 692, 720, 721, 751, 833, 880.
Евангелие от Иоанна — 82 (цит.), 139 (цит.), 140 (цит.), 141 (цит.), 319 (цит.), 424 (цит.), 530, 601 (цит.), 602, 605, || 484, 706, 721, 722, 839.
Евангелие от Луки — 37 (цит.), 38 (цит.), 79 (цит.), 182 (цит.), 292 (цит.), 424 (цит.), || 701, 796, 839.
Евангелие от Марка — 182 (цит.), 416 (цит.), || 796, 839.
Евангелие от Матфея — 26, 45, 46 (цит.), 100 (цит.), 106 (цит.), 114 (цит.), 147 (цит.), 147 (цит.), 182 (цит.), 313 (цит.), 416, 424 (цит.), 425 (цит.), 530, 531, 583 (цит.), 589 (цит.), || 675, 692,709, 710, 711, 714, 718, 719, 732, 733, 796, 809, 838—839 (цит.), 850, 881.
Европа — 257, 280, 315, 327, 351, 356, 360, 394, 527, 631, 646.
Евсевий Памфил (ок. 260—340) — церковный писатель — 416, || 843.
Египет — 272, 273, 274, || 843.
«Единение» — журнал — || 888, 889, 890.
Екатерина II (1729—1796) — 329, 344, || 773.
Елисей — библейский пророк — 83.
Енисейская губерния — || 709.
Епифанский уезд Тульской губ. — || 876.
Еремка — яснополянский крестьянин — 627.
Ермоген — ученик Сократа — 453.
Ерофей — сказочник — || 707.
Жебунев Леонид Николаевич — в 1880-х гг. сотрудник Минусинского музея — || 836, 863.
Женева — || 754, 759, 866.
«Жизнь» — журнал — || 852.
«Житие святого Павлина Ноланского и страдания святого мученика Феодора и Никифора. Составлено по Четьи-Минеи святого Дмитрия Ростовского», 1886 — || 861.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 526, 528, || 875.
Закхей — мытарь (сборщик податей), дом которого по свидетельству «Евангелия» Луки (Гл. 19, ст. 1—10) посетил Иисус Христос — 177, 178.
Зевс — греческий бог — 430, || 857.
Зимины (см. примечание «Так что же нам делать?») — 196, 199.
Зимний дворец — до февральской революции зимняя резиденция царской фамилии в Петербурге — 631.
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — писатель — || 876, 877.
Иазадара — жена Сиддарты-Будды — 661.
Иаков Алфеев (Яков «брат господень») — апостол, один из двенадцати учеников Христа — 93.
Иао — легендарный китайский император и мудрец — 533.
Ивакин Иван Михайлович (1855—1910) — в 1880 г учитель сыновей Толстого — || 669, 672, 673.
Иван Федотыч — содержатель трактира — 199, 201, 204, 205, 206, 221, 222, 224.
Иванов Александр Петрович (1836—1912) — артиллерийский отставной поручик, переписчик рукописей Толстого — || 667, 670, 673, 674, 678, 687, 688, 689, 706, 718, 724, 742, 756, 782, 783, 785, 786, 789, 804, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 837, 847, 848, 849, 860, 861.
Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894) — протоиерей, писатель-богослов, с 1872 г. профессор Московского университета по кафедре церковной истории — || 752, 753, 761, 831, 832.
— «Примечания читателя» — || 752, 758, 806, 831, 832.
Иерусалим — город в Палестине — 28, 82, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 530, 570, || 676, 677, 678, 703, 704, 705.
«Изречения китайского мудреца Лаотзе, избранные Л. Н. Толстым», изд. «Посредник».М. 1910 — || 885.
Иисус Христос — 26, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 52, 79, 81, 90, 91, 93, 94, 97, 102, 110, 114, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 177, 178, 182, 183, 184, 292, 295, 317, 330, 331, 339, 340, 366, 367, 369, 416, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 461, 462, 469, 470, 471, 473, 524, 530, 531, 538, 540, 542, 575, 577, 578, 579, 580, 587, 589, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 616, 624, 626, 636, 642, 645, 654, || 482, 494, 675, 692, 701, 713, 714, 721, 725, 755, 776, 784, 788, 839, 844, 845, 847, 848, 855, 880, 881, 882, 883.
Индия — 540, 631.
Индра — одно из названий бога у индусов — 541.
Институт новой русской литературы (б. Пушкинский дом, б. Ленинградский Толстовский музей, б. Рукописное отделение Библиотеки Академии наук СССР) (ИРЛИ) — || 664, 780, 856.
Иоанн-Богослов, любимый ученик Иисуса Христа: по преданию автор четвертого «Евангелия», трех посланий и «Апокалипсиса» — 81, 140, 141, 142, 587.
Иоанн Креститель — библейский пророк — 37, 292.
Иова книга — одна из книг Библии — 526.
Иордан — река в Палестине — 96, 98.
Иосиф Прекрасный — по библейскому преданию сын патриарха Иакова — 272, 273, 274, 275, 276, 278.
Исаакиевский собор — в Ленинграде — 350, 524.
«Искра» — газета — || 852.
Исайя — ветхозаветный пророк, автор «Книги Исайи», входящей в «Библию» — 292, 313, 314, 369, 467, || 771, 776, 809.
Иславин Михаил Владимирович (р. 1864 г.) — знакомый Толстых, — 514, 522, || 871—872.
Истомина Наталья Александровна — в 1881—1887 гг. издательница журнала «Детский отдых» — || 667, 673.
Иуда Симонов Искариот — по Евангелию один из двенадцати учеников Иисуса Христа, предавший его — 139, 140, 142, 143, 601, 602, 603, 604, 605, 606.
Иудино — деревня Минусинского уезда Енисейской губернии — || 836.
Кавказ — || 838.
Казань — 285.
Каиафа — прозвище иудейского первосвященника, имя которого было Иосиф. Каиафа выступал противником Христа и первый подал совет пожертвовать одним «галилейским учителем», чтобы «не погиб весь народ», т. е. чтобы проповеди Иисуса Христа не вызвали возмущения и жестокой расправы со стороны римлян — 80.
Какабо — король островов Фиджи — 256, 257, 258, 259, 260, || 809.
Калмыков Дмитрий А. (1834—1889) — сенатор — || 852.
Калмыкова Александра Михайловна, рожд. Чернова (1849—1926) — деятельница по народному образованию, сотрудница издательства «Посредник» — || 453, 455, 460, 461, 704, 711, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859.
— «Греческий учитель Сократ» — || 852, 854.
Калуга — 185.
Каменный мост в Москве — 613, || 741.
Каменская Анна Павловна. См. Барыкова А. П.
«Канва жизни Толстого», — || 874.
Кант Иммануил (1724—1801) — немецкий философ — 338, || 773.
— «Критика чистого разума»— 338.
— «Критика практического разума» — 338.
Капернаум — по Евангелию город, лежавший на берегу Галилейского озера — 530.
Капнист П. А. — 513, 517, || 871, 872.
Карфагенский собор — церковный собор. Всего соборов в Карфагене было восемь. В 408 и 411 гг. они происходили с участием Августина — || 707.
Касаткин Николай Алексеевич (1859—1930) — художник — || 713.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный публицист, с 1856 г. редактор-издатель «Русского вестника» — 519.
Кашевская Екатерина Николаевна — учительница музыки у Толстых — 522, || 872, 873.
Келер Иван Петрович (1826—1899) — художник — || 881.
— «Приидите ко мне все труждающиеся и обременные», — картина — || 881.
Кившенко Алексей Данилович (1854—1895) — художник — || 668, 680, 685, 705, 712, 859.
Киргизская степь — 540.
Китай — 262, 315, 397.
Климент Александрийский (ум. около 217 г.) — церковный писатель — || 843.
Книга псалмов. См. Псалтирь.
«Книжки Недели» — журнал — || 487, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 712, 725, 726, 733, 735.
Ковалевский А. Ф., «Подвиг паломничества и подвиг человеколюбия» — || 703, 704.
Комитет грамотности при Петербургском вольно-экономическом обществе — || 852.
Константин Великий (274 — 337) — римский император — 352, || 838.
Константинополь (Царь-град) — 336, 416, || 843.
Конт Огюст (1798—1857) — французский мыслитель, основоположник позитивной философии — 317, 336, 337, 339, 340, 645, 646, 647, || 773, 837
— «Cours de philosophie positive» («Курс позитивной философии») — || 838.
Конфуций — 331, 366, 367, 369, 374, 532, 533, || 776, 883, 884, 885, 887.
Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург — 527.
Крайстчерч (Cristchurch) — город в Англии — || 759.
Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — художник — || 877.
Крапивенский уезд б. Тульской губ. — 387.
Крапивна — уездный город б. Тульской губ. — 519, || 872.
Критон — ученик Сократа — 455, 456, 457, 458, 459, 460.
Крым — || 677, 679, 681, 852.
Ксантипа — жена Сократа — 441.
Ксенофонт (434—359 до н. э.) — греческий историк и философ — 281, 527, || 812, 855.
Кузминская Вера Александровна (р. 1871 г.) — дочь А. М. и Т. А. Кузминских — 511, 512, 522, || 871, 872, 873.
Кузминская Мария Александровна (р. 1869 г.) — дочь А. М. и Т. А. Кузминских; с 1891 г. замужем за И. Е. Эрдели — 511, 513, 522, || 871, 872, 873.
Кузминская Татьяна Андреевна, рожд. Берс (1846—1925) — сестра жены Толстого — 511, 514, 521, || 715, 747, 755, 869, 870, 871, 873.
— «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», часть третья — || 871.
Кузминские — || 869, 873.
Кузминский Александр Михайлович (1843—1917) — сенатор, муж Т. А. Кузьминской — 514, 521, || 810, 871, 872, 873.
Кузминский Михаил Александрович (р. 1875 г.) — сын А. М. и Т. А. Кузминских — || 872.
Кун-фу-цзы. См. Конфуций.
Кунцевич Г. 3., «Три старца» Л. Н. Толстого и «Сказание о явлениях Августину» — || 757.
Купеческий банк в Москве — || 878.
Курбский кн. Андрей Михайлович (ок. 1528—1583) — политический деятель и писатель — || 707.
Ладыжников Иван Павлович — издатель — || 760.
Лазарев — 522, || 873.
Лазаревский пост на Кавказе — || 838.
Лазарь — упоминаемый в Евангелии бедняк, лежавший у ворот бессердечного богача — 292.
Лазарь — по Евангелию брат Марфы и Марии из Вифании, воскрешенный Христом — 531.
Лампсак — древний город в Мизии, на берегу Геллеспонта — 538, 539.
Лао-Тсе (Лао-динь, Лао-Си, Лао-тцы, Лао-цзы). — 292, 534, || 883, 884, 885, 887.
— «Тао-те-цзин» — 884.
Лассаль Фердинанд (1825—1864) — 634.
Лебедев В. — в 1880-х гг. сотрудник Минусинского музея — || 834, 836, 863.
«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906» — || 885.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ — 331.
Ленин Владимир Ильич — || 852.
Леонид (Лев Александрович Кавелин) (1822—1891) —духовный писатель — || 860.
Леонтий (XI в.) — составитель сборника, в который вошло «Учение двенадцати апостолов» — || 843.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 526.
Лессинг Готгольд-Эфраим (1728—1781) — немецкий писатель — 331, 526.
Листер Иосиф (Листерова повязка) — английский хирург — 354.
Ли-Эр. См. Лао-Тзе.
Лондон — 180, 186, 191.
Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825—1888) — государственный деятель, автор конституционного проекта; в консервативных кругах считался носителем идеи либерализма — || 823.
Лукулл (ок. 106—56 до н. э.) — римский полководец, славившийся огромным богатством и роскошной жизнью — 313.
Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский писатель, последователь Огюста Конта — || 812.
Ляпин Михаил Илиодорович — купец — 181, || 833.
Ляпин Николай Илиодорович — купец — || 833.
Ляпинский ночлежный дом — 181, 187, 188, 191, 193, 202, 203, 215, 216, 217, 219, 220, 223, 226, 239, 243, 613, 617, 619, 620. || 739, 741, 745, 789, 790, 791, 800, 833.
Магапра — кормилица Сиддарты-Будды — 543.
Магомет (571—632) — основатель религии Ислама — 366.
Майя — имя матери Сиддарты-Будды, жены царя Судогданы — 542, 659.
Макаренко А. А., «Русские сказки и песни в Сибири и другие материалы», под ред. Потанина — || 709.
Макарий (Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882) — духовный писатель — || 860.
Маковицкий Душан Петрович (1866—1921) — Друг и единомышленник Толстого, врач — || 836—837.
Максим Грек (р. ок. 1480 г., ум. 1556 г.) — деятель в области просвещения и богослов — || 707.
Малиновский И. A., «Л. Н. Толстой и крестьянин Бондарев» — || 834.
Малх — один из римской стражи, упоминаемый в евангельском рассказе о взятии Иисуса Христа — 606.
Малышев М. Е. (1852—1912) — художник — || 688, 694, 698.
Мальтус Томас-Роберт (1766—1834) — английский экономист, автор книги «О законе народонаселения» — 333, 334, 335, 339, || 760, 825, 838.
(«Опыт о законе народонаселения») — || 838.
Мальцов Сергей Иванович (1810—1893) — владелец известных Мальцовских заводов в Брянском уезде, тесть кн. Л. Д. Урусова — || 679.
Маракуев Владимир Николаевич — издатель популярных книг — || 844, 875, 876, 877.
— «Что читал и читает русский народ», М. 1886 — || 876.
Марии Египетской церковь в Иерусалиме — 93.
Мария Египетская — церковная «святая», по преданию жила в VI в.; память ее празднуется церковью 1 апреля (ст. ст.) — 93, || 485.
Мария Магдалина — по Евангелию блудница, под влиянием Иисуса Христа изменившая свою жизнь и сделавшаяся его последовательницей — 93.
Маркс Карл (1818—1883) — 634.
Маша — яснополянская служанка Толстых — 521, || 870, 873.
«Маяк» — журнал — || 685.
Мельбурн — главный город астралийского штата Виктории — 258.
«Меморабилии» — воспоминания о Сократе его ученика Ксенофонта — || 855.
Менений Агриппа (ум. в 493 г. до н. э.) — римский политический деятель — 336.
Месонье Жан Луи Эрнест (1813—1891) — французский художник, писавший картины на сюжеты из эпохи Людовика XIV и XV, Наполеонов I и III. Картины эти отличаются тщательностью исполнения, но в то же время отсутствием одухотворенности и глубины замысла — || 831.
Месопотамия — страна, лежащая между Тигром и Евфратом — || 676.
Мещерский И. — 517, || 872.
Микель-Анджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский художник и скульптор — 371.
Милль Джон-Стюарт (1806—1873) — английский философ и экономист — 633.
Минодара — жена Сиддарта-Будды — 661.
Минусинский музей — || 834, 836.
Михаил — византийский император — || 676.
Моисей (ок. 1500 л. до н. э.) — библейский пророк, считающийся основателем еврейской религии — 336, 367, 374, 375, 533, || 776.
«Молитва господня». См. «Отче наш».
Мольер Жан-Батист (1622—1673) — французский писатель-драматург и актер — 526.
Монблан — одна из альпийских вершин — 527.
Монтескье Шарль-Луи (1689—1755) — французский политический деятель и писатель — 526.
Морозов Савва Васильевич — купец — || 837.
Морозовы — 243, || 837.
Москва — 106, 173, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 207, 221, 226, 228, 232, 233, 234, 240, 241, 297, 298, 302, 303, 611, 612, 616, 618, 620, 626, 627, || 665, 667, 677, 682, 687, 688, 692, 717, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 745, 746, 757, 758, 761, 785, 798, 801, 803, 806, 833, 834, 835, 836, 838, 849, 853, 858, 877, 888.
«Московские ведомости» — газета — 519, || 874.
Московский цензурный комитет — || 668.
Мясницкая улица, ныне улица Кирова — в Москве — 184. 616.
Нагорная проповедь — изложенная в Евангелиях от Матфея и Луки проповедь Христа, произнесенная им на горе Курн-Хаттин. В ней в сжатом виде выражена сущность его учения — || 675.
Назарет — город в Галилее, в котором по преданию провел детство Иисус Христос — 530.
«Нана» — популярная в 1880-х гг. оперетта — 622.
«Народная библиотека» — издательство, основанное в 1882 г. В. Н. Маракуевым — || 875.
«Народный листок» — предполагаемая газета — || 876.
«Неделя» — журнал — || 716.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 526.
Нерон (3—68) — римский император — 344.
Нескучный сад — в Москве — 300.
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революционный деятель — 758.
«Нива» — журнал — || 708.
Нижегородская губерния — || 723.
Никейский собор — съезд епископов в Никее в 325 г. для борьбы с еретиком Арием — 645.
Никифор — древний христианский мученик — || 861.
Никифор (IX в.) — патриарх Константинопольский — || 843.
Никодим — тайный ученик Христа. Беседа Христа с Никодимом записана в Евангелии от Иоанна гл. 3. — || 883.
Николай I (1796—1855) — 38, || 715.
Никольская улица — в Москве — 196, 358, || 838.
Никольский переулок — в Москве — 196, || 834.
Никомах — древний христианский мученик — 538, 539.
Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ — || 850.
Новоселов Михаил Александрович (р. 1864 г.) — учитель, одно время увлекавшийся взглядами Толстого, организатор толстовской земледельческой общины в Тверской губ.; позднее православный — || 888.
«Новости» — газета в Петербурге — || 840.
Новоторжский уезд Тверской губернии — || 835.
Ньютон Исаак (1643—1727) — английский математик и физик — 465.
Область войска донского — || 836.
Оболенская Марья Львовна, рожд. Толстая (1871—1906) — вторая дочь Толстого — 522, || 845, 865, 872, 873.
Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) — литератор — || 748, 749, 840, 841, 844, 863.
— «Лев Толстой о женском вопросе, искусстве и науке (по поводу заметки Г. Скабичевского)» — || 840.
Оболенский переулок в Москве — || 800.
«Общее дело» — журнал — || 759.
Одесса — 92, 96.
Озмидов Николай Лукич (1843?—1908) — знакомый Толстого, разделявший некоторые его взгляды — || 695, 698, 724.
Октябрьская революция — || 833.
Ольга Дмитриевна — 521, || 873.
«Онежские былины», т. II, изд. 2-е — || 665.
Опитим — начальник города Лампсака, упоминаемый как мучитель христиан в «Страданиях Петра, Дионисия и др.» — 538, 539.
Орел — город — 207, || 852.
Орлов Владимир Федорович (1843—1898) — бывший нечаевец, железнодорожный учитель, близкий знакомый Толстого — || 758.
«Отче наш» — начальные слова церковной молитвы («Молитва господня») — 102, 103.
Охотный ряд — улица в Москве — 613, || 741.
Павел апостол — (ум. в 65 г.) — виднейший идеолог церковного христианства. Ему приписываются 14 «Посланий» — || 824, 837.
Павел — древний христианский мученик — 538, 539, || 861.
Павленков Флорентий Федорович (1839—1900) — издатель — || 858.
Павлин Ноланский — древний христианский мученик — || 861.
«Памятник древнерусской церковно-учительной литературы», 2, 1896 — || 665.
Парамоновна — обитательница Ржанова дома — 222.
Параша — жена повара в Ясной поляне — 240.
Париж — 190, || 754, 798, 833, 836, 872.
Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик и философ — 526.
Патерик — сборник, состоящий из кратких повестей о подвижниках какой-нибудь обители, или из кратких нравоучительных слов «отцов» этой обители — || 860.
Пашков Василий Александрович (1831—1902) — отставной полковник гвардии, последователь учения лорда Редстока, основатель секты «пашковцев» — 524, || 878, 880.
Пейкер А. И. — дочь М. Г. Пейкер, в 1882—1886 гг. издательница журнала «Русский рабочий» — || 681.
Пейкер Марья Григорьевна (ум. 1881 г.) — пашковка, издательница в 1875—1881 гг. журнала «Русский рабочий» — || 681.
Пергия Памфилийская (Перга) — древний город в южной части Малой Азии — 462.
Перепись в Москве 1882 г. — || 834.
Петербург — || 668, 687, 692, 716, 748, 749, 757, 798, 852, 854, 858, 863, 872, 880.
Петр (Симон) — апостол, ученик Иисуса Христа — 37, 46, 79, 81, 139, 141, 142, 143, 587, || 602, 604, 605, 606, 837.
Петр — древний христианский мученик — 538, 539, || 861.
Петр — слуга Толстых — 521, || 870, 873.
Петр — солдат — 185.
Петров день — церковный праздник памяти апостолов Петра и Павла. Празднуется 29 июня (ст. ст.) — 91.
Петровки — церковный пост в честь апостолов Петра и Павла. Начинается с девятой недели после Пасхи и продолжается до 29 июня (ст. ст.) — || 487.
Петровский монастырь — 524.
Пилат Понтий — римский прокуратор (правитель), управляющий Палестиной в 26—36 гг. По преданию он согласился на казнь Иисуса Христа — 114, 589, || 714.
Писарев Рафаил Алексеевич (1850—1906) — земский деятель, знакомый Толстого — || 876, 877.
Платон (427—347 до н. э.) — греческий философ — 281, 455, || 812, 855.
Плевна — город в Болгарии. В войну 1877—1878 гг. являлся местом средоточия больших и продолжительных боев за его обладание. Через 4½ месяца город был занят русскими с большими для них потерями — 52.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — реакционер, государственный деятель, обер-прокурор Синода — || 757.
«Повесть» — || 700.
«Повесть о сыне крестном, како господь крестил младенца убогого человека» — русский апокриф — || 725.
«Повесть святого Феодора, епископа Едесского о столпнице дивнем иже во Едессе» — проложное сказание — || 676.
Покровский бульвар — в Москве — || 833.
Полинезия — группа островов в Тихом океане — 257, 258.
Политехнический музей — в Москве — || 876.
«Помощь голодающим», — сборник — || 499, 500, 501, 502, 736.
Пономарев А. И. — || 665.
Попов К. Д., «Предисловие к «Учению двенадцати апостолов» — || 844, 845.
Послание Иоанна — книга библии (Новый завет) — 7 (цит.).
«Послание к римлянам» — книга Библии (Новый завет) — 147 (цит.).
Послание ап. Павла к римлянам — || 711, 712.
«Посредник» — издательство, основанное в 1884 г. В. Г. Чертковым — || 668, 675, 678, 680, 685, 690, 691, 698, 704, 706, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 724, 726, 754, 760, 836, 838, 850, 851, 852, 858, 859, 860, 861, 874, 875, 876, 881, 885, 888, 889.
«Похождения Ярославца». См. «Ай да Ярославцы!»
«Православное обозрение» — журнал — || 844, 849.
Преображенская больница — психиатрическая больница, существовавшая в Москве — 621.
Пресненские пруды в Москве — 214.
Преснова издательство — 525.
«Притча о бражнике» — || 700.
«Протагор» — диалог Платона — || 854.
Протагор (480—411 до н. э.) — греческий философ — 655, || 857.
Проточный переулок — в Москве — 196, 197, || 834.
Прохор — 517, || 872.
Пругавин Александр Степанович (1850—1920) — писатель — || 834, 835, 877.
— «Алчущие и жаждущие правды» — || 835.
— «Из встреч с Л. Н. Толстым. Два «гениальных мужика» — || 834.
— «Сютаевцы» — || 836.
— «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания», изд. II, Спб. 1895 — || 876.
Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский писатель, теоретик анархизма — 634.
«Пряха» — русская песня — 519.
Псалтирь (Книга псалмов) — книга библии. Написание ее приписывается пророку Давиду — 26, 140.
Пугачев Емельян Иванович (1726—1775) — вождь крестьянского революционного движения 1773 г. — 344, 641, || 773.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 350, 526, 527, 528, || 835, 875.
Рапти — река, в Индии — 541.
Расин Жан Батист (1639—1699) — французский драматург — 527.
Рашни — река в Индии — 541.
Редсток лорд (1831—1913) — английский проповедник, имевший большой успех в петербургском высшем великосветском обществе — || 878.
Рейн — река — 397.
Ренан Эрнест (1823—1892) — французский ученый, историк христианства — 406.
Репин Илья Ефимович — (1844—1930) — художник — || 677, 678, 690, 691, 713, 714.
Ржанов дом в Москве — 196, 197, 199, 206, 207, 208, 214, 217, 221, 224, 246, 297, 299, 300, 301, 618, 619, 620, || 741, 742, 743, 785, 786, 787, 790, 791, 792, 797, 834.
Ржановская крепость — См. Ржанов дом.
Рим — 288, 352.
Рише Франсуа — преступник, казненный в Париже в 1857 г. — || 833.
Робинзон — губернатор острова Фиджи — 260, 261.
Рождество Богородицы — церковный праздник, празднуемый 8 сентября (ст. ст.) — 52.
Россия — 229, 279, 280, 312, 315, 321, 351, 352, 519, 540, 638, || 681, 690, 707, 720, 735, 753, 754, 760, 809, 833, 838, 852, 866, 878.
Россошь, Воронежской губ. — || 690.
Румянцовская библиотека — в Москве, ныне Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина — || 888.
Русанов Гавриил Андреевич (1845—1906) — друг Толстого и последователь его учения — || 758, 761, 833.
«Русская беседа» — журнал — || 700.
«Русская мысль» — журнал — 536, || 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 755, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 780, 788, 794, 795, 798, 799, 804, 805, 808, 862, 886.
«Русская старина» — журнал — || 838, 864, 865, 866, 867, 872.
«Русский биографический словарь» — || 665.
«Русские ведомости» — газета — || 744, 874.
«Русский листок» — газета — || 739.
«Русский рабочий» — журнал — || 681, 682, 685, 686.
«Русское богатство» — журнал — || 698, 748, 749, 750, 751, 762, 763, 764, 765, 766, 769, 770, 803, 840, 841, 842, 844, 863, 864.
Русское Географическое общество — || 665.
«Русское дело» — газета — || 836, 865, 866.
«Русское слово» — газета — || 761.
Руссо Жан-Жак — (1712—1778) — французский писатель — 331.
Рюрик (IX в.) — первый русский князь — 357.
Савеков сад — в Иерусалиме — 93.
Савицкий Константин Аполлонович (1844—1905) — художник — || 687, 692.
Саводник Владимир Федорович — || 834.
Сайян Рубен (Saillens) (р. 1855 г.) — французский писатель — || 681.
— «Le père Martin» — || 681.
— «Récits et allégories» — || 681.
Самара — 70, || 696.
Самарское имение Толстого — || 667.
Саратов — 540.
Свешникова Елизавета Петровна (ум. 1918 г.), писательница, сотрудница издательства «Посредник» — || 754, 850.
«Свободное слово» — издательство В. Г. Черткова — || 758, 760, 761, 765, 770, 777, 778, 829, 830, 849, 866 867.
Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, редактор журнала «Русская старина» — || 707, 864, 865.
— «Знакомые». Альбом М. И. Семевского — || 864.
Семен — крестьянин — 240, 241, 246, 503, 504, || 766.
Серон Анна (Seuron) — гувернантка Толстых — 516, 521, || 872, 873.
Сетунь — река в окрестностях Москвы — 616.
Сивцев-Вражек — улица в Москве — 207.
Симеиз — станция на южном берегу Крыма — || 679, 680.
Симон. См. Петр апостол.
Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — литературный критик — || 840.
— «Граф Л. Н. Толстой о женском вопросе» — || 840.
Скайлер Евгений — американский консул в России, автор книги о киргизах — 404, || 838.
Скороходов В., «Из воспоминаний старого общинника» — || 838.
Смирна — город в Малой Азии — 92.
Смирнов-Платонов Григорий Петрович (1825—1898) — протоиерей, духовный писатель — || 849, 886.
— «Пятидесятница» — || 849.
Смоленская губерния — || 838.
1-й Смоленский переулок в Москве — || 834.
Смоленский рынок в Москве — 196, 618.
«Современные известия» — газета — || 739, 834, 839, 886.
Соединенные штаты — северной Америки — 256.
Соколов Дмитрий Павлович — протоиерей, автор многочисленных и распространенных учебников по «Закону божию» — 350.
Сократ — 292, 331, 366, 369, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 526, 655, || 853, 855, 857.
Соловецкие острова (Соловки) — 100, || 709.
Соловки. См. Соловецкие острова.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1901) — философ — || 844.
Соловьев М. С., Перевод «Учения двенадцати апостолов» — || 844.
Соломон (XI—X в. до н. э.) — царь израильский, по преданию автор «Притчей» и «Песни песней», вошедших в состав «Библии» — 369.
Солон (кон. VII—нач. VI в. до н. э.) — афинский реформатор, законодатель и поэт — 369.
Солянка — улица в Москве — 186, 617, 833.
Софии собор в Константинополе — 92.
Сочи — город на Кавказе — || 838.
Спенглер Федор Эдуардович (ум. 1909 г.) — педагог, последователь учения Толстого — || 757.
Спенсер Герберт (1820—1903) — английский социолог и философ — 341, 344, || 812, 838.
— «Social staties» («Социальная статика») — || 838.
Сперанский Михаил Нестерович (р. 1863 г.) — исследователь русской словесности — || 665.
Спиноза Барух (1632—1671) — философ — 331.
Спиридон Иванович — обитатель Ржанова дома — 222.
Средиземное море — || 707.
Средняя Азия — 262.
Срезневский Всеволод Измайлович — || 681.
— «Язык и легенды в записях Л. Н. Толстого» — || 708.
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — писатель, глава идеалистического кружка — 333.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, археолог — || 885.
Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — общественный и политический деятель, близкий знакомый Толстого — || 717, 720, 733.
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — критик и философ, друг Толстого — || 704, 710, 716, 755, 756, 865, 874, 887, 889.
Судогдана (VI в. до н. э.) — царь, отец Сиддарты Будды — 542, 543, 659.
Сухотина Татьяна Львовна, рожд. Толстая (р. 1864 г.) — старшая дочь Толстого — 521, || 721, 733, 758, 817, 846, 856, 871, 873.
Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — книгопродавец и издатель — || 687, 706, 713, 715, 758, 761, 770, 777, 778, 829, 844, 859, 881.
Сютаев Василий Кириллович — 233, 386, || 834, 835, 836, 874, 875.
Талмуд — главнейший памятник еврейской религиозной письменности средних веков — || 634.
Татиан (II в.) — христианский писатель-апологет — 463.
Ташкент — 540.
Тиндаль Джон (1820—1893) — английский физик — || 831.
Толстая Александра Львовна (р. 1884 г.) — младшая дочь Толстого — || 753, 870, 872.
Толстая Мария Львовна. См. Оболенская М. Л.
Толстая Мария Николаевна (1830—1912) — сестра Толстого — 233, || 837.
Толстая Софья Андреевна рожд. Берс (1844—1919) — жена Толстого — 521, || 666, 667, 668, 679, 698, 699, 705, 709, 711, 712, 715, 716, 721, 722, 726, 732, 733, 734, 735, 736, 745, 746, 747, 752, 753, 755, 757, 758, 760, 768, 769, 774, 793, 794, 795, 802, 803, 804, 829, 831, 832, 840, 844, 845, 869, 870, 871, 872, 873.
Толстая Татьяна Львовна. См. Сухотина Т. Л.
«Толстовский Ежегодник» — 1913 г., издание О-ва Толстовского музея (ТЕ, 1913) — || 664, 865, 888, 889.
«Толстовский музей», Том II. Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым (ПС) — || 865, 883, 887.
Толстовский музей при Академии наук СССР в Ленинграде — || 874.
Толстой гр. Дмитрий Андреевич (1823—1889) — министр народного просвещения и внутренних дел — || 716.
Толстой Илья Львович (1866 —1933) — сын Толстого — 521, || 668, 870, 871, 872, 873.
— «Мои воспоминания» М., 1914 — || 668, 836, 870, 871, 872.
«Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборник второй — || 865.
Толстой Лев Львович (р. 1869 г.) — сын Толстого — 518, 522, || 872, 873.
Толстой Лев Николаевич
— «Анна Каренина» — || 875.
— «Бог правду видит, да не скоро скажет» — || 876.
— «В чем моя вера?» — || 716, 741, 748, 752, 753, 754, 758, 784, 839, 874.
— «Где любовь, там и бог» — || 685.
— «Два старика» — || 484, 485, 486, 756.
— Дневники и записные книжки — || 742, 743, 744, 833, 834, 837, 838, 872, 876, 877, 878, 879, 883.
— «Записки сумасшедшего» — || 743.
— «Исповедь» — || 746, 752, 753, 754, 757, 758.
— «Кавказский пленник» — || 876.
— «Круг чтения» — || 851, 854, 858, 890.
— «Неизданные тексты». Сборник неопубликованных текстов. Толстого — || 781, 795, 800, 871, 879.
— «Неизданные художественные произведения» — || 833, 834.
— «Николай Палкин. Работник Емельян и пустой барабан. Дорого стоит», издание Владимира Черткова, — || 499, 500, 501, 582, 736.
— «Новый сборник писем», изд. «Окто» — || 860.
— «О народном образовании» — || 759.
— «О половом вопросе. Мысли Л. Н. Толстого», изд. «Свободное слово» (Christchurch 1901) — || 842
Письма Толстого:
Алексееву В. И. — || 835.
Бахметеву H. Н — || 744.
Бирюкову П. И.— || 850, 854, 855, 860, 863, 865.
Бондареву Т. М. — || 862, 863.
Боткину В. П. — || 834.
Ге Н. Н. (сыну) — || 747.
Голохвастову П. Д. — || 860.
Иванцову-Платонову А. М. — || 752.
— Калмыковой А. М. — || 853, 854, 855, 858.
Оболенскому Л. Е. — || 841.
Сайяну Р. — || 681.
Семевскому М. И. — || 864.
Страхову H. H. — || 865, 883.
Толстой С. А. — || 679, 696, 740, 741, 742, 745, 749, 756, 758, 838, 844, 887.
Урусову Л. Д. — || 677, 748, 749, 755, 844, 849, 852, 862.
Урусову С. С. — || 696.
Файнерману И. Б. — || 838.
Фету А. А. — || 696.
Черткову В. Г.— || 668, 680, 682, 685, 687, 690, 692, 701, 704, 708, 712, 713, 716, 719, 726, 741, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 840, 841, 844, 849, 853, 854, 855, 858, 862, 865, 876, 880, 881, 883, 887, 888, 889.
Энгельгардту М. А. — || 835.
«Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» (ПЖ) — || 668, 740, 745, 747, 749, 756, 758, 838, 844, 887.
Письма к Толстому:
Жебунева Л. Н. — || 862.
Калмыковой А. М. — || 853, 854, 855, 858.
Лебедева В. — || 863.
Семевского М. И. — || 864.
Страхова Н. Н. — || 865, 887.
Толстой С. А. — || 758.
Черткова В. Г. — || 677, 687, 688, 690, 691, 692, 726, 748, 749, 750, 753, 754, 850, 853, 859, 876, 880.
Щепкина М. П. — || 877.
— «Полное собрание сочинений», под редакцией П. И. Бирюкова, изд. И. Д. Сытина, М. 1913 — || 761, 833, 851.
— «Полное собрание сочинений, запрещенных в России», под редакцией В. Г. Черткова, изд. «Свободного слова», т. VIII и X, 1902 и 1904 — || 499, 500, 502, 720, 736, 759, 850, 866, 886.
— «Полное собрание сочинений», Юбилейное издание, т. 63, — || 835, 841, 844, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 858, 860, 862, 863, 883.
— «Полное собрание сочинений» Юбилейное издание, т. 64 (рукопись) — || 682.
— «Полное собрание сочинений» Юбилейное издание, т. 72, — || 682.
— «Полное собрание сочинений» Юбилейное издание, т. 85, — || 688, 713, 714, 716, 726, 742, 744, 745, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 840, 841, 844, 849, 850, 854, 855, 858, 862, 863, 876, 881, 883, 887.
— «Полное собрание художественных произведений» — || 685.
— «Работник Емельян и пустой барабан», Genève, М. Elpidine, Libraire-éditeur 1891 — || 499, 500, 501, 502.
— «Свечка», изд. «Посредник», М. 1886 — || 487.
— «Сказка об Иване дураке» и его двух братьях: Семене воине и Тарасе брюхане и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах», изд. «Посредник», М. 1886 — || 488, 489, 490.
— «Смерть Ивана Ильича» — || 709, 733, 743, 756, 759.
— «Смерть Сократа» — || 854, 858.
— «Собрание сочинений», изд. ГИЗ, 1930 — || 681.
— «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть двенадцатая, М. 1886 — || 476, 480, 481, 483, 484, 485, 487, 488, 668, 674, 680, 691, 693, 695, 698, 699, 701, 702, 706, 709, 711, 712, 719, 724, 726, 734, 739, 758, 840.
— «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть тринадцатая, М. 1890, — || 866.
— «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» изд. 9-е, т. XII, 1893 — || 736.
— «Сочинения графа Л. Н. Толстого» тт. I—XIV, издание десятое — || 499, 500, 501, 502.
— «Сочинения графа Л. Н. Толстого», части I—XIII, издание одиннадцатое — || 499, 500, 501, 502, 729, 736.
— «Суд над Сократом» — || 858.
— «Три сына» — || 866.
— «Упустишь огонь — не потушишь», изд. «Посредник», М. 1886 — || 481, 482, 689.
— «Учение 12 Апостолов. Графа Л. Н. Толстого», изд. Элпидина, Geneve 1890 (?) — || 850.
— «Чем люди живы», изд. «Посредник», М. 1886 — || 476, 477, 478, 479, 674, 876.
Толстой Сергей Львович (Сережа) (р. 1863 г.) — сын Толстого — 213, 215, 514, 521, || 804, 869, 872, 873.
Толстой Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Толстого — || 872, 878.
«Лев Толстой и В. Стасов», Переписка. — || 885.
Торжок — город Тверской губернии — || 835.
Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769) — писатель — || 835.
Трехсвятительский переулок (ныне Б. Вузовский) в Москве — || 833.
«Три сказки» — || 694.
Троице-Сергиевская лавра (Троица) — монастырь в 72 километрах от Москвы, основанный Сергием Радонежским около 1335 г. — 36.
«Труды Киевской духовной академии» — журнал — || 844, 845.
Туапсе — город на Кавказе — || 838
Тула — 358, 633, || 749, 807, 844.
Тульский Окружной суд — || 839.
Тур Евгения, «Катакомбы» — || 850.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 350, 526, 528.
— «Дворянское гнездо» — || 875.
Турция — 277, 280.
Урал — || 837.
Уральск — 540.
Урия — по библейскому сказанию — израильтянин, воин Давида, женою которого овладел Давид, сделавшийся также и виновником смерти Урия — 80.
Украина — || 697.
Урусов Леонид Дмитриевич, князь (ум. 1885 г.) — вице-губернатор в Туле, близкий знакомый и последователь Толстого — 514, 521, || 677, 678, 679, 681, 745, 844, 852, 872.
Урусов кн. Сергей Семенович (1827—1897) — генерал-майор в отставке, близкий знакомый и сослуживец Толстого по Севастопольской кампании — || 696
Урфа — город в Месопотамии — || 676.
Успенский Глеб Иванович (1840—1902) — || 836, 862, 877.
— «Трудами рук своих» —|| 836, 862.
Успенье пресвятой богородицы — церковный праздник, празднуемый 15 августа (ст. ст.) — 98.
Устюша — яснополянская служанка Толстых — 521, || 870, 873.
Уфимская губерния — 31, || 679, 680.
«Учение двенадцати апостолов» — || 843, 844, 845, 846, 849, 850, 851.
«Учение двенадцати апостолов. Ново-открытый памятник древней церковной литературы в переводе с греческого, с введением и примечаниями К. Попова», изд. 2-е, Киев. 1885 — || 844, 850.
«Учение М. K. [Sic!] Бондарева. Предисловие и изложение графа Л. Н. Толстого» — || 866.
Ушаков Сергей Петрович — тульский губернатор — 521, || 873.
Файнерман Исаак Борисович (1863—1925) — литератор, одно время сочувствовавший взглядам Толстого — || 838.
«Фабиола» (из романа Е. Тур «Катакомбы») — || 850.
«Федон» («О загробной жизни и смерти») — диалог Платона — || 854.
Федон — ученик Сократа — 459.
Феодор древне-христианский мученик — 462.
Федор (ум. 848 г.) — епископ едесский, жил в царствование византийских императоров Михаила и Феодора — || 676, 677.
Феодор — византийский император — || 676.
Феодот — правитель Пергии Памфилийской, упоминаемый в «Страдании св. Феодора» — 462.
Феоктистов Евгений Михайлович (1829—1898) — цензор, начальник главного управления по делам печати — || 757.
Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин) (1820—1892) — поэт — || 696.
Фиджи — группа островов в Австралии, с 1874 г. — английская колония — 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, || 810.
Филарет (1783—1867) — митрополит московский, автор «Катехизиса» православной веры — 350.
Филиппия — мать древне-христианского мученика Феодора, упоминаемая в «Страданиях св. Феодора» — 462.
Философов Николай Алексеевич (1833—1895) — художник — || 680.
Фихте Иоганн-Готлиб (1762—1814) — 331.
Франция — 280, 321, 352.
Фридрих Великий (1712—1786) — прусский король — 329.
Фульда Иосиф Габриель — владелец ювелирного магазина — 617.
Фу-хи легендарный китайский император, живший около 2852 г. до н. э. — 532.
Хамовники — район Москвы — 196, 616.
Xамовническая площадь — См. Зубовская площадь.
Xамовническая часть. См. Хамовники.
Хамовнический переулок в Москве, ныне улица Льва Толстого — 298.
Ханаанская земля — Палестина — 273.
Харьков — || 852, 853.
Хитров рынок — 186, 187, 617, || 741, 784, 788, 833.
Храм Христа спасителя в Москве — 631.
Христина — имя древней христианской мученицы — 538, 539, || 861.
Царьград. См. Константинополь.
«Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы», изд. «Посредник», 1886. — || 677, 680, 690.
Центральная комиссия по улучшению быта ученых — || 852.
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор — 527.
Чанпунг — легендарный китайский император и мудрец — 533.
Черниговская губерния — || 697.
Чернова Александра Михайловна. См. Калмыкова А. М.
Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — друг, единомышленник и издатель сочинений Толстого — || 667, 668, 670, 675, 677, 679, 681, 687, 688, 691, 695, 697, 698, 699, 701, 702, 704, 709, 710, 711, 713, 715, 716, 720, 726, 749, 750, 755, 759, 808, 829, 830, 841, 842, 844, 850, 852, 853, 858, 860, 863, 864, 866, 880, 881, 887, 888, 889, 890.
Черткова Анна Константиновна, рожд. Дитерихс (1859—1927) — жена В. Г. Черткова, единомышленница Толстого.— || 701, 708, 714.
Черткова Елизавета Ивановна, рожд. гр. Чернышева-Кругликова (1831—1922) — мать В. Г. Черткова. Последовательница Пашкова. — || 691.
Четьи-Минеи — сборник житий святых и кратких поучений, расположенных по дням месяца. Каждому месяцу отведена отдельная книга — || 860.
Чингис-Xан (1155—1227) — монгольский завоеватель, основатель монгольского государства — 344.
Чун — легендарный китайский император и мудрец — 533.
Чу-хи — средневековый китайский ученый — 532.
Шакии — династия индийских царьков, правившая за 2500 лет до н. э. — 541, 659.
Шамординский монастырь — в Калужской губ.— || 837.
Шарапов Сергей Федорович (1855—1911) — журналист — || 836, 865.
— «Неопознанный гений», — || 739.
Шевелино — деревня Новоторжского уезда б. Тверской губернии — || 834.
Шекспир Вильям (1576—1612) — || 831.
Шидловская — 872.
Шиллер Иоганн-Фридрих (1759—1805) — 527.
Шлиссельбургская крепость — || 835.
Шмидт Мария Александровна (1844—1911) — друг Толстого и его последовательница — || 736, 759, 828, 829.
Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ — 331, 386.
Шохор-Троцкий К. С., «Сютаев и Бондарев» — || 836.
Штигниц Александр Людвигович — банкир и владелец мануфактурных фабрик — || 837.
Штиглицы — банкирская и купеческая семья — 243, || 837.
Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор — 311.
Шюре Эмиль — автор книги о Будде — || 887.
Щеголенок Василий Петрович — сказитель былин — || 665, 666, 703, 704, 708.
Щепкин Дмитрий Митрофанович — || 874.
Щепкин Митрофан Павлович (1832—1908) — общественный деятель и публицист — || 874, 875, 876, 877, 878.
Эва. См. Ева.
Элпидин Михаил Константинович — издатель сочинений Толстого — || 736, 754, 755, 759, 760, 761, 770, 777, 778, 830, 866, 867.
Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — общественный деятель и публицист, профессор — || 838.
Энгельгардт Михаил Александрович (1861—1915) — журналист, сын предыдущего — || 835.
Эпиктет (кон. I и нач. II века) — римский философ-стоик — 331, || 855.
Эразм Роттердамский (1463—1536) — голландский писатель — 526.
Эренбург И., «В проточном переулке». Роман — || 834.
Эртель Александр Иванович (1855—1908) — писатель — || 877, 888, 889.
«Эфтифрон» — диалог Платона — || 854.
Южный Валлис (Уэльс) — полуостров к западу от Великобритании — 266.
Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888) — литературный деятель, основатель журнала «Русская мысль» — || 743, 746.
Юсупов кн. Николай Борисович (1831—1891) — государственный деятель — || 833, 837.
Юсупов рабочий дом — 184, 615.
Юсуповы — 243, || 837.
Яков. См. Иаков.
Янжул Иван Иванович (1845—1908) — профессор Московского университета, экономист и публицист — 256, || 810, 811, 839.
— «Влияние финансовых учреждений на экономическое положение первобытных народов (страница из истории островов Фиджи)». XXV лет 1859—1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» — || 837.
— «Мое знакомство с Толстым» — || 839.
Яффа — город в Малой Азии — 93, 96.
Ясная поляна — 511, 517, 519, 627, 652, || 668, 687, 704, 710, 716, 717, 740, 742, 746, 757, 758, 807, 825, 827, 853, 869.
Beal Samuel, «Outline of Buddism. From Chinese sources»— || 887, 888, 889.
Burnoui Eugène, «Le Lotus de la bonne Loi, traduit du sanscrit, accompagné d’un Commentaire et de vingt et un mémoires, relatifs au bouddisme». — || 887.
«Eсhо» — немецкий журнал — || 666.
«Essay on the Principle of population» (1798) — книга английского экономиста Т.-P. Мальтуса. См. Мальтус.
Julien St. «Le livre de la voi et de la vertu, par Lao-Tseu» — || 883, 884.
Legge S., «Chinese Classics» — || 884.
«Lehre der zwölf Apostel. Nach der Ausgabe des Metropoliten Philopheos Bryennios mit Beifügung des Urtextes nebst Einleitung und Noten, ins deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. Wünsche. 3-er Abdruck — || 844.
Minangoy m-me — портниха — 304.
Oldenberg, «Buddha» — || 889.
Rhys Davids, «Buddhism» — || 889.
«Social Statics» (1850) — Сочинение английского ученого и философа Г. Спенсера. См. Спенсер Г.
«Tolstoj Léon et Тimothée Bondareff. Le travail». Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pagès — || 865.
СОДЕРЖАНИЕ (из 25-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого)
Предисловие к двадцать пятому тому ... VII
Редакционные пояснения ... IX
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ
Чем люди живы? ... 7
Искушение Господа нашего Иисуса Христа ... 26
Два брата и золото ... 28
Ильяс ... 31
Где любовь, там и бог ... 35
Упустишь огонь — не потушишь ... 46
Вражье лепко, а божье крепко ... 59
Девчонки умнее стариков ... 62
Зерно с куриное яйцо ... 64
Много ли человеку земли нужно ... 67
Кающийся грешник ... 79
Два старика ... 82
Три старца ... 100
Свечка ... 106
Страдания Господа нашего Иисуса Христа ... 114
Сказка об Иване Дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах ... 115
К картине Ге (Тайная вечеря) ... 139
Как чертенок краюшку выкупал ... 144
Крестник ... 147
Работник Емельян и пустой барабан ... 162
СТАТЬИ
О переписи в Москве ... 173
**** Так что же нам делать? ... 182
Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью «Женщинам» ... 412
Учение 12-ти апостолов ... 416
**** Греческий учитель Сократ ... 429
**** Страдания святого мученика Феодора, в Пергии Памфилийской ... 462
**** Трудолюбие, или торжество земледельца ... 463
ПЕЧАТНЫЕ ВАРИАНТЫ
Чем люди живы? ... 476
Ильяс ... 479
Где любовь, там и бог ... 480
Упустишь огонь — не потушишь ... 481
Вражье лепко, а божье крепко ... 483
Два старика ... 484
Свечка ... 487
Сказка об Иване дураке и его двух братьях ... 488
Крестник ... 491
Работник Емельян и пустой барабан ... 499
Первоначальный печатный вариант главы XVII «Так что же нам делать?» ... 503
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ
**[Произведения, написанные для «Почтового ящика»] ... 511
**[Речь о народных изданиях] ... 523
*Нагорная проповедь ... 530
*Китайская мудрость ... 532
**[О благотворительности] ... 536
*Мая 18. Страдания святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины ... 538
**Сиддарта, прозванный Буддой, т. е. святым ... 540
РУКОПИСНЫЕ ВАРИАНТЫ
**,*Чем люди живы? ... 544
*[Первая редакция рассказа «Два брата и золото»] ... 570
*[Первый черновик рассказа «Где любовь, там и бог»] ... 573
*Много ли человеку земли нужно ... 584
*[Первая редакция рассказа «Кающийся грешник»] ... 586
*Три старца ... 588
*[Первая редакция текста к картине «Страдания господа нашего Иисуса Христа»] ... 589
*Сказка об Иване Дураке ... 590
*[К тексту к картине Ге «Тайная вечеря»] ... 601
*Как чертенок краюшку выкупал ... 607
*Работник Емельян и пустой барабан ... 608
*О переписи в Москве ... 611
*Московские прогулки ... 613
*Так что же нам делать? ... 614
*Учение двенадцати апостолов ... 653
*Греческий учитель Сократ ... 655
* Трудолюбие, или торжество земледельца ... 656
* Сиддарта, прозванный Буддой ... 659
* [План глав II—XXII статьи «Сиддарта, прозванный Буддой, т. е. святым»] ... 661
КОММЕНТАРИИ
В. И. Срезневский
Чем люди живы? ... 665
Искушение Господа нашего Иисуса Христа ... 675
Два брата и золото ... 676
Ильяс ... 679
A. И. Никифоров
Где любовь, там и бог ... 681
B. И. Срезневский
Упустишь огонь — не потушишь ... 687
Вражье лепко, а божье крепко ... 690
Девченки умнее стариков ... 692
Зерно с куриное яйцо ... 694
Много ли человеку земли нужно? ... 696
Кающийся грешник ... 700
Два старика ... 703
Три старца ... 707
Свечка ... 710
Страдания Господа нашего Иисуса Христа ... 713
Сказка об Иване Дураке и его двух братьях ... 715
К картине Ге «Тайная вечеря» ... 720
Как чертенок краюшку выкупал ... 723
Крестник ... 725
Работник Емельян и пустой барабан ... 735
Н. К. Гудзий
О переписи в Москве ... 738
Так что же нам делать? ... 740
Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью «Женщинам» ... 840
Учение двенадцати апостолов ... 843
Греческий учитель Сократ ... 852
«Страдания» святых ... 860
Трудолюбие, или торжество земледельца ... 862
Произведения, написанные для «Почтового ящика» ... 869
П. С. Попов
Речь о народных изданиях ... 874
В. И. Срезневский
Нагорная проповедь ... 880
Н. К. Гудзий
Китайская мудрость ... 883
О благотворительности ... 886
Сиддарта, прозванный Буддой ... 887
Указатель собственных имен ... 891
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Портрет Толстого в 1885 г. с фотографии Везенберга и К-о — между VI и VII стр.
Автотипия со страницы черновой рукописи конца XVI и начала XVII главы «Так что же нам делать?» — между 246 и 247 стр.
Автотипия с корректуры, исправленной Толстым гл. XL «Так что же нам делать?» — между 410 и 411 стр.
Настоящее юбилейное издание первого полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатается на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г. и 8 августа 1934 г.
ИСПРАВЛЕНИЯ В ТОМЕ 25-м ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО
Стр.: VIII
Строка: 15
Напечатано: приготовленный
Следует читать: Приготовленной
Стр.: 483
Строка: 5
Напечатано: одсжи
Следует читать: одежи
Стр.: 892
Строка: 5
Напечатано: Белинский Виссарион Григорьевич (1812—1848)
Следует читать: Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)
Набрано во 2-й типографии ОГИЗ'а РСФСР треста „Полиграфкнига“, „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26. Гослитиздат № 769. Т. 3. Тираж 10000 экз. Уполномочен. Главлита № Б— 8429. Формат бумаги 8X1001/Jß. 58 п. л. Сдано в набор 7 июля 1935 г. Подписано к печати 17 декабря 1936 г. Зак. №2837 Корректор М. А. Перфильева.
*
Техническая редакция Н. И. Гарвея.
*
Отпечатано с гот. матриц в тип. им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Зак. № 189.
1
[«это очень интересно!»]
(обратно)2
[усыпляет, потому что обладает снотворной силой.]
(обратно)3
Мы называем и слона и бактерию организмом только потому, что предполагаем по аналогии в этих существах такие же объединения ощущения или сознания, каких мы знаем в себе; в человеческих же обществах и в человечестве отсутствует этот существенный признак, и потому, сколько бы других общих признаков мы ни нашли в человечестве и в организме, без этого существенного признака признание человечества организмом неправильно.
(обратно)4
За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев.
(обратно)5
[мы переменили всё это,]
(обратно)6
[мы переменили всё это,]
(обратно)7
В напечатанном издании греческого митрополита поставлено ύμών в самой же рукописи стоит ήμών. Поправка, сделанная митрополитом, лишает изречение смысла. В начале главы сказано, что тот, кто учит слову Божию, тот и Господин, что господство есть только господство истины; и потому учение говорит господам, чтобы они не повелевали рабам, так как повелевать может только тот, кого уготовил Дух; а рабам говорит, что повиноваться они должны только господству духа; и потому — господам нашим — тем, которые учат слову Божию.
(обратно)8
Эта глава, вероятно, приписана впоследствии, ибо она противоречит сказанному в 11-й главе.
(обратно)9
Недовольные на
(обратно)10
недовольных на
(обратно)11
худого праведника-чудака
(обратно)12
Здесь конец абзаца, написанный Калмыковой после слова: придумали, стерт.
(обратно)13
Скоро стало известно, что над Сократом назначается суд.
(обратно)14
намерен
(обратно)15
Вся моя жизнь у всех была на глазах, пусть она послужит
(обратно)16
правота
(обратно)17
неправота
(обратно)18
в чем мужество и трусость
(обратно)19
Зачеркнуто: не умею говорить или
(обратно)20
Зач.: Граждане.
(обратно)21
Зачеркнуто: был назначен стараниями его недоброжелателей
(обратно)22
Этих недоброжелателей
(обратно)23
была за то
(обратно)24
Зач.: у них оказалось тремя голосами больше
(обратно)25
провозгласили
(обратно)26
изгнание из отечества
(обратно)27
Зач.: изгнанником
(обратно)28
Написано вместо зачеркнутого и стертого Калмыковой.
(обратно)29
осудив
(обратно)30
Заглавие написано рукой Толстого.
(обратно)31
преданные ему граждане и
(обратно)32
какую-нибудь соседнюю
(обратно)33
решено было
(обратно)34
что пойдет
(обратно)35
Строгое лицо Сократа не предвещало успеха.
(обратно)36
Зачеркнуто: сказал он,
(обратно)37
труса, изменника
(обратно)38
трус, а изменишь ты только тем дурным людям
(обратно)39
изменю
(обратно)40
врагам своим, но всем людям
(обратно)41
Заглавие написано рукой Толстого.
(обратно)42
Страшно убивалась бедная женщина
(обратно)43
Взятое в квадратные скобки вторично переписано Калмыковой на отдельной четвертушке, которая вклеена между страницами, помеченными Толстым цыфрами 120 и 127. Очевидно, на страницах 121—126 было очень много поправок и сокращений, сделанных рукой Толстого; и потому исправленный текст, на них написанный, был переписан вновь.
(обратно)44
Зачеркнуто: Нельзя было равнодушно смотреть на их горе.
(обратно)45
Взятое в квадратные скобки вторично переписано Калмыковой на отдельной четвертушке, которая приклеена вслед за страницей, помеченной Толстым цифрой 132. Очевидно, и здесь вновь написанное на четвертушке заменило собой сильно исправленный Толстым текст Калмыковой.
(обратно)46
[общественный договор.]
(обратно)47
Можно прочесть: однажды
(обратно)48
[любопытство.]
(обратно)49
[Что это неправда]
(обратно)50
[Я люблю повиноваться.]
(обратно)51
Две черточки заменяют, повидимому, слова: сколько хошь.
(обратно)52
[— Друзья наших друзей — наши друзья.]
(обратно)53
[«Мечта о всеобщем усовершенствовании».]
(обратно)54
[Необузданная торопливость.] «Тоrоріgis» — родительный падеж несуществующего в латинском языке слова, искусственно образованного Толстым из русского глагола «торопиться».
(обратно)55
[навязчивой сенаторской манией честолюбия]
(обратно)56
[страстью к наживе.]
(обратно)57
[обыкновенной манией комильфотности,]
(обратно)58
[«католического благочестия».]
(обратно)59
[«обожание m-me Seuron».]
(обратно)60
[«усложненная демоническая мания».]
(обратно)61
Зачеркнуто: т. е. чтеніе великихъ писателей — Руссо, Сократа.
(обратно)62
[«всеобщей свободы».] Латинское выражение написано неправильно.
(обратно)63
[Усложненная мания Прохора — мания себялюбия.]
(обратно)64
[страсть к метафизике]
(обратно)65
[дипломатическая великосветская суета.] Последнее английское слово неправильно согласовано с предшествующими словами.
(обратно)66
[стыдливости, скромности,] «modesticae» — ошибочно вместо «mоdestiae».
(обратно)67
Вариант: Больная одержима маніей, называемой Капнистасъ-Мещеріана simplex, состоящей въ совершенномъ прекращеніи всякой умственной и духовной дѣятельности и въ страстномъ ожиданіи звонковъ у дверей или подъ дугой для возбужденія жизни посредствомъ тщеславія. Признаки общіе: сонливость, невниманіе ко всему окружающему или сверхъестественное возбужденіе; подчиненіе своей воли волѣ другихъ людей по лѣтамъ и развитію стоящих ниже себя. Признаки частные: порывистыя и судорожныя движенія ногъ при звукахъ музыки, при чемъ особенное искривленіе плечъ и стана. Больная подвержена сильно князь-Блохинской эпидеміи. Лѣченіе: раннее вставаніе, физическій трудъ ежедневно, до сильнаго пота; правильное распредѣленіе дня для умственнаго, художественнаго и физическаго труда и подчиненіе себя руководителю. Діэта: отсутствіе халата и зеркала и угощенія. При исполненіи этого режима исходъ болѣзни благопріятный.
(обратно)68
[«предельно развитая почтенная страсть грубить».]
(обратно)69
[английская мания — как вам угодно]
(обратно)70
[«древне-российская благородная катковская мания»]. В данной фразе должно было бы быть слово «antiqua», а не «antica».
(обратно)71
Написано посторонней рукой.
(обратно)72
Написано рукой Толстого.
(обратно)73
[Маленькая]
(обратно)74
[большая]
(обратно)75
Зачеркнуто: Всѣ три причины эти я вижу въ тѣхъ неудачахъ, которыя до сихъ поръ сопутствовали всѣмъ попыткамъ изданія книгъ для народа.
(обратно)76
[мы всё это переменили,]
(обратно)77
Абзац редактора.
(обратно)78
Зачеркнуто: Но мы всѣ ищемъ знанія и любимъ его. И давайте дѣлиться имъ всѣ безъ всякаго различія. Давайте учиться другъ у друга и учить другъ друга.
(обратно)79
Абзац редактора.
(обратно)80
Зачеркнуто: Іисусъ Христосъ училъ людей и словами, и дѣлами своими, и всею жизнію, и смертію, и воскресеніемъ своимъ, и отвѣтами на вопросы фарисеевъ и книжниковъ, и отвѣтами на вопросы учениковъ, и наставленіями имъ, когда онъ посылалъ ихъ, и утѣшеніями, когда разлучался съ ними.
(обратно)81
Зач: Училъ людей своей смертію и воскресеніемъ, училъ людей словами, которыя онъ говорилъ, отвѣчая на вопросы книжниковъ и фарисеевъ и на сомнѣнія учениковъ своихъ, училъ людей и притчами своими, которыя онъ объяснялъ наединѣ ученикамъ своимъ; но одинъ только разъ во всей своей земной жизни Господь нашъ Іисусъ Христосъ прямо открылъ и просто училъ народъ, поучая людей тому, что всякій долженъ дѣлать для своего спасенія.
(обратно)82
Зачеркнуто: Добрыя дѣла приведутъ тебя в Царство Небесное, злыя въ погибель». Всѣ мы знаемъ это и всѣ творимъ злыя дѣла и не чаемъ себѣ спасенія. Трудно спасти душу, говоримъ мы, и идемъ к погибели. (Мф. XI. 28, 29, 30). Развѣ этаго хотѣлъ Богь, развѣ за тѣмъ прислалъ Онъ кь намъ, къ людямъ, Сына Своего? Онъ не этаго хотѣлъ, a хотѣлъ спасти насъ всѣхъ и для всѣхъ прислалъ Сына Своего.
(обратно)83
Слово: полу зачеркнуто, по ошибке.
(обратно)84
В подлиннике слово: край по ошибке зачеркнуто.
(обратно)85
На другой строке написано и не зачеркнуто: двойню.
(обратно)86
Переделано из: Раздвинулся.
(обратно)87
На поле приписано: особо.
(обратно)88
Ошибочно не зачеркнуто: увидалъ человѣкъ
(обратно)89
На поле заметка: Разсказъ о смерти и о сиротахъ [?].
(обратно)90
Дальше по ошибке написано: не.
(обратно)91
В рукописи не зачеркнуто по ошибке: а
(обратно)92
По ошибке повторено: показано людям.
(обратно)93
В рукописи вырвано.
(обратно)94
В рукописи по ошибке не зачеркнуто: тѣмъ
(обратно)95
В рукописи оторвано.
(обратно)96
Зачеркнуто печатное начало: Знавали ли вы дядю Мартына, стараго башмачника, болѣе извѣстнаго подъ названіемъ Авдѣича.
(обратно)97
Зач.: Коморка, служившая ему спальней, пріемной, мастерской и кухней, выглядывала, впрочемъ
(обратно)98
Зач.: свободно
(обратно)99
Зач.: башмакомъ
(обратно)100
Зач.: важный
(обратно)101
Зач.: зрѣніе стало слабѣть
(обратно)102
Зач.: такъ искусно и прочно накладывать;
(обратно)103
Зач.: къ чужому труду. Зато
(обратно)104
Зач.: твердили
(обратно)105
Зач.: и гвоздь въ ногу не вопьется
(обратно)106
Зачеркнуто: окрестности
(обратно)107
Зач.: былъ набожный
(обратно)108
Зач.: Давно уже
(обратно)109
Зач.: но она оставила ему послѣ себя сокровище трехлѣтнюю малютку, которая какъ ясное солнышко, согрѣвала ему душу. Потѣшила она его нѣсколько годковъ
(обратно)110
Зач.: и взялъ. Ужъ какъ горевалъ отецъ, такъ показать нельзя. «Все пропало»
(обратно)111
Зач.: для кого», твердилъ онъ и оплакивалъ свою малютку день и ночь.
(обратно)112
Зач.: батюшка
(обратно)113
Зач.: твердить: «Все пропало».
(обратно)114
Зач.: для тебя и другое сокровище это
(обратно)115
Зач.: грустно
(обратно)116
В рукописи добавлено ошибочно: какъ
(обратно)117
Зач.: добылъ
(обратно)118
Зач.: поникшую
(обратно)119
Зачеркнуто: Доносятся до него
(обратно)120
Зач.: изъ трактира
(обратно)121
Зач.: громкія, шумныя рѣчи
(обратно)122
Зач.: Былъ канунъ Рождества Христова
(обратно)123
Зач.: стояла
(обратно)124
Зач.: съ страшнымъ холоднымъ вѣтромъ
(обратно)125
Зач.: нашего башмачника
(обратно)126
Зач.: коморка хоть и бѣдная и тѣсная, но чисто прибрана, и показалась ему очень приглядной
(обратно)127
Зач.: всю бы комнату
(обратно)128
Зач.: увлеченный своими размышленіями
(обратно)129
Зач.: тонкую;
(обратно)130
Зач.: мягкой лайковой кожи;
(обратно)131
Зачеркнуто: углубился въ свое ветхое, поношенное кресло и закрылъ глаза. На улицахъ, даже и въ глухомъ переулкѣ, было людно и шумно, каждый спѣшилъ туда и сюда, кто изъ церкви, кто съ покупками, кто къ роднымъ на ёлку, а дядя Мартынъ не трогался съ мѣста — задремалъ, должно быть старикъ
(обратно)132
Зач.: мягкий
(обратно)133
Зач.: башмачникъ
(обратно)134
Зач.: въ трепетномъ удивленіи
(обратно)135
Зач.: было
(обратно)136
Зач.: напился чаю, прибралъ комнату, а самъ все въ окошко поглядываетъ, поджидая первыхъ лучей солнца и раннихъ прохожихъ.
(обратно)137
Зач. дворникъ, т. е. не дворникъ онъ собственно, — этимъ званіемъ его никто не величалъ, — а просто увѣчный, ни начто почти неспособный человѣкъ, который только и могъ сгребать снѣгъ или подметать улицу передъ домомъ, да и то съ грѣхомъ пополамъ. Пять или шесть небогатыхъ домовладѣльцевъ, сложившись между собою, отвели ему за этотъ посильный трудъ конуру для жилья и платили ничтожное вознагражденіе, едва достаточное, чтобы не умереть ему съ голоду съ хворой женой. Милостыню просить Степанычъ однако не рѣшался, за что нерѣдко получалъ выговоръ отъ жены; но старикъ былъ тихаго нрава и на эти выговоры не обижался.
(обратно)138
Зач.: почти и не взглянулъ, до того ли ему было! А на дворѣ становится, ухъ, какъ холодно, такъ и пробираетъ до костей крѣпкій морозъ.
(обратно)139
Зач.: сначала было усердно принялся сгребать снѣгъ, котораго много навалило за ночь, но не въ терпѣніе стало, должно быть.
(обратно)140
Зач.: началъ размахивать руками и ногами топать, чтобъ согрѣться.
(обратно)141
Зач.: ишь какъ его пробираетъ
(обратно)142
Зачеркнуто: замерзнетъ совсѣмъ на стужѣ, и жилье-то, поди-ка, не топленое.
(обратно)143
Зач.: ласково.
(обратно)144
Зач.: здѣсь тепленько слава Богу.
(обратно)145
Зач.: башмачникъ усадилъ гостя
(обратно)146
Зач.: пристально смотрѣть.
(обратно)147
Зач.: «Наливай себѣ, Степанычъ, второй стаканъ», сказалъ онъ, не оборачиваясь. Дальнейшее есть вставка на отдельном листе бумаги, кончая словами: и опять подошелъ къ окну.
(обратно)148
Дальнейшее есть большая вставка на отдельном листе, кончая словами: перевернулъ стаканъ и всталъ — вместо зачеркнутого: «Да вотъ жду Господа», отвѣчалъ дядя Мартынъ, «обѣщался мимо моихъ оконъ пройти сегодня, я все и поджидаю, — какъ бы не пропустить Его, Господа, Іисуса Христа... вѣдь ты знаешь Его?»
— Какъ не знать; грамотѣ хоть не знаю, а слышалъ про Него, что Онъ Спаситель нашъ, и сердцемъ Его часто поминаю.
Авдѣича задѣло это за живое, и онъ сталъ разсказывать своему гостю, то и другое, что читалъ в Евангеліи про Спасителя, разсказалъ ему то, что читалъ наканунѣ; говорить, а самъ нѣтъ-нѣтъ, да и оборачивается к окошку. <Но вдругъ взоръ его остановился на молодой женщинѣ>
(обратно)149
Зач.: такъ Ему мѣста
(обратно)150
Зач.: что и слышимъ того, не такъ слышимъ изъ
(обратно)151
Зач.: не то, что вы всѣ которые
(обратно)152
Зачеркнуто: хаживалъ
(обратно)153
Зач.: ходилъ къ грѣшникамъ
(обратно)154
Зач.: Я, говоритъ
(обратно)155
Зач.: наконецъ Степанычъ
(обратно)156
Зач.: разсказали
(обратно)157
Зач.: будто и стоитъ онъ тутъ близко и говоритъ со мною
(обратно)158
Зач.: ради праздника Господня
(обратно)159
Зач.: башмачникъ опять прижалъ лицо къ стеклу
(обратно)160
Зач.: Вотъ
(обратно)161
Зач.: проходятъ шатающіяся фигуры
(обратно)162
Зач.: такъ и перебрасываетъ ихъ съ одной стороны улицы на другую; проходятъ
(обратно)163
Зач.: съ лотками
(обратно)164
Зач.: все это не новость
(обратно)165
Зач.: Мало обращаетъ на это вниманія. Но вдругъ взоръ его остановился на молодой женщинѣ
(обратно)166
Зач.: такая и на видъ голодная, что у старика защемило сердце
(обратно)167
Зачеркнуто: распахнулъ
(обратно)168
Зач.: своей коморки, сталъ на порогѣ
(обратно)169
Зач.: «Эй, голубушка»!
(обратно)170
Зач.: быть
(обратно)171
Зач.: красавица: сначала было испр. на умница, но и это зачеркнуто. «Красавица» было одно изъ любимыхъ словъ дяди Мартына; онъ употреблялъ его, говоря и съ толстой рыночной торговкой, и со старой сосѣдкой-прачкой, и со всѣми женщинами, безъ исключенiя, — будь онѣ молодыя, старыя, богатыя или бѣдныя.
(обратно)172
Зач.: пыталась попасть
(обратно)173
Зач.: не дождусь
(обратно)174
Зач.: «бѣдная, бѣдная»
(обратно)175
Зач.: растроганный
(обратно)176
Зач.: войди хоть ко мнѣ покуда
(обратно)177
Зач.: принялся угощать новых гостей
(обратно)178
Зач.: красавица
(обратно)179
Зач.: поставивъ передъ нею всѣ свои припасы
(обратно)180
Зач.: мнѣ покуда младенца передай
(обратно)181
Зач.: тонкую
(обратно)182
Зач.: дядя Мартынъ подавилъ однакоже вздохъ, разставаясь со своимъ сокровищемъ, съ тѣмъ, что онъ сработаль самаго лучшаго въ жизни.
(обратно)183
Зач.: их дитя
(обратно)184
Зачеркнуто: вернулся
(обратно)185
Зач.: такъ упорно смотрѣлъ
(обратно)186
Зач.: что это поразило его гостью
(обратно)187
Зач.: «Я жду моего Господа», отвѣчалъ башмачникъ
(обратно)188
Зач.: казалось, не поняла или не разслышала отвѣта
(обратно)189
Зач.: продолжалъ
(обратно)190
Зач.: еще маленькая
(обратно)191
Зач.: мнѣ подарили
(обратно)192
Зач.: Какъ выберется свободная минутка, все его
(обратно)193
Зач.: Ни до какой другой книжки, бывало, и охоты нѣтъ
(обратно)194
Зач.: «Вотъ Его то я теперь и жду», сказалъ старикъ. — И вы думаете. Онъ придетъ? «Думаю, что придетъ — Онъ мнѣ самъ такъ сказалъ, — можетъ ли это быть, хотѣлось бы и мнѣ подождать Его здѣсь.
(обратно)195
Зач.: мѣста
(обратно)196
Зач.: гостепріимство. А Евангеліе еще при тебѣ?
(обратно)197
Зач.: не при мнѣ — мужъ взялъ съ собой, какъ на службу пошелъ; я и рада, что онъ взялъ — думаю, отъ зла сбережетъ его, да и жаль было разстаться съ Божьей книгой».
(обратно)198
Зач.: старикъ
(обратно)199
Зач.: хоть ты и не дождешься Его здесь, сегодня; а можетъ быть, когда-нибудь и увидишь Его»
(обратно)200
Зачеркнуто: и бабы съ ребятишками. Проходили и нищіе, и увидавъ добродушное лицо, прижатое къ окошку, останавливались иной разъ, протягивая окоченѣвшую руку. То ломоть хлѣба, то мѣдная копѣйка попадала въ эти руки из коморки дяди Мартына; и нищіе проходили мимо. Но Господь не являлся. Далее на отдельном листе была сделана большая вставка, см. ниже стр. 682—683.
(обратно)201
Зач.: большимъ
(обратно)202
Зач.: стала укутывать перевязывать
(обратно)203
Зач.: шубенкой
(обратно)204
Зач.: выхватилъ изъ мѣшка охапку щепокъ
(обратно)205
Зач.: живо обернулась
(обратно)206
Зач.: Я чай у тебя и свои дѣти были. Пусти его, онъ не уйдетъ
(обратно)207
Зач.: Были и мы съ тобой такіе же. И у насъ такія же дѣти были. У меня была такая же да прибралъ ее Богь. У тебя что были дѣти, бабушка? Старуха не слушала Авдѣича до тѣхъ поръ, пока онъ не спросилъ ее были ли у нея дѣти, но когда онъ спросилъ ее объ этомъ, она вдругъ размякла. Было и у меня дѣдушка, да 8 человѣкъ, сказала она (зач. старуха) да только одна (зач. двое) осталась. И хорошіе были дѣти. Сынъ у меня умный Ва. Теперь внучки. Одинъ такой то. И вотъ имъ то и несу протопиться.
— Такъ вотъ жалѣешь ихъ и его пожалѣть надо.
(обратно)208
Зачеркнуто: Извѣстно, ребячье дѣло. Богъ съ нимъ, сказала старуха
(обратно)209
Зач.: отъ напряженія
(обратно)210
Зач.: заныло тоскою
(обратно)211
Зач.: весело
(обратно)212
Зач.: огоньки на елкѣ
(обратно)213
Зач.: уныло
(обратно)214
Зач.: почти не тронутый
(обратно)215
Зач.: даже и любимая книга не могла развѣять тоски.
(обратно)216
Зач.: съ тоски.
(обратно)217
Зач.: убогій
(обратно)218
Зачеркнуто: За ними шли нищіе, которымъ онъ подавалъ милостыню и каждый говорилъ въ свою очередь: «Развѣ ты не видалъ меня?»
(обратно)219
Зач.: которое онъ читалъ
(обратно)220
Зач.: то мѣсто, гдѣ сказано: «Кто приметъ одно такое дитя во Имя Мое, тотъ Меня принимаетъ (Матфея 18,5) и еще на эти слова:
(обратно)221
Зачеркнуто по ошибке.
(обратно)222
Так в рукописи.
(обратно)223
Эти слова зачеркнуты; слово пошел зачеркнуто и восстановлено.
(обратно)224
По ошибке написано: зaбрала.
(обратно)225
Приписка на полях: Всѣхъ повоевалъ и много царствъ отобралъ.
(обратно)226
Приписка чужою рукой: О картине Ге.
(обратно)227
На полѣ рукою Толстого при словахъ, поставленныхъ в скобки, приписано: Выпустить для цензуры.
(обратно)228
Так в рукописи.
(обратно)229
Слово его написано два раза.
(обратно)230
На полях против этих слов следующая запись, не прикрепленная к определенному месту текста: На всѣхъ лицахъ удивленіе добродушное, вопросъ: кто ты, зачѣмъ ты, человѣкъ изъ другаго міра, со свѣта, сошелъ въ нашъ адъ? И робость, робость, робость, смиреніе, виноватость, физическія страданія, и виноватость и робость. «Я не ѣлъ два дня». И похоже. «Зачѣмъ тутъ?» — «Билетъ просрочилъ. Вотъ заберутъ до четверга».
(обратно)231
Последняя фраза приписана на полях без обозначения места, за которым она должна следовать. Но, судя по контексту, она должна быть именно на этом месте.
(обратно)232
[Да здраіствует культура, хотя бы погиб мир.]
(обратно)233
На полях написано: признакъ науки, что она не нужна.
(обратно)234
Так в подлиннике.
(обратно)235
[убеждение, мнение,].
(обратно)236
Из доклада П. К. Симоки в заседании Русского географического общества, Отделение этнографии, 28 апреля 1917 г. — «О Е. В. Барсове по случаю его смерти» (2стр.).
(обратно)237
«Письма Толстого к жене». М. 1915, стр. 253.
(обратно)238
И. Толстой, «Мои воспоминания», М. 1914, стр. 103—104.
(обратно)239
Феодор, епископ едесский, жил в царствование византийских императоров Михаила и Феодоры и умер в 848 г.
(обратно)240
«Русский Рабочий» — ежемесячный журнал, основан в СПБ. в 1875 г. пашковкой М. Г. Пейкер. Журнал издавался до 1886 г. и продолжался после смерти издательницы в 1880 г. с перерывом в два года дочерью М. Г. Пейкер — А. И. Пейкер.
(обратно)241
Том 85, стр. 199.
(обратно)242
Конст. Аполлон. Савицкий, художник-передвижник (1844—1905).
(обратно)243
Том 85, стр. 210.
(обратно)244
Письмо к А. А. Фету в декабре 1870 г.
(обратно)245
Письмо к А. А. Фету в январе 1871 г.
(обратно)246
Письмо к Фету 17 июля 1871 г.
(обратно)247
Письмо к С. А. Толстой 23 июня 1871 г.
(обратно)248
Базилевич, Местечко Александровка Черниговской губ. Сосницкого уезда. Этнографический сборник, вып. I, Спб. 1853.
(обратно)249
«Slavia. R. 7, S. 2. Praha. 1928.
(обратно)250
Том 85, стр. 211.
(обратно)251
ТЕ 1913. 2, стр. 23.
(обратно)252
«Альбом художественных произведений H. Н. Ге», изд. H. Н. Ге (сына) и «Посредник» М. 1904.
(обратно)253
«Русский вестник» 1901 г. № 3, стр. 137.
(обратно)254
«Отечественные записки» 1864, т. 152.
(обратно)255
Г. 3. Кунцевич, «Три старца» Л. Н. Толстого и «Сказание о явлениях Августину» (Историко-литературный сборник, посвящ. Вс. И. Срезневскому), Л. 1924, стр. 201—296.
(обратно)256
Бирюков, П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Изд. 3, т. 2, стр. 122.
(обратно)257
В. И. Срезневский «Язык и легенда в записях Л. Н. Толстого» (Ф. С. Ольденбург, к пятидесятилетию научно-общественной деятельности 1882—1932, Сборник статей, стр 476).
(обратно)258
Толстовский ежегодник 1913 года. П. 1914. II. 25, 2 пр. т. 85, стр. 229.
(обратно)259
См. «Русские сказки и песни в Сибири и др. материалы». Красноярск, 1902, под редакцией Потанина.
(обратно)260
«Русский вестник» 1901, 3, стр. 137.
(обратно)261
См. том 85, стр. 276.
(обратно)262
Там же, стр. 276.
(обратно)263
Там же, стр. 276.
(обратно)264
См. том 85, стр. 121.
(обратно)265
Письмо Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову пос. апр. 1885, т. 85, стр. 160.
(обратно)266
Т. 85, стр. 173—174.
(обратно)267
ТЕ, 191З г., II, стр. 17.
(обратно)268
П. И. Бирюков. Биография, т. 3, М. 1923, стр. 23.
(обратно)269
Там же, т. 3, стр. 23.
(обратно)270
См. том 85, стр. 270.
(обратно)271
П. И. Бирюков, Биография, т. 3, стр. 23.
(обратно)272
Письмо Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову. См. т. 85, стр. 270.
(обратно)273
Письма Л. Н. Толстого к жене. М. 1915, стр. 277.
(обратно)274
См. том 85, стр. 270.
(обратно)275
См. т. 85, стр. 280.
(обратно)276
Письма Л. Н. Толстого к жене. М. 1915 от 21 ноября 1886 г. стр. 286.
(обратно)277
Письма Л. Н. Толстого к жене. М. 1915, стр. 293.
(обратно)278
Том 85, стр. 317.
(обратно)279
Том 85, стр. 324.
(обратно)280
См. т. 85, стр. 422.
(обратно)281
См. А. Н. Афанасьев, «Народные русские сказки». Москва, 1897, 2, № 122.
(обратно)282
Имеется в ИРЛИ.
(обратно)283
См. иллюстрированное приложение к № 231 «Русского листка» за 1903 г. Перепечатано в книге С. Шарапова «Неопознанный гений», М. 1903, стр. 90.
(обратно)284
Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910, изд. 2, М., 1915, стр. 151. В дальнейшем цитаты из писем Толстого к Софье Андреевне по этому изданию.
(обратно)285
Отставной артиллерийский поручик А. П. Иванов, человек материально опустившийся, обитатель московского «дна», работавший у Толстого в качестве переписчика
(обратно)286
См. том 85 настоящего издания, стр. 42—43
(обратно)287
C. A. Юрьев — редактор журнала «Русская мысль», для которой статья была предназначена.
(обратно)288
Том 85, стр. 52.
(обратно)289
Т. е. «Смерть Ивана Ильича» и «Записки сумасшедшего».
(обратно)290
Том 85, стр. 58.
(обратно)291
«Русские ведомости». 1911, № 225.
(обратно)292
Том 85, стр. 95.
(обратно)293
Там же, стр. 121.
(обратно)294
В примечании к этим словам С. А. Толстая пишет: „В это время Л. Н. работал над сочинением «Так что же нам делать?»“
(обратно)295
К кн. Л. Д. Урусову в Тулу.
(обратно)296
ПЖ, стр. 240—244, 247—248.
(обратно)297
Том 85, стр. 133.
(обратно)298
Первые шестнадцать глав соответствовали первым шестнадцати главам окончательного печатного текста, семнадцатая представляла собой первую редакцию главы о деньгах, восемнадцатая глава соответствовала двадцать второй, девятнадцатая — двадцать третьей, двадцатая — первой половине двадцать четвертой главы окончательного печатного текста.
(обратно)299
ПЖ, стр. 249—250.
(обратно)300
Том 63 настоящего издания, стр. 206.
(обратно)301
И. И. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого», III, М. 1922, стр. 10.
(обратно)302
Том 85 стр. 153.
(обратно)303
Том 63, стр. 203.
(обратно)304
Том 85, стр. 144.
(обратно)305
Том 63, стр. 212.
(обратно)306
См. ПЖ, стр. 249, 253, 254, 257.
(обратно)307
Том 85, стр. 154.
(обратно)308
Том 63, стр. 225.
(обратно)309
Том 85, стр. 157.
(обратно)310
Том 85, стр. 160.
(обратно)311
Там же, стр. 202.
(обратно)312
Там же, 85, стр. 205—206.
(обратно)313
Том 63, стр. 316.
(обратно)314
Хранится в ГТМ (архив А. Л. Толстой). Публикуется впервые.
(обратно)315
N, N, очевидно, условные обозначения двух других статей — «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?», понятные для переписчика этого чернового предисловия.
(обратно)316
После этих слов рукой С. А. Толстой приписано: «к которому автор относится с уважением и доверием».
(обратно)317
См. том 85, стр. 213.
(обратно)318
В. М. Грибовский — тогда гимназист 8 класса, проявлявший большой интерес к Толстому и его учению. Впоследствии он стал профессором-юристом консервативного направления и от учения Толстого совершенно отошел.
(обратно)319
Том 85, стр. 209—210.
(обратно)320
E. П. Свешникова — переводчица, сотрудница издательства «Посредник».
(обратно)321
Том 85, стр. 238.
(обратно)322
Том 85, стр. 241. В это же время в сходных выражениях о своей работе над «Так что же нам делать?»Толстой пишет и кн. Л. Д. Урусову около 14 июня. (См. том 63, стр. 275.)
(обратно)323
Том 85, стр. 246.
(обратно)324
Там же, стр. 250.
(обратно)325
П. Бирюков. «Биография Л. Н. Толстого», II, стр. 40.
(обратно)326
«Сказка oб Иване дураке и его двух братьях», сочинение Толстого,
(обратно)327
Том 63, стр. 289—290.
(обратно)328
С A. П. Ивановым, переписчиком рукописей Толстого.
(обратно)329
Том 85, стр. 267.
(обратно)330
О рассказе «Два старика».
(обратно)331
Ф. Э. Спенглер — знакомый Толстого, друг В. Г. Черткова, сельский учитель в Воронежской губернии.
(обратно)332
Том 85, стр. 269—270.
(обратно)333
Там же, стр. 274.
(обратно)334
Там же, стр. 280.
(обратно)335
ПЖ. стр. 287.
(обратно)336
Том 85, стр. 324.
(обратно)337
В письме к Толстому от 8 апреля С. А. Толстая сообщает: «Двенадцатую часть цензура пропустила. Завтра выйдет». А на следующий день — 9 апреля она пишет: «Завтра мой двенадцатый том поступает в свет» (АТБ).
(обратно)338
1887 год, как год выхода этой брошюры, указан на внутренней стороне обложки второго издания книги «Какова моя жизнь?».
(обратно)339
Что книга появилась не ранее 1889 г. видно из того, что на внутренней стороне обложки второго издания «Какова моя жизнь?», вышедшего в 1889 г., «Что же нам делать»? не значится в числе прочих находящихся в продаже книг Толстого.
(обратно)340
Впервые вариант этот опубликован в издании «Л. Н. Толстой. Неизданные тексты». Редакции и комментарии Н. К. Гудзия и H. Н. Гусева. Предисловие И. М. Нусинова. Academia — ГПХЛ, 1933, стр. 309—321
(обратно)341
Эпизод с гренадером, о котором рассказывается в этом варианте, впоследствии изъят из «Так что же нам делать?» и перенесен в статью «В чем моя вера?» (2-я глава).
(обратно)342
Впервые вариант этот опубликован в издании «Л. Н. Толстой. Неизданные тексты», стр. 321—323.
(обратно)343
Впервые вариант этот опубликован в издании «Л. Н. Толстой. Неизданные тексты», стр. 323—324.
(обратно)344
Co всей этой главы, как она читается в данной рукописи, снята была на пишущей машинке копия, напечатанная на одной стороне четырех развернутых листов писчей бумаги. Копия хранится в ГТМ (AЧ). На ней рукой В. Г. Черткова сделана следующая карандашная пометка: «Изь этихъ листовъ просятъ ничего не выписывать, такъ какъ они черновые и войдутъ въ статью «Какова моя жизнь» въ измѣненномъ видѣ».
(обратно)345
Они единственно и напечатаны, будучи отделены от предшествовавшей главы тремя рядами многоточий.
(обратно)346
В 1880-х годах 1-й Смоленский переулок назывался Никольским. Никольским называет его и Толстой.
(обратно)347
Письмо это приведено в статье проф. И. А. Малиновского «Л. Н. Толстой и крестьянин Бондарев». — «Речь», 1912, № 38.
(обратно)348
А. С. Пругавин, «Из встреч с Л. Н. Толстым. I. Два «гениальных мужика». — «Русские ведомости», 1911, № 157.
(обратно)349
А не Л. Е. Оболенскому, как ошибочно указывает A. Л. Бем в «Библиографическом указателе творений Л. Н. Толстого», Лгр., 1926, стр. 81. Напечатано в т. 85, стр. 345—349.
(обратно)350
Том 85, стр. 351.
(обратно)351
Том 63, стр. 357.
(обратно)352
В 1886 г. перевод «Учения двенадцати апостолов» сделан был еще братом Вл. Соловьева М. С. Соловьевым. Вл. Соловьев написал к этому переводу обширное введение, напечатанное впервые в июльской книжке «Православного обозрения» за 1886 г.
(обратно)353
В яснополянской библиотеке имеются два издания «Учения двенадцати апостолов»: русское (киевское): «Учение двенадцати апостолов. Ново-открытый памятник древней церковной литературы в переводе с греческого, с введением и примечаниями К. Попова». Издание 2-е, исправленное. Киев. 1885, и немецкое: «Lehre der Zwölf Apostel. Nach der Ausgabe des Metropoliten Philopheos Bryennios mit Beifügung des Urtextes nebst Einleitung und Noten, ins deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. Wünsche». 3-tter Abdruck, Leipzig, 1884. В обеих книгах многочисленные отметки рукой Толстого.
(обратно)354
ПЖ, стр. 249.
(обратно)355
Том 63, стр. 212.
(обратно)356
Том 85, стр. 142.
(обратно)357
Владимир Николаевич Маракуев — издатель популярных книг, выходивших по преимуществу под общим названием «Народная библиотека». Через него В. Г. Чертков вошел в сношение с И. Д. Сытиным по делу печатания книг для народа.
(обратно)358
Д. Е. Оболенский — редактор «Русского богатства».
(обратно)359
Том 85, стр. 144.
(обратно)360
См. ПЖ, стр. 254.
(обратно)361
Том 63, стр. 242.
(обратно)362
Том 85, стр. 229.
(обратно)363
Том 63, стр. 280.
(обратно)364
Том 85, стр. 251.
(обратно)365
Там же стр. 250.
(обратно)366
Александра Михайловна Калмыкова (1849—1926), рожд. Чернова, вдова сенатора Д. А. Калмыкова, известная деятельница по народному просвещению в 1887—1888 гг. Вместе с X. Д. Алчевской участвовала в составлении первой в этом роде книжки «Что читать народу?» (Харьков, 1884). Принимала живое участие в деятельности комитета грамотности при Петербургском Вольно-экономическом обществе. В течение нескольких лет работала в народных и воскресных школах. Первое время по открытии издательства «Посредник» принимала близкое участие в его редакции. В 1890-х гг. принимала участие в издании социал-демократического журнала «Начало», а после запрещения его в 1899 г. — журнала «Жизнь». Преимущественно на ее средства, доставлявшиеся ей ее книжным складом, издавалась за границей социал-демократическая газета «Искра». В начале 1900 гг., после высылки из Петербурга, уехала за границу. Находилась в личном общении и переписке с В. И. Лениным. Вернулась в Россию в 1905 г. Последние годы жила в санатории Центральной комиссии по улучшению быта ученых (Цекубу), в Детском селе, где и умерла.
(обратно)367
Том 63, стр. 225.
(обратно)368
Том 63, стр. 215.
(обратно)369
Там жe, стр. 220.
(обратно)370
Там же, стр. 237.
(обратно)371
Там же, стр. 174.
(обратно)372
Там же, стр. 174.
(обратно)373
Глава IX книжки. Заглавие Калмыковой сохранено.
(обратно)374
Почти весь текст этой главы, за исключением нескольких начальных фраз, в рукописи Калмыковой зачеркнут Толстым и на полях им написан новый текст. Глава эта ошибочно занумерована Толстым цыфрой VIІІ. Эта ошибочная нумерация IX главы, видимо, и подала повод А. Л. Бему в «Биографическом указателе творений Л. Н. Толстого», Лгр — 1926, стр. 18, утверждать, что в книжке Толстым самостоятельно написана глава VIII.
(обратно)375
См том 85, стр. 197.
(обратно)376
Том 63, стр. 248.
(обратно)377
Том 85, стр. 202.
(обратно)378
Том 63, стр. 252. Здесь Толстой имеет в виду «Диалоги» Платона, которыми он пользовался при переработке «Сократа»: «Эвгифрон», «Апология Сократа», «Федон» («О загробной жизни и смерти») и «Протагор». «Последний разговор о святости» Толстой, видимо, намерен был включить в главу XII — «Последняя беседа Сократа», но ни в эту главу, ни в какую-либо другую этот разговор не попал. Беседа о загробной жизни, как и разговор из Протагора, в книжке также отсутствуют. Много позднее беседа Сократа о загробной жизни введена была Толстым в его статью «Смерть Сократа», вошедшую в «Круг чтения».
(обратно)379
Том 85, стр. 207.
(обратно)380
Том 63, стр. 255.
(обратно)381
Воспоминания о Сократе, написанные его учеником Ксенофонтом.
(обратно)382
Том 85, стр. 210.
(обратно)383
См. том 85, стр. 227.
(обратно)384
Том 85, стр. 225.
(обратно)385
Том 63, стр. 261.
(обратно)386
Там же, стр. 270.
(обратно)387
Этот миф изложен в главе II, озаглавленной «Как жить надо?»
(обратно)388
Глава IX, озаглавленная в книжке «Что нужно знать каждому человеку?»
(обратно)389
Приблизительно двадцать лет спустя Толстой вновь вернулся к работе над «Сократом» и написал о нем две статьи для «Круга чтения» — «Суд над Сократом» и «Смерть Сократа». В этих статьях использованы были кое-какие материалы, послужившие и для книжки «Греческий учитель Сократ», но сами статьи написаны другим стилем, не столь популярным, как книжка.
(обратно)390
Том 63, стр. 237.
(обратно)391
Том 85, стр. 197.
(обратно)392
Там же, стр. 198.
(обратно)393
Том 85, стр. 363.
(обратно)394
Архимандрит Леонид, знаток церковной письменности.
(обратно)395
«Новый сборник писем Л. Н. Толстого». Собралъ П. А. Сергеенко. Под редакцией А. Е. Грузинского. М. 1912, стр. 19.
(обратно)396
В. Г. Чертков.
(обратно)397
Том 63, стр. 255.
(обратно)398
Общие сведения о Бондареве, его сочинении и об отношениях к Бондареву Толстого см. в примечаниях к статье «Так что же нам делать?», стр. 836—837.
(обратно)399
Толстой ошибочно причисляет Бондарева к молоканам, тогда как он принадлежал к секте субботников.
(обратно)400
Т. 85, стр. 241—242.
(обратно)401
См. том 63, стр. 275.
(обратно)402
Очевидно, в упомянутой статье Глеба Успенского.
(обратно)403
Том 63, стр. 276.
(обратно)404
Л. Н. Жебунева.
(обратно)405
Том 63, стр. 332.
(обратно)406
Там же, стр. 337—338.
(обратно)407
Том 85, стр. 322.
(обратно)408
Там же, стр. 358.
(обратно)409
Том 63, стр. 363.
(обратно)410
Там же, стр. 352.
(обратно)411
«Знакомые». Альбом М. И. Семевского. Спб. 1888, стр. 396.
(обратно)412
«Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборн. второй. Редакция В. Г. Черткова и H. Н. Гусева. М. 1926, стр. 56.
(обратно)413
«Толстовский Музей», т. II. Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым. Спб. 1914, стр. 364.
(обратно)414
ТЕ 1913 г., стр. 60.
(обратно)415
Дочери Толстого — Марии Львовны
(обратно)416
ТЕ 1913 г., стр. 120.
(обратно)417
Там же, стр. 61.
(обратно)418
См. Ю. Битовт. «Граф Л. Толстой в литературе и искусстве». М. 1903, стр. 273.
(обратно)419
П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. II, изд. 3. М. 1926, стр. 205—206.
(обратно)420
В связи с этим именем И. Л. Толстой говорит следующее: Была у него [Л. Н. Толстого Н. Г.] еще поговорка «для Прохора»... В детстве меня учили играть на фортепианах. Я был страшно ленив и всегда играл кое-как, лишь бы отбарабанить свой час и убежать. Вдруг как-то папа слышит, что раздаются из залы какие-то бравурные рулады, и не верит своим ушам, что это играет Илюша. Входит в комнату и видит, что это действительно играю я, а в комнате плотник Прохор вставляет зимние рамы. Только тогда он понял, почему я так расстарался. Я играл «для Прохора». И сколько раз потом этот «Прохор» играл большую роль в моей жизни, и отец упрекал меня им». («Мои воспоминания», стр. 56.)
(обратно)421
Помимо прочего, намек на Л. Д. Урусова виден тут и в рекомендуемом ему лечении — «соединение с семьей»; жена Урусова с детьми жила в Париже.
(обратно)422
Пругавин. «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания» изд. II, Cпб. 1895, стр. 276.
(обратно)423
Том 85, стр. 27.
(обратно)424
Том 85, стр. 30.
(обратно)425
Там же, стр. 106.
(обратно)426
Том 85, стр. 52.
(обратно)427
Там же, стр. 171.
(обратно)428
Там же, стр. 175.
(обратно)429
Там же. стр. 205.
(обратно)430
Там же, стр. 214.
(обратно)431
Там же, стр. 210.
(обратно)432
Там же, стр. 250.
(обратно)433
Так, в июне 18S2 г. в письме к H. Н. Страхову Толстой благодарит его за присылку какой-то книги о Конфуции и указывает на то, что мысль беседы Христа с Никодимом ясно выражена у Конфуция (т. 63, стр. 98). Возможно, что через посредство того же Страхова Толстой познакомился и с учением Лао-тзе, а также и с книгой о нем St. Julien’a, оказавшей на Толстого очень большое влияние. Еще 20 января 1878 г. Страхов пишет Толстому: «Лаоцзы я привел из книги St. Julien: «Le livre de la voie et de la vertu, par Lao-Tseu». По некоторым выражениям книга эта показалась мне очень глубокою, но я еще не занимался ею как следует» («Толстовский музей». II. Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 143).
(обратно)434
Том 85. стр 30.
(обратно)435
Там же, стр. 33.
(обратно)436
Там же, стр. 37.
(обратно)437
Там же, стр. 356, 369.
(обратно)438
П. И. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, изд. 3-е, стр. 141.
(обратно)439
См. «Лев Толстой и В. В. Стасов». Переписка 1878—1906. Лгр. 1929, по указателю.
(обратно)440
Том 85, стр. 308.
(обратно)441
ПЖ, стр. 300.
(обратно)442
Том 85, стр 356.
(обратно)443
Там же, стр 369.
(обратно)444
«Толстовский музей», т. II. Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 334. В письме от 22 августа Страхов рекомендует Толстому еще ряд книг о буддизме (там же, стр. 336).
(обратно)445
П. И. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, изд. 3-е, т. III, стр. 141.
(обратно)446
ТЕ 1913 г., стр. 48.
(обратно)447
Сведения об этом см. в ТЕ 1913 г., стр. 54, примечание, и журнал «Единение», 1916 г, № 1, стр. 27, примечание В. Г. Черткова.
(обратно)448
Речь идет о стихотворной поэме Эдвина Арнольда «The light of Asia» («Свет Азии») 1879, посвященной жизни и учению Будды.
(обратно)449
ТЕ 1913 г., стр. 54.
(обратно)450
Там же, стр. 61.
(обратно)451
ТЕ 1913, стр. 61.
(обратно)452
Там же, стр. 75.
(обратно)453
Там же, стр. 75.
(обратно)454
В письме от 1 июня Толстой рекомендует Черткову — по указанию Н. Н. Страхова — книгу Rhys Davids «Buddhism» (Lond., 1878).
(обратно)455
Oldenberg «Buddha».
(обратно)456
ТЕ 1913 г., стр. 71.
(обратно)457
Там же, стр. 82.
(обратно)458
Работа Эртеля над Буддой нам неизвестна.
(обратно)459
«Единение», 1916, № 1, с та л. 28.
(обратно)460
Кроме того, в автографах всюду вместо «индусы» — «индейцы», вместо, «индийский» — «индейский».
(обратно)
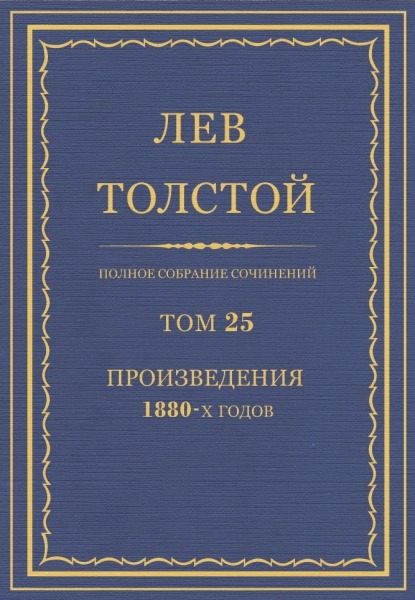



Комментарии к книге «ПСС. Том 25. Произведения, 1880 гг.», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев