Лев Николаевич Толстой Полное собрание сочинений. Том 20. Анна Каренина. Черновые редакции и варианты
Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва — 1939
Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик»
Организаторы: Государственный музей Л.Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY
Подготовлено на основе электронной копии 20-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой
Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru
Предисловие к электронному изданию
Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.
Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая
Перепечатка разрешается безвозмездно.
----------
Reproduction libre pour tous les pays
АННА КАРЕНИНА
РЕДАКТОР
Н. К. ГУДЗИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТОМУ ТОМУ.
Черновые материалы к «Анне Карениной», публикуемые в настоящем томе, сохранились в значительной своей части, но, к сожалению, не полностью. Так, прежде всего, утрачено около половины наборной рукописи; утрачены и некоторые рукописные тексты — промежуточные между ранними черновыми набросками романа и текстом наборной рукописи. Возможно, что существовали, помимо сохранившихся планов, и такие, которые до нас не дошли. В самом незначительном количестве сохранились корректуры романа, особенно корректуры текста, печатавшегося в журнале «Русский вестник».
Почти все черновые материалы, относящиеся к «Анне Карениной», публикуются впервые. Публикация их, как правило, делается в порядке развития сюжета, применительно к окончательному тексту романа.
С самого начала работы над рукописями и корректурами «Анны Карениной» редактору оказывал помощь В. П. Гончаров. Кроме того, в переписке вариантов редактору помогали М. В. Булыгин, С. А. Стахович и В. В. Шершенев. Указатель собственных имен составлен В. С. Мишиным.
Н. Гудзий.
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.
Тексты произведений, печатавшихся при жизни Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:
Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).
Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках.
В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.
Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.
Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.
Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый» вместо «который» и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.
Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.
Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.
После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]
На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.
Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.
Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.
Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение и отдельных зачеркнутых слов в ломаных скобках в тексте, а не в сноске.
Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.
В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.
При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.
Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: Абзац редактора.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.
Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.
Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого, *** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.
АННА КАРЕНИНА. ЧЕРНОВЫЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ
ПЛАНЫ И ЗАМЕТКИ К «АННЕ КАРЕНИНОЙ».
* № 1 (рук. № 1).
Прологъ. Она выходитъ за мужъ подъ счастл[ивыми] auspices.[1] Она ѣдетъ <встрѣчать> утѣшать невѣcтку и встрѣчаетъ Гагина.
1 часть.
1 глава. Гости собирались въ концѣ зимы, ждали Кар[ениныхъ] и говорили про нихъ. Она пріѣхала и неприлично вела себя съ Гагин[ымъ].
2 глава. Объясненіе съ мужемъ. Она упрекаетъ за прежнее равнодушіе. «Поздно»
3 глава. <Въ артели> Гагинъ изъ манежа собирается ѣхать на свиданье. Его мать и братъ совѣтуютъ ему, онъ ѣдетъ къ ней. <Вечеръ у нея. Мужъ.>
4-я глава. Обѣдъ у Карен[иныхъ] съ Гагинымъ. Мужъ, разговоръ съ братомъ. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] успокоиваетъ и на счетъ нѣмецк[ой] партіи и на счетъ жены.
5-я глава. Скачки — падаетъ.
6 глава. Она бѣжитъ къ нему, объявляетъ о беременности, объясненье съ мужемъ.
2 часть.
1 глава. Сидятъ любовники, и онъ умоляетъ разорвать съ муж[емъ]. Она отдѣл[ывается], говоритъ, что умру.
2 глава. Мужъ въ Москвѣ, С[тепанъ] А[ркадьичъ] затаскиваетъ къ себѣ, уѣзжаетъ въ клубъ, разговоръ съ его женою. Семья С[тепана] А[ркадьича]. Несчастье А[лексѣя] А[лександровича], говоритъ, что выхода нѣтъ, надо нести крестъ.
<3 глава. Читаетъ всѣ романы, изучаетъ вопросъ. Все невозможно. Ѣдетъ къ Троицѣ, встрѣча съ нигилистомъ, его утѣшеніе. Говѣетъ. Телеграма. Я умираю, прошу прощенье. Пріѣзжай.
3 глава. Ея сонъ опять. Ея ужасъ <— дьяволъ>. Его пропустить и сына.
4 глава. Роды, оба ревутъ. — Благополучно.
5-я глава. Поддерживаетъ въ себѣ христ[iанское] чувство, опускаетъ [ш]торки,[2] и все напоминаетъ, страдаетъ. Они шепчутся[3] о томъ, что это невозможно.
6-я глава. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] предлагаетъ разводъ. Послѣдняя тщетная [?], онъ соглашается и уѣзжаетъ.>
<3-я часть.>
6 глава. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] устроиваетъ по просьбѣ Г[агина] и Н[ана], и А[лексѣй А[лександровичъ] соглашается подставить др[угую] щеку.
3 часть.
1 глава. Въ обществѣ хохотъ. Хотятъ соболѣзнованье. Онъ пріѣзжаетъ; но дома рыдаетъ.
2 глава. <Отпоръ> въ обществѣ, никто не пріѣзжаетъ <кромѣ дряни, она блеснуть. Сцена его ей.
3 глава. Онъ отсѣкнулся, сынъ къ матери, и онъ бьется, какъ бабочка.
4-я глава. У нее нигилисты. Онъ уѣзжаетъ> ихъ ругаетъ. <Она ревнуетъ. Такъ надо ѣхать въ деревню.
5-я глава. Онъ въ клубѣ играетъ. Они въ деревнѣ, ничего, кромѣ живот[ныхъ] отн[ошеній]; устроили жизнь къ чему? Онъ уѣзжаетъ. Такъ и я ѣду.
6-я глава. Установилось; онъ въ свѣтѣ, она дома, ея отчаяніе.
4-я часть.
1 глава. А[лексѣй] А[лександровичъ] шляется, какъ несчастный, и умираетъ. Его братья. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] Видитъ ее и чуетъ, что она несчастлива, желалъ бы помочь ей. Одно — христ[iанская] любовь. Она отталкиваетъ. Сплетница экономка. Ледъ таетъ. Она жалѣетъ и раскаевается.
2-я глава. Онъ веселъ, пріѣзжаетъ. Болтунъ возбуждаетъ ея ревность. А дома несчастливъ. На войну нельзя.
3-я глава Афронтъ отъ Кн. М. на дѣтяхъ. Болтунъ, ревность, débâcle[4] чувства. Праздная [?] [1 неразобр.], еще сонъ.
4-я глава. Пріѣзжаетъ А[лексѣй] А[лександровичъ].> Съ Гаг[инымъ] страшная сцена. Я не виновата.
5-я глава. Она уходитъ изъ дома и бросается.
6-я глава. Оба мужа, братъ.
Эпилогъ. А[лексѣй] А[лександровичъ] воспитываетъ <дѣтей> сына.> Гагинъ въ Ташкентѣ.[5]
* № 2 (рук. № 1).
1 Она отврат[ительная] женщ[ина].
2 Ищетъ только его [?].
3 Свѣтъ потухъ. За[чѣмъ][6] я не умерла.
Жестъ закрытія руками отъ стыда
Распроважно. А[лексѣй] А[лександровичъ] объясняется и говоритъ плишелъ, и хочется смѣяться и жалко.
Очень важное. Гимнастъ, гордъ, приличенъ и вдругъ передъ ея лаской раскисъ.
Еще важнѣе. После 6 недѣль онъ соблазняетъ ее. Она — уйди, уйди. Нѣтъ, кончено. Но будетъ дурно, и улыбнулся.
Лучше бы я умерла.
Богу молитесь, батюшка!
Они думаютъ, что онъ можетъ переносить это, и онъ ужъ [1 неразобр.]
Онъ ошибся, не разочтя на жизнь, и въ отчаяніи.
За обѣ[домъ?]
Вставлены зубы у А[лексѣя] Александровича].
Анна Каренина Мщеніе мое Соломонъ [?] Алабинъ К[нязь] Удашевъ Ордындевъ К[нязь] Щербатскій Острожскій Исаенковъ Базыкинъ Жидковъ Орѣховъ Вереницынъ Липоваловъ* № 3 (рук. № 1).
1.
Ссора Об[лонского] съ женой. Левинъ, предложенье, Анна миритъ. Балъ и отъѣздъ въ П[етер]б[ургъ].
2.
Вечеръ въ П[етер]б[ургѣ], объясненіе. Сцена съ мужемъ. Доктора отправляютъ загр[аницу]. Тяга въ деревню.
3.
Свершилось. Покосъ. Встрѣча въ каретѣ. Обида [?] мужа. Скачки. Объясненіе съ мужемъ.
4.
Ал[ексѣй] Ал[ександровичъ] ѣдетъ разводиться. Обѣдъ у Обл[онскаго]. Нигилисты въ Петерб[ургѣ], роды, прощеніе.
5.
Сватьба К[ити] и Левина и разрѣшеніе судьбы Вр[онскаго] и Кар[ениной].
6.
Въ деревнѣ женатый. Охота. Поѣздка Долли. Житье Анны съ Вронскимъ. Маркевичъ, разсказъ о Петерб[ургскомъ] житьѣ.
7.
Въ Москвѣ, роды Кити. Житье Анны. Сцена за нигилистовъ. Переѣздъ въ Петербурга, свиданье съ мужемъ и сыномъ и смерть ребенка.
<7.
Ложа, блескъ, афронтъ. Сцена ей. Смерть ребенка. Не причемъ жить. Переѣздъ Обл[онскаго] съ женой въ Петер[бургъ] и Левиныхъ.>
8.
Свиданіе съ сыномъ и мужемъ. На дачѣ. Ревность къ Кити. Мать. Смерть.>
8.
Левины и Алабины въ Москвѣ. Пріѣзжаетъ Вронскій къ матери. Онъ у Левина. Анна, <мученья> <смерть ребенка> мученья ревности. Мать, смерть.
<1. У Удашева. 2. Ссора, ревность: 3. У Удашевыхъ. Ничего, кромѣ чувств[енности]. Надо ѣхать въ Петерб[ургъ]>.
4-я часть.
1.
А[лексѣй] А[лександровичъ] въ министерствѣ, въ свѣтѣ, видитъ жену въ Лѣтн[емъ] саду. Мальчикъ, сестра.
2.
<Афронтъ въ> Лѣтн[ій] садъ, блескъ. Афронтъ — коляска или ложа, блескъ. Сцена Уд[ашева] ей.
3.
Орд[ынцевъ] въ Петербургъ для старика отца въ параличѣ. Счастье оч[ень] столкн[улось] съ сумбуромъ. Не боятся уже встрѣчъ съ Уд[ашевымъ]. Анна. Клубъ, Уд[ашевъ] играетъ.> Отсѣкнулись оба мужа.
4.
Алабинъ въ Петербургѣ. Удашевъ играетъ съ Грабе, пріѣзжаетъ домой — нигилисты. Сцена.
5.
Мать, ѣдетъ> Анна мучает[ся], ѣдетъ объясняться съ матерью. Искушенье съ Грабе.
6.
Свиданіе съ сыномъ и мужемъ, ревность къ Уд[ашеву].
7.
<Смерть.> Собирается на смерть изъ дома.
8.
Ордынцевы и Алабинъ узнаютъ подробности и А[лексѣй] А[лександровичъ].
9.
Эпилогъ.
* № 4 (рук. № 1).
1 часть.
1 гл. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] встаетъ и объясняется съ женой.
2 гл. С[тепанъ] А[ркадьичъ] видится съ Орд[ынцевымъ]. Орд[ынцевъ] исполненъ жизни. Куча предпріятій.
3 гл. Въ Зоолог[ическомъ] с[аду] Орд[ынцевъ] съ быкомъ и коньки съ К[ити].
4 гл. Обѣдъ <и объясненія о женитьбѣ> втроемъ. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] заѣзжаетъ <домой> къ тещѣ, примиренье. Я винов[атъ], что хо[тите?]
5 гл. <Вечеръ у Щерб[ацкихъ]. Орд[ынцевъ] навралъ, напуталъ.>
6 гл. <И уѣхалъ въ деревню.>
7 гл. <Примиренье съ Д[олли].>
8 гл. Пріѣздъ А[нны] К[арениной]. На жел[ѣзной] дорогѣ.
9 гл. Всѣхъ обворажив[аетъ].
10 гл. Балъ у Губерн[атора] и отъѣздъ въ Пет[ербургъ] съ Уд[ашевымъ].[7]
<2 часть.>
1 гл. Вечеръ въ Пет[ербургѣ] весною.
2 гл. Лживое объяснен[iе] съ мужемъ.
3 гл. Положеніе мужа въ свѣтѣ.
4 гл. <Въ артели Удаш[евъ] и свид[аніе].> — Покосъ, баба, путаница.
5 гл. <Скачки, паденіе.> — Сосѣди. Сближеніе <и поѣздки на скачки>.
6 гл. <Свиданіе съ нимъ.> — <Удаш[евъ] въ артели. Спасенье.>
7 гл. <Признаніе мужу.> — <Скачки, паденіе. Поѣздка въ Петербургъ.> У[дашевъ], Ст[епанъ] Арк[адьичъ].
8 гл. <Покосъ, баба, народъ, путаница.> — <Свиданье с ней.> Скачки, паден[іе].
9 гл. <Сосѣди K., сближеніе, баба.> — <Признанье мужу.> Свид[аніе] съ н[имъ].
10 гл. <Спасенье, сближенье.> — Признанье мужу.
3 часть.
1 гл. Въ Петерб[ургѣ] встрѣч[аетъ] мужа. Объяснен[iе] между любо[вниками?].
2 гл. А[лексѣй] А[лександровичъ] въ Москву.
3 гл. Адвокатъ.
4 гл. Духовникъ.
5 гл. А[лексѣй] А[лександровичъ] съ Д[олли].
6 гл. Обѣдъ.
7 гл. Телегр[амма] и отъѣздъ въ Пет[ербургъ].
III часть.
8 гл. Роды.
9 гл. <Отношенія> Крот[ость] А[лексѣя] А[лександровича].
10 гл. Возобновило любовь.
<4 часть.
1 гл. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] устроиваетъ разв[одъ].
2 глава. Любовникъ устроива[етъ] тоже и бракъ.
3-я глава.>
4-я часть.
<1 гл. Бракъ Орд[ынцева] съ Кити. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] пос[аженный] отецъ.>
2 гл. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] устроиваетъ разводъ.
3 гл. Люб[овники] объясняютъ и о томъ же.
4 гл. Бракъ Уд[ашева] съ Анной.
5 гл. Жизнь А[лексѣя] А[лександровича] въ Петерб[ургѣ].
IV часть.
<6 гл.> Какъ жилъ Орд[ынцевъ].
<7 гл.> Варитъ варенье, разговоръ..
<8 гл.> Пріѣздъ Ст[епана] Аркадьича] и охота.
<9 гл.> Поѣздка Долли.
<10 гл.> Сцена между К[ити] и О[рдынцевымъ] и между Уд[ашевымъ] и А[нной].
5 часть.
1 гл. А[лексѣй] А[лександровичъ] живетъ съ сыномъ.
2 гл. Встрѣча съ жен[ой] на Нев[скомъ].
3 гл. Удашевы, ихъ среда и жи[знь].
4 гл. Театръ — и [1 неразобр.] на б[ольшой?] сцен[ѣ].
5 гл. Смерть ребенка в Мо[сквѣ].
6 гл. Нигилисты, любовь Граб[е].
7 гл. Объясненіе съ матерью и отчаянно от [?]
8 гл. <Кити живетъ и хочетъ ли [?]>
9 гл. Узнаетъ о мнимой невѣрности и бросается.
10 гл. Ст[епанъ] Арк[адьичъ] рыдаетъ.
Эпилогъ.
* № 5 (рук. № 1).
Не спалъ всю ночь, счастливъ и страшно, съ лакеемъ говоритъ. Съ Стивой. Всѣхъ заговорилъ. Какъ могутъ они спать.
Завтра — черезъ недѣлю. Вы съ ума сошли, но рада.
Нордстонъ, и та сіяла. Она прямо бросилась къ нему <обняла его>, отдалась ему, рѣшительно, близко, близко къ нему.
Кн[язь] А[лександръ] Д[митричъ] обнималъ Княгиню и лабунился къ ней. Высыпала прислуга.
Глупъ ужасно. Конфеты дѣлаютъ. Стива прелесть.
Все будетъ иначе, чѣмъ у другихъ.
Въ театръ. Пьеса.
Постоянно забываетъ, что онъ не она.
Она признанье — онъ. Ей тяжело, но простила.
Всѣ знаютъ всѣ озабочены.
* № 6 (рук. № 1).
Она гордится имъ на скачкѣ, весела.
Возвратившись къ чаю, она не дьявольское, а просто безумно счастлива.
Онъ предлагаетъ денегъ на дачѣ.
Нѣтъ, кажется. Да!
Краснѣетъ.
Женихъ толстый, пьяный и невѣста хоро[ша].
Платье изъ Парижа.
Новый флигельад[ъютантъ] пѣтушится [?].
Въ отставку рѣшительно.
Уѣзжаетъ на ревизію и объясняется.
Ст[епанъ] Арк[адьичъ] жалѣетъ. И она злится, онъ не любитъ.
* № 7 (рук. № 1).
Кити ужасно жалѣетъ, что должна отказать Левину. И ей совѣстно призн[аться], что она не отказ[ала] бы, если бы не было Удашева.
Съ Ст[епаномъ] Ар[кадьичемъ] за обѣдомъ о братѣ Николаѣ.
Съ Кити на конькахъ о мачихѣ.
Съ братомъ о братѣ Никол[аѣ].
Долли, характ[еръ].
От[ецъ] Кн[язь] сердито смотритъ на заманиванье.
<Д[олли] слабая, кислая немног[о].>
* № 8 (рук. №.1).
Вр[онскій] о земледѣліи.
Общество земледѣлія.
Встрѣчаетъ на улицахъ, всѣ скачутъ.
Ст[епанъ] Арк[адьичъ] говоритъ про натянутость и ужасъ положенія Ан[ны].
«Надо быть cпокойнымъ».
Онъ бросается оправдаться, защитить, помочь. И тоже.
Досада на нее, на Бога.
Желаніе удрать и назадъ.
Иверская.
* № 9 (рук. № 1).
1) Начать съ дѣйствія, <уничто[жить]> перенести въ конецъ о разговорахъ.
Чувство униженія, когда совралъ.
2) Вронской подсѣлъ за обѣдомъ.
3) Сцена Вр[онскаго] съ Анной. «Тебѣ упрямство, а если бы ты зналъ, что мнѣ».
<Онъ ужаснулся.> Она поняла, и онъ опять освободился.
4) Отвращеніе къ ребенку, ничего веселаго, и ужасно жалко. —
Сельскохозяйственные.
Увидавъ Анну, Кити мелка.
Дома мелка.
При родахъ раскаяніе.
3 дня побѣда.
* № 10 (рук. № 1).
Эпилогъ.
Кити бѣжала навстрѣчу.
С[ергѣй] И[вановичъ] доказываетъ православіе.
Пчельникъ.
Грудной чай, мочала.
Тѣнь. Лопухи.
Гудѣніе пчелъ, полнота.
Смотритъ въ окно на звѣзды. — Астрономія, прямое восхожденіе не мѣшаетъ.
Молитва о спасеніи.
Только признаніе власти.
Одно добро не имѣетъ причины и послѣдствій.
Непроницаемая броня: Да души то ужъ никакой.
А она рада, что онъ испугался.
Ливень идетъ.
* № 11 (рук. №38).
Во снѣ, просыпается. Неужели это правда? Все кончено?
Покосъ <не убираетъ>, народъ, <баба>.
Напуталъ, не с[о]вралъ.
Недостаточно — ѣдетъ <въ Москву. Разгов[оръ] съ Ал[абинымъ]. Ты правъ. Работа умственная къ сосѣдямъ.
Нечаянное сближеніе. И свобода уже тяжела.
Надѣялся васъ видѣть въ Москвѣ.
3) Сѣно и открываетъ мужу.
4) Въ Москвѣ и роды.
5) Въ деревнѣ оба.
Римъ. Ордынцевъ и Кити.
Долинъ Иванскій, и онъ одинъ.
3 часть.
Въ деревнѣ у Долли.
Она смирилась и знаетъ свое несчастье.
Покосъ и зарей въ каретѣ.
— Вы пріѣдете? — Нѣтъ.
Толки про связь Анны.
Встрѣтилъ въ каретѣ.[8]
* № 12 (рук. № 96).
<Обѣдъ, разговоръ о прогрессѣ.>
<Разговоръ передъ обѣдомъ.> Я должна сказать, кто и кто у насъ. Думаютъ, что я хочу доказать. Я ничего не хочу, не знаю.
Щурится.
Не рожать.
Имя Анночка.
Переписка съ Алексѣемъ Александровичемъ.
Онъ тебѣ не говорилъ про свои общественныя обязанности.
Тяж[ело], грустно, хочется домой.
Обидно Д[олли] за Кн[ягиню] Варвару.
Анна знаетъ Архитект[уру].
Помѣщикъ говоритъ о сословіи, какъ о дубѣ.
Вронской на выборахъ.
Свіяжскій.
Записка отъ нея. Пріѣзжаетъ домой. Морфинъ. И ужъ она знаетъ, что онъ тяготится ею. То пусть тяготится, но будетъ тутъ. Утромъ поѣздка на бѣга.
* № 13 (рук. № 101).
Слав[янскій] вопросъ занималъ всѣхъ. А[лексѣй] А[лександровичъ]. Л[идія] И[вановна] бросила общ[ество] христ[іанское]. Редактор[ы] безъ газетъ. Мин[истры] безъ минист[ерствъ]. Полков[одцы] безъ армій. С[ергѣй] И[вановичъ] ѣдетъ грустный. Книгу избранили. Слав[янскій] вопросъ предвосхитилъ. Ѣдетъ съ Катав[асовымъ] отдохнуть. Проводы на станціи. Гр[афиня] Вр[онская] провожаетъ сына. Разговорилась съ С[ергѣемъ] И[вановичемъ], разсказ[ываетъ] о первомъ врем[ени]. Вр[онскій] угрюмый. Жизнь моя мнѣ не нужна, такъ отдать ее за дѣло.
—————
Хозяйство Левина продолжало занимать его, безъ плана, съ сознаніемъ долга, самопожертвованія. Одно — неясность больше и больше мучала его, во всемъ искалъ, унизился [?]. Разговоръ съ мельникомъ. Легъ, трава узломъ. Не для нуждъ, только не дурно, со всѣми вмѣстѣ, какъ дѣти... Запњло въ душњ.
Пришелъ домой. Разговоръ съ Катавасовымъ о религіи, съ С[ергѣемъ] И[вановичемъ] о слав[янскомъ] вопросѣ; разрушилось.
Гроза. Бѣжитъ за Митей съ Кити. <Кити съ Долли говоритъ о полити[кѣ] [?], Стива, любовь>. И такъ важно, что думаетъ о разрушеніи. Вечеромъ въ тишинѣ опять взглядъ отворачивается.
Ахъ, какъ хорошо. Онъ узнаетъ. Еще любовь, другая только, забота, трудъ безъ радости.
Катавас[овъ] особая порода.
Думая матерьялистично, только стоитъ думать до конца, и придешь къ худшей безсмыслицѣ.
Левинъ видѣлъ Анну на столѣ и Вронскаго съ поднятой панталоной, безъ шапки.
Грѣхъ, объясненіе зла и смерти.
Грудница.
Тоска весеняя [?]
Любовь.
Спасенъ.
Узнаетъ.
Гроза.
С[ергѣй] И[вановичъ], книга; безъ дѣла скучаетъ.
Катавасовъ разстроилъ его вѣрованіе. Возстанавливается въ тишинѣ ночи.
ВАРИАНТЫ К «АННЕ КАРЕНИНОЙ»
** № 1 (рук. №2).
МОЛОДЕЦ—БАБА.
1.
Гости послѣ[9] оперы съѣзжались къ молодой Княгинѣ[10] Врасской. Княгиня Мика, какъ ея звали въ свѣтѣ, только успѣла, пріѣхавъ изъ театра, снять шубку[11] передъ окруженнымъ цвѣтами зеркаломъ въ ярко освѣщенной передней; еще она отцѣпляла маленькой ручкой въ перчаткѣ упрямо зацѣпившееся кружево за крючокъ шубки, когда изъ подъ лѣстницы показалось въ накинутомъ на высокую прическу красномъ башлыкѣ красивое личико Нелли, и слышалось военное легкое бряцаніе шпоръ и сабли ея мужа, и показалась вся сіяющая плѣшивая приглаженная голова и усатое лицо ея мужа.
Княгиня Мика разорвала, сдернувъ, перчатку и всетаки не выпростала и разорвала кружево. <Она> улыбкой встрѣтила гостей, которыхъ она только что видѣла въ театрѣ.
— Сейчасъ вытащу мужа изъ его кабинета и пришлю къ вамъ, — проговорила она и скрылась за тяжелой портьерой. — Чай въ большой гостиной, — сказала она толстому дворецкому, прошедшему за нее, — и Князя просить.
Пока Княгиня Мика въ уборной съ помощью встрѣтившей ея франтихи горничной розовыми пальчиками, напудренными лебяжьимъ пухомъ, какъ бы ощупывала свое лицо и шею и потомъ стирала эту пудру и горничная ловкими быстрыми пальцами и гребнемъ потрогивала ее прическу, давая ей прежнюю свѣжесть, и пока Нелли съ мужемъ въ передней снимали шубы, передавая ихъ[12] [на руки] слѣдившихъ за каждымъ ихъ движенiемъ ожидавшихъ двухъ въ чулкахъ и башмакахъ лакеевъ, ужъ входная большая стеклянная дверь нѣсколько разъ беззвучно отворилась швейцаромъ, впуская новыхъ гостей.
Почти въ одно и тоже время хозяйка съ освѣженными лицомъ и прической вышла изъ одной двери и гости изъ другой въ большую темную отъ обажуровъ гостиную, и естественно все общество сгрупировалось около круглаго стола съ серебрянымъ самоваромъ.
Разговоръ, какъ и всегда въ первые минуты сбора, дробился на привѣтственныя рѣчи, на предложеніе чая, шутки, замѣчанія объ оперѣ, пѣвцахъ и пѣвицахъ, какъ будто отъискивая предметъ и не позволяя быть болѣе завлекательнымъ, пока еще продолжали входить гости.
— Ахъ, пожалуйста, не будемъ говорить объ Нильсонъ. Я только и слышу это имя и одно и тоже о ней и все такое, что должно быть ново, но что уже сдѣлалось старо.
— А Китти будетъ? Отчего я давно ее не вижу?
— Она обѣщала; но ты знаешь, какъ можно разсчитывать на душу въ кринолинѣ, — отвѣчала хозяйка. — Да и потомъ мнѣ кажется, что у ней есть что то на сердцѣ. Боюсь не съ Ана ли что нибудь.
— Ана такъ мила!
— О да. Могу я вамъ предложить чашку чая, — обращалась она къ Генералу. — А вотъ и Serge.
— Разскажите мнѣ что нибудь злое и веселое, — говорила извѣстная умница фрейлина молодому Дипломату.
— Говорятъ, что злое и смѣшное несовмѣстимо, но я попробую, если вы мнѣ дадите тему.
Хозяинъ, молодой человѣкъ съ умнымъ и истомленнымъ лицомъ, вышелъ изъ боковой двери и здоровывается съ гостями.
— Какъ вамъ понравилась[13] Нильсонъ, Графиня? — говоритъ онъ, неслышно подойдя по мягкому ковру к полной красивой дамѣ въ черномъ бархатномъ платьѣ.
— Какъ можно такъ пугать, — отвѣчаетъ дама, перегибаясь къ нему съ своимъ вѣеромъ и подавая ему руку въ перчаткѣ, которую она не снимаетъ, потому что рука ея некрасива. — Не говорите, пожалуйста, про оперу со мной. Вы думаете, что вы спускаетесь до меня, а я этаго вамъ не позволяю. Я хочу спуститься до васъ, до вашихъ гравюръ. Разскажите мнѣ, какіе новыя сокровища вы нашли на толкучемъ...
Совершенно незамѣтно столъ устанавливается всѣмъ, что нужно для чая, гости размѣстились всѣ у круглаго стола. Мущины обходятъ не слышно кресла дамъ и берутъ изъ рукъ хозяйки прозрачныя дымящіяся паромъ чашки чая. Хозяйка стоитъ съ рукой съ отставленнымъ розовымъ мезинчикомъ на серебряномъ кранѣ и выглядываетъ изъ самовара на гостей и на двери и даетъ знаки въ тѣни стоящимъ 2-мъ лакеямъ. Разговоръ изъ отрубковъ фразъ начинаетъ устанавливаться въ разныхъ группахъ и, для того чтобы сдѣлаться общимъ и завлекательнымъ, разумѣется, избираетъ своимъ предметомъ лица всѣмъ извѣстныя, и, разумѣется, объ этихъ лицахъ говорятъ зло, иначе говорить было бы нечего, такъ какъ счастливые народы не имѣютъ исторіи.
Такого рода разговоръ установился въ ближайшемъ уголкѣ къ хозяйкѣ, и теперь этотъ разговоръ имѣетъ двойную прелесть, такъ какъ тѣ, о которыхъ злословятъ, друзья хозяйки и должны пріѣхать нынѣшній вечеръ; говорятъ о молодой[14] Анастасьѣ (Ана[15] Гагина, какъ ее зовутъ въ свѣтѣ) и о ея мужѣ. Молодой дипломатъ самъ избралъ эту тему, когда упомянули о томъ, что Пушкины обѣщались быть сегодня, но не могли пріѣхать рано, потому что у Алексѣя Александровича какой то комитетъ, а она всегда ѣздитъ только съ мужемъ.
— Я часто думалъ, — сказалъ дипломатъ, — что, какъ говорятъ, народы имѣютъ то правительство, котораго они заслуживаютъ, такъ и жены имѣютъ именно тѣхъ мужей, которыхъ онѣ заслуживаютъ, и Ан[астасья?] Аркадьевна[16] Каренина вполнѣ заслуживаетъ своего мужа.
— Знаете ли, что, говоря это, вы, для меня по крайней мѣрѣ, дѣлаете похвалу ей.
— Я этаго и хочу.
— Только какъ онъ можетъ спокойно спать съ такой женой. И съ всякимъ другимъ мужемъ она бы была героиней стариннаго романа.
— Она знаетъ, что мужъ ея замѣчательный человѣкъ, и[17] она удовлетворяется. Она примѣрная жена.
— Была.
— Я никогда не могла понять, Княгиня, — сказала фрейлина, что въ немъ замѣчательнаго. Если бы мнѣ всѣ это не твердили, я бы просто приняла его за дурачка. И съ такимъ мужемъ не быть героиней романа — заслуга.
— Онъ смѣшонъ.
— Стало быть, не для нея, — сказала хозяйка. — Замѣтили вы, какъ она похорошѣла. Она положительно не хороша, но если бы я была мущиной, я бы съ ума сходила отъ нея, — сказала она, какъ всегда женщины [говорятъ?] это, ожидая возраженія.
Но какъ ни незамѣтно это было, дипломатъ замѣтилъ это, и, чтобъ подразнить ее, тѣмъ болѣе что это была и правда, онъ сказалъ:
— О да! Послѣднее время она расцвѣла. Теперь или никогда для нея настало время быть героиней романа.
— Типунъ вамъ на языкъ, — сказала хозяйка.
Хозяйка говорила, но ни на минуту не теряла взгляда на входную дверь.
— Здраствуйте,[18] Михаилъ Аркадьичъ, — сказала она,[19] встрѣчая[20] входившаго сіяющаго цвѣтомъ лица, бакенбардами и бѣлизной жилета и рубашки молодцоватаго Облонскаго.
— А сестра ваша Анна будетъ? — прибавила она громко, чтобы разговоръ о ней замолкъ при ея братѣ. — Пріѣдетъ она?
— Не знаю, Княгиня. Я у нее не былъ.
И Степанъ Аркадьичъ, знакомый со всѣми женщинами и на ты со всѣми мущинами, добродушно раскланивался, улыбаясь и отвѣчая на вопросы.
— Откуда я? Чтожъ дѣлать? Надо признаваться. Изъ Буффовъ. La Comtesse de Rudolstadt[21] прелесть. Я знаю, что это стыдно, но въ оперѣ я сплю, а въ Буффахъ досиживаю до послѣдняго конца и всласть. Нынче..
— Пожалуйста, не разсказывайте про эти ужасы.
— Ну, не буду, чтоже дѣлать, мы Москвичи еще не полированы и терпѣть не можемъ скучать.
Дама въ бархатномъ платьѣ подозвала къ себѣ Степана Аркадьича.
— Ну что ваша жена? Какъ я любила ее. Разскажите мнѣ про нее.
— Да ничего, Графиня. Вся въ хлопотахъ, въ дѣтяхъ, въ классахъ, вы знаете.
— Говорятъ, вы дурной мужъ, — сказала дама тѣмъ шутливымъ тономъ, которымъ она говорила объ гравюрахъ съ хозяиномъ.
[22]Михаилъ Аркадьичъ[23] разсмѣялся. Если отъ того, что я не люблю скучать, то да. Эхъ, Графиня, всѣ мы одинаки. Она не жалуется.
— Ну, а что ваша прелестная свояченица Кити?
— Она очень больна, уѣхала за границу.
Степанъ Аркадьичъ оглянулся, и лицо его еще больше просіяло.
— Вотъ кого не видалъ все время, что я здѣсь, — сказалъ онъ, увидавъ входившаго[24] Вронскаго.
— Виноватъ, Графиня, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ и, поднявшись, пошелъ къ вошедшему.
Твердое, выразительное лицо[25] Гагина съ свѣже выбритой, но синѣющей отъ силы растительности бородой просіяло, открывъ сплошные, правильнаго полукруга здоровенные зубы.
— Отчего тебя[26] нигдѣ не видно?
— Я зналъ, что ты здѣсь, хотѣлъ къ тебѣ заѣхать.
— Да, я дома, ты бы заѣхалъ. Однако какъ ты оплѣшивѣлъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, глядя на его почти голую прекрасной формы голову и короткіе черные, курчавившіеся на затылкѣ, волосы.
— Что дѣлать? Живешь.
— Ну, завтра обѣдать вмѣстѣ. Мнѣ сестра про тебя говорила.
— Да, я былъ у ней.
[27]Вронскій замолчалъ, оглядываясь на дверь. Степанъ Аркадьичъ посмотрѣлъ на него.
— Что ты оглядываешься? Ну, такъ завтра обѣдать у Дюссо въ 6 часовъ.
— Однако я еще съ хозяйкой двухъ словъ не сказалъ, — и Вронскій пошелъ къ хозяйкѣ съ пріятными, такъ рѣдко встрѣчающимися въ свѣтѣ пріемами скромности, учтивости, совершеннаго спокойствія и достоинства.
Но и хозяйка, говоря съ нимъ, замѣтила, что онъ нынче былъ не въ своей тарелкѣ. Онъ безпрестанно оглядывался на дверь и ронялъ нить разговора. Хозяйка въ его лицѣ, какъ въ зеркалѣ, увидала, что теперь вошло то лицо, которое онъ ждалъ. Это[28] была Нана Каренина впереди своего мужа.
Дѣйствительно, они были пара: онъ прилизанный, бѣлый, пухлый и весь въ морщинахъ; она некрасивая съ[29] низкимъ лбомъ, короткимъ, почти вздернутымъ носомъ и слишкомъ толстая. Толстая такъ, что еще немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромныя черныя рѣсницы, украшавшія ея сѣрые глаза, черные огромные волоса, красившія лобъ, и не стройность стана и граціозность движеній, какъ у брата, и крошечныя ручки и ножки, она была бы дурна. Но, несмотря на некрасивость лица, было что-то въ добродушіи улыбки красныхъ губъ,[30] такъ что она могла нравиться.[31]
Хозяйка мгновенно сообразила вмѣстѣ нездоровье[32] Мари, сестры Каренина, и удаленіе ея послѣднее время отъ свѣта. Толки толстой дамы о томъ, что[33] Вронскій, какъ тѣнь, вездѣ за[34] Анной и его пріѣздъ нынче, когда онъ не былъ званъ,[35] связало всѣ эти замѣчанія.[36]
«Неужели это правда?» думала она.
— Хотите чая? Очень рада васъ видѣть. Вы, я думаю, со всѣми знакомы. А вотъ и Анна, — сказала она самымъ небрежнымъ тономъ, но глаза ея слѣдили за выраженіемъ лица Вронскаго, и ей завидно стало за то[37] чувство и радости и страха, которое выразилось на лицѣ Вронскаго при входѣ Анны.
Анна своимъ обычнымъ твердымъ и необыкновенно легкимъ шагомъ, показывающимъ непривычную въ свѣтскихъ женщинахъ физическую силу, прошла тѣ нѣсколько шаговъ, которые отдѣляли ее отъ хозяйки, и при взглядѣ на Вронскаго, блеснувъ сѣрыми глазами, улыбнулась свѣтлой доброй улыбкой. Она крѣпко пожала протянутыя руки своей крошечной сильной кистью[38] и быстро сѣла.[39] И когда она заговорила своимъ яснымъ, отчетливымъ, безъ одной недоговорки или картавленья голосомъ, всегда чрезвычайно пріятнымъ, но иногда густымъ и какъ бы воркующимъ, нельзя было, глядя на ея удивительныя не костлявыя и не толстыя мраморныя плечи, локти и грудь, на[40] оконечности, ловкую силу движеній и простоту и ясность пріемовъ, не признать въ ней, несмотря на некрасивую небольшую[41] голову, нельзя было не признать ее привлекательною. На поклонъ[42] Вронскаго она отвѣчала только наклоненіемъ[43] головы,[44] но слегка покраснѣла и обратилась къ хозяйкѣ:
— Алексѣй не могъ раньше пріѣхать, а я дожидалась его и очень жалѣю.
Она смотрѣла на[45] входившаго мужа. Онъ съ тѣмъ наклоненіемъ головы, которое указываетъ на умственное напряженiе, подходилъ лѣнивымъ шагомъ къ хозяйкѣ.[46]
Алексѣй Александровичъ не пользовался[47] общимъ всѣмъ людямъ удобствомъ серьезнаго отношенія къ себѣ ближнихъ. Алексѣй Александровичъ, кромѣ того, сверхъ общаго всѣмъ занятымъ мыслью людямъ, имѣлъ еще для свѣта несчастіе носить на своемъ лицѣ слишкомъ ясно вывѣску сердечной доброты и невинности. Онъ часто улыбался улыбкой, морщившей углы его глазъ, и потому еще болѣе имѣлъ видъ ученого чудака или дурачка, смотря по степени ума тѣхъ, кто судилъ о немъ.
Алексѣй Александровичъ былъ человѣкъ страстно занятый своимъ дѣломъ и потому разсѣянный и не блестящій въ обществѣ. То сужденіе, которое высказала о немъ толстая дама, было очень естественно.
* № 2 (рук. № 3).
<2-я часть.>
I.
[48]Пріѣхавъ изъ оперы, хозяйка только успѣла въ уборной опудрить свое худое, тонкое лицо и[49] худощавую шею и грудь, стереть эту пудру, подобрать выбившуюся прядь волосъ, приказать чай въ большой гостиной и вызвать мужа изъ кабинета, какъ ужъ одна за другой стали подъѣзжать кареты,[50] и гости, дамы, мущины, выходили на широкій подъѣздъ, и огромный швейцаръ беззвучно отворялъ огромную стеклянную дверь, пропуская мимо себя пріѣзжавшихъ. Это былъ небольшой избранный кружокъ петербургскаго общества, случайно собравшійся пить чай послѣ оперы у Княгини[51] Тверской, прозванной въ свѣтѣ Княгиней[52] Нана.[53]
Почти въ одно и тоже время хозяйка съ освѣженной прической и лицомъ вышла изъ одной двери и гости изъ другой въ большую гостиную съ темными cтѣнами, глубокими пушистыми коврами и ярко освѣщеннымъ столомъ, блестѣвшимъ бѣлизною скатерти, серебрянаго самовара и чайнаго прибора. Хозяйка сѣла за самоваръ, сняла перчатки и, отставивъ розовый мезинчикъ, повертывала кранъ, подставивъ чайникъ, и, передвигая стулья и кресла съ помощью незамѣтныхъ въ тѣни лакеевъ, общество собралось у самовара и на противуположномъ концѣ, около красивой дамы въ черномъ бархатѣ и съ черными рѣзкими бровями. Разговоръ, какъ и всегда въ первыя минуты, дробился, перебиваемый привѣтствіями, предложеніемъ чая, шутками, какъ бы отъискивая, на чемъ остановиться.
— Она необыкновенно хороша, какъ актриса; видно что она изучила Каульбаха, — говорилъ дипломатъ.
— Ахъ, пожалуйста, не будемъ говорить про Нильсонъ. Про нее нельзя сказать ничего новаго, — сказала толстая бѣлокурая дама, вся бѣлая, безъ бровей и безъ глазъ.
— Вамъ будетъ покойнѣе на этомъ креслѣ, — перебила хозяйка.
— Разскажите мнѣ что-нибудь[54] забавное, — говорилъ женскій голосъ.
— Но вы не велѣли говорить ничего злаго. Говорятъ, что злое и смѣшное несовмѣстимы, но я попробую. Дайте тему.[55]
— Какъ вамъ понравилась Нильсонъ, Графиня? — сказалъ хозяинъ, подходя къ толстой и[56] бѣлокурой дамѣ.
— Ахъ, можно ли такъ подкрадываться. Какъ вы меня испугали, — отвѣчала она, подавая ему руку въ перчаткѣ, которую она не снимала, зная что рука красна.[57] — Не говорите, пожалуйста, про оперу со мной. Вы ничего не понимаете въ оперѣ. Лучше я спущусь до васъ и буду говорить съ вами про ваши маіолики и гравюры. Ну, что за сокровища вы купили послѣдній разъ на толкучкѣ? Они, какъ ихъ зовутъ, — эти, знаете, богачи банкиры Шпигельцы — они насъ звали съ мужемъ, и мнѣ сказывали, что соусъ стоилъ 1000 рублей; надо было ихъ позвать, и я сдѣлала соусъ на 85 копѣекъ, и всѣ были очень довольны. Я не могу дѣлать 1000 рублевыхъ соусовъ.
— Нѣтъ, моя милая, мнѣ со сливками, — говорила дама[58] безъ шиньона, въ старомъ шелковомъ платьѣ.
— Вы удивительны. Она прелесть.
Наконецъ разговоръ установился, какъ ни пытались хозяева и гости дать ему какой-нибудь новый оборотъ, установился, выбравъ изъ 3-хъ неизбѣжныхъ путей — театръ — опера, послѣдняя новость общественная и злословіе. Разговоръ около чернобровой дамы установился о пріѣздѣ въ Петербургъ короля, а около хозяйки на обсужденіи четы Карениныхъ.
— А[59] Мари не пріѣдетъ? — спросила толстая дама у хозяйки.
— Я звала ее и брата ее. Онъ обѣщался съ женой, а она пишетъ, что она нездорова.
— Вѣрно, душевная болѣзнь. Душа въ кринолинѣ, — повторила она то, что кто то сказалъ о[60] Мари, извѣстной умницѣ, старой дѣвушкѣ и сестрѣ[61] Алексѣя Александровича Каренина.
— Я видѣла ее вчера, — сказала толстая дама. — Я боюсь, не съ[62] Анной ли у нее что нибудь.[63] Анна очень перемѣнилась со своей Московской поѣздки. Въ ней есть что то странное.
— Только некрасивыя женщины могутъ возбуждать такія страсти, — вступила въ разговоръ прямая съ римскимъ профилемъ дама.[64] — Алексѣй Вронскій сдѣлался ея тѣнью.
— Вы увидите, что[65] Анна дурно кончитъ, — сказала толстая дама.
— Ахъ, типунъ вамъ на языкъ.
— Мнѣ его жалко, — подхватила прямая дама. — Онъ такой замѣчательный человѣкъ. Мужъ говоритъ, что это такой государственный человѣкъ, какихъ мало въ Европѣ.
— И мнѣ тоже говоритъ мужъ, но я не вѣрю. Если бы мужья наши не говорили, мы бы видѣли то, что есть, а по правдѣ, не сердись,[66] Нана, Алексѣй Александровичъ по мнѣ просто глупъ. Я шепотомъ говорю это. Но неправда ли, какъ все ясно дѣлается. Прежде, когда мнѣ велѣли находить его умнымъ, я все искала и находила, что я сама глупа, не вижу его ума, а какъ только я сказала главное слово — онъ глупъ, но шопотомъ, все такъ ясно стало, не правда ли?
Обѣ засмѣялись, чувствуя, что это была правда.
— Ахъ, полно,[67] ты нынче очень зла, но и его я скорѣе отдамъ тебѣ, а не ее. Она такая славная, милая. Ну, что же ей дѣлать, если Алексѣй[68] Вронскій влюбленъ въ нее и какъ тѣнь ходитъ за ней.
— Да, но за нами съ тобой никто не ходитъ, а ты хороша, а она дурна.
— Вы знаете М-me Каренинъ, — сказала хозяйка, обращаясь къ молодому человѣку, подходившему къ ней. — Рѣшите нашъ споръ — женщины, говорятъ, не знаютъ толку въ женской красотѣ. M-me Кар[енинъ] хороша или дурна?
— Я не имѣлъ чести быть представленъ М-me К[арениной], но видѣлъ ее въ театрѣ, она положительно дурна.
— Если она будетъ нынче, то я васъ представлю, и вы скажете, что она положительно хороша.[69]
— Это про[70] Каренину говорятъ, что она положительно дурна? — сказалъ молодой Генералъ, вслушивавшійся въ разговоръ.
И онъ улыбнулся, какъ улыбнулся бы человѣкъ, услыхавший, что солнце не свѣтитъ.
Около самовара и хозяйки между тѣмъ, точно также поколебавшись нѣсколько времени между тремя неизбѣжными тэмами: послѣдняя общественная новость, театръ и осужденіе ближняго, тоже, попавъ на послѣднюю, пріятно и твердо установился.
— Вы слышали — и Мальтищева — не дочь, а мать — шьетъ себѣ костюмъ diable rose.[71]
— Не можетъ быть?! Нѣтъ, это прелестно.
— Я удивляюсь, какъ съ ея умомъ, — она вѣдь не глупа, — не видѣть ridicule этаго.[72]
Каждый имѣлъ что сказать, и разговоръ весело трещалъ, какъ разгорѣвшійся костеръ.
Мужъ Княгини Бетси, добродушный толстякъ, страстный собиратель гравюръ, узнавъ, что у жены гости, зашелъ передъ клубомъ въ гостиную. Онъ
* № 3 (рук. № 4).
I.
Молодая хозяйка, только что, запыхавшись, взбѣжала по лѣстницѣ и еще не успѣла снять соболью шубку и отдать приказанья дворецкому о большомъ чаѣ для гостей въ большой гостиной, какъ ужъ дверь отворилась и вошелъ генералъ съ молодой женой, и ужъ другая карета загремѣла у подъѣзда.[73] Хозяйка только улыбкой встрѣтила гостей (она ихъ видѣла сейчасъ только въ оперѣ и позвала къ себѣ) и, поспѣшно отцѣпивъ[74] крошечной ручкой въ перчаткѣ кружево отъ крючка шубы, скрылась за тяжелой портьерой.
— Сейчасъ оторву мужа отъ eго гравюръ и пришлю къ вамъ, — проговорила хозяйка изъ за портьеры и бѣжитъ въ уборную оправить волосы, попудрить рисовымъ порошкомъ и обтереть душистымъ уксусомъ.
Генералъ съ блестящими золотомъ эполетами, а жена его [съ] обнаженными плечами оправлялась передъ зеркалами между цвѣтовъ. Два беззвучные лакея слѣдили за каждымъ ихъ движеніемъ, ожидая мгновенія отворить двери въ зало. За генераломъ вошелъ близорукій дипломатъ съ измученнымъ лицомъ, и пока они говорили, проходя черезъ зало, хозяйка, ужъ вытащивъ мужа изъ кабинета, шумя платьемъ, шла на встрѣчу гостей въ большей гостиной по глубокому ковру. Въ обдуманномъ, не яркомъ свѣтѣ гостиной собралось общество.
— Пожалуйста, не будемъ говорить объ[75] Віардо. Я сыта Віардою. Кити обѣщала пріѣхать. Надѣюсь, что не обманетъ. Садитесь сюда поближе ко мнѣ, князь. Я такъ давно не слыхала вашей желчи.[76]
— Нѣтъ, я смирился ужъ давно. Я весь вышелъ.
— Какже не оставить про запасъ для друзей?
— Въ ней много пластическаго, — говорили съ другой стороны.
— Я не люблю это слово.
— Могу я вамъ предложить чашку чая?
По мягкому ковру обходятъ кресла и подходятъ къ хозяйкѣ за чаемъ. Хозяйка, поднявши розовый мизинчикъ, поворачиваетъ кранъ серебрянаго самовара и передаетъ китайскія прозрачныя чашки.
— Здраствуйте, княгиня, — говоритъ слабый голосъ изъ за спины гостьи. Это хозяинъ вышелъ из кабинета. — Какъ вамъ понравилась опера — Травіата, кажется? Ахъ, нѣтъ, Донъ Жуанъ.
— Вы меня испугали. Какъ можно такъ подкрадываться. Здраствуйте.
Она ставитъ чашку, чтобъ подать ему тонкую съ розовыми пальчиками руку.
— Не говорите, пожалуйста, про оперу, вы ее не понимаете.
Хозяинъ здоровывается съ гостями и садится въ дальнемъ отъ жены углу стола. Разговоръ не умолкаетъ. Говорятъ [о] Ставровичѣ и его женѣ и, разумѣется, говорятъ зло, иначе и не могло бы это быть предметомъ веселаго и умнаго разговора.
— Кто то сказалъ, — говоритъ[77] адъютантъ, — что народъ имѣетъ всегда то правительство, которое онъ заслуживаетъ; мнѣ кажется, и женщины всегда имѣютъ того мужа, котораго онѣ заслуживаютъ. Нашъ общій другъ Михаилъ Михайловичъ Ставровичъ есть мужъ, котораго заслуживаетъ его красавица жена.
— О! Какая теорія! Отчего же не мужъ имѣетъ жену, какую...
— Я не говорю. Но госпожа Ставровичъ слишкомъ хороша, чтобъ у нее былъ мужъ, способный любить...
— Да и съ слабымъ здоровьемъ.
— Я однаго не понимаю, — въ сторону сказала одна дама, — отчего М-me Ставровичъ вездѣ принимаютъ. У ней ничего нѣтъ — ни имени, ни tenue,[78] за которое бы можно было прощать.
— Да ей есть что прощать. Или будетъ.
— Но прежде чѣмъ рѣшать вопросъ о прощеніи обществу, принято, чтобъ прощалъ или не прощалъ мужъ, а онъ, кажется, и не видитъ, чтобы было что нибудь à pardonner.[79]
— Ее принимаютъ оттого, что она соль нашего прѣснаго общества.
— Она дурно кончитъ, и мнѣ просто жаль ее.
— Она дурно кончила — сдѣлалась такая обыкновенная фраза.
— Но милѣе всего онъ. Эта тишина, кротость, эта наивность. Эта ласковость къ друзьямъ его жены.
— Милая Софи. — Одна дама показала на дѣвушку, у которой уши не были завѣшаны золотомъ.
— Эта ласковость къ друзьямъ его жены, — повторила дама, — онъ долженъ быть очень добръ. Но если бъ мужъ и вы всѣ, господа, не говорили мнѣ, что онъ дѣльный человѣкъ (дѣльный это какое то кабалистическое слово у мужчинъ), я бы просто сказала, что онъ глупъ.
— Здраствуйте, Леонидъ Дмитричъ, — сказала хозяйка, кивая изъ за самовара, и поспѣшила прибавить громко подчеркнуто: — а что, ваша сестра М-me Ставровичъ будетъ?
Разговоръ о Ставровичъ затихъ при ея братѣ.
— Откуда вы, Леонидъ Дмитричъ? вѣрно, изъ[80] буффъ?
— Вы знаете, что это неприлично, но чтоже дѣлать, опера мнѣ скучно, а это весело. И я досиживаю до конца. Нынче...
— Пожалуйста, не разсказывайте...
Но хозяйка не могла не улыбнуться, подчиняясь улыбкѣ искренней, веселой открытаго, красиваго съ кра т. г. и б. в. з.[81] лица Леонида Дмитрича.
— Я знаю, что это дурной вкусъ. Что дѣлать...
И Леонидъ Дмитричъ, прямо нося свою широкую грудь въ морскомъ мундирѣ, подошелъ къ хозяину и усѣлся съ нимъ, тотчасъ же вступивъ въ новый разговоръ.
— А ваша жена? — спросила хозяйка.
— Все по старому, что то тамъ въ дѣтской, въ классной, какія то важные хлопоты.
Немного погодя вошли и Ставровичи,[82] Татьяна Сергѣевна въ желтомъ съ чернымъ кружевомъ платьѣ, въ вѣнкѣ и обнаженная больше всѣхъ.
Было вмѣстѣ что то вызывающее, дерзкое въ ея одеждѣ и быстрой походкѣ и что то простое и смирное въ ея красивомъ румяномъ лицѣ съ большими черными глазами и такими же губами и такой же улыбкой, какъ у брата.[83]
— Наконецъ и вы, — сказала хозяйка, — гдѣ вы были?
— Мы заѣхали домой, мнѣ надо было написать записку[84] Балашеву. Онъ будетъ у васъ.
«Этаго недоставало», подумала хозяйка.[85]
— Михаилъ Михайловичъ, хотите чаю?
Лицо Михаила Михайловича, бѣлое, бритое, пухлое и сморщенное, морщилось въ улыбку, которая была бы притворна, еслибъ она не была такъ добродушна, и началъ мямлить что то, чего не поняла хозяйка, и на всякій случай подала ему чаю. Онъ акуратно разложилъ салфеточку и, оправивъ свой бѣлый галстукъ и снявъ одну перчатку, сталъ всхлипывая отхлебывать.[86] Чай былъ горячъ, и онъ поднялъ голову и собрался говорить. Говорили объ Офенбахѣ, что все таки есть прекрасные мотивы. Михаилъ Михайловичъ долго собирался сказать свое слово, пропуская время, и наконецъ сказалъ, что Офенбахъ, по его мнѣнію относится къ музыкѣ, какъ M-r Jabot относится къ живописи, но онъ сказалъ это такъ не во время, что никто не слыхалъ его. Онъ замолкъ, сморщившись въ добрую улыбку, и опять сталъ пить чай.
Жена его между тѣмъ, облокотившись обнаженной рукой на бархатъ кресла и согнувшись такъ, что плечо ее вышло изъ платья, говорила съ дипломатомъ громко, свободно, весело о такихъ вещахъ, о которыхъ никому бы не пришло въ голову говорить въ гостиной.[87]
— Здѣсь говорили, — сказалъ дипломатъ, — что всякая жена имѣетъ мужа, котораго заслуживаетъ. Думаете вы это?
— Что это значитъ, — сказала она, — мужа, котораго заслуживаѣтъ? Что же можно заслуживать въ дѣвушкахъ? Мы всѣ одинакія, всѣ хотимъ выдти замужъ и боимся сказать это, всѣ влюбляемся въ перваго мущину, который попадется, и всѣ видимъ, что за него нельзя выйти.
— И разъ ошибившись, думаемъ, что надо выдти не зa того, въ кого влюбились, — подсказалъ дилломатъ.
— Вотъ именно.
Она засмѣялась громко и весело, перегнувшись къ столу, и, снявъ перчат[ки], взяла чашку.
— Ну а потомъ?
— Потомъ? потомъ, — сказала она задумчиво. Онъ смотрѣлъ улыбаясь, и нѣсколько глазъ обратилось на нее. — Потомъ я вамъ разскажу, черезъ 10 лѣтъ.
— Пожалуйста, не забудьте.
— Нѣтъ, не забуду, вотъ вамъ слово, — и она съ своей не принятой свободой подала ему руку и[88] тотчасъ же[89] обратилась къ Генералу. — Когда же вы пріѣдете къ намъ обѣдать? — И,[90] нагнувъ голову, она взяла въ зубы ожерелье чернаго жемчуга и стала водить имъ, глядя изъ подлобья.
Въ 12-мъ часу взошелъ Балашевъ. Его невысокая коренастая фигурка всегда обращала на себя вниманіе, хотѣлъ или не хотѣлъ онъ этаго. Онъ, поздоровавшись съ хозяйкой, не скрываясь искалъ глазами и, найдя, поговоривъ что нужно было, подошелъ къ ней. Она передъ этимъ встала, выпустивъ ожерелье изъ губъ, и прошла къ столу въ углѣ, гдѣ были альбомы. Когда онъ сталъ рядомъ, они были почти однаго роста. Она тонкая и нѣжная, онъ черный и грубый. По странному семейному преданію всѣ Балашевы носили серебряную кучерскую cерьгу въ лѣвомъ ухѣ и всѣ были плѣшивы. И Иванъ Балашевъ, несмотря на 25 лѣтъ, былъ уже плѣшивъ, но на затылкѣ курчавились черные волосы, и борода, хотя свѣже выбритая, синѣла по щекамъ и подбородку. Съ совершенной свободой свѣтскаго человѣка онъ подошелъ къ ней, сѣлъ, облокотившись надъ альбом[ами], и сталъ говорить, не спуская глазъ съ ея разгорѣвшагося лица. Хозяйка была слишкомъ свѣтская женщина, чтобъ не скрыть неприличности ихъ уединеннаго разговора. Она подходила къ столу, за ней другіе, и вышло незамѣтно. Можно было начасъ сходить, и вышло бы хорошо. Отъ этаго то многіе, чувствуя себя изящными въ ея гостиной, удивлялись, чувствуя себя снова мужиками внѣ ея гостиной.
Такъ до тѣхъ поръ, пока всѣ стали разъѣзжаться, просидѣли вдвоемъ Татьяна и Балашевъ. Михаилъ Михайловичъ ни разу не взглянулъ на нихъ. Онъ говорилъ о миссіи — это занимало его — и, уѣхавъ раньше другихъ, только cказалъ:
— Я пришлю карету, мой другъ.
Татьяна вздрогнула, хотѣла что то сказать: — Ми... —, но Михаилъ Михайловичъ ужъ шелъ къ двери. Но зналъ, что сущность несчастія совершилась.
Съ этаго дня Татьяна Сергѣевна не получала ни однаго приглашенья на балы и вечера большого свѣта.
II.[91]
Прошло 3 мѣсяца.[92]
Стояло безночное Петербургское лѣто, всѣ жили по деревнямъ, на дачахъ и на водахъ за границей. Михаилъ Михайловичъ оставался въ Петербургѣ по дѣламъ своей службы избраннаго имъ любимаго занятія миссіи на востокѣ. Онъ жилъ въ Петербургѣ и на дачѣ въ Царскомъ, гдѣ жила его жена. Михаилъ Михайловичъ все рѣже и рѣже бывалъ послѣднее время на дачѣ и все больше и больше погружался въ работу, выдумывая ее для себя, несмотря на то, что домашній докторъ находилъ его положеніе здоровья опаснымъ и настоятельно совѣтовалъ ѣхать въ Пирмонтъ. Докторъ Гофманъ былъ другъ Михаила Михайловича. Онъ любилъ, несмотря на все занятое время, засиживаться у Ставровича.
— Я еще понимаю нашихъ барынь, онѣ любятъ становиться къ намъ, докторамъ, въ положеніе дѣтей — чтобъ мы приказывали, а имъ бы можно не послушаться, скушать яблочко, но вы знаете о себѣ столько же, сколько я. Неправильное отдѣленіе желчи — образованіе камней, отъ того раздраженіе нервной системы, оттого общее ослабленіе и большое разстройство, circulus viciosus,[93] и выходъ одинъ — измѣнить наши усложненныя привычки въ простыя. Ну, поѣзжайте въ Царское, поѣзжайте на скачки. Держите пари, пройдитесь верстъ 5, посмотрите...
— Ахъ да, скачки, — сказалъ Михаилъ Михайловичъ. — Нѣтъ, ужъ я въ другой разъ, а нынче дѣло есть.
— Ахъ, чудакъ.
— Нѣтъ, право, докторъ, — мямля проговорилъ Михаилъ Михайловичъ, — не хочется. Вотъ дайте срокъ, я къ осѣни отпрошусь у Государя въ отпускъ и съѣзжу въ деревню и въ Москву. Вы знаете, что при Покровскомъ монастырѣ открыта школа миссіонеровъ. Очень, очень замѣчательная.
Въ передней зазвѣнѣлъ звонокъ, и только что входилъ Директоръ, старый пріятель Михаила Михайловича, въ передней раздался другой звонокъ. Директоръ, стально-сѣдой сухой человѣкъ, заѣхалъ только затѣмъ, чтобы представить Англичанина миссіонера, пріѣхавшаго изъ Индіи, и второй звонокъ былъ миссіонеръ. Михаилъ Михайловичъ принялъ того и другаго и сейчасъ же вступилъ съ Англичаниномъ въ оживленную бесѣду. Директоръ вышелъ вмѣстѣ съ докторомъ. Докторъ и Директоръ остановились на крыльцѣ, дожидаясь кучера извощичьей коляски Директора, который торопливо отвязывалъ только что подвязанные торбы.
— Такъ нехорошо? — сказалъ Директоръ.
— Очень, — отвѣчалъ докторъ. — Если бы спокойствіе душевное, я бы ручался за него.
— Да, спокойствіе, — сказалъ директоръ. — Я тоже ѣздилъ въ Карлсбадъ, и ничего, оттого что я не спокоенъ душою.
— Ну да, иногда еще можно, a гдѣжъ Михаилу Михайловичу взять спокойствіе съ его женушкой.[94]
Докторъ молчалъ, глядя впередъ на извощика, поспѣшно запахивающего и засовывающаго мѣшокъ съ овсомъ подъ сидѣнье.[95]
— Да, да, не по немъ жена, — сказалъ Директоръ.[96]
— Вы, вѣрно, на дачу, — сказалъ Докторъ.
— Да, до свиданья. Захаръ, подавай.
И оба разъѣхались. Директоръ ѣхалъ и съ удовольствіемъ думалъ о томъ, какъ хорошо устроиваетъ судьба, что не все дается одному. Пускай Михаилъ Михайловичъ моложе его, имѣетъ доклады у Государя и тонъ, что онъ пренебрегаетъ почестями, хотя черезъ двѣ получилъ Владимира, за то въ семейной жизни онъ упалъ такъ низко.
Докторъ думалъ, какъ ужасно устроила судьба жизнь такого золотаго человѣка, какъ Михаилъ Михайловичъ. Надо было ему[97] это дьявольское навожденіе — женитьбы и такой женитьбы. Какъ будто для того только, чтобъ втоптать его въ грязь передъ такими людьми, какъ этотъ директоръ.
III.[98]
Иванъ Балашевъ обѣдалъ въ артели своего полка раньше обыкновеннаго. Онъ сидѣлъ въ растегнутомъ надъ бѣлымъ жилетомъ сюртукѣ, облокотившись обѣими руками на столъ, и, ожидая заказаннаго обѣда, читалъ на тарелкѣ французскій романъ.
— Ко мнѣ чтобъ Кордъ сейчасъ пришелъ сюда, — сказалъ онъ слугѣ.
Когда ему подали супъ въ серебряной мисочкѣ, онъ вылилъ себѣ на тарелку. Онъ доѣдалъ супъ, когда въ столовую вошли офицерикъ и статскій.
Балашевъ взглянулъ на нихъ и отвернулся опять, будто не видя.
— Что, подкрѣпляешься на работу, — сказалъ офицеръ, садясь подлѣ него.
— Ты видишь.
— А вы не боитесь потяжелѣть, — сказалъ толстый, пухлый штатскій, садясь подлѣ молодаго офицера.
— Что? — сердито сказалъ Балашевъ?
— Не боитесь потяжелѣть?
— Человѣкъ, подай мой хересъ, — сказалъ Балашевъ не отвѣчая штатскому.
Штатскій спросилъ у офицера, будетъ ли онъ пить, и, умильно глядя на него, просилъ его выбрать.
Твердые шаги послышались въ залѣ, вошелъ молодчина Ротмистръ и ударилъ по плечу Балашева.
— Такъ умно, [1 неразобр.]. Я за тебя держу съ Голицынымъ.
Вошедшій точно также сухо отнесся къ штатскому и офицерику, какъ и Балашевъ. Но Балашевъ весело улыбнулся Ротмистру.
— Что же ты вчера дѣлалъ? — спросилъ онъ.
— Проигралъ пустяки.
— Пойдемъ,[99] я кончилъ, — сказалъ Балашевъ.
И, вставъ, они пошли къ двери. Ротмистръ громко, не стѣсняясь, сказалъ:
— Эта гадина какъ мнѣ надоѣла. И мальчишка жалокъ мнѣ. Да. Я больше не буду ѣсть. Ни шампанскаго, ничего.
Въ бильярдной никого не было еще, они сѣли рядомъ. Ротмистръ выгналъ маркера.
Кордъ Англичанинъ пришелъ и на вопросъ Балашева о томъ, какъ лошадь Tiny, получилъ отвѣтъ, что весела и ѣстъ кормъ, какъ слѣдуетъ ѣсть честной лошади.
— Я приду, когда вести, — сказалъ Балашевъ и отправился къ себѣ, чтобъ переодѣться во все чистое и узкое для скачки. Ротмистръ пошелъ съ нимъ и легъ, задравъ ноги на кровать, пока Балашевъ одѣвался. Товарищъ сожитель Балашева Несвицкой спалъ. Онъ кутилъ всю прошлую ночь. Онъ проснулся.
— Твой братъ былъ здѣсь, — сказалъ онъ Балашеву. — Разбудилъ меня, чортъ его возьми, сказалъ, что придетъ опять. Это кто тутъ? Грабе? Послушай, Грабе. Чтобы выпить послѣ перепою? Такая горечь, что...
— Водки лучше всего. Терещенко, водки барину и огурецъ.
Балашевъ вышелъ въ подштанникахъ, натягивая въ шагу.
— Ты думаешь, это пустяки. Нѣтъ, здѣсь надо, чтобъ было узко и плотно, совсѣмъ другое, вотъ славно. — Онъ поднималъ ноги. — Новые дай сапоги.
Онъ почти одѣлся, когда пришелъ братъ, такой же плѣшивый, съ серьгой, коренастый и курчавый.
— Мнѣ поговорить надо съ тобой.
— Знаю, — сказалъ Иванъ Балашевъ, покраснѣвъ вдругъ.
— Ну, секреты, такъ мы уйдемъ.
— Не секреты. Если онъ хочетъ, я при нихъ скажу.
— Не хочу, потому что знаю все, что скажешь, и совершенно напрасно.
— Да и мы всѣ знаемъ, — сказалъ выходя изъ за перегородки въ красномъ одѣялѣ Несвицкій.
— Ну, такъ что думаютъ тамъ, мнѣ все равно. А ты знаешь лучше меня, что въ этихъ дѣлахъ никого не слушаютъ люди, а не червяки. Ну и все. И пожалуйста, не говори, особенно тамъ.
Всѣ знали, что рѣчь была о томъ, что[100] тотъ, при комъ состоялъ старшій братъ Балашева, былъ недоволенъ тѣмъ, что Балашевъ компрометировалъ Ставровичъ.
— Я только одно говорю, — сказалъ старшій братъ, — что эта неопредѣленность нехороша. Уѣзжай въ Ташкентъ, заграницу, съ кѣмъ хочешь, но не...[101].
— Это все равно, какъ я сяду на лошадь, объѣду кругъ, и ты меня будешь учить, какъ ѣхать. Я чувствую лучше тебя.
— И не мѣшай, онъ доѣдетъ, — закричалъ Несвицкій. — Послушайте, кто же со мной выпьетъ? Такъ водки, Грабе. Противно. Пей. Потомъ пойдемъ смотрѣть, какъ его обскачутъ, и выпьемъ съ горя.
— Ну, однако прощайте, пора, — сказалъ Иванъ Балашевъ, взглянувъ на отцовскій старинный брегетъ, и застегнулъ куртку.
— Постой, ты волоса обстриги.
— Ну, хорошо.
Иванъ Балашевъ надвинулъ прямо съ затылка на лысину свою фуражку и вышелъ, разминаясь ногами.
Онъ зашелъ въ конюшню, похолилъ Tiny, которая, вздохнувъ тяжело при его входѣ въ стойло, покосилась на него своимъ большимъ глазомъ и, отворотивъ лѣвое заднее копыто, свихнула задъ на одну сторону. «Копыто то, — подумалъ Иван Балашевъ. — Гибкость»! Онъ подошелъ еще ближе, перекинулъ прядь волосъ съ гривы, перевалившуюся на право, и провелъ рукой по острому глянцевитому загривку и по крупу подъ попоной.
— All right,[102] — повторилъ Кордъ скучая.
Иванъ Балашевъ вскочилъ въ коляску и поѣхалъ къ Татьянѣ Ставровичъ.
Она была больна и скучна. Въ первый разъ беременность ея давала себя чувствовать.
IV.[103]
Онъ вбѣжалъ въ дачу и, обойдя входную дверь, прошелъ въ садъ и съ саду, тихо ступая по песку, крадучись вошелъ въ балконную дверь. Онъ зналъ, что мужа нѣтъ дома, и хотѣлъ удивить ее.
Наканунѣ онъ говорилъ ей, что не заѣдетъ, чтобъ не развлекаться, потому что не можетъ думать ни о чемъ, кромѣ скачки. Но онъ не выдержалъ и на минуту передъ скачками, гдѣ онъ зналъ, что увидитъ ее въ толпѣ, забѣжалъ къ ней. Онъ шелъ во всю ногу, чтобъ не бренчать шпорами, ступая по отлогимъ ступенямъ терасы, ожидая найти въ внутреннихъ комнатахъ, но, оглянувшись, чтобъ увидать, не видитъ ли его кто, онъ[104] увидалъ ее. Она сидѣла въ углу терасы между цвѣтами у балюстрады въ лиловой шелковой собранной кофтѣ, накинутой на плечи, голова была причесана. Но она сидѣла, прижавъ голову къ лейкѣ, стоявшей на перилахъ балкона. Онъ подкрался къ ней. Она открыла глаза, вскрикнула и закрыла голову платкомъ, такъ, чтобъ онъ не видалъ ея лица. Но онъ видѣлъ и понялъ, что подъ платкомъ были слезы.
— Ахъ, что ты сдѣлалъ...... Ахъ зачѣмъ... Ахъ, — и она зарыдала.....
— Что съ тобой? Что ты?
— Я беременна, ты испугалъ меня. Я.. беременна.
Онъ оглянулся, покраснѣлъ отъ стыда, что онъ оглядывается, и сталъ поднимать платокъ. Она удерживала его, дѣлая ширмы изъ рукъ. Въ концѣ [?] улицѣ[105] ciяли мокрыя отъ слезъ, но нѣжныя, потерянно счастливыя глаза, улыбаясь.
Онъ всунулъ лицо въ улицу.[106] Она прижала его щеки и поцѣловала его.
— Таня, я обѣщался не говорить, но это нельзя. Это надо кончить. Брось мужа. Онъ знаетъ, и теперь мнѣ все равно; но ты сама готовишь себѣ мученья.
— Я? Онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Онъ глупъ и золъ. Еслибъ онъ понималъ что нибудь, развѣ бы онъ оставлялъ меня?
Она говорила быстро, не поспѣвая договаривать. Иванъ Балашевъ слушалъ ее съ лицомъ грустнымъ, какъ будто это настроеніе ея было давно знакомо ему, и онъ зналъ, что оно непреодолимо. «Ахъ, еслибъ онъ былъ глупъ, золъ, — думалъ Балашевъ. — А онъ уменъ и добръ».
— Ну, не будемъ.
Но она продолжала.
— И чтоже ты хочешь, чтобъ я сдѣлала, что я могу сдѣлать? Сдѣлаться твоей maîtresse,[107] осрамить себя, его, погубить тебя. И зачѣмъ? Оставь, все будетъ хорошо. Развѣ можно починить? Я лгала, буду лгать. Я погибшая женщина. Я умру родами, я знаю, я умру. Ну, не буду говорить. И нынче. Пустяки. — Она вдругъ остановилась, будто прислушиваясь или вспоминая. — Да, да, ужъ пора ѣхать. Вотъ тебѣ на счастье. — Она поцѣловала его въ оба глаза. — Только не смотри на меня, а смотри на дорогу и на препятствіяхъ не горячи Тани, а спокойнѣе. Я за тебя держу три пари. Ступай.
Она подала ему руку и вышла. Онъ вздохнулъ и пошелъ къ коляскѣ. Но какъ только онъ выѣхалъ изъ переулковъ дачъ, онъ уже не думалъ о ней. Скачки съ бесѣдкой, съ флагомъ, съ подъѣзжающими колясками, съ лошадьми, провожаемыми въ кругъ, открылись ему, онъ забылъ все, кромѣ предстоящаго.
V.
День разгулялся совершенно ко времени скачекъ, солнце ярко блестѣло, и послѣдняя туча залегла на севѣрѣ.[108]
Балашевъ пробѣжалъ мимо толпы знакомыхъ, кланяясь не впопадъ и слыша, что въ толпѣ на него показывали какъ на однаго изъ скачущихъ и на самаго надежнаго скакуна. Онъ пошелъ къ своей Танѣ, которую водилъ конюхъ и у которой стоялъ Кордъ, и входя разговаривалъ. По дорогѣ онъ наткнулся на главнаго соперника Нельсона Голицына. Его вели въ сѣдлѣ два конюха въ красныхъ картузахъ. Невольно замѣтилъ Балашевъ его спину, задъ, ноги, копыта. «Вся надежда на ѣзду противъ этой лошади», подумалъ Балашевъ и побѣжалъ къ своей.
Передъ его подходомъ лошадь остановили. Высокій, прямой статскій съ сѣдыми усами осматривалъ лошадь. Подлѣ него стоялъ маленькій, худой, хромой. Маленькій хромой, въ то самое время, какъ Балашевъ подходилъ, проговорилъ:
— Словъ нѣтъ, лошадь суха и ладна, но не она придетъ.
— Это отчего?
— Скучна. Не въ духѣ.
Они замолчали.[109] Сѣдой въ высокой шляпѣ обернулся къ Балашеву:
— Поздравляю, мой милый. Прекрасная лошадь, я подержу за тебя.
— Лошадь то хороша. Каковъ ѣздокъ будетъ? — сказалъ Балашевъ улыбаясь.
Высокій штатскій окинулъ взглядомъ сбитую коренастую фигурку Балашева и веселое твердое лицо и одобрительно улыбнулся.
Въ толпѣ зашевелилось, зашевелились жандармы. Народъ побѣжалъ къ бесѣдкѣ.
— Великій Князь, Государь пріѣхалъ, — послышались голоса.
Балашевъ побѣжалъ къ бесѣдкѣ. У вѣсовъ толпилось человѣкъ 20 офицеровъ. Три изъ нихъ, Г[олицынъ], М[илютинъ] и З., были пріятели Балашева, изъ однаго съ нимъ петербургскаго круга. И одинъ изъ нихъ, маленькій худенькій М[илютинъ], съ подслѣповатыми сладкими глазками, былъ кромѣ того, что и вообще несимпатичный ему человѣкъ,[110] былъ соперникъ самый опасный; отличный ѣздокъ, легкій по вѣсу и на лошади кровной, въ[111] Италіи [?] взявшей 2 приза и недавно привезенной.
Остальные были мало извѣстные въ Петербургскомъ свѣтѣ гвардейскіе кавалеристы, армейцы, гусары, уланы и одинъ казакъ. Были юноши еще безъ усовъ, мальчики, одинъ гусаръ совсѣмъ мальчикъ съ дѣтскимъ лицомъ, складный, красивый, напрасно старавшійся принять видъ строго серьезный, особенно обращалъ на себя вниманіе. Балашевъ съ знакомыми, и въ томъ числѣ съ М[илютинымъ], поздоровывался по своему обыкновенію просто,[112] одинаково крѣпко пожимая руку и глядя въ глаза. М[илютинъ], какъ всегда, былъ ненатураленъ, твердо смѣялся, выставляя свои длинные зубы.
— Для чего вѣшать? — сказалъ кто-то. — Все равно надо нести что есть въ каждомъ.
— Для славы Господа. Записывайте: 4 пуда 5 фунтовъ, — и уже немолодой конюхъ Гренадеръ [?] слѣзъ съ вѣсовъ.
— 3 пуда 8 фунтовъ, 4 пуда 1 фунтъ. Пишите прямо 3,2, — сказалъ М[илютинъ].
— Нельзя. Надо повѣрить...
Въ Балашевѣ было 5 пудовъ.
— Вотъ не ждалъ бы, что вы такъ тяжелы.
— Да, не сбавляетъ.
— Ну, господа, скорѣе. Государь ѣдетъ.
По лугу, на которомъ кое гдѣ разнощики [1 неразобр.], разсыпались бѣгущія фигуры къ своимъ лошадямъ. Балашевъ подошелъ къ Tiny. Кордъ давалъ послѣднія наставленія.
— Одно, не смотрите на другихъ, не думайте о нихъ. Не обгоняйте. Передъ препятствіями не удерживайте и не посылайте. Давайте ей выбирать самой, какъ онъ хочетъ приступить. Труднѣе всѣхъ для васъ канавы, не давайте ей прыгать въ даль.
Балашевъ засунулъ палецъ подъ подпруги. Она, прижавъ уши, оглянулась.
— All right, — улыбаясь сказалъ Англичанинъ.
Балашевъ былъ немного блѣденъ, какъ онъ могъ съ его смуглымъ лицомъ.
— Ну, садиться.
Балашевъ оглянулся. Кое кто сидѣлъ, кто заносилъ ноги, кто вертѣлся около недающихъ садиться. Балашевъ вложилъ ногу и гибко приподнялъ тѣло. Сѣдло заскрипѣло новой кожей, и лошадь подняла заднюю ногу и потянула голову въ поводья. Въ одинъ и тотъ же моментъ поводья улеглись въ перчатку, Кордъ пустилъ, и лошадь тронулась вытягивающимъ шагомъ. Какъ только Балашевъ подъѣхалъ къ кругу и звонку и мимо его проѣхали двое, лошадь подтянулась и подняла шею, загорячилась и, несмотря на ласки, не успокоивалась, то съ той, то съ другой стороны стараясь обмануть сѣдока и вытянуть поводья. Мимо его галопомъ проѣхалъ Милютинъ на 5 вершковомъ гнѣдомъ жеребцѣ и осадилъ его у звонка. Таня выкинула лѣвую ногу и сдѣлала два прыжка, прежде чѣмъ, сердясь, не перешла на тряскую рысь, подкидывая сѣдока.
Порывы, [1 неразобр.], повороты назадъ, затишье, звонокъ, и Балашевъ пустилъ свою лошадь въ самый моментъ звонка. Казачій офицеръ на сѣрой лошадкѣ проскакалъ не слышно мимо его, за нимъ легко вскидывая, но тяжело отбивая задними ногами, проплылъ М[илютинъ]. Таня влегла въ поводья и близилась къ хвосту М[илютина]. Первое препятствіе былъ барьеръ. М[илютинъ] былъ впереди и, почти не перемѣняя аллюра, перешелъ барьеръ и пошелъ дальше. Съ казачьимъ офицеромъ Балашевъ подскакивали вмѣстѣ. Таня рванулась и близко слишкомъ поднялась, стукнула задней ногой. Балашевъ пустилъ поводья, прислушиваясь къ такту скачки, не ушиблась ли она. Она только прибавила хода. Онъ опять сталъ сдерживать. Второе препятствіе была рѣка. Одинъ упалъ въ ней. Балашевъ подержалъ влѣво, не посылалъ, но онъ почувствовалъ въ головѣ лошади, въ ушахъ нерѣшительность; онъ чуть приложилъ шенкеля и щелкнулъ языкомъ. «Нѣтъ, я не боюсь», какъ бы сказала лошадь, рванулась въ воду. Одинъ, другой прыжокъ по водѣ. На третьемъ она заторопилась, два нетактные прыжка въ воду, но послѣдній прыжокъ такъ подкинулъ задъ, что, видно было, она шутя выпростала ноги изъ тины и вынесла на сухое. М[илютинъ] былъ тамъ сзади. Но не упалъ. Балашевъ слышалъ приближающіеся ровные поскоки его жеребца. Балашевъ оглянулся: сухая чернѣющая отъ капель пота голова жеребца, его тонкій храпъ съ прозрачными красными на [1 неразобр.] ноздрями близилась къ крупу его лошади, и М[илютинъ] улыбался ненатурально.
Балашеву непріятно было видѣть М[илютина] съ его улыбкой; онъ не сдержалъ Тани. Она только что начинала потѣть на плечахъ. Онъ даже, забывъ увѣщанія Корда, послалъ ее. «Такъ нужно наддать, — какъ будто сказала Тани. — О, еще много могу», еще ровнѣе, плавнѣе, неслышнѣе стали ея усилія, и она отдѣлилась отъ М[илютина]. Впереди было самое трудное препятствіе: стѣнка и канава за нею. Противъ этого препятствія стояла кучка народа, Балашевъ ихъ большинство своихъ пріятелей,[113] М. О., товарищи Гр. и Н. и нѣсколько дамъ. Балашевъ уже былъ въ томъ состояніи ѣзды, когда перестаешь думать о себѣ и лошади отдѣльно, когда не чувствуешь движеній лошади, а сознаешь эти движенія какъ свои собственныя и потому не сомнѣваешься въ нихъ. Хочешь перескочить этотъ валъ и перескочишь. Ни правилъ, ни совѣтовъ Корда онъ не помнилъ, да и не нужны ему были. Онъ чувствовалъ за лошадь и всякое движенье ее зналъ и зналъ, что препятствіе это онъ перескочитъ такъ же легко, какъ сѣлъ на сѣдло. Кучка людей у препятствія была, его пріятель Гр. выше всѣхъ головой стоялъ въ серединѣ и любовался пріятелемъ Балашевымъ. Онъ всегда любовался, утѣшаясь имъ послѣ мушекъ, окружавшихъ его. Теперь онъ любовался имъ больше чѣмъ когда нибудь. Онъ своими зоркими глазами издали видѣлъ его лицо и фигуру и лошадь и глазами дружбы сливался съ нимъ и, также какъ и Балашевъ, зналъ, что онъ перескочитъ лихое препятствіе. Но когда артилеристъ знаетъ, что выстрѣлитъ пушка по [1 неразобр.], которую онъ ударяетъ, онъ всетаки дрогнетъ при выстрѣлѣ, такъ и теперь онъ и они всѣ съ замираньемъ смотрѣли на приближающуюся качающуюся голову лошади, приглядывающейся къ предстоящему препятствію, и на нагнутую впередъ широкую фигуру Балашева и на его блѣдное, не веселое лицо и блестящіе, устремленные впередъ и мелькнувшіе на нихъ глаза.
«Лихо ѣдетъ». — «Погоди». — «Молчите, господа». Таня какъ разъ размѣряла мѣсто и поднялась съ математически вѣрной точки, чтобы дать прыжокъ. Лица всѣхъ просіяли въ тоже мгновеніе, они поняли, что она на той сторонѣ, и точно мелькнула поднятая голова и грудь и разъ и два вскинутый задъ, и не успѣли заднія ноги попасть на землю, какъ уже переднія поднялись, и лошадь и сѣдокъ, впередъ предугадавшій всѣ движенія и неотдѣлявшійся отъ сѣдла, уже скакали дальше. «Лихо, браво, Балашевъ», проговорили зрители, но уже смотрѣли на М[илютина], который подскакивалъ къ препятствію. На лицѣ Балашева мелькнула радостная улыбка, но онъ не оглядывался. Впереди и сейчасъ было маленькое препятствіе — канава съ водой въ 2 аршина. У этаго препятствія стояла дама въ лиловомъ платьѣ, другая въ сѣромъ и два господина. Балашеву не нужно было узнавать даму, онъ съ самаго начала скачекъ зналъ, что она тамъ, въ той сторонѣ, и физически почувствовалъ приближеніе къ ней. Татьяна Сергѣевна пришла съ золовкой и Б. Д. къ этому препятствію именно потому, что она не могла быть спокойна въ бесѣдкѣ, и у большаго препятствія она не могла быть. Ея пугало, волновало это препятствіе. Она, хотя и ѣздокъг какъ женщина, не могла понять, какъ возможно перепрыгнуть это препятствіе на лошади. Но она остановилась дальше, но и оттуда смотрѣла на страшное препятствіе. Она видѣла сонъ, и сонъ этотъ предвѣщалъ ей несчастіе. Когда онъ подъѣзжалъ къ валу (она давно въ бинокль узнала его впереди всѣхъ), она схватилась рукой за сестру, перебирая ея, сжимая нервными пальцами. Потомъ откинула бинокль и хотѣла броситься [?], но опять схватила бинокль, и въ ту минуту какъ она искала его въ трубу, онъ ужъ былъ на этой сторонѣ.[114] «Нѣтъ сомнѣнья, что Балашевъ выиграетъ». — «Не говорите, М[илютинъ] хорошо ѣдетъ. Онъ сдерживаетъ. Много шансовъ». — «Нѣтъ, хорошъ этотъ». — «Ахъ, опять упалъ». Пока это говорили, Балашевъ приближался, такъ что лицо его видно было, и глаза ихъ встрѣтились. Балашевъ не думалъ о канавѣ, и, дѣйствительно, нечего было думать. Онъ только послалъ лошадь. Она поднялась, но немножко рано. Такъ чтобъ миновать канаву, ей надо бы прыгнуть не 2, а 3 аршина, но это ничего не значило ей, она знала это и онъ вмѣстѣ. Они думали только о томъ, какъ скакать дальше. Вдругъ Балашевъ почувствовалъ въ то мгновеніе, какъ перескочилъ, что задъ лошади не поддалъ его, но опустился неловко (нога задняя попала на край берега и, отворотивъ дернину, осунулась). Но это было мгновенье. Какъ бы разсердившись на эту непріятность и пренебрегая ею, лошадь перенесла всю силу на другую заднюю ногу и бросила, увѣренная въ упругости задней лѣвой, весь передъ впередъ. Но бокомъ ли стала нога, слишкомъ ли понадѣялась на силу ноги лошадь, невѣрно ли стала нога, нога не выдержала, передъ поднялся, задъ подкосился, и лошадь съ сѣдокомъ рухнулась назадъ на самый берегъ канавы. Одно мгновенье, и Балашевъ выпросталъ ногу, вскочилъ и блѣдный, съ трясущейся челюстью, потянулъ лошадь, она забилась, поднялась, зашаталась и упала. М[илютинъ] съ бѣлыми зубами перелетѣлъ черезъ канаву и изчезъ. К[азачій] Офицеръ ерзонулъ черезъ, еще 3-й. Балашевъ схватился за голову. «АА!» проговорилъ онъ и съ бѣшенствомъ ударилъ каблукомъ въ бокъ лошадь. Она забилась и оглянулась на него. Уже бѣжали народъ и Кордъ. Татьяна Сергѣевна подошла тоже.
— Что вы?
Онъ не отвѣчалъ. Кордъ говорилъ, что лошадь сломала спину. Ее оттаскивали. И его ощупывали. Онъ сморщился, когда его тронули за бокъ. Онъ[115] сказалъ Татьянѣ Сергѣевнѣ:
— Я не ушибся, благодарю васъ, — и пошелъ прочь, но она видѣла, какъ его поддерживалъ докторъ и какъ подъ руки посадили въ дрожки.
VI.[116]
Не одна Татьяна Сергѣевна зажмуривалась при видѣ скакуновъ, подходившихъ къ препятствіямъ. Государь зажмуривался всякій разъ, какъ офицеръ подходилъ къ препятствію. И когда оказалось, что изъ 17 человѣкъ упало и убилось 12, Государь недовольный уѣхалъ и сказалъ, что онъ не хотѣлъ этаго и такихъ скачекъ, что ломать шеи не позволитъ впередъ. Это же мнѣніе и прежде слышалось, хотя и смутно, въ толпѣ, но теперь вдругъ громко высказалось.
Михаилъ Михайловичъ пріѣхалъ таки на скачку, не столько для того, чтобы послѣдовать совѣту Доктора, но для того, чтобы разрѣшить мучавшія его сомнѣнія, которымъ онъ не смѣлъ, но не могъ не вѣрить. Онъ рѣшился говорить съ женой, послѣдній разъ, и съ сестрою, съ божественной Кити, которая такъ любила, жалѣла его, но которая должна же понять, что прошло же время жалѣть, что сомнѣнія даже хуже его горя, если есть что нибудь въ мірѣ хуже того горя, котораго онъ боялся. Въ домѣ на дачѣ, разумѣется, никого не было. И Михаилъ Михайловичъ, отпустивъ извощика, рѣшилъ пойти пѣшкомъ, слѣдуя совѣту Доктора. Онъ заложилъ за спину руки съ зонтикомъ и пошелъ, опустивъ голову, съ трудомъ отрываясь отъ своихъ мыслей, чтобъ вспоминать на перекресткахъ, какое изъ направленій надо выбирать. Онъ пришелъ къ скачкамъ, когда уже водили потныхъ лошадей, коляски разъѣзжались. Всѣ были недовольны, нѣкоторые взволнованы. М[илютинъ] побѣдитель весело впрыгнулъ въ коляску къ матери. У разъѣзда столкнулся съ Голицыной и сестрой.
— Браво, Михаилъ Михайловичъ. Неужели ты пѣшкомъ? Но что это съ вами? Должно быть, усталъ.
Онъ въ самомъ дѣлѣ отъ непривычнаго движенія [1 неразобр.] въ то время былъ какъ сумашедшій, такъ раздраженъ нервами, чувствовалъ полный упадокъ силъ и непреодолимую рѣшительность.
— А Таня гдѣ?
Сестра покраснѣла, а Голицына стала говорить съ стоявшими подлѣ о паденіи Балашева. Михаилъ Михайловичъ, какъ всегда при имени Балашева, слышалъ все, что его касалось, и въ то же время говорилъ съ сестрой. Она пошла съ Н. къ канавѣ. Она хотѣла пріѣхать домой одна. Сестра лгала: она видѣла въ бинокль, что Татьяна Сергѣевна пошла вслѣдъ за паденіемъ Балашева къ своей коляскѣ и знала, какъ бы она сама видѣла, что Татьяна Сергѣевна поѣхала къ нему. Михаилъ Михайловичъ тоже понялъ это, услыхавъ, что Балашевъ сломалъ ребро. Онъ спросилъ, съ кѣмъ она пошла. Съ Н. Не хочетъ ли онъ взять мѣсто въ коляскѣ Г[олицыной]? Его довезутъ.
— Нѣтъ, благодарю, я пройдусь.
Онъ съ тѣмъ офиціальнымъ пріемомъ внѣшнихъ справокъ рѣшился основательно узнать, гдѣ его жена. Найти H., спросить его, спросить кучера. Зачѣмъ онъ это дѣлалъ, онъ не зналъ. Онъ зналъ, что это ни къ чему не поведетъ, зналъ и чувствовалъ всю унизительность роли мужа, ищащаго свою жену, которая ушла. «Какъ лошадь или собака ушла», подумалъ онъ. Но онъ холодно односторонне рѣшилъ это и пошелъ. Н. тотчасъ же попался ему.
— А, Михаилъ Михайловичъ.
— Вы видѣли мою жену?
— Да, мы стояли вмѣстѣ, когда Балашевъ упалъ и все это попадало. Это ужасно. Можно ли такъ глупо!
— А потомъ?
— Она поѣхала домой, кажется. Я понимаю, что для M-me Ставровичъ это, да и всякую женщину съ нервами. Я мужчина, да и то нервы. Это гладіаторство. Недостаетъ цирка съ львами.
Это была фраза, которую сказалъ кто то, и всѣ радовались, повторяли. Михаилъ Михайловичъ взялъ и поѣхалъ домой. Жены не было. Кити сидѣла одна, и лицо ее скрывало что то подъ неестественнымъ оживленіемъ.
Михаилъ Михайловичъ подошелъ къ столу, сѣлъ, поставилъ локти, сдвинувъ чашку, которую подхватила Кити, положилъ голову въ руки и[117] началъ вздохъ, но остановился. Онъ открылъ лицо.
— Кити, — чтожъ, рѣшительно это такъ?
— Мишель, я думаю, что я не должна ни понимать тебя, ни отвѣчать тебѣ. Если я могу свою жизнь отдать для тебя, ты знаешь, что я это сдѣлаю; но не спрашивай меня ни о чемъ. Если я нужна, вели мнѣ дѣлать.
— Да, ты нужна, чтобъ вывести меня изъ сомнѣнья. — Онъ глядѣлъ на нее и понялъ ея выраженіе при словѣ сомнѣнія. — Да и сомнѣній нѣтъ, ты хочешь сказать. Все таки ты нужна, чтобъ вывести меня изъ сомнѣнія. Такъ жить нельзя.[118] Я несчастное, невинное наказанное дитя. Мнѣ рыдать хочется, мнѣ хочется, чтобъ меня жалѣли. Чтобъ научили, что мнѣ дѣлать. Правда ли это? Неужели это правда? И что мнѣ дѣлать?
— Я ничего не знаю, я ничего не могу сказать. Я знаю, что ты несчастливъ, а что я...
— Какъ несчастливъ?
— Я не знаю какъ, я вижу и ищу помочь.
Въ это время зазвучали колеса, раздавливающiя мелкой щебень, и фыркнула подъ самымъ окномъ одна изъ лошадей остановившагося экипажа. Она вбѣжала прямая, румяная и опять больше чѣмъ когда нибудь съ тѣмъ дьявольскимъ блескомъ въ глазахъ, съ тѣмъ блескомъ, который говорилъ, что хотя въ душѣ то чувство, которое она имѣла, преступленья нѣтъ и нѣтъ ничего, чтобы остановило. Она поняла мгновенно, что говорили о ней. Враждебное блеснуло въ ея взглядѣ, въ ней, въ доброй, ни одной искры жалости къ этимъ 2 прекраснымъ (она знала это) и несчастнымъ отъ нея 2-мъ людямъ.
— И ты здѣсь? Когда ты пріѣхалъ? Я не ждала тебя. А я была на скачкѣ и потомъ отъ ужаса при этихъ паденьяхъ уѣхала.
— Гдѣ ты была?
— У.... у Лизы, — сказала она, видимо радуясь своей способности лжи, — она не могла ѣхать, она больна, я ей все разсказала.
И какъ бы радуясь и гордясь своей способностью (неизвѣстной доселѣ) лжи, она, вызывая, прибавила:[119]
— Мнѣ говорили, что убился Иванъ Петровичъ Балашевъ, очень убился. Ну, я пойду раздѣнусь. Ты ночуешь?
— Не знаю, мнѣ очень рано завтра надо.
Когда она вышла, Кити сказала:
— М[ишель], я не могу ничего сказать, позволь мнѣ обдумать, и я завтра напишу тебѣ.
Онъ не слушалъ ее:
— Да, да, завтра.
Сестра поняла.
— Ты хочешь говорить съ ней?
— Да, я хочу.
Онъ смотрѣлъ неподвижно на самоваръ и именно думалъ о томъ, что̀ онъ скажетъ ей. Она вошла въ блузкѣ спокойная, домашняя. Сестра вышла. Она испугалась.
— Куда ты?
Но Кити ушла.
— Я приду сейчасъ.
Она стала пить чай съ апетитомъ, много ѣла. Опять дьяволъ!
[120]— Анна, — сказалъ Михаилъ Михайловичъ, — думаешь ли ты.. ду... думаешь ли ты, что мы можемъ такъ оставаться?
— Отчего? — Она вынула сухарикъ изъ чая. — Что ты въ Петербургѣ, а я здѣсь? Переѣзжай сюда, возьми отпускъ.
Она улыбающимися, насмѣшливыми глазами смотрѣла на него.
— Таня, ты ничего не имѣешь сказать мнѣ особеннаго?
— Я? — съ наивнымъ удивленіемъ сказала она и задумалась, вспоминая, не имѣетъ ли она что сказать. — Ничего, только то, что мнѣ тебя жаль, что ты одинъ.
Она подошла и поцѣловала его въ лобъ. И тоже сіяющее, счастливое, спокойное, дьявольское лицо, выраженіе, которое, очевидно, не имѣло корней въ разумѣ, въ душѣ.
— А ну, такъ хорошо, — сказалъ онъ и невольно, самъ не зная какъ, подчинился ея вліянію простоты, и они поговорили о новостяхъ, о денежныхъ дѣлахъ.
Только одинъ разъ, когда онъ передалъ ей чашку и сказалъ: «еще пожалуйста», она вдругъ безъ причины покраснѣла такъ, что слезы выступили на глаза, и опустила лицо. Кити пришла, и вечеръ прошелъ обыкновенно.
Она проводила его на крыльцо и когда въ мѣсячномъ свѣтѣ по безночному свѣту садился въ коляску, она сказала своимъ груднымъ голосомъ:
— Какъ жаль, что ты уѣзжаешь, — и прибѣжала къ коляскѣ и кинула ему пледъ на ноги. Но когда коляска отъѣхала, онъ зналъ, что она, оставшись у крыльца, страдала ужасно.
На другой день Михаилъ Михайловичъ получилъ письмо отъ Кити. Она писала: «Я молилась и просила просвѣщенія свыше. Я знаю, что мы обязаны сказать правду. Да, Татьяна невѣрна тебѣ, и это я узнала противъ воли. Это знаетъ весь городъ. Что тебѣ дѣлать? Я не знаю. Знаю одно, что Христово ученіе будет руководить т[обой].
Твоя Кити».
Съ тѣхъ поръ Михаилъ Михайловичъ не видалъ жены и скоро уѣхалъ изъ Петербурга.[121]
VII. О беременности. Онъ глупъ, насмѣшливость.
VIII. Михаилъ Михайловичъ въ Москвѣ. Леонидъ Дмитричъ затащилъ обѣдать.
Его жена. Разговоръ о невѣрности мужа. Дѣти похожи на отца.
IX. Въ вагонѣ разговоръ съ нигилистомъ.
X. Роды, прощаетъ.
XI.[122]
Михаилъ Михайловичъ ходилъ по залѣ: «шшъ», говорилъ онъ на шумѣвшихъ слугъ. Иванъ Петровичъ легъ отдохнуть послѣ 3-хъ безсонныхъ ночей въ кабинетѣ. Чувство успокоенія поддерживалось въ Михаилѣ Михайловичѣ только христiанской дѣятельностью. Онъ пошелъ въ министерство, и тамъ, внѣ дома, ему было мучительно. Никто не могъ понимать его тайны. Хуже того — ее понимали, но навыворотъ. Онъ мучался внѣ дома, только дома онъ былъ покоенъ. Сужденія слугъ онъ презиралъ. Но не такъ думали Иванъ Балашевъ и Татьяна.
— Чтоже, это вѣчно будетъ такъ? — говорилъ Балашевъ. — Я не могу переносить его.
— Отчего? Его это радуетъ? Впрочемъ дѣлай какъ хочешь.
— Дѣлай, разумѣется, нуженъ разводъ.
— Но какъ же мнѣ сказать ему? Я скажу: «Мишель, ты такъ не можешь жить!» Онъ поблѣднѣлъ. «Ты простишь, будь великодушенъ, дай разводъ». — «Да, да, но какъ?» — «Я пришлю тебѣ адвоката». — «Ахъ да, хорошо».
Подробности процедуры для развода, униженіе ихъ — ужаснуло его. Но христіанское чувство — это была та щека, которую надо подставить. Онъ подставилъ ее. Черезъ годъ Михаилъ Михайловичъ жилъ по старому, работая тоже; но значеніе его уничтожилось.
XII.
Хотѣли мусировать доброту христіанства его, но это не вышло: здравый смыслъ общества судилъ иначе, онъ былъ посмѣшищемъ. Онъ зналъ это, но не это мучало его. Его мучала необходимость сближенія съ прежней женой. Онъ не могъ забыть ее ни на минуту, онъ чувствовалъ себя привязаннымъ къ ней, какъ преступникъ къ столбу. Да и сближенія невольно вытекали черезъ дѣтей. Она смѣялась надъ нимъ, но смѣхъ этотъ не смѣшонъ былъ. Балашевъ вышелъ въ отставку и не зналъ, что съ собой дѣлать. Онъ былъ заграницей, жилъ въ Москвѣ, въ Петербургѣ, только не жилъ въ деревнѣ, гдѣ только ему можно и должно было жить. Ихъ обоихъ свѣтъ притягивалъ какъ ночныхъ бабочекъ. Они искали — умно, тонко, осторожно — признанія себя такими же, какъ другія. Но именно отъ тѣхъ то, отъ кого имъ нужно было это признаніе, они не находили его. То, что свободно мыслящіе люди дурнаго тона ѣздили къ нимъ и принимали ихъ, не только не радовало ихъ, но огорчало. Эти одинокіе знакомые очевиднѣе всего доказывали, что никто не хочетъ знать ихъ, что они должны удовлетворять себѣ одни. Пускай эти люди, которые принимали ихъ, считали себя лучше той такъ называемой пошлой свѣтской среды, но имъ не нужно было одобренія этихъ добродѣтельныхъ свободомыслящихъ людей, а нужно было одобреніе такъ называемаго пошлаго свѣта, куда ихъ не принимали. Балашевъ бывалъ въ клубѣ — игралъ. Ему говорили:
— А, Балашевъ, здорово, какъ поживаешь? Поѣдемъ туда, сюда. Иди въ половину.
Но никто слова не говорилъ о его женѣ. Съ нимъ обращались какъ съ холостымъ. Дамы еще хуже. Его принимали очень мило; но жены его не было для нихъ, и онъ самъ былъ человѣкъ слишкомъ хорошаго тона, чтобы попытаться заговорить о женѣ и получить тонкое оскорбленіе, за которое нельзя и отвѣтить. Онъ не могъ не ѣздить въ клубы, въ свѣтъ, и жена ревновала, мучалась, хотѣла ѣхать въ театръ, въ концертъ и мучалась еще больше. Она была умна и ловка и, чтобъ спасти себя отъ одиночества, придумывала и пытала разные выходы. Она пробовала блистать красотой и нарядомъ и привлекать молодыхъ людей, блестящихъ мущинъ, но это становилось похоже, она поняла на что, когда взглянула на его лице послѣ гулянья, на которомъ она въ коляскѣ съ вѣеромъ стояла недалеко отъ Гр. Кур., окруженная толпой. Она пробовала другой самый обычный выходъ — построить себѣ высоту, съ которой бы презирать тѣхъ, которые ее презирали; но способъ постройки этой контръ батареи всегда одинъ и тотъ же. И какъ только она задумала это, какъ около нее уже стали собираться дурно воспитанные[123] писатели, музыканты, живописцы, которые не умѣли благодарить за чай, когда она имъ подавала его.
Онъ слишкомъ былъ твердо хорошій, искренній человѣкъ, чтобъ промѣнять свою гордость, основанную на старомъ родѣ честныхъ и образованныхъ людей, на человѣчномъ воспитаніи, на честности и прямотѣ, на этотъ пузырь гордости какого то выдуманнаго новаго либерализма. Его вѣрное чутье тотчасъ показало ему ложь этаго утѣшенья, и онъ слишкомъ глубоко презиралъ ихъ. Оставались дѣти, ихъ было двое. Но и дѣти росли одни. Никакія Англичанки и наряды не могли имъ дать той среды дядей, тетокъ, крестной матери, подругъ, товарищей, которую имѣлъ онъ въ своемъ дѣтствѣ. Оставалось чтоже? Чтоже оставалось въ этой связи, названной бракомъ? Оставались одни животныя отношенія и роскошь жизни, имѣющія смыслъ у лоретокъ, потому что всѣ любуются этой роскошью, и не имѣющія здѣсь смысла. Оставались голыя животныя отношенія, и другихъ не было и быть не могло. Но еще и этаго мало, оставался привидѣніе Михаилъ Михайловичъ, который самъ или котораго судьба всегда наталкивала на нихъ, Михаилъ Михайловичъ, осунувшійся, сгорбленный старикъ, напрасно старавшійся выразить сіяніе счастья жертвы въ своемъ сморщенномъ лицѣ. И ихъ лица становились мрачнѣе и старше по днямъ, а не по годамъ. Одно, что держало ихъ вмѣстѣ, были ж[ивотныя] о[тношенія]. Они знали это, и она дрожала потерять его, тѣмъ болѣе что видѣла, что онъ тяготился жизнью. Онъ отсѣкнулся. Война. Онъ не могъ покинуть ее. Жену онъ бы оста[вилъ], но ее нельзя было.
Не права ли была она, когда говорила, что не нужно было развода, что можно было оставаться такъ жить? Да, тысячу разъ права.
Въ то время какъ они такъ жили, жизнь Михаила Михайловича становилась часъ отъ часу тяжелѣе.[124] Только теперь отзывалось ему все значеніе того, что онъ сдѣлалъ. Одинокая комната его была ужасна. <Одинъ разъ онъ пошелъ въ комитетъ миссіи. Говорили о ревности и убійствѣ женъ. Михаилъ Михайловичъ всталъ медленно и поѣхалъ къ оружейнику, зарядилъ пистолетъ и поѣхалъ къ[125] ней.>[126]
Одинъ разъ Татьяна Сергѣевна сидѣла одна и ждала Балашева, мучаясь ревностью. Онъ былъ[127] въ театрѣ. Дѣти легли спать. Она сидѣла, перебирая всю свою жизнь. Вдругъ ясно увидала, что она погубила 2-хъ людей добрыхъ, хорошихъ. Она вспомнила выходы — лоретка — нигилистка — мать (нельзя), спокойствіе — нельзя. Одно осталось — жить и наслаждаться.[128] Другъ Балашева. Отчего не отдаться, не бѣжать, сжечь жизнь. Чѣмъ заболѣлъ, тѣмъ и лѣчись.
Человѣкъ пришелъ доложить, что пріѣхалъ Михаилъ Михайловичъ.
— Кто?
— Михаилъ Михайловичъ желаютъ васъ видѣть на минутку.
— Проси.
Сидитъ у лампы темная, лицо[129] испуганное, непричесанная.
— Я... вы я... вамъ...
Она хотѣла помочь. Онъ высказался.
— Я не для себя пришелъ. Вы несчастливы. Да, больше чѣмъ когда нибудь. Мой другъ, послушайте меня. Связь наша не прервана. Я видѣлъ, что это нельзя. Я половина, я мучаюсь, и теперь вдвойнѣ. Я сдѣлалъ дурно. Я долженъ былъ простить и прогнать, но не надсмѣяться надъ таинствомъ, и всѣ мы наказаны. Я пришелъ сказать: есть одно спасенье. Спаситель. Я утѣшаюсь имъ. Если бы вы повѣрили, поняли, вамъ бы легко нести. Что вы сдѣлаете, Онъ самъ вамъ укажетъ. Но вѣрьте, что безъ религіи, безъ надеждъ на то, чего мы не понимаемъ, и жить нельзя. Надо жертвовать собой для него, и тогда счастье въ насъ; живите для другихъ, забудьте себя — для кого — вы сами узнаете — для дѣтей, для него, и вы будете счастливы. Когда вы рожали, простить васъ была самая счастливая минута жизни. Когда вдругъ просіяло у меня въ душѣ... — Онъ заплакалъ. — Я бы желалъ, чтобы вы испытали это счастье. Прощайте, я уйду. Кто-то.
Это былъ онъ. Увидавъ Михаила Михайловича, поблѣднѣлъ. Михаилъ Михайловичъ ушелъ.
— Что это значитъ!
— Это ужасно. Онъ пришелъ, думая, что я несчастна, какъ духовникъ.
— Очень мило.
— Послушай, Иванъ, ты напрасно.
— Нѣтъ, это ложь, фальшь, да и что ждать.
— Иванъ, не говори.
— Нѣтъ, невыносимо, невыносимо.
— Ну постой, ты не будешь дольше мучаться.
Она ушла. Онъ сѣлъ въ столовой, выпилъ вина, съ свѣчей пошелъ къ ней, ея не было. Записка: «будь счастливъ. Я сумашедшая».
Она ушла. Черезъ день нашли[130] подъ рельсами тѣло.
Балашевъ уѣхалъ въ Ташкентъ, отдавъ дѣтей сестрѣ. Михаилъ Михайловичъ продолжалъ служить.[131]
* № 4 (рук. № 5).
NN
Старушка Княгиня Марья Давыдовна Гагина, пріѣхавъ съ сыномъ въ свой[132] московскій домъ, прошла къ себѣ на половину убраться и переодѣться и велѣла сыну приходить къ кофею.
— Чьи же это оборванные чемоданы у тебя? — спросила она, когда они проходили черезъ сѣни.
— А это мой милый Нерадовъ — Костя. Онъ пріѣхалъ изъ деревни и у меня остановился. Вы ничего не имѣете противъ этаго, матушка?
— Разумѣется, ничего, — тонко улыбаясь, сказала старушка, — только можно бы ему почище имѣть чемоданы. Что же онъ дѣлаетъ? Все не поступилъ на службу?
— Нѣтъ, онъ[133] земствомъ хочетъ заниматься. А хозяйство бросилъ.
— Который это счетъ у него планъ? Каждый день новенькое.
— Да онъ все таки отличный человѣкъ, и сердце.
— Что, онъ все такой же грязный?
— Я не знаю. Онъ не грязный, онъ только деревенскій житель, — отвѣчалъ сынъ, тоже улыбаясь тому постоянному тону пренебреженья, съ которымъ его мать относилась всегда къ его[134] изъ всѣхъ людей болѣе любимому человѣку, Константину Нерадову.
— Такъ приходи же черезъ часикъ, поговоримъ.
Гагинъ прошелъ на свою половину.
Неужели спитъ Константинъ Николаевичъ? — спросилъ онъ лакея.
— Нѣтъ, не спитъ, — прокричалъ голосъ изъ за занавѣса спальни.
И стройный широкій атлетъ съ лохматой русой[135] головой и[136] рѣдкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотрѣвшими изъ широкаго толстоносаго лица, выскочилъ изъ за перегородки и началъ плясать, прыгать черезъ стулья и кресла и, опираясь на плечи Гагина, подпрыгивать такъ, что казалось — вотъ вотъ онъ вспрыгнетъ ногами на его эполеты.
— Убирайся! Перестань, Костя! Что съ тобой? —говорилъ Гагинъ, и чуть замѣтная улыбка, но за то тѣмъ болѣе цѣн[ная?] и красившая его строгое лицо, виднѣлась подъ усами.[137]
— Чему я радъ? Вотъ чему. Первое, что у меня тутъ, — онъ показалъ, какъ маленькую тыкву, огромную, развитую гимнастикой мышцу верхняго плеча, — разъ. Второе, что у меня тутъ, — онъ ударилъ себя по лбу, — третье, что у меня. — Онъ побѣжалъ за перегородку и вынесъ тетрадку исписанной бумаги. — Это я вчера началъ и теперь все пойдетъ, пойдетъ, пойдетъ. Вотъ видишь, — онъ сдвинулъ два кресла, разъ, два, три, съ мѣста съ гимнастическимъ пріемомъ съ сжатыми кулаками взялъ размахъ и перелетѣлъ черезъ оба кресла. Гагинъ засмѣялся и, доставъ папиросу, сѣлъ на диванъ.
— Ну, однако одѣнусь и все тебѣ разскажу.
Гагинъ сѣлъ задумавшись, что съ нимъ часто бывало, но теперь что-то очень, видно, занимало его мысль; онъ какъ остановилъ глаза на углѣ ковра, висѣвшаго со стола, такъ и не двигалъ ихъ. А ротъ его улыбался, и онъ покачивалъ головой.
— Знаешь, я тамъ встрѣтилъ сестру Алабина, она замѣчательно мила, да, — но «замѣчательно» говорилъ онъ съ такимъ убѣжденіемъ эгоизма, что нельзя было не вѣрить.
— Гагинъ, — послышался послѣ долгаго и громкаго плесканья голосъ изъ за занавѣса. — Какой я однако эгоистъ. Я и не спрошу. Пріѣхала Княгиня? Все хорошо?
— Пріѣхала, все благополучно.
— За что она меня не любитъ?
— За то, что ты не такой, какъ всѣ люди. Ей надо для тебя отводить особый ящикъ въ головѣ; а у нея всѣ давно заняты.
Нерадовъ высунулся изъ за занавѣса только затѣмъ, чтобы видѣть, съ какимъ выраженіемъ Гагинъ сказалъ это, и, оставшись доволенъ этимъ выраженьемъ, онъ опять ушелъ за занавѣсъ и скоро вышелъ одѣтый въ очень новый сертукъ и панталоны, въ которыхъ ему несовсѣмъ ловко было, такъ какъ онъ, всегда живя въ деревнѣ, носилъ тамъ русскую рубашку и поддевку.
— Ну вотъ видишь ли, — сказалъ онъ, садясь противъ него. — Да чаю, — сказалъ онъ на вопросъ человѣка, что прикажутъ, — вотъ видишь ли, я вчера просидѣлъ весь вечеръ дома, и нашла тоска, изъ тоски сдѣлалась тревога, изъ тревоги цѣлый рядъ мыслей о себѣ. Дѣятельности прямой земской, такой, какой я хотѣлъ посвятить себя, въ Россіи еще не можетъ быть, а дѣятельность одна — разрабатывать Русскую мысль.
— Какже, а ты говорилъ, что только одна и возможна дѣятельность.
— Да мало ли что, но вотъ видишь, нужно самому учиться, docendo discimus,[138] и для этаго надо жить въ спокойной средѣ, чтобы не дѣло самое, а сперва пріемъ для дѣла, да я не могу разсказать: ну, дѣло въ томъ, что я нынче ѣду въ деревню и вернусь только съ готовой книгой. А знаешь, Каренина необыкновенно мила. Ты ее знаешь?
— Ну, а выставка? — спросилъ Гагинъ о телятахъ своей выкормки, которыхъ привелъ на выставку Нерадовъ и которыми былъ страстно занятъ.
— Это все вздоръ, телята мои хороши; но это не мое дѣло.
— Вотъ какъ! Одно только нехорошо — это что мы не увидимся нынче: мнѣ надо обѣдать съ матушкой. А вотъ что, завтра поѣзжай. Мы пообѣдаемъ вмѣстѣ, и съ Богомъ.
— Нѣтъ, не могу, — задумчиво сказалъ Нерадовъ. Онъ, видно, думалъ о другомъ.[139]
— Да вѣдь нынче, — и Нерадовъ покраснѣлъ, вдругъ началъ говорить съ видимымъ желаніемъ, говорить какъ о самой простой вещи, — да вѣдь нынче мы обѣщались Щербацкимъ пріѣхать на катокъ.
— Ты поѣдешь?
Гагинъ задумался. Онъ не замѣтилъ ни краски, бросившейся въ лицо Нерадова, ни пристыженнаго выраженія его лица, когда онъ началъ говорить о Щербацкой, какъ онъ вообще не замѣчалъ тонкости выраженія.
— Нѣтъ, — сказалъ онъ, — я не думаю ѣхать, мнѣ надо оставаться съ матушкой. Да я и не обѣщалъ.
— Не обѣщалъ, но они ждутъ, что ты будешь, — сказалъ Нерадовъ, быстро вскочивъ. — Ну, прощай, можетъ быть, не увидимся больше. Смотри же, напиши мнѣ, если будетъ большая перемѣна въ твоей жизни, — сказалъ онъ.
— Напишу. Да я поѣду на проѣздку посмотрѣть Грознаго и зайду. Какъ же, мы не увидимся?
— Да дѣла пропасть. Вотъ еще завтра надо къ Стаюнину.
— Такъ какже ты ѣдешь? Стало быть, обѣдаемъ завтра.
— Ну да, обѣдаемъ, разумѣется, — сказалъ Нерадовъ также рѣшительно, какъ рѣшительно онъ минуту тому назадъ сказалъ, что нынче ѣдетъ. Онъ схватилъ баранью шапку и выбѣжалъ. Вслѣдъ за нимъ, акуратно сложивъ вещи, Гагинъ пошелъ къ матери.
Старушка была чиста и элегантна, когда она вышла изъ вагона, но теперь она была какъ портретъ, покрытый лакомъ; все блестѣло на ней; и лиловое платье, и такой же бантъ, и перстни на сморщенныхъ бѣлыхъ ручкахъ, и сѣдыя букли, не блестѣли только каріе строгіе глаза, такіе же, какъ у сына. Она подвинула сама кресло, гдѣ долженъ былъ сѣсть сынъ и, видимо, хотѣла обставить какъ можно радостнѣе тотъ пріятный и важный разговоръ, который предполагала съ сыномъ. Нѣтъ для старушки матери, отстающей отъ жизни, важнѣе и волнительнѣе разговора, какъ разговоръ о женитьбѣ сына: ждется и радость новая, и потеря старой радости, и радость жертвы своей ревности для блага сына и, главное, для продолженія рода, для счастія видѣть внучатъ. Такой разговоръ предстоялъ Княгинѣ Марьѣ Давыдовнѣ. Алеша, какъ она звала его, писалъ ей въ послѣднемъ письмѣ: «вы давно желали, чтобъ я женился. Теперь я близокъ къ исполненію вашего желанія и былъ бы счастливъ, если бы вы были теперь здѣсь, чтобы я могъ обо всемъ переговорить съ вами». Въ день полученія письма она послала ему телеграмму, что ѣдетъ отъ старшаго сына, у котораго она гостила.
— Ну, моя душа, вотъ и я, и говори мнѣ. Я тебѣ облегчу дѣло. Я догадалась, это Кити.
— Я видѣлъ, что вы догадались. Ну, что вы скажите, мама?
— Ахъ, моя душа! Что мнѣ сказать? Это такъ страшно. Но вотъ мой отвѣтъ.
Она подняла свои глаза къ образу, подняла сухую руку, перекрестивъ, прижала его голову къ бархатной кофтѣ и поцѣловала его въ рѣдкіе черные на верхней части головы волосы.
— Благодарю васъ, матушка, и за то, что вы пріѣхали ко мнѣ, и за то, что[140] вы бы одобрили мой выборъ.
— Какъ[141] бы? Что это значитъ, — сказала она строго.
— Мама,[142] только то, что ничего не говорите ни имъ, ни кому, позвольте мнѣ самому все сдѣлать,...[143] Я очень радъ, что вы тутъ. Но я люблю самъ свои дѣла дѣлать.
— Ну, — она подумала, — хорошо, но помни, мой другъ,[144] что какъ противны кокетки, которыя играютъ мущинами, такъ противны мущины, играющія дѣвушками.[145]
— О повѣрьте, что я такъ былъ остороженъ.
— Ну, хорошо. Скажу правду, я могла желать лучше. Но на то и состояніе, чтобы выбирать не по имѣнью, а по сердцу. И родъ ихъ старый, хорошій, и отецъ, старый Князь, отличный былъ человѣкъ. Если онъ проигралъ все, то потому, что былъ честенъ, а она примѣрная мать, и Долли прекрасная вышла. Ну, разскажи, что ты дѣлаешь, что твои рысаки.
— Ничего, maman, послѣ завтра бѣгъ. Грозный очень хорошъ.
— Ну ты 2-хъ зайцевъ сразу. А знаешь, я тебѣ скажу, ты загадалъ: если Грозный возъметъ призъ...
— Я сдѣлаю предложенье. Почемъ вы угадали?
— A развѣ ты не мой сынъ?
Первая страница рукописи четвертого по порядку начала «Анны Карениной»
Размер подлинника
* № 5 (рук. № 6).
<Часть I. Глава I.>
<Одно и тоже дѣло женитьба для однихъ есть забава, для другихъ мудренѣйшее дѣло на свѣтѣ.>
АННА КАРЕНИНА РОМАНЪ.
Отмщеніе Мое.
ЧАСТЬ I Глава I.[146]
Женитьба для однихъ <есть> труднѣйшее и важнѣйшее дѣло жизни, для другихъ — легкое увеселеніе.[147]
Степанъ Аркадьичъ Алабинъ былъ въ самомъ ужасномъ положеніи: онъ, по мѣсту, занимаемому имъ въ Москвѣ, извѣстный всей Москвѣ и родня по себѣ и женѣ почти всему московскому обществу, онъ, отецъ 4-хъ дѣтей, уже съ просѣдыо въ головѣ и бакенбардахъ, вдругъ вслѣдствіи открывшейся интриги съ гувернанткой въ своемъ домѣ вдругъ сдѣлался предметомъ разговора всѣхъ. Жена его, кроткая, милая Дарья Александровна, урожденная Щербацкая, не вѣрившая въ зло на свѣтѣ, въ первый разъ поняла, что мужъ никогда не былъ и не намѣренъ былъ ей быть вѣренъ, и въ припадкѣ отчаянія и ревности бросила его и переѣхала съ дѣтьми къ своей матери. На бѣду тутъ же должники пристали къ Степану Аркадьичу, и онъ видѣлъ, что, не продавши женина имѣнья, нельзя поправить дѣлъ.
Положеніе было ужасное, но Степанъ Аркадьичъ ни на минуту не приходилъ въ отчаянье и не переставалъ быть такъ же прямъ, румянъ и также всегда пріятенъ, добродушенъ, важенъ въ своемъ чиновничествѣ [?], какимъ онъ всегда былъ. Кредиторамъ онъ обѣщалъ отдать черезъ 6 мѣсяцевъ и успѣлъ занять деньги, и къ женѣ онъ ѣздилъ каждый день и уговаривалъ не дѣлать позора семьи для дѣтей. Жена была почти убѣждена вернуться къ нему, или по крайней мѣрѣ онъ былъ убѣжденъ, что она возвратится рано или поздно. И потому Степанъ Аркадьичъ былъ также добродушенъ и веселъ, какъ и всегда, хотя въ рѣдкія минуты и разсказывалъ своимъ близкимъ друзьямъ свое горе.
Въ Москвѣ была выставка скота. Зоологическій садъ былъ полонъ народа.[148] Сіяя[149] раскраснѣвшимся лицомъ, съ румяными полными губами, въ глянцовитой шляпѣ, надѣтой немного съ боку на кудрявые рѣдкіе русые волосы и съ сливающимися съ сѣдой остью бобра красивыми съ просѣдью бакенбардами,[150] онъ шелъ подъ руку съ нарядной дамой и, раскланиваясь безпрестанно встрѣчавшимся знакомымъ, нагибаясь надъ дамой, заставлялъ ее смѣяться, можетъ быть, слишкомъ легкимъ, подъ вліяніемъ выпитаго за завтракомъ вина, шуткамъ. Такой же веселый и румяный и такихъ же лѣтъ, только поменьше ростомъ и некрасивый, извѣстный прожившій кутила[151] Лабазинъ прихрамывая шелъ съ ними рядомъ и принималъ участіе въ разговорѣ.[152]
— Право, онъ ослабъ, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ о комъ то, что выходило очень смѣшно, и дама смѣялась.
Подойдя къ одному изъ тѣхъ наполняющихъ садъ рѣзныхъ квази русскихъ домиковъ, Алабинъ отстранилъ плечомъ совавшагося навстрѣчу молодаго человѣка и прошелъ съ дамой мимо сторожа, наряженнаго въ обшитый галуномъ кафтанъ и уже привыкшаго къ своему наряду и мрачно пропускающаго публику въ коровникъ.
— Посмотримъ, посмотримъ коровъ, это по твоей части,[153] Лабазовъ.
[154]Лабазовъ не пилъ ничего кромѣ воды и имѣлъ отвращеніе къ молоку.
Для веселыхъ людей всякая шутка хороша, и всѣ трое весело засмѣялись. Въ тѣни и запахъ коровника[155] они остановились, посмотрѣли огромную чернопѣгую корову, которая, не смотря на то что была на выставкѣ, спокойно стоя на трехъ ногахъ и вытянувъ впередъ заднюю, лизала ее своимъ шероховатымъ языкомъ; потомъ подошли къ другому стойлу, въ которомъ лежала на соломѣ красная корова, которую, тыкая ногой въ гладкой задъ, старался поднять помѣщикъ въ картузѣ и енотовой шубѣ;[156] и хотѣли уже выходить, когда дама обратила вниманіе на поворотѣ на высокаго чернаго[157] молодца барина, съ поразительнымъ выраженіемъ силы, свѣжести и энергіи, который съ мужикомъ вымѣривалъ тесемкой грудь и длину коровы.
— Что это они дѣлаютъ? — сказала дама. — И посмотрите, какой молодецъ. Вѣрно не Русской?
Алабинъ посмотрѣлъ на не Русскаго молодца, и лицо его, всегда выражавшее удовольствіе и веселость, просіяло такъ, какъ будто онъ былъ нахмуренъ.
— Ордынцевъ! Сережа! — закричалъ онъ черному молодцу. — Давно ли? А вотъ Наталья Семеновна. Позволь тебя представить. Наталья Семеновна, мой пріятель, и другъ, и скотоводъ, и агрономъ, и гимнастъ, и силачъ Сергѣй Ордынцевъ. Наталья Семеновна только что говорила: «Какой красавецъ, вѣрно не Русскій?» А ты самый Русскій, что Руссѣе и найти нельзя.
— Совсѣмъ я не то говорила, — сказала дама. — Я сказала...
— Да ничего, онъ не обидится..
Ордынцевъ дѣйствительно, казалось, не обидѣлся; но онъ съ однаго взгляда понялъ, какого рода была дама Наталія Семеновна, и, несмотря на ея безупречный скромно элегантный туалетъ, слегка приподнялъ передъ ней[158] баранью шапку и съ сухостью, въ которой было почти отвращеніе, взглянулъ на нее и обратился къ Алабину.
— Я выставляю телку и быка. Я только вчера изъ деревни. А это Боброва корова, лучшее животное на выставкѣ. Смотри, что за задъ. Я хочу смѣрить.
Онъ отвернулся отъ Алабина и опять обратился къ своему мужику. Ордынцевъ былъ пріятель Алабина, хотя и 12 годами моложе его (Алабинъ былъ пріятелемъ еще съ его отцомъ). Кромѣ того Ордынцевъ былъ влюбленъ въ Княжну Щербатскую, свояченю Алабина, и[159] ждали ужъ давно, что онъ сдѣлаетъ предложеніе; и потому[160] Ордынцевъ ушелъ отъ Алабина въ стойло и сталъ перемѣрять съ мужикомъ то, что онъ уже мѣрялъ. Онъ — Ордынцевъ — человѣкъ чистой и строгой нравственности — не могъ понять этаго теперешняго появленія Алабина въ зоологическомъ саду подъ хмѣлькомъ подъ руку съ хорошенькой Анной Семеновной. Вчера, тотчасъ послѣ его пріѣзда въ Москву, знакомый разсказывалъ ему, что Алабины, мужъ съ женой, разошлись, что Дарья Александровна, жена Алабина, открыла его связь и переписку съ гувернанткой, бывшей въ домѣ, и что они разъѣзжаются или уже разъѣхались. Ордынцевъ зналъ Алабина коротко и, несмотря на совершенно противуположные ему безнравственные привычки Алабина, любилъ его, какъ и всѣ, кто зналъ Алабина, любили его. Но послѣднее извѣстіе объ гадкой исторіи съ гувернанткой, о полномъ разрывѣ съ Дарьей Александровной, женой, съ сестрой Катерины Александровны или Кити, какъ ее звали въ свѣтѣ, той самой, на которой желалъ и надѣялся жениться Ордынцевъ, и теперешняя встрѣча подъ руку съ Натальей Семеновной заставили Ордынцева, сдѣлавъ усиліе надъ собой, сухо отвернуться. Но Алабинъ не понималъ или не хотѣлъ понимать тона, принятаго пріятелемъ.
— Коровы — это все прекрасно. Но отъ этаго, что ты влюбленъ въ своихъ коровъ, это не резонъ такъ бѣгать отъ друзей. Я и женѣ скажу и Кити, что ты здѣсь, и пріѣзжай вечеромъ къ Щербацкимъ непремѣнно. И мы будемъ.
— Ты говоришь — нынче вечеромъ? — переспросилъ Ордынцевъ, глядя ему въ глаза.[161]
— Ну да.[162] Нѣтъ, пожалуйста, душа моя, пріѣзжай, и Долли будетъ рада, и я уже останусь дома для тебя.[163]
Алабинъ остановился въ нерѣшительности. Идти ли дальше или остаться?
— Однако до свиданья, Наталья Семеновна, — сказалъ онъ вдругъ, передавая свою даму на руку[164] Лабазину[165] и взявъ подъ руку Ордынцева. — Пойдемъ поговоримъ, — сказалъ онъ, и лицо его вдругъ измѣнилось. Виноватая улыбка выразилась на его добромъ, красивомъ лицѣ. — Ты, вѣрно, слышалъ про наши...
— Да, слышалъ.
— Ну пойдемъ, пойдемъ поговоримъ.
Они вышли на уединенную дорожку.
— Ты понимаешь, что я не имѣю никакого права на объясненія, — сказалъ Ордынцевъ.
— Да, я знаю, но ты такой пуристъ, и твой отецъ былъ, я знаю. Ну вотъ видишь ли, мой другъ. Я рѣшительно погибшій человѣкъ. Я не стою своей жены. Она — ангелъ. Но когда ты будешь женатъ, ты поймешь. Я увлекся. А главное, я самъ сдѣлалъ глупость. Этаго никогда не надо дѣлать. Я ей признался во всемъ. Ну и кончено. Я теперь виноватый. И женщины никогда не прощаютъ этаго. Но понимаешь, когда дѣти, на это нельзя такъ легко смотрѣть. Она хотѣла разъѣхаться. Насилу мы спасли ее отъ срама. И теперь я надѣюсь, что все обойдется. Ужасно, ужасно было. Но главное то, что бываетъ же увлеченіе. И вѣдь это такая прелесть была, — сказалъ онъ съ робкой улыбкой, — и я погубилъ и ту и другую. Это ужасно!
— Да, но по крайней мѣрѣ теперь все кончено? — спросилъ Ордынцевъ.
— Да, и кончено и нѣтъ. Ты пріѣзжай непремѣнно. Она тебя очень любитъ и будетъ рада тебя видѣть.
— Ты знаешь, я не могу понять этихъ увлеченій.
— Знаю, что жена правду говоритъ, что твой главный порокъ — гордость. Вотъ женись.
— И по мнѣ бракъ, разрушенный невѣрностью[166] съ той или съ другой стороны, — продолжалъ громко и отчетливо Ордынцевъ съ своей привычкой ясно и немного длинно выражаться, — бракъ разрушенный не можетъ быть починенъ.
— Ты не женатъ, и ты судить не можешь. Это совсѣмъ не то, что ты воображаешь.
— Отъ этаго, можетъ быть, я никогда не женюсь, но если женюсь, то я строго исполню долгъ и буду требовать исполненія.
— Такъ ты пріѣзжай непремѣнно, Кити будетъ, — сказалъ Алабинъ, глядя на часы и невольно отвѣчая этимъ на слова Ордынцева о бракѣ. — A мнѣ надо обѣдать у старика Щипкова.
И Степанъ Аркадьичъ, опять выпрямивъ грудь и принявъ свое веселое, беззаботное выраженіе, растегнувъ пальто, чтобы освѣжиться отъ прилива къ головѣ, вызваннаго объясненіемъ, пошелъ легкой и красивой походкой маленькихъ ногъ къ выходу сада, гдѣ ждала его помѣсячная извощичья карета.[167]
Въ одномъ изъ такихъ домиковъ стоялъ Ленинъ передъ стойломъ, надъ которымъ на дощечкѣ было написано: телка Русскаго завода[168] Николая Константиновича Ордынцева, и любовался ею, сравнивая ее съ другимъ знаменитымъ выводошемъ завода Бабина. Чернопѣгая телка, загнувъ голову, чесала себѣ задней головой[169] за ухомъ.
«Нѣтъ хороша», думалъ онъ. Ленинъ зналъ свою телку до малѣйшихъ подробностей. Годъ и два мѣсяца онъ видѣлъ ее каждый почти день, зналъ ее отца, мать: узнавалъ въ ней черты материнской, отцовской породы, черты выкормки. Теперь, сравнительно съ другими выставленными телками, она упала нисколько въ его глазахъ. (Онъ думалъ одно время, что она будетъ лучшая телка на выставкѣ), но всетаки онъ высоко цѣнилъ ее. Немножко только онъ желалъ бы ее пониже на ногахъ, и когда она стояла, какъ теперь, въ глубокой постилкѣ, этотъ недостатокъ былъ незамѣтенъ, да немножко посуше въ переду и пошире костью въ заду; но этотъ недостатокъ, онъ надѣялся, выправится при первомъ тёлѣ. Голова короткая и породистая, подбрюдокъ какъ атласный мѣшокъ, глазъ большой и въ бѣломъ ободкѣ были все таки прекрасны. Такъ онъ думалъ, косясь на свою телку и прислушиваясь къ тому, что говорили посѣтители. Большинство посѣтителей были совершенно равнодушные,[170] другое большее большинство были осуждатели. И каждый, думая, что говорить новенькое, всѣ говорили одно и тоже, имянно: и что выставлять у насъ въ Россіи, привезутъ изъ за границы и выставятъ: вотъ молъ какихъ намъ нужно бы имѣть коровъ, но мы не имѣемъ. А у насъ все Тасканской породы, какъ шутилъ одинъ помѣщикъ, т. е. таскать надо подъ гору, оттого тасканская. Большинство проходило, читало надпись телки, глядѣли на телки и или ничего не говорили или говорили: «телушка какъ телушка, отчего же она Русской породы. Красная помѣсь Тирольской». Рѣдкіе останавливались, распрашивали, и тогда Ордынцевскій молодой мужикъ Елистратъ, страстный охотникъ, пріохоченный бариномъ, разсказывалъ, что телкѣ годъ 2 мѣсяца и живаго вѣсу 13 пудовъ, и выведена она не подъ матерью и т. д.[171]
Иногда вмѣшивался и самъ хозяинъ и съ увлеченіемъ объяснялъ всю свою теорію вывода скота, основанную на новѣйшихъ научныхъ изслѣдованіяхъ. Такъ онъ вступилъ въ такое объясненіе съ молодымъ богачемъ купцомъ, который съ женой остановился противъ телки и сталъ распрашивать. Купецъ былъ охотникъ и тоже выразилъ сомнѣнье, что телка не русская. Ордынцевъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ, безпрестанно перебивая купца и стараясь внушить ему вопервыхъ то, что надо условиться, что понимать подъ Русской скотиной. Не заморскую скотину, но ту скотину, которая вывелась въ Россіи, также какъ то, что въ Англіи считается кровной лошадью; во вторыхъ, онъ старался внушить купцу, что для вывода скота не нужно брать хорошо выкормленную въ теплѣ и угодьяхъ скотину и изъ лучшихъ условій переводить ее въ худшія, а напротивъ; въ третьихъ, онъ старался внушить купцу, хотя и невольно, но очень замѣтно, что дѣло о коровахъ и способѣ вывода знаетъ одинъ онъ, Ордынцевъ, а что всѣ, и въ томъ числѣ купецъ, глупы и ничего не понимаютъ. Онъ говорилъ хотя и умно и хорошо, но многословно и дерзко; но купецъ, несмотря на то что былъ образованный, почтенный человѣкъ и зналъ не хуже Ордынцева толкъ въ скотпнѣ и научныя разсужденія о скотѣ, слушалъ Ордынцева, не оскорбляясь его тономъ. Тотъ же самый дерзкій, самоувѣренный тонъ, который имѣлъ привычку принимать почти со всѣми Ордынцевъ, въ другомъ человѣкѣ, менѣе свѣжемъ, красивомъ и, главное, энергичномъ, былъ бы оскорбителенъ, но Ордынцевъ такъ очевидно страстно былъ увлеченъ тѣмъ, что говорилъ, что купецъ сначала пробовалъ отвѣчать, но, всякій разъ перебиваемый словами нѣтъ позвольте, выслушалъ цѣлую лекцію и остался доволенъ. Оставшись опять одинъ послѣ ухода купца, Ордынцевъ подошелъ къ своему мужику и помощнику Елистрату и съ нимъ заговорилъ о коровахъ.
— Ну какія же тебѣ лучше всѣхъ понравились?
— Да и чернопѣгая хороша. Только на мой обычай я бъ жену заложилъ, а того сѣдаго бычка купилъ бы, — сказалъ Елистратъ. — Охъ — ладенъ. Кабы его да къ нашей Павѣ, да это — мы бы такихъ вывели,... — закончилъ онъ, просіявъ улыбкой.
— Правда, правда.[172] Я куплю. Ну поѣдемъ, я тебя довезу обѣдать.
И Ордынцевъ съ мужикомъ пошелъ по дорожкамъ къ выходу, продолжая разговаривать съ мужикомъ съ большимъ увлеченіемъ, чѣмъ можно бы было предполагать, и которое умный Елистратъ справедливо относилъ къ тому, что баринъ хочетъ показать, что онъ имъ не гнушается.
Около выхода Ордынцева догналъ бѣжавшій съ коньками замотанными худощавый молодой человѣкъ съ длиннымъ горбатымъ носомъ.
— Давно ли, Ордынцевъ? — сказалъ по французски молодой человѣкъ, ударяя его по плечу.
— Вчера пріѣхалъ, привезъ скотину свою на выставку.
— Ну а что гимнастика? Бросили? Приходите завтра, поработаемъ.
— Нѣтъ, не бросилъ, но некогда. Въ деревнѣ я поддерживаюсь верховой ѣздой. Верстъ 15 каждый день и гири.
Ордынцевъ отвѣчалъ и говорилъ по французски замѣчательно изящнымъ языкомъ и выговоромъ и не такъ, какъ его собесѣдникъ, перемѣшивая Русскій съ Французскимъ. Замѣтенъ былъ нѣкоторый педантизмъ въ томъ, что онъ, разъ рѣшивъ, что глупо мѣшать два языка, отчетливо и ясно говорилъ на томъ или другомъ.
Молодой человѣкъ пощупалъ его руку выше локтя. И тотчасъ же при этомъ жестѣ Ордынцевъ напружилъ мускулы.
— О! О! ничего не ослабла. Что же, всѣ 5 пудовъ?
— Поднимаю или вѣшу?
— И то и другое.
— Поднимаю тоже, но вѣсу я въ себѣ сбавилъ, а то сталъ толстѣть.
— Это кто же съ вами?
— Это мой товарищъ по скотоводству, замѣчательный человѣкъ.
Но молодому человѣку, видно, не интересенъ былъ замѣчательный мужикъ, онъ пожалъ руку Ордынцеву.
— Пріѣзжайте завтра, весь классъ васъ будетъ ждать. Старая гвардія — и Келеръ ходитъ, — и пробѣжалъ впередъ. — Ахъ да, — закричалъ онъ оборачиваясь, — были вы у Алабиныхъ?
— Нѣтъ еще.
— Говорятъ, они разъѣзжаются.
— Нѣтъ, это неправда.
— Вѣдь надо что нибудь выдумать.
— До свиданья.[173]
—————
Вернувшись въ свой № въ новой гостиницѣ на Петровкѣ, Ордынцевъ увидалъ, что онъ опоздалъ къ обѣду къ теткѣ, да и ему не хотѣлось никуда идти. Несмотря на все увлеченіе, съ которымъ онъ занимался выставкой и успѣхомъ своей телки, съ той минуты, какъ онъ встрѣтилъ Алабина и тотъ взялъ съ него обѣщаніе пріѣхать вечеромъ къ нему и сказалъ ему, что Китти Щербацкая тамъ будетъ, новое чувство поднялось въ душѣ молодого человѣка, и, споря съ купцомъ и совѣтуясь съ Елистратомъ и соображая покупку сѣдаго бычка, мысль о Китти и о предстоящемъ свиданіи съ нею ни на минуту не покидала его. Привычка занятія поддерживала его въ прежней колеѣ, какъ данное движеніе несетъ корабль еще по прежнему направленію, а уже парусъ надулся въ другую сторону. Онъ услалъ Елистрата обѣдать, велѣлъ подать себѣ обѣдать въ нумеръ и радъ былъ, что остался одинъ, чтобы обдумать предстоящее. Ему было 26 лѣтъ, и, какъ человѣкъ исключительно чистой нравственности, онъ чувствовалъ болѣе чѣмъ другой, какъ нехорошо человѣку единому быть. Уже давно женщины дѣйствовали на него такъ, что онъ или чувствовалъ къ нимъ восторги, ничѣмъ не оправдываемые, или отвращеніе и ужасъ. Отца и матери у него не было. Онъ былъ уже 5 годъ по выходѣ изъ университета и по смерти отца въ одно и тоже время полнымъ хозяиномъ себя, своего имѣнія и еще опекуномъ меньшаго брата. Состояніе у него было среднее,[174] независимость для одного, 10, 12 тысячъ дохода на его долю; но у нея, у Кити Щербацкой, почти ничего не было. Но объ этомъ онъ не позволялъ себѣ думать. Что то было унизительное для его гордости думать, что деньги могутъ мѣшать выбору его жизни. «Для другихъ 12 тысячъ мало, но для меня, — думалъ онъ, — это другое. Вопервыхъ, жизнь моя семейная будетъ совсѣмъ не похожая на всѣ жизни, какія я вижу. Будетъ другое. Потомъ, еслибъ нужно сдѣлать деньги, я сдѣлаю. Но подчинится ли она моимъ требованіямъ? Она хороша, среда ея глупая московская свѣтская. Правда, она особенное существо.[175] Та самая особенная, какая нужна для моей особенной жизни. Но нѣтъ ли у ней прошедшаго, не была ли она влюблена? Если да, то кончено. Идти по слѣдамъ другаго я не могу. Но почему же я думаю? — Нѣтъ, но что то щемитъ мнѣ сердце и радуетъ, когда думаю. Что щемитъ? Одно — что я долженъ рѣшиться, да и нынче вечеромъ».
Онъ всталъ и сталъ ходить по комнатѣ, вспоминая ея прелестное бѣлокурое кроткое лицо и, главное, глаза, которые вопросительно выжидательно смотрѣли на него, это благородство осанки и искренность, доброту выраженья. Но все что то мучало его. Онъ не признавался себѣ даже въ томъ, что мучало его. Его мучала мысль объ невыносимомъ оскорбленіи отказа, въ возможность котораго онъ ставилъ себя.
Онъ вспоминалъ ея улыбки при разговорѣ съ нимъ, тѣ улыбки, которыя говорили, что она знаетъ его любовь и радуется ей. Онъ вспоминалъ, главное, то отношеніе къ себѣ ея сестры, ея матери, какъ будто ужъ ждали отъ него, что вотъ вотъ онъ сдѣлаетъ предложеніе. Вспоминалъ, что была даже, несмотря на ихъ страхъ какъ бы заманивать его, была неловкость, что очевидно въ послѣднюю зиму дѣло дошло до того, что онъ долженъ былъ сдѣлать предложеніе въ мнѣніи свѣта. Его ужъ не звали, когда звали другихъ, и онъ не обижался. «Да, да, — говорилъ онъ себѣ. — Нынче это кончится».
Елистратъ, пообѣдавъ, вошелъ въ нумеръ.
— Ну ужъ кушанье, — сказалъ онъ, — и не знаешь, какъ его ѣсть то. Хороша Москва, да дорога. Чтоже, сходить къ Прыжову посватать бычка?
Ордынцевъ остановился передъ Елистратомъ, не отвѣчая и улыбаясь, сверху внизъ глядя на него.
— А знаешь, Елистратъ Агеичъ, о чемъ я думаю. Что ты скажешь?
— Объ чемъ сказать то?
— Какъ ты скажешь, надо мнѣ жениться?
— И давно пора, — ни секунду немедля, какъ давно всѣмъ свѣтомъ рѣшенное дѣло, отвѣчалъ Елистратъ. — Самое хорошее дѣло.
— Ты думаешь?
— Чего думать, Николай Константиновичъ. Тутъ и думать нечего. Возьмите барыню посмирнѣе,[176] да чтобъ хозяйка была, совсѣмъ жизнь другую увидите.
Ордынцевъ засмѣялся ребяческимъ смѣхомъ и поднялъ и подкинулъ Елистрата.
— Ну, ладно, подумаемъ.
И, отпустивъ Елистрата, Ордынцевъ неторопливо переодѣлъ свѣжую рубашку и[177] фракъ вмѣсто утренняго пичджака [?] и пошелъ, чтобы чѣмъ нибудь занять время, въ Хлѣбный переулокъ, гдѣ жили[178] Щербацкіе.
Никогда послѣ Ордынцевъ не забылъ этаго полчаса, который онъ шелъ по слабо освѣщеннымъ улицамъ съ сердцемъ, замиравшимъ отъ страха и ожиданія огромной радости, не забылъ этой размягченности душевной, какъ будто наружу ничѣмъ не закрыто было его сердце; съ такой силой отзывались въ немъ всѣ впечатлѣнія. Переходъ черезъ Никитскую изъ Газетнаго въ темный Кисловскiй переулокъ и слѣпая стѣна монастыря, мимо которой, свистя, что то несъ мальчикъ и извощикъ ѣхалъ ему навстрѣчу въ саняхъ, почему то навсегда остался ему въ памяти. Ему прелестна была и веселость мальчика и прелестенъ видъ движущей[ся] лошади съ санями, бросающей тѣнь на стѣну, и прелестна мысль монастыря, тишины и доживанія жизни среди шумной, кишащей сложными интересами Москвы, и прелестнѣе всего его любовь къ себѣ, къ жизни, къ ней и способность пониманія и наслажденія всѣмъ прекраснымъ въ жизни.
Когда онъ позвонилъ у подъѣзда, гдѣ стояла карета и сани, онъ почувствовалъ, что не можетъ дышать отъ волненія счастія, и нарочно сталъ думать о непріятномъ, о безнравственности Алабина, съ тѣмъ чтобы разсердиться и этимъ сердцомъ успокоить свою размягченную душу
Глава V.
Князья Щербацкіе были когда [-то] очень богатые люди, но старый Князь[179] шутя проигралъ все свое и часть состоянія жены.[180] Ежели бы Княгиня[181] рѣшительно не взяла въ свои руки остатки состоянiя и, какъ ни противно это было ея характеру, не отказала Князю въ выдачѣ ему денегъ, онъ проигралъ бы все. «Если бы мнѣ несчастные 10, 15 тысячъ, я бы отыгралъ все», говорилъ себѣ князь, еще свѣжій 60 лѣтній человѣкъ.[182] Въ то же почти время какъ Княгиня перестала давать деньги для игры мужу, случилась и смерть единственнаго любимаго сына. Смерть эта страшно поразила Князя и съ той поры, 12 лѣтъ тому назадъ, и съ той поры безъ дѣла, кромѣ номинальной службы при Императрицыныхъ учрежденіяхъ, безъ занятій, безъ интереса къ чему бы то ни было, съѣдаемый неудовлетворенной жаждой страсти, презирая и ненавидя все новое, наростающее и живущее, несмотря на то что онъ пересталъ жить, непріятнымъ, тяжелымъ гостемъ жилъ въ домѣ. И если бы не умѣнье, нѣжность, любовь меньшой незамужней дочери Кити, которую одну какъ будто и любилъ, онъ былъ бы невыносимымъ членомъ семьи. Теперь Щербацкіе жили далеко небогато, но всетаки много выше средствъ.[183] Жизнь въ Москвѣ, гдѣ они проживали тысячъ 20, тогда какъ у нихъ было всего 10 тысячъ дохода, Княгиня считала необходимымъ для того, чтобы выдать замужъ послѣднюю дочь, которая была въ томъ[184] дѣвичьемъ возрастѣ 20 лѣтъ, когда теперь или никогда выдти замужъ. За Кити нельзя было бояться, чтобы она засидѣлась, — она была нетолько хороша, но такъ привлекательна, что нѣсколько предложеній уже были ей сдѣланы; но съ одной стороны, она не любила никого изъ тѣхъ, кто дѣлалъ предложеніе, съ другой стороны, мать знала, что Китти всегда скорѣе склонна отказаться, чѣмъ принять предложенi[е] уже по тому только, чтобы не оставить мать одну съ отцомъ. Кромѣ того, на успѣхъ хорошаго замужества Китти имѣло дурное вліяніе замужество сестры. Умная мать знала, что меньшія сестры всегда преждевременно узнаютъ многія супружескія отношенія вслѣдствіи близости съ старшей замужней сестрой. И тутъ все, что узнала Китти, могло только отвратить ее отъ супружества и сдѣлать болѣе требовательной. Кромѣ того умная, опытная мать знала, что всегда почти, особенно въ семьѣ, гдѣ нѣтъ братьевъ, меньшая сестра выходитъ за мужъ въ кругу друзей мужа старшей сестры; а друзья Алабина, несмотря на его по связямъ и имени высшее положеніе въ обществѣ, были не[185] женихи, которыхъ бы желала мать для дочери. Это были большей частью веселые собесѣдники на пиру, но не желательные мужья для дочери.
И когда мать подумывала о томъ, что Китти можетъ не выдти замужъ, ей становилось особенно больно, нетолько потому, какъ вообще матерямъ грустно и обидно, что онѣ не сумѣли сбыть товаръ съ рукъ, но особенно больно потому, что она твердо знала, что товаръ ее перваго, самаго перваго достоинства; она знала про себя, что была отличная жена и мать, знала, что Долли, несмотря на несчастье въ супружествѣ, была образцовая жена и мать, и знала, что Китти будетъ такая же и еще лучше, съ придаткомъ особенной, ей свойственной прелести и граціи. Изъ[186] очевидныхъ искателей руки Китти теперь на кону были два: Левинъ, графъ Кубинъ. Для матери не могло быть никакого сравненія между Кубинымъ и Левинымъ. Матери не нравилось въ[187] Левинѣ и его молодость и его гордость, самоувѣренность, ни на чемъ не основанная, и его, по понятіямъ матери, дикая какая-то жизнь въ деревнѣ съ занятіями[188] скотиной, мужиками; не нравилось, и очень, то, что онъ, очевидно влюбленный уже 2-й годъ въ дочь, ѣздилъ въ домъ, говорилъ[189] про разныя глупости и чего то какъ будто ждалъ, высматривалъ, какъ будто боялся, не велика ли будетъ честь, если онъ сдѣлаетъ предложеніе, и не понималъ, что, ѣздя въ домъ, гдѣ дѣвушка невѣста, онъ долженъ былъ давно объясниться. Старый Князь, принимавшій мало участія въ семейныхъ дѣлахъ, въ этомъ дѣлѣ былъ противуположнаго мнѣнія съ женою. Онъ покровительствовалъ[190] Левину и желалъ брака Кити съ нимъ. Главнымъ качествомъ[191] Левина онъ выставлялъ передъ женою[192] физическую свѣжесть, не истасканность. Но Княгиня по странной женской слабости не могла повѣрить, чтобы ее мужъ, во всемъ неправый, могъ бы быть правъ въ этомъ, и сердито и презрительно спорила съ нимъ, оскорбляясь даже тѣмъ, что физическую свѣжесть и силу можно ставить въ заслугу кому нибудь, кромѣ мужику. Она говорила, что эта физическая свѣжесть[193] и доказываетъ, что у него нѣтъ сердца. <Княгиня тѣмъ болѣе теперь была недовольна Ордынцевымъ, что въ послѣднее время, въ концѣ этой зимы,[194] на Московскихъ балахъ, изъ которыхъ ни однаго не пропускала Кити, появился новый искатель, къ которому Княгиня была расположена всей душой.> Другой искатель[195] удовлетворялъ всѣмъ желаніямъ матери. Она каждое утро [и] вечеромъ молилась о томъ, чтобы это сдѣлалось.[196] Искатель этотъ былъ[197] Графъ Вроцкой, одинъ изъ двухъ братьевъ[198] Вроцкихъ, сыновей извѣстной въ Москвѣ[199] Графини Марьи Алексѣвны. Оба брата были очень богаты, прекраснаго семейства. Отецъ ихъ оставилъ память благороднаго Русскаго вельможи, оба прекрасно образованы, кончили курсъ[200] въ высшемъ военномъ учебномъ заведеніи, оба первыми учениками, и оба служили въ гвардіи. Меньшій, Алексѣй, Кавалергардъ, жилъ въ отпускѣ[201] за границей и теперь, возвращаясь, проживъ въ Москвѣ два мѣсяца, встрѣтился на балѣ съ Кити и сталъ ѣздить въ домъ.[202]
Нельзя было сомнѣваться въ томъ, что означаютъ его посѣщенія. Вчера только разрушились послѣднія сомнѣнія матери о томъ, почему онъ не высказывается. Китти, все разсказывавшая матери, разсказала ей свой разговоръ съ нимъ.[203] Говоря объ своихъ отношеніяхъ къ матери, онъ сказалъ, что они оба брата такъ привыкли подчиняться ей во всемъ, что[204] они никогда не рѣшатся предпринять что нибудь важное, не посовѣтовавшись съ нею.
«И теперь я особенно жду, какъ особеннаго счастія, пріѣзда матушки изъ Петербурга», сказалъ онъ. «И я перемѣнила разговоръ», разсказывала Китти. Мать заставила нѣсколько разъ повторить эти слова. И успокоилась. Она знала, что старуху Удашеву ждутъ со дня на день. Знала, что старуха будетъ рада выбору сына, но понимала, что онъ, боясь оскорбить ее, не дѣлаетъ предложеніе безъ ея согласія.
Какъ ни много горя было у старой Княгини отъ старшей дочери,[205] собиравшейся оставить мужа, этотъ предстоящій бракъ радовалъ ее, и мысль о томъ, чтобы онъ разошелся, пугала ее. Она ничего прямо не совѣтовала дочери, не спрашивала ее, приметъ ли она или нѣтъ предложеніе, — она знала, что тутъ нельзя вмѣшиваться; но она боялась, что дочь, имѣвшая, какъ ей казалось, одно время чувство къ[206] Левину и подававшая надежды, изъ чувства излишней честности не отказала Удашеву. Поэтому[207] она холодно встрѣтила Ордынцева и почти не звала его. Когда она осталась одна съ дочерью, Княгиня чуть не разразилась словами упрековъ и досады.
— Я очень, очень рада, — сказала Китти значительно. — Я очень рада, что онъ пріѣхалъ. <— И взглянула на мать, и потомъ, оставшись одна,[208] она сказала ей, успокаивая ее: —> Я рада тому, что нынче все рѣшится.
— Но какъ?
— Какъ? — сказала она задумавшись. — Я знаю какъ; но позвольте мнѣ не сказать вамъ. Такъ страшно говорить про это.[209]
—————
Когда Ордынцевъ вошелъ въ гостиную, въ ней сидѣли старая Княгиня, Дарья Александровна, Алабинъ, Удашевъ и Китти съ своимъ другомъ Графиней Нордстонъ. Ордынцевъ зналъ всѣхъ, кромѣ Удашева.
Онъ зналъ и круглый столъ, и тонъ общаго разговора и выраженіе лица Китти, то выраженіе[210] взволнованнаго, но сдержаннаго счастія, которое было на ея лицѣ. При входѣ его она невольно покраснѣла, какъ 13 л[ѣтняя] дѣвочка, и съ улыбкой, которую онъ хорошо зналъ, ожидала, чтобы онъ поздорововался съ матерью и Графиней Нордстонъ, которая сидѣла ближе. Бывало, она съ той же улыбкой[211] ожидала, чтобъ онъ кончилъ здорововаться, и эта улыбка, внушая согласіе о томъ, что это нужно только для того, чтобы быть вмѣстѣ, радовала его; теперь было тоже; но въ то время какъ онъ здорововался съ матерью, она сказала что[-то], нагнувъ свою прелестную голову къ Удашеву. Этого слова было довольно, чтобъ ему понять значеніе Удашева, и вмѣсто размягченнаго состоянія онъ вдругъ почувствовалъ себя озлобленнымъ весельемъ. Въ ту же минуту, хотя была неправда, что она знала, кого выберетъ до сихъ поръ, она узнала, что это былъ Удашевъ, и ей жалко стало Ордынцева. Онъ былъ веселъ, развязенъ, и при представленіи другъ другу Удашевъ и Ордынцевъ поняли, что они враги, но маленькій ростомъ, хотя и крѣпкій, Удашевъ сталъ утонченъ, учтивъ и презрителенъ, а силачъ Ордынцевъ неприлично и обидчиво озлобленъ. Гостиная раздѣлилась на два лагеря. На сторонѣ Удашева была мать, сама Кити и Графиня Нордстонъ, на сторонѣ Ордынцева только Китти, но скоро прибавился ему на помощь Алабинъ и старый Князь, и партія стала ровна.
Разговоръ былъ поднятъ матерью о деревенской жизни, и Ордынцевъ сталъ разсказывать, какъ онъ живетъ.
— Какъ можно жить, — говорила Графиня Нордстонъ, — въ деревнѣ одному, не понимаю.[212]
— Стива разсказывалъ, что вы выставили прекрасную корову, — сказала Княгиня.
— Онъ, кажется, и не посмотрѣлъ на нее, — улыбаясь отвѣчалъ Ордынцевъ. И стараясь перевести разговоръ съ себя на другихъ: — Вы много танцовали эту зиму, Катерина Александровна?
— Да, какъ обыкновенно. Мама, — сказала она, указывая глазами на Удашева, но мама не замѣтила, и она сама должна была представить: — Князь Удашевъ А[лексѣй] В[асильевичъ?], Ордынцевъ.
Удашевъ всталъ и съ свойственнымъ ему открытымъ добродушіемъ, улыбаясь, крѣпко пожалъ руку Ордынцеву.
— Очень радъ. Я слышалъ про васъ много по гимнастикѣ.
Ордынцевъ холодно, почти презрительно отнесся къ Удашеву.
— Да, можетъ быть, — и обратился къ Графинѣ Нордстонъ.
— Ну что, Графиня, ваши столики?
Ордынцевъ чувствовалъ Удашева врагомъ, и Кити не понравилось это, но больше всѣхъ Нордстонъ. Она предприняла вышутить Ордынцева, что она такъ хорошо умѣла.
— Знаю, вы презираете это. Но чтоже дѣлать, не всѣмъ дано такое спокойствiе. Вы разскажите лучше, какъ вы живете въ деревнѣ.
Онъ сталъ разсказывать.
— Я не понимаю.
— Нѣтъ, я не понимаю, какъ ѣздить по гостинымъ болтать.
— Ну, это неучтиво.
Удашевъ улыбнулся тоже. Ордынцевъ еще больше окрысился. Удашевъ, чтобъ говорить что нибудь, началъ о новой книгѣ. Ордынцевъ и тутъ перебилъ его, высказывая смѣло и безапеляціонно свое всѣмъ противуположное мнѣніе. Кити, сбирая сборками лобъ, старалась противурѣчить, но Нордстонъ раздражала его, и онъ расходился. Всѣмъ было непріятно, и онъ чувствовалъ себя причиной. Къ чаю вошелъ старый Князь, обнялъ его и сталъ поддакивать съ другой точки зрѣнія и началъ длинную исторію о безобразіи судовъ. Онъ долженъ былъ слушать старика из учтивости и вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что всѣ рады освободиться отъ него и что у нихъ втроемъ пошелъ веселый small talk.[213] Онъ никогда не ставилъ себя въ такое неловкое положеніе, онъ дѣлалъ видъ, что слушаетъ старика; но слушалъ ихъ и когда говорилъ, то хотѣлъ втянуть ихъ въ разговоръ, но его какъ будто боялись.[214]
Кити за чаемъ, вызванная Нордстонъ, высказала Удашеву свое мнѣніе объ Ордынцевѣ, что онъ молодъ и гордъ. Это она сдѣлала въ первый разъ и этимъ какъ будто дала знать Удашеву, что она его жертвуетъ ему. Она была такъ увлечена Удашевымъ, онъ былъ такъ вполнѣ преданъ ей, такъ постоянно любовались ею его глаза, что губы ея не развивались, а, какъ кудри, сложились въ изогнутую линію, и на чистомъ лбу вскакивали шишки мысли, и глаза голубые свѣтились яркимъ свѣтомъ. Удашевъ говорилъ о пустякахъ, о послѣднемъ балѣ, о сплетняхъ о Патти, предлагалъ принести ложу и каждую минуту говорилъ себѣ: «да, это она, она, и я буду счастливъ съ нею». То, что она, очевидно, откинула Ордынцева, сблизило ихъ больше, чѣмъ все прежнее. Княгиня Нордстонъ сіяла и радовалась, и онъ и она чувствовали это. Когда Ордынцевъ наконецъ вырвался отъ старика и подошелъ къ столу, онъ замѣтилъ, что разговоръ замолкъ и онъ былъ лишній; какъ ни старалась Кити (шишка прыгала) разговорить, она не могла, и Долли предприняла его, но и сама впала въ ироническіе отзывы о мужѣ.[215]
Ордынцевъ уже сбирался уѣхать, какъ пріѣхалъ Стива, легко на своихъ маленькихъ ножкахъ неся свой широкій грудной ящикъ. Онъ весело поздоров[овался] со всѣми и точно также съ женою, поцѣловавъ ея руку.
— Куда же ты?
— Нѣтъ, мнѣ еще нужно, — солгалъ Ордынцевъ и весело вызывающе простился и вышелъ.
Ему никуда не нужно было. Ему нужно было только быть тутъ, гдѣ была Кити, но въ немъ не нуждались, и съ чувствомъ боли и стыда, но съ сіяющимъ лицомъ онъ вышелъ, сѣлъ на извощика и пріѣхалъ домой, легъ и заплакалъ.
«Отчего, отчего, — думалъ онъ, — я всѣмъ противенъ, тяжелъ? Не они виноваты, но я. Но въ чемъ же? Нѣтъ, я не виноватъ.[216] Но вѣдь я говорилъ уже себѣ; но безъ[217] нихъ я не могу жить. Вѣдь я пріѣхалъ. — И онъ представлялъ себѣ его,[218] Вр[оцкаго], счастливаго, добраго, наивнаго и умнаго.[219] — Она должна выбрать его. А я? <Что такое?> Не можетъ быть, гордость! Что нибудь во мнѣ не такъ.[220] Домой, домой, — былъ одинъ отвѣтъ. — Тамъ рѣшится», и онъ вспоминалъ матокъ, коровъ, постройку и сталъ успокаиваться. Брата дома не было.[221] Онъ послалъ телеграмму, чтобъ выѣхала лошадь, и легъ спать.
Утромъ его братъ не вставалъ, онъ выѣхалъ, къ вечеру пріѣхалъ. Дорогой, еще въ вагонѣ, онъ разговаривалъ съ сосѣдями о политикѣ, о книг[ахъ], о знакомыхъ, но когда онъ вышелъ на своей станціи, надѣлъ тулупъ, увидалъ криваго Игната и съ подвязаннымъ хвостомъ пристяжную безъ живота, интересы деревни обхватили его. И Игнатъ разсказывалъ про перевозъ гречи въ сушилку, осуждалъ прикащика. Работы шли, но медленнѣе, чѣмъ онъ ждалъ. Отелилась Пава. Дома съ фонаремъ еще онъ пошелъ смотрѣть Паву, пришелъ въ комнату съ облѣзлымъ поломъ, съ гвоздями. Няня въ куцавейкѣ, свой почеркъ на столѣ, и онъ почувствовалъ, что онъ пришелся, какъ ключъ къ замку, къ своему деревенскому житью, и утихъ, и пошла таже жизнь съ новаго жара. Постройки, сушилки, школа, мужики, сватьба работника, скотина, телка, досады, радости и забота.
—————
Когда вечеръ кончился и всѣ уѣхали и Кити пришла въ свою комнату, одно впечатлѣніе неотступно преслѣдовало ее. Это было его лицо съ насупленными бровями и мрачно, уныло смотрящими изъ подъ нихъ добрыми голубыми глазами, какъ онъ стоялъ, слушая рѣчи стараго Князя. И ей нетолько жалко его было, но стало жалко себя за то, что она его потеряла, потеряла на всегда, сколько она ни говорила себѣ, что она любила Вр[оцкаго] и любитъ его. Это была правда; но сколько она ни говорила себѣ это, ей такъ было жаль того, что она навѣрное потеряла, что она закрыла лицо руками и заплакала горючими слезами.
—————
Въ тотъ же вечеръ, какъ хотя и не гласно, не выражено, но очевидно для всѣхъ рѣшилась судьба Кити и Удашева, когда Кити вернулась въ свою комнату съ несходящей улыбкой съ лица и въ восторгѣ страха и радости молилась и смѣялась и когда Удашевъ проѣхалъ мимо[222] Дюсо, гдѣ его ждали, не въ силахъ заѣхать и, заѣхавъ, пройдя, какъ чужой и царь, вышелъ оттуда, стряхивая прахъ ногъ, въ этотъ вечеръ было и объясненіе Степана Аркадьевича съ женою.[223] Въ первый разъ она склонилась на просьбы матери и сестры и рѣшилась выслушать мужа.
— Я знаю все, что будетъ, — сказала Долли иронически и зло сжимая губы, — будутъ увѣренія, что всѣ мущины такъ, что это не совсѣмъ такъ, какъ у него все бываетъ не совсѣмъ такъ; немного правда, немного неправда, — сказала она, передразнивая его съ злобой и знаніемъ, которое даетъ одна любовь. Но онъ меня не увѣритъ, и ужъ ему, — съ злостью, изуродовавшей ея тихое лицо, сказала она, — я не повѣрю. Я не могу любить человѣка, котораго презираю.
Но объясненіе было совсѣмъ не такое, какое ожидала Долли. Степанъ Аркадьичъ подошелъ къ ней съ робкимъ, дѣтскимъ, милымъ лицомъ, выглядывавшимъ между сѣдѣющими бакенбардами и изъ подъ краснѣющаго носа, и на первыя слова ея (она отвернувшись сказала съ злостью и страданіемъ въ голосѣ: «Ну что можно говорить») — на первыя эти слова въ лицѣ его сдѣлалась судорога, и онъ зарыдалъ, цѣлуя ея руки. Она хотѣла плакать, но удержалась и скрыла.
На другой день она переѣхала домой съ уговоромъ, что она для приличія будетъ жить съ нимъ, но что между ними все кончено.
Степанъ Аркадьичъ былъ доволенъ: приличіе было соблюдено — жена переѣзжала къ матери на время перекраски дверей, другое — жена на виноватую просьбу его подписать купчую иронически согласилась. Третье — главное — устроить внутреннія отношенія по старому — это дѣло Степанъ Аркадьичъ надѣялся устроить съ помощью любимой сестры Петербургской дамы Анны Аркадьевны Карениной, которой онъ писалъ въ Петербургъ и которая обѣщала пріѣхать погостить въ Москву къ невѣсткѣ.
—————
Прошло 3 дня. Степанъ Аркадьичъ засѣдалъ весело въ судѣ, по панибратски лаская всѣхъ. Долли углубилась въ дѣтей. Удашевъ ѣздилъ каждый день къ Щербацкимъ, и всѣ знали, что онъ неизмѣнно женихъ. Онъ перешелъ уже ту неопредѣленную черту. Уже не боялись компрометировать ни онъ, ни она. Ордынцевъ сдѣлалъ чистку въ себѣ и домѣ и засѣлъ за политико-экономическую работу и готовился къ новымъ улучшеніямъ лѣта.
— Право, — говорила Долли, — я не знаю, гдѣ ее положить. И въ другое время я ей рада; но теперь... Столько хлопотъ съ дѣтьми. И что ей, Петербургской модной дамѣ, у насъ только...
— Ахъ полно, Долли, — сказалъ мужъ съ смиреніемъ.
— Да тебѣ полно, a мнѣ надо готовить и стѣснить дѣтей.
— Ну хочешь, я все сдѣлаю.
— Знаю я, скажешь Матвѣю сдѣлать чего нельзя и уѣдешь, а онъ все перепутаетъ.
— Совсѣмъ нѣтъ.
— Ну хорошо, сдѣлай. Я уже и рукъ не приложу.
Но кончилось тѣмъ, что, когда Степанъ Аркадьичъ поѣхалъ на желѣзную дорогу встрѣчать сестру вмѣстѣ съ Удашевымъ, который съ этимъ же поѣздомъ ждалъ мать, Долли устроила комнату для золовки.
—————
На дебаркадерѣ стояла рѣдкая толпа. Степанъ Аркадьичъ пріѣхалъ встрѣчать сестру, Удашевъ мать. Онѣ въ одномъ поѣздѣ должны были пріѣхать изъ Москвы въ 8 часовъ вечера.
— Вы не знаете Анну? — съ удивленіемъ и упрекомъ говорилъ Степанъ Аркадьичъ.
— Знаю, давно на балѣ у посланника я былъ представленъ ей, но какъ было: знаете, двухъ словъ не сказалъ и теперь даже не посмѣю кланяться. Потомъ видѣлъ, она играла во Французской пьесѣ у Бѣлозерскихъ. Отлично играетъ.
— Она все отлично дѣлаетъ. Не могу удержаться, чтобы не хвалить сестру. Мужъ, сынъ, свѣтъ, удовольствія, добро, связи — все она успѣваетъ, во всемъ совершенство, и все просто, легко, безъ труда.
Удашевъ замолчалъ, какъ всегда молчать при такого рода похвалахъ.
— Она на долго въ Москву?[224]
— Недѣли двѣ, три. Чтоже, ужъ не опоздалъ?
Но вотъ побѣжалъ кто то, задрожалъ полъ, и съ гуломъ отворились двери. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, протежируемыхъ пропустили впередъ, и Степанъ Аркадьичъ съ Удашевымъ въ числѣ ихъ.
Соскочилъ молодцоватый кондукторъ, свистя. Затолкались, вбѣгая въ вагоны, артельщики. И стали выходить по одному пассажиры. Сначала молодые военные — офицеръ медлительно и прямо, купчикъ быстро и юрко. И наконецъ толпа. Въ одномъ изъ вагоновъ 1-го класса противъ самихъ Удашева и Степана Аркадьича на крылечкѣ стояла невысокая дама въ черномъ платьѣ, держась правой рукой за колонну, въ лѣвой держа муфту и улыбалась глазами, глядя на Степана Аркадьича. Онъ смотрѣлъ въ другую сторону, ища ее глазами, а Удашевъ видѣлъ ее. Она улыбалась Степану Аркадьичу, но улыбка ея освѣщала и[225] жгла его. Въ дамѣ этой не было ничего необыкновеннаго, она была просто одѣта, но что то приковывало къ ней вниманіе.
[226]Гагинъ тотчасъ же догадался по сходству съ братомъ, что это была Каренина, и онъ видѣлъ, что Степанъ Аркадьичъ ищетъ ее глазами не тамъ, гдѣ надо, но ему почему то весело было чувствовать ея улыбку и не хотѣлось указать Степану Аркадьичу, гдѣ его сестра. Она поняла тоже, и улыбка ея приняла еще другое значеніе, но это продолжалось только мгновенье. Она отвернулась и сказала что то, обратившись въ дверь вагона.
— Вотъ здѣсь ваша сестра, — сказалъ Удашевъ, тронувъ рукою Степана Аркадьича.
И въ тоже время онъ въ окнѣ увидалъ старушку въ лиловой шляпѣ съ сѣдыми буклями и свѣжимъ старушечьимъ лицомъ — эта была его мать. Опять дама вышла и громко сказала: — Стива, — обращаясь къ брату, и Удашевъ, хотя и видѣлъ мать, посмотрѣлъ, какъ просіяло еще болѣе лицо Карениной и она, дѣтски радуясь, обхватила рукою локтемъ за шею брата, быстрымъ движеніемъ притянула къ себѣ и крѣпко поцѣловала. Удашевъ улыбнулся радостно. «Какъ славно! Какая энергія! Какъ глупо», сказалъ самъ себѣ Удашевъ за то, что онъ мгновенье пропустилъ нѣжный устремленный на него взоръ матери.
— Получилъ телеграмму?
— Вы здоровы, хорошо доѣхали?
— Прекрасно, благодаря милой Аннѣ Аркадьевнѣ.
Они стояли почти рядомъ.
Анна Аркадьевна подошла еще ближе и, протянувъ старушкѣ маленькую руку безъ колецъ и безъ перчатки (все было необыкновенно просто въ лицѣ и въ одеждѣ Анны Аркадьевны), — Ну, вотъ вы встрѣтили сына, а я брата, и все прекрасно, — сказала она по французски. — И всѣ исторіи мои пришли къ концу, а то бы нечего ужъ разсказывать.
— Ну, нѣтъ милая, — сказала старушка, гадливо отстраняясь отъ проходившей дамы въ блестящей атласной шубкѣ, въ лиловомъ вуалѣ, до неестественно румяныхъ губъ, въ модныхъ лаковыхъ ботинкахъ съ кисточками. — Я бы съ вами объѣхала вокругъ свѣта и не соскучилась. Вы однѣ изъ тѣхъ милыхъ женщинъ, съ которыми и поговорить и помолчать пріятно. О сынѣ успокойтесь. Все будетъ хорошо, повѣрьте, — продолжала старушка, — и прекрасно, чтобъ вашъ мужъ поучился ходить за сыномъ. Здравствуйте, милый, — обратилась она къ Степану Аркадьичу, — ваши здоровы? Поцѣлуйте за меня Долли и Кити. — Кити, — сказала она, подчеркнувъ это слово и взглянувъ на сына. — Мой сынъ, — прибавила она представляя сына Аннѣ Аркадьевнѣ. — И какъ это вы умѣете быть незнакомы съ тѣми, съ кѣмъ надо. Ну, прощайте, прощайте, милая. Дайте поцѣловать ваше хорошенькое личико.
Анна Аркадьевна пожала руку Удашеву. Онъ ей напомнилъ свое знакомство.
— Какже, я помню. Ваша матушка слишкомъ добра. Я благодаря ей не видѣла времени. Надѣюсь васъ видѣть.
Она говорила это просто, мило, но въ глазахъ ея было больше чѣмъ обыкновенное вниманіе.[227]
Ея поразила вся фигура Удашева. И поразила пріятно. Она не помнила, видѣла ли она когда-нибудь такихъ маленькихъ, крѣпкихъ съ черной щеткой бороды, спокойныхъ и джентельменовъ. Что то особенное было въ немъ.
«А вотъ какіе бываютъ, — сказала она. — Онъ славный, долженъ быть. И что сдѣлалось съ нимъ?» Онъ вдругъ смѣшался и покраснѣлъ и заторопился искать дѣвушку матери.
Къ Аннѣ Аркадьевнѣ тоже подошла ея дѣьушка въ шляпѣ.
— Ну, Аннушка, ты уже устрой багажъ и пріѣзжай, — сказала она, доставая билетъ, и положила руку на руку брата.
— Послушай, любезный, вещи сестры, — сказалъ онъ служащему, кивнувъ пальцемъ, и прошелъ съ ней.
Они уже стали отходить, какъ вдругъ толпа хлынула имъ на встрѣчу, и, какъ это бываетъ, ужасъ неизвѣстно о чемъ распространился на всѣхъ лицахъ.
— Что такое, что? Гдѣ бросился? Задавили?
Степанъ Аркадьичъ съ сестрой и Удашевъ одинъ сошлись вмѣстѣ у конца платформы, гдѣ жандармъ, кондукторъ и артельщикъ тащили что-то. Это[228] былъ старый мужикъ въ сапогахъ.
Какой то чиновникъ разсказывалъ, что онъ самъ бросился, когда стали отводить поѣздъ.
— Ахъ, какой ужасъ! — проговорилъ Степанѣ Аркадьичъ. — Пойдемъ.
Но Анна Аркадьевна не шла.
— Что? гдѣ?
Она увидала, и блѣдность, строгость разлилась по ея прелестному лицу. Она обратилась къ брату, но онъ не могъ отвѣчать. Онъ, какъ ребенокъ, готовъ былъ плакать и закрывалъ лицо руками. Она обратилась къ Удашеву, крѣпко, нервно взявъ его за локоть.
— Узнайте, кто, отчего?
Удашевъ пробился въ толпу и принесъ ей извѣстіе, что[229] это мужикъ, вѣроятно,[230] пьяный, онъ отчищалъ снѣгъ.
— Чтожъ, умеръ?
— Умеръ. Вѣдь это мгновенная смерть.
— Мгновенная?
Странно, несмотря на силу впечатлѣнія отъ этой смерти, а можетъ быть, и вслѣдствіе ея, совсѣмъ другое чувство, независимое, чувство симпатіи и близости промелькнуло въ глазахъ у обоихъ.[231]
— Благодарю васъ, — сказала она. — Ахъ, какъ ужасно, — и они опять разошлись.
— Это дурной знакъ, — сказала она, и, несмотря на веселость Степана Аркадьича, возвратившуюся къ нему тотчасъ послѣ того, какъ онъ потерялъ изъ вида трупъ, она была молчалива и грустна половину дороги. Только подъѣзжая къ дому, она вдругъ очнулась, отворила окно.
— Ну, оставимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. Ну, Стива, очень рада тебя видѣть и твоихъ, ну, разскажи же мнѣ, что у васъ съ Долли?
Степанъ Аркадьичъ сталъ разсказывать, стараясь быть великодушнымъ и осуждая себя, но тонъ его говорилъ, что онъ не можетъ винить себя.
— Почему же ты думаешь, что я все могу сдѣлать? Я не могу, и, правду тебѣ сказать, Долли права.
— Да, но если бы Михаилъ Михайлычъ сдѣлалъ тебѣ невѣрность.
— Вопервыхъ, это немыслимо, а вовторыхъ, я бы.... я бы не бросила[232] сына, да; но...
— Но ты, я знаю, устроишь.
— Я, вопервыхъ, ничего не знаю. Я ничего не буду говорить, пока Долли сама не начнетъ.
— Ну, я знаю, ты все сдѣлаешь,[233] — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, входя въ переднюю и переминаясь съ ноги на ногу.
Анна Аркадьевна только улыбнулась улыбкой, выражающей воспоминаніе о дѣтскихъ временахъ, о той же слабой чертѣ характера и любовь ко всему Степана Аркадьича, со всѣми его слабостями, и, скинувъ шубку, быстрыми, неслышными шагами вошла въ гостиную.
Когда Анна вошла въ комнату, Долли сидѣла въ маленькой гостиной, и сухіе съ толстыми костями пальцы ея, какъ у всѣхъ несчастныхъ [?] женщинъ, сердито, нервно вязали, въ то время какъ Таня, сидя подлѣ нея у круглаго стола, читала по французски.
Услыхавъ шумъ платья больше, чѣмъ чуть слышные быстрые шаги, она оглянулась, и на измученномъ лицѣ ея выразилась улыбка однихъ губъ, одной учтивости; но свѣтъ глазъ, простой, искренній, не улыбающійся, но любящій взглядъ Анны Аркадьевны преодолѣлъ ея холодность.
— Какъ, ужъ пріѣхала? — Она встала. — Ну, я все таки рада тебѣ.
— За что жъ ты мнѣ не была бы рада, Долли?
— Нѣтъ, я рада, пойдемъ въ твою комнату.
— Нѣтъ, позволь никуда не ходить.
Она сняла шляпу и, зацѣпивъ за прядь волосъ, мотнувъ головой, отцѣпляла черные волосы. Дѣвочка, любуясь и улыбаясь, смотрѣла на нее. «Вотъ такая я буду, когда выросту большая», говорила она себѣ.
— Боже мой, Таня. Ровесница Сережи.
Ну, она сдержала что обѣщала. Она взяла ее за руки.
— Можно, можно мнѣ присядать?
Таня закраснѣлась и засмѣялась.
Мать услала дочь, и послѣ вопросовъ о ея мужѣ и сынѣ за кофеемъ начался разговоръ.
— Ну, разумѣется, я ни о чемъ не могу и не хочу говорить, прежде чѣмъ не узнаю все твое горе. Онъ говорилъ мнѣ.
Лицо Долли приняло сухое, ненавидящее выраженіе. Она посмотрѣла на Анну Аркадьевну съ ироническимъ выраженіемъ.
— Долли милая, я хотѣла говорить тебѣ за него, утѣшать. Но, душенька, я вижу, какъ ты страдаешь, и мнѣ просто жалко, жалко тебя.
И на маленькихъ глазахъ съ огромными рѣсницами показались слезы. Она прижалась къ невѣсткѣ. Долли сейчасъ же дала цѣловать себя, но не плакала. Она сказала:
— По крайней мѣрѣ, ты понимаешь, что все, все потеряно послѣ этаго, все пропало.
И какъ только она сказала это, она зарыдала. Анна Аркадьевна взяла ее руку и поцѣловала.
— Не думай, Долли, чтобы я, потому что онъ мой братъ, могла смотрѣть легко на это, не понимаю весь ужасъ твоего положенія. Но чтожъ дѣлать, чтожъ дѣлать? Онъ гадокъ, но онъ жалокъ. Это я сказала ему.
Она противурѣчила себѣ, но она говорила правду. Несмотря на то, что она ласкова была съ нимъ, онъ былъ невыносимо противенъ ей.
— Да, это ужасно. Что жъ говорить, — заговорила Долли. — Все кончено. И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить. Дѣти — я связана. А между прочимъ съ нимъ жить мнѣ мука. Именно потому мука, что я, что я все таки... Мнѣ совѣстно признаться, но я люблю свою любовь къ нему, люблю его.
И она разрыдалась.
— Долли, голубчикъ. Онъ говорилъ мнѣ, но я отъ тебя хочу слышать. Скажи мнѣ все.
И въ самомъ дѣлѣ случилось то, чего ожидала Анна Аркадьевна. Она какъ бы успокоилась, похолодѣла и съ злобой начала говорить:
— Изволь! Ты знаешь, какъ я вышла замужъ. Я съ воспитаніемъ maman нетолько была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорятъ, я знаю, мужья разсказываютъ женамъ свою прежнюю жизнь, но Стива, — она поправила, — Степанъ Аркадьичъ ничего не сказалъ мнѣ. Ты не повѣришь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую онъ зналъ. И тутъ эта гадкая женщина Н. стала мнѣ дѣлать намеки на то, что онъ мнѣ невѣренъ. Я слышала и не понимала, я понимала, что онъ ухаживаетъ за ней. Но тутъ вдругъ это письмо. Я сидѣла, занималась съ Петей. Она приходитъ и говоритъ: «вотъ вы не вѣрили, прочтите». Онъ пишетъ: «обожаемый другъ, я не могу пріѣхать нынче». Я разорвала, но помню все письмо. Я понимаю еще увлеченье, но эта подлость — лгать, обманывать, продолжать быть моимъ мужемъ вмѣстѣ съ нею. Это ужасно.
— Я все понимаю, и оправдывать его нѣтъ словъ и даже, правду сказать, простить его не могло быть и мысли, если бы это было годъ послѣ женитьбы, еслибъ у васъ не было дѣтей; но теперь, видя его положеніе, его раскаянье, я понимаю, что....
— Но есть ли раскаянье? — перебила Долли. — Если бы было, — перебила она съ[234] жадностью.
Это есть, я его знаю, я вижу этотъ стыдъ и не могу, правду сказать, безъ жалости смотрѣть на него. Мы его обѣ знаемъ. Онъ добръ, главное — честенъ, боится быть дуренъ, стыдится страсти, онъ гордъ и теперь такъ униженъ. Главное, что меня тронуло, — и тутъ Анна Аркадьевна угадала главное, что могло тронуть ее. — Его мучаютъ двњ вещи: то, что ему стыдно дѣтей — онъ говорилъ мнѣ это, — и то, что онъ, любя тебя — да, да, любя больше всего на свѣтѣ, сдѣлалъ тебѣ больно, убилъ тебя. «Нѣтъ, нѣтъ, она не проститъ», все говоритъ онъ. Ты знаешь его манеру.
И Анна Аркадьевна представила такъ живо манеру брата, что Долли, казалось, видѣла передъ собой своего мужа. Долли задумчиво смотрѣла мимо золовки, слушая ея слова, и въ губахъ выраженіе ее смягчилось.
— Да, я понимаю, что положеніе его ужасно, виноватому хуже, чѣмъ невинному, если онъ чувствуетъ, что отъ вины его — несчастія; но какже простить, какъ мнѣ опять быть его женою послѣ нея?[235] Мнѣ жить съ нимъ теперь будетъ величайшая мука именно потому, что я любила его, какъ любила! что я люблю свою прошедшую любовь къ нему...
И рыданья прервали ея слова. Но какъ будто нарочно всякій разъ, какъ она смягчалась, она нарочно начинала говорить о томъ, что раздражало ее.
— Она вѣдь молода, вѣдь она красива, — начала она. — Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кѣмъ? Имъ, дѣтьми. Я отслужила ему, и на этой службѣ ушло все мое, и ему теперь, разумѣется, свѣжее, пошлое существо пріятнѣе. Они, вѣрно, говорили между собой обо мнѣ или, еще хуже, умалчивали, потому что не о чемъ говорить.
Опять ненавистью зажглись ея глаза.
— И послѣ этаго онъ будетъ говорить мнѣ. Чтожъ, я буду вѣрить ему? Никогда. Нѣтъ, ужъ кончено все, все, что составляло утѣшенье, награду труда, мукъ. Нѣтъ, это ужасно. Ужасно то, что вдругъ душа моя перевернулась, и вмѣсто любви, нѣжности у меня къ нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его, ее...
Лицо Анны выражало такое страданье, сочувствіе, что Долли смягчилась, увидавъ ее. Она помолчала.
— Но чтоже дѣлать, придумай. Я все передумала и ничего не вижу.
Анна ничего не придумывала и не могла придумать, но сердце ее прямо и готово отзывалось на каждое слово, на каждое выраженіе лица невѣстки. Она видѣла, что воспоминанье о ней и въ особенности разговоръ о ней возбуждаютъ все болѣе и болѣе Долли и что надо дать ей наговориться.[236] Теперь она наговорилась, и надо было говорить, но что? Анна прямо отдалась голосу сердца,[237] и то, что она говорила, нельзя было лучше придумать.
— Чтоже я могу говорить тебѣ, я, вполнѣ счастливая[238] жена? Я скажу тебѣ одно, что мы всѣ слабы и поддаемся впечатлѣнію минуты.
— Ну, нѣтъ.
— Да я не въ томъ смыслѣ говорю. Когда онъ говорилъ мнѣ, я, признаюсь тебѣ, рѣшительно не понимала всего ужаса положенія. Я видѣла только то, что семья разстроена. Мнѣ это жалко было, и мнѣ его жалко было, но, поговоривъ съ тобой, я, какъ женщина, вижу другое: я вижу твои страданія, и мнѣ, не могу тебѣ сказать, какъ жалко тебя. Долли, другъ мой, но если можно простить, — прости. — И сама Анна заплакала. — Постой, — она прервала ее, цѣлуя ея руку. — Я больше тебя, хоть и моложе, знаю свѣтъ. Я знаю этихъ людей, какъ Стива, какъ они смотрятъ на это. Ты говоришь, напримѣръ, что онъ съ ней говорилъ о тебѣ. Этаго не было. Эти люди vénèrent[239] свой домашній очагъ и жену и, какъ хорошій обѣдъ, позволяютъ себѣ удовольствіе женщины, но какъ то у нихъ эти женщины остаются въ презрѣніи и не мѣшаютъ семьѣ. Они какую то черту проводятъ непереходимую между семьей и этимъ.
— Да, но онъ цѣловалъ ее...
— Долли, постой, душенька. Я видѣла Стиву, когда онъ былъ влюбленъ въ тебя, я помню это время, когда онъ пріѣзжалъ ко мнѣ и плакалъ, и какая поэзія и высота была ты для него, и я знаю, что ты въ этомъ смыслѣ росла для него. Вѣдь мы смѣялись бывало надъ нимъ. «Долли — удивительная женщина», а это увлеченье не его души.[240]
— Но если это увлеченье повторится?
— Оно не можетъ, какъ я его понимаю.
— Да, но ты простила бы?
— Не знаю. Я не могу судить. Нѣтъ, могу, — сказала она, подумавъ, и, видимо, уловивъ мыслью положеніе и свѣсивъ его на внутреннихъ вѣсахъ, прибавила: — Нѣтъ, могу, могу. Нѣтъ, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и такъ, что какъ будто этаго не было, совсѣмъ не было.
— Ну, разумѣется, — чуть улыбаясь, сказала Долли, — иначе бы это не было прощенье. Ну, пойдемъ, я тебя проведу въ твою комнату, — сказала она вставая. И по дорогѣ Долли обняла Анну. — Милая моя, какъ я рада, что ты пріѣхала, какъ я рада. Мнѣ легче, гораздо легче стало.
—————
Весь день этотъ Анна провела дома, т. е. у Алабиныхъ, и съ радостью видѣла, что Стива обѣдалъ дома, что жена говорила съ нимъ, что послѣ обѣда у нихъ было объясненье, послѣ котораго Степанъ Аркадьичъ вышелъ красный и мокрый, а Долли, какъ она всегда бывала, вышла холодная и насмѣшливая. Кити въ этотъ день обѣдала у сестры, и она тотчасъ же нетолько сблизилась съ Анной, но влюбилась въ нее, какъ способны влюбляться молодыя дѣвушки въ[241] замужнихъ и старшихъ дамъ. Она такъ влюбилась въ нее въ этотъ разъ (она прежде раза два видѣла ее), что сдѣлала ей свои признанія, переполнявшiя ея сердце.
Въ то самое время, какъ Долли объяснялась съ Стивой въ его кабинетѣ, куда она нарочно пошла, Кити сидѣла съ Анной и тремя старшими дѣтьми въ маленькой гостиной. И оттого ли, что дѣти видѣли, какъ Кити полюбила Анну, или и имъ понравилась эта новая тетя, но у дѣтей сдѣлалось что то въ родѣ игры, состоящей въ томъ, чтобы какъ можно ближе сидѣть къ тетѣ и держать ее руку и конецъ оборки и ленты и играть ея кольцами. Всякая шутка, которую говорила тетя Анна, имѣла успѣхъ, и дѣти помирали со смѣху. Такъ они сидѣли въ гостиной до тѣхъ поръ, пока не подали чай и Англичанка не позвала дѣтей къ чаю.
Разговоръ шелъ о предстоящемъ балѣ у Генералъ-Губернатора, на который Кити уговаривала Анну ѣхать.
— Ну, какже изъ за платья не ѣхать, — говорила она.
— У меня есть одно, и мы вамъ устроимъ съ М-me Zoe въ одинъ день.
— Да нельзя, мой дружокъ. Я толще васъ.
— Венеціанскія пришьемъ, я все сдѣлаю, только поѣдемъ.
— Да зачѣмъ вамъ хочется?
— Мнѣ хочется васъ видѣть на балѣ, гордиться вами. Одно можно бы мое бархатное перешить. Кружева отличныя, венеціанскія.
Но когда она позвала ихъ, Кити, оставшись одна съ Анной, невольно съ бала перешла на тѣ признанія, которыя наполняли ее со вчерашняго дня и которыя она чувствовала необходимость передать Аннѣ.
— Мнѣ этотъ балъ очень важенъ.
— О, какъ хорошо ваше время! милый другъ, — сказала Анна. — Помню и знаю этотъ синій туманъ. въ родѣ того, который на горахъ въ Швейцаріи. Этотъ туманъ, который покрываетъ все въ блаженное то время, когда вотъ-вотъ кончится молодость, и изъ этаго огромнаго круга, счастливаго, веселаго, дѣлается все уже и уже, и весело и жутко входить въ эту амфиладу, хотя она и свѣтлая и прекрасная.
— Да, да. Вы прошли черезъ это. Въ этомъ одно бываетъ тяжело — это знаете что? — Кити засмѣялась впередъ тому, что она скажетъ, — это то, что надо выбирать одну шляпу, а ихъ 2 и обѣ прекрасны, или даже одна прекрасная, другая тоже хорошая въ своемъ родѣ, а надо только одну.
— Когда я бывала въ дѣвушкахъ, я всегда бывала влюблена въ двухъ сразу, я и виноградъ не люблю ѣсть по одной ягодкѣ, a непремѣнно двѣ сразу, — сказала она, такъ и дѣлая.
— Да, но выдти нельзя за двухъ сразу.
— Когда мнѣ было выходить замужъ, у меня было очень опредѣленно. Мужъ мой былъ такой особенный отъ всѣхъ.
— И у меня тоже. Ахъ, что я говорю!
— Я знаю, Стива мнѣ кое-что сказалъ, и поздравляю васъ, онъ мнѣ очень нравится, — сказала Анна, чувствуя, что она краснѣетъ, оттого что улыбки, которыми они обмѣнялись, совсѣмъ не должны были быть, совсѣмъ не нужны были.
— Но кто же другая шляпка, которую тоже хотѣлось бы взять? Нѣтъ, безъ шутокъ, я знаю, какъ это грустно бываетъ, и грустно потому, что нужно сдѣлать больно ему.
— Да, да, это[242] Левинъ; это другъ и товарищъ брата Евгенiя покойника. Это очень, очень милый человѣкъ, но странный. Онъ давно уже ѣздилъ къ намъ, но онъ никогда ничего не говорилъ, и maman сердится, говоритъ, что ничего и не будетъ. Но мнѣ кажется, что онъ думалъ и думаетъ; но, знаете, онъ одинъ изъ не тронь меня, гордый и отъ того до болѣзненности скромный.
— Что же онъ дѣлаетъ?
— И это тоже.[243] Онъ ничего не дѣлаетъ. Нигдѣ не кончилъ курсъ, но уменъ, поэтиченъ и музыкаленъ, и пишетъ, и хозяинъ, и вѣчно то одно, то другое. Но онъ такъ милъ и такая чистота въ немъ, а между прочимъ, вы знаете, какъ это чувствуется. Я чувствовала, что вчера все между нами кончилось, и онъ понялъ это. Я по крайней мѣрѣ чувствую, что я могу быть за кѣмъ хотите замужемъ, но не за нимъ.
— Ну и Богъ съ нимъ, я его не знаю, но[244] Вронскій мнѣ безъ шутокъ очень, очень нравится, и я знаю этотъ genre,[245] очень рѣдкій и дорогой у насъ этихъ семей, строгихъ, честныхъ и аристократическихъ, я ѣхала вчера съ его матерью, и это ея любимецъ, и она всю дорогу пѣла мнѣ похвалы его. И храбръ, и правдивъ, и добръ, и уменъ, и ученъ, и скроменъ. Что, пріятно слушать?
— Да, пріятно, — задумчиво сказала Кити, и глаза ея свѣтились счастьемъ.
— Какъ вы думаете, можетъ это быть, чтобъ молодой человѣкъ не смѣлъ сдѣлать предложеніе безъ согласія матери?
— Очень, именно онъ. Это такая строгая семья. Она очень просила меня поѣхать къ ней, и я рада повидать старушку и завтра поѣду къ ней и разскажу вамъ. Однако, слава Богу, Долли долго у Стивы въ кабинетѣ.
— Слава Богу, — сказала Кити, перемѣняя разговоръ. — Я думаю, обойдется. Папа правду говоритъ: вы всѣ дуры, только умѣете ихъ разстроивать, а вотъ умная женщина сейчасъ видна, пріѣхала и устроила.
— Нѣтъ, я прежде, нѣтъ я! — кричали дѣти, окончивши чай и бѣжавши къ тетѣ Аннѣ.
— Ну такъ поѣдемъ на балъ?
— Право, не знаю.
— Только поручите мнѣ, я такъ устрою и не дорого. Я такъ и вижу васъ въ черномъ бархатѣ и лиловыхъ цвѣтахъ.
Въ первый разъ въ этотъ вечеръ Долли говорила съ Степаномъ Аркадьичемъ, наливши ему чая, и онъ шутилъ съ Анной и съ дѣтьми, видимо только боясь быть слишкомъ веселымъ, чтобы не показать, какъ ребенокъ, что онъ, будучи прощенъ, забылъ свою вину.[246]
* № 6 (рук. № 7).
<АННА КАРЕНИНА. РОМАНЪ.
Отмщеніе Мое.
Степанъ Аркадьичъ Алабинъ, несмотря на вчерашнюю сцену съ женой послѣ того, какъ открылась его невѣрность, несмотря на то, что вчера вечеромъ горничная жены Параша не пустила его въ спальню и объявила, что Дарья Александровна больна, не хочетъ его видѣть и приказала укладывать свои и дѣтскія вещи, съ тѣмъ чтобы переѣхать къ матери, несмотря на все это и на 41 годъ жизни, здоровая натура Степана Аркадьевича взяла свое, и онъ спалъ крѣпко до привычнаго часа 8 часовъ утра, когда ему было время ѣхать въ присутствіе.[247]
— Ахъ! — вскрикнулъ онъ, когда проснулся и вспомнилъ все, что было. «Обойдется, пройдетъ», подумалъ онъ, спуская съ кровати[248] бѣлыя жирныя, мускулистыя[249] стегны и отъискивая маленькими жилистыми ступнями шитыя женою и подареныя къ прошлому рожденью на золотистомъ сафьянѣ щегольскія туфли. Надѣвъ щегольской халатъ работы французскаго портнаго, халатъ, который приписанъ былъ послѣдній разъ въ 80 рублей къ счету портнаго, чтобы составить ровно тысячу, Степанъ Аркадьичъ прошелся по комнатѣ, и, какъ ни не непріятно ему было на душѣ, легкая походка его сильныхъ ногъ, такъ легко носившихъ ожирѣвающее красивое тѣло и широкiй грудной ящикъ, была также красива, и плечи держались также назадъ и грудь впередъ, и[250] румяное лицо, когда онъ взглянулъ на себя въ большое зеркало, было также красиво, и русыя бакенбарды съ серебряной сѣдиной также красиво вились по сторонамъ щекъ и скулъ,[251] и волоса, несмотря на проведенную ночь, также курчавились по вискамъ и по плѣши красиво рѣдѣли на серединѣ головы.
[252]Вошелъ Матвѣй, лакей, старый другъ и товарищъ Степана Аркадьича, въ щегольскомъ пиджакѣ, съ золотой цѣпочкой на жилетномъ карманѣ и съ pince-nez на снуркѣ. Такой же щеголь цирюльникъ почтительно и весело шелъ за нимъ съ своимъ клеенчатымъ сверткомъ и бѣлыми полотенцами и парящейся серебряной кружкой. Цирюльникъ привычными глянцовито пухлыми руками раскладывалъ принадлежности на уложенномъ щеточками, бутылочками, коробочками съ серебряными съ вензелями крышечками и ручками, Матвѣй подалъ два письма на серебряномъ подносѣ и телеграмму. Отвѣтъ заплаченъ. И положивъ руки въ карманы и разставивъ твердо ноги въ мягкихъ сапогахъ, съ боку[253] насмѣшливо, успокоительно и вмѣстѣ съ тѣмъ уныло смотрѣлъ на своего барина. «Денегъ нѣтъ, долговъ куча, съ барыней разстройка, а въ ее имѣньѣ надо лѣсъ продать, плохо.[254] Ничего, сударь Степанъ Аркадьичъ, и я не оставлю барина, и обойдется, все обойдется и образуется», говорилъ его взглядъ.
Одно письмо было изъ Петербурга[255] отъ сестры Степана Аркадьича Анны Аркадьевны Карениной. Она писала, что мужъ уѣзжаетъ на ревизію и что ей скучно, несмотря на свѣтъ, скучно безъ мужа. Примутъ ли ее они къ себѣ? Она пріѣхала бы на недѣлю, и слухи и свѣтскія и шутки. «Вотъ женщина, — подумалъ Степанъ Аркадьичъ про сестру. — И вѣрная жена, и свѣтская женщина, и всегда весела и терпима. Нѣтъ этаго какого то пуризма московскаго», подумалъ онъ. Другое письмо было отъ Лидіи Ивановны, той самой особы, которая была причиной разстройства съ женой. Она ничего не знала или не хотѣла знать и звала обѣдать сегодня въ Эрмитажъ[256] и съѣхаться въ Зоологическомъ саду въ 3 часа послѣ присутствія. Потомъ былъ черный ящикъ служебныхъ бумагъ въ видѣ гармоніи.
— Ну а изъ Присутствія? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, придерживая руку цирюльника.
— Гармонія полная, — отвѣчалъ Матвѣй, — прикажете принести?
Гармоніей жена Долли Александровна называла шутя огромный большой обитый кожей ящикъ, въ которомъ приносились служебныя бумаги.
— Нѣтъ, послѣ.
Дожидавшаяся рука цирюльника опять легко задвигалась въ кисти, сгребая щетину съ мыломъ и оставляя нѣжно-розовыя поляны. «Какъ нибудь обойдется», все спокойнѣе и спокойнѣе думалъ Степанъ Аркадьичъ по мѣрѣ движенія впередъ своего туалета.> Два дѣтскія голоса — Степанъ Аркадьичъ узналъ голоса Гриши, старшаго мальчика, и Тани, дѣвочки любимицы — послышались за дверями.
— Нѣтъ, ты не можешь? — кричала по англійски дѣвочка. Степанъ Аркадьичъ[257] подошелъ къ двери и кликнулъ:
— Таня!
8-лѣтняя дѣвочка вбѣжала въ столовую, обняла отца и повисла ему на шеѣ, такъ что и такъ красная толстая шея его побагровѣла, и поцѣловала его въ[258] душистое лицо. Дѣвочка любила этотъ легкій запахъ духовъ, распространявшiйся, какъ отъ саше, отъ бакенбардъ отца и всегда соединявшійся съ впечатлѣніемъ ласки отца.
— Что мама?
— Мама давно встала.
«Значитъ, не спала всю ночь», подумалъ Степанъ Аркадьичъ.
— Что, она весела?
Дѣвочка задумалась.
— Должно быть. Она не велѣла учиться, a велѣла идти гулять съ Мисъ[259] Гуль и къ бабушкѣ.[260]
«Правду говоритъ Матвѣй, образуется. Великое слово — образуется, — подумалъ Степанъ Аркадьичъ. — И что тутъ такого ужаснаго?[261] Вѣдь все тоже, что было, вѣдь что же новаго? Ахъ, какъ ее жалко, ахъ, какъ ее жалко».
— Ну иди, постой.
Онъ досталъ со стола, гдѣ вчера поставилъ; коробочку конфетъ и далъ ей двѣ, выбравъ ее любимыя — шеколадную и помадную. <Туалетъ его ужъ былъ конченъ, мундирные панталоны, жилетъ, часы съ кучей брелокъ и двумя цѣпочками въ обоихъ карманахъ и крестъ на шеѣ маленькій форменный, но нарочно заказанный. Степанъ Аркадьичъ говаривалъ, что нѣтъ ничего болѣе дурнаго тона, какъ крестъ на шеѣ, a вмѣстѣ есть манера его носить такъ, что ничего нѣтъ порядочнѣе, и онъ зналъ эту манеру, и изъ подъ его щегольски красиваго добраго и веселаго лица, изъ подъ его бакенбардъ на его рубашкѣ и бѣломъ галстукѣ съ крошечными золотыми запонками крестъ былъ хорошъ. Онъ этаго ничего не думалъ. Нѣсколько разъ прежде онъ думалъ это, но по привычкѣ долго постоялъ передъ зеркаломъ, стирая батистовымъ платкомъ излишніе духи съ бакенбардъ. «Обойдется, обойдется», подумалъ онъ, оправляя свѣжіе манжеты, окаймлявшіе бѣлые отдѣланныя руки. Онъ надѣлъ сертукъ, расправилъ плечи и, привычнымъ движеньемъ разсовавъ[262] по карманамъ спички, сигары, бумажникъ, кошелекъ, все щегольское, не блестящее, но элегантное, вышелъ[263] въ столовую, легко ступая по ковру въ своихъ лайковыхъ, какъ перчатки, мягкихъ сапогахъ и потирая руки. Въ столовой стоялъ на кругломъ [?] столѣ серебряный приборъ съ кофеемъ на бѣлѣйшей, чуть крахмаленной скатерти. Тутъ, за кофеемъ, онъ проглядѣлъ кое какія бумаги, привычными ловкими движеньями развертывая, переклады[вая], сдѣлалъ огромнымъ карандашомъ отмѣтки, тутже выдалъ на необходимое 50 рублей Матвѣю изъ 180, которые у него были въ бумажникѣ, и отказалъ долгъ, обѣщанный хозяину извощику и прикащику изъ магазина. Все время онъ кушалъ кофей съ любимымъ своимъ калачомъ съ масломъ, такъ красиво жуя своими румяными сочными губами и апетитно и спокойно, что казалось неприлично, чтобы у этаго человѣка могло быть горе и непріятности. Но горе было, и нѣтъ нѣтъ — онъ останавливался жевать и прислушивался, перебирая пальцами окружность бакенбардъ. За затворенными дверьми онъ слышалъ шаги жены.>[264]
— Готова карета?
— Подаетъ.
И дѣйствительно, каретныя лошади съ громомъ выдвинулись подъ окно.
— Дай портфель, — сказалъ онъ и, взявъ шляпу, остановился, вспоминая, не забылъ ли что.
И онъ вспомнилъ, что ничего не забылъ, кромѣ того, что хотѣлъ забыть, — про жену. «Ахъ да, — лицо его приняло тоскливое выраженіе, — не попробовать ли поговорить съ ней подъ предлогомъ пріѣзда Анны. Вѣдь когда нибудь нужно», сказалъ онъ себѣ,[265] вынулъ папиросу, закурилъ, пыхнулъ два раза, бросилъ въ перламутровую раковину-пепельницу и быстрыми шагами пошелъ къ дверямъ гостиной къ женѣ. Сухая женщина съ костлявыми руками, въ кофточкѣ и съ зачесанными косой рѣдкими волосами, быстро шла черезъ гостиную и, увидѣвъ его, остановилась.[266] Ненависть, стыдъ, зависть выразилась на лицѣ жены; она сжала руки, и голова ея затряслась.
— Долли! — сказалъ онъ тихимъ, не робкимъ и пріятнымъ голосомъ. — Долли, — повторилъ онъ уже робко.
— Что вамъ нужно?
— Долли! Анна пріѣдетъ нынче.
— Ну чтожъ мнѣ. Мнѣ ее не нужно.
— Но надо же...
— Зачѣмъ вы? Уйдите, уйдите, уйдите, все[267] пронзительнѣе, непріятнѣе, неприличнѣе[268] провизжала Долли Александровна, такъ, какъ будто крикъ этотъ былъ вызываемъ физической болью.
Кто бы теперь, взглянувъ на это худое, костлявое тѣло съ рѣзкими движеніями, на это измозченное съ нездоровымъ цвѣтомъ и покрытымъ морщинками лицо, узналъ ту Княжну Долли Щербацкую, которая 8 лѣтъ тому назадъ составляла украшеніе московскихъ баловъ своей строгой фигуркой съ широкой высокой грудью, тонкой таліей и маленькой прелестной головкой на[269] нѣжной шеѣ.
— Долли, — продолжалъ Степанъ Аркадьичъ, — что я могу сказать. Одно — прости. Прости.[270] Вспомни, развѣ 8 лѣтъ жизни не могутъ искупить минуты увлеченія?
Она слушала до сихъ поръ съ злобой съ завистью, оглядывая нѣсколько разъ съ ногъ до головы его сіяющую свѣжестью и здоровьемъ фигуру, но она слушала, онъ видѣлъ, что она хотѣла, желала всей душой, чтобъ онъ нашелъ слова такіе, которые бы извинили его, и онъ не ошибался; но одно слово — увлеченье напомнило ей ту женщину; опять, какъ отъ физической боли, сморщилось изуродовалось ея лицо, и она закричала:
— Уйдите, уйдите. Развѣ вы не можете оставить меня одинъ день? Завтра я переѣзжаю.
— Долли!..
— Сжальтесь хотя надо мной, вы только мучаете меня, — и ей самой стало жалко себя, и она упала на диванъ и зарыдала.
Какъ электрической искрой, то же чувство жалости передалось ему. Сіяющее лицо его вдругъ расширилось, губы распухли, глаза налились слезами, и онъ заплакалъ.
— Долли! — говорилъ онъ, — вотъ я на колѣняхъ передъ тобой. Ради Бога, подумай, что ты дѣлаешь. Подумай о дѣтяхъ. Они не виноваты. Я виноватъ, и накажи меня, вели мнѣ, я... Ну чтожъ? Ну чтожъ дѣлать? — говорилъ онъ, разводя руками, — прости, прости.
— Простить. Чтожъ тутъ прощать? — сказала она, удерживая слезы, но съ мягкостью въ голосѣ, подавшей ему надежду. — Нѣтъ словъ, чтобы выразить то положеніе, въ которое вы и я поставлены. У насъ дѣти. Я помню это лучше васъ, нечего мнѣ напоминать. Ты помнишь дѣтей, чтобы играть съ ними.
Она, забывшись, сказала ему «ты», и онъ уже видѣлъ возможность прощенія и примиренія; но она продолжала:
— Разойтись теперь — это разстроить семью, заставить дѣтей стыдиться, не знать отца; поэтому все въ мірѣ я сдѣлала бы, чтобы избавить ихъ отъ этаго несчастья.
Она не смотрѣла на него, голосъ ея смягчался все болѣе и болѣе, и онъ только ждалъ того, чтобы она перестала говорить, чтобы обнять ее.
— Но развѣ это возможно, скажите, развѣ это возможно, — повторяла она, — послѣ того какъ мой мужъ, отецъ моихъ дѣтей, пишетъ письмо моей гувернанткѣ, гадкой дѣвчонкѣ. — Она стала смотрѣть на него, и голосъ ея сталъ пронзительнѣе и все поднимался выше и выше по мѣрѣ того, какъ она говорила. — Вы мнѣ гадки, противны,[271] — сказала она опять сухо и злобно. — Ваши слезы — вода, вы никогда не любили меня, вы могли уважать мать своихъ дѣтей. Дѣтямъ все лучше, чѣмъ жить съ развратнымъ отцомъ, чѣмъ видѣть мое презрѣніе къ вамъ и къ мерзкой дѣвчонкѣ. Живите съ ней.
Въ это время закричалъ грудной ребенокъ. Она прислушалась, лицо ея смягчилось, и она пошла къ нему.
— Если вы пойдете за мной, я позову дѣтей. Я уѣзжаю къ матери и уѣду, оставайтесь съ своей любовницей.
Она вышла. Степанъ Аркадьичъ остановился, опустивъ голову, и, глядя въ землю, тяжело вздохнулъ,[272] <перебирая концами палъцевъ окруженія бакенбардовъ. «И тривіально и гадко, точно Акимова въ Русской пьесѣ. Кажется, не слыхали. Какъ это не имѣть чувства собственного достоинства».>
«Вѣдь любитъ же она ребенка, — подумалъ Степанъ Аркадьичъ, замѣтивъ смягченіе ея лица при крикѣ ребенка. — Вѣдь любитъ же она ребенка, моего ребенка, какъ же она можетъ ненавидѣть меня? Неужели образуется? Да, образуется. Но не понимаю, не понимаю какъ», сказалъ себѣ Степанъ Аркадьичъ и вышелъ изъ гостиной, отирая слезы.[273] «Одно ужасно — это что она беременная. Какъ она мучается и страдаетъ! Чтобы я далъ, чтобы избавить ее отъ этихъ страданій, но кончено, не воротишь. Да вотъ несчастье, вотъ кирпичъ, — говорилъ онъ, — свалился на голову. — Онъ пошелъ тихими шагами къ передней. — Матвѣй говоритъ: образуется. Но какъ? Я не вижу даже возможности. Ахъ, ахъ! Какой ужасъ и какъ тривіально она кричала, какъ неблагородно, — говорилъ онъ себѣ, вспоминая ея крикъ и слово: любовница. — Можетъ быть, дѣвушки слышали. Ужасно, тривіально, подло».
Матвѣй встрѣтилъ въ проходной съ требованіемъ денегъ на расходы для повара и доложилъ о просителѣ. Какъ только Степанъ Аркадьичъ увидалъ постороннихъ людей, голова его поднялась, и онъ опять пришелъ въ себя. Онъ быстро, весело выдалъ деньги, объяснился съ просителемъ и, вскочивъ въ карету, весело закричалъ, высовывая изъ окна свою красивую голову въ мягкой шляпѣ:
— [274]На Николаевскую дорогу.[275]
* № 7 (рук. № 8).
АННА КАРЕНИНА. РОМАНЪ.
«Отмщеніе Мое».
I.
[276]Несмотря на то, что онъ спалъ уже 3-ю ночь вслѣдствіи ссоры съ женой[277] не въ спальнѣ жены,[278] а на сафьяновомъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ, сонъ Степана Аркадьевича Алабина былъ также[279] тихъ и сладокъ, какъ и обыкновенно,[280] и въ обычный часъ, 8 утра, онъ сталъ ворочать с боку на бокъ свое[281] тѣло на пружинахъ дивана и тереться лицомъ о подушку, крѣпко обнимая ее, потомъ открылъ глаза,[282] сѣлъ на диванѣ и, сладко улыбаясь, растянулъ,[283] выставивъ локти, свою широкую грудь, и улыбающіеся румяныя губы перешли въ зѣвающія. «Да что бишь? — думалъ онъ, вспоминая сонъ. — Миша Кортневъ давалъ обѣдъ въ Нью Іоркѣ на стеклянныхъ столахъ, да и какія то маленькія женщины, а хорошо. Много еще что то тамъ было отличнаго, да не вспомнишь. А надо вставать»,[284] сказалъ онъ себѣ, замѣтивъ кружки свѣта въ проѣденныхъ молью дыркахъ суконныхъ сторъ и ощущая[285] холодъ на тѣлѣ отъ сбившейся простыни съ сафьяннаго дивана. «Вставать, такъ вставать». Онъ быстро скинулъ ноги съ дивана,[286] отыскалъ ими шитыя женой — подарокъ къ прошлому рожденью — золотисто сафьянныя туфли и по старой, 9-лѣтней привычкѣ потянулся рукой къ тому мѣсту, гдѣ въ спальнѣ у него всегда висѣлъ халатъ, и тутъ вдругъ вспомнилъ, какъ и почему онъ спитъ не въ спальнѣ, а въ кабинетѣ, и улыбка исчезла съ его красиваго[287] лица. Онъ[288] сморщился. Лицо его приняло на мгновеніе выраженіе[289] испуганное и виноватое.
— AAAA!, — промычалъ онъ, вспоминая все, что было.
Было то, что любовная записка его къ Лидіи Ивановнѣ Шеръ, бывшей у нихъ въ домѣ гувернанткой, попалась въ руки женѣ однимъ изъ тѣхъ необыкновенныхъ случаевъ, которые какъ нарочно придуманы для того, чтобы дѣлать людей несчастными, и началось то, чего никакъ и ожидать нельзя было. Оказалось то, чего еще меньше ожидалъ Степанъ Аркадьичъ, — что жена его теперь только, послѣ 9 лѣтъ, открыла, что онъ никогда не былъ ей вѣренъ. Онъ хотя и никогда не думалъ хорошенько объ этомъ, но предполагалъ, что она подозрѣваетъ и не хочетъ доходить до подробностей. Оказалось, что вслѣдствіи этой попавшейся записки[290] жена пришла въ неистовство и съ пятью человѣками дѣтей и съ 6-мъ въ брюхѣ объявила ему, что она жить съ нимъ не будетъ и разойдется. Если бы это сказала другая женщина, Степанъ Аркадьичъ, можетъ быть, и не обратилъ бы на эту угрозу вниманія, но жена его была (онъ признавалъ ее такою) твердая, рѣшительная, прекрасная женщина, которая не любила говорить фразъ, а что говорила, то и дѣлала. И вотъ прошло 3 дня. Она не[291] пускала его себѣ на глаза, и онъ зналъ, она что то дѣлала, готовила съ своей матерью.
— Ие! Ие! — покряхтывалъ онъ съ гадливымъ выраженіемъ лица, какъ будто онъ испачкался въ вонючую грязь, вспоминая самыя тяжелыя для себя впечатлѣнія изъ этой первой сцены, и легъ опять на диванъ. «Ахъ, если бы заснуть опять. Какъ тамъ все это въ Америкѣ безтолково, но хорошо было». Но заснуть уже нельзя было, и ему живо представилась эта первая минута, когда онъ, вернувшись изъ театра веселымъ и довольнымъ, увидалъ ее съ несчастнымъ письмомъ въ рукѣ и съ столь преобразовавшимъ ея всегда доброе, милое, хорошее лицо выраженіемъ отчаянія и ненависти во взглядѣ. И при этой встрѣчѣ, какъ это часто бываетъ, мучало его больше всего не самая неблаговидность своего поступка (онъ признавалъ ее), не та боль, которую онъ ей сдѣлалъ (онъ жалѣлъ ее всей душой), но его мучало болѣе всего та глупая роль, которую онъ съигралъ въ эту первую минуту.
Съ нимъ случилось то, что случается съ людьми, когда они неожиданно уличатся въ чемъ нибудь слишкомъ неожиданно постыдномъ. Онъ не съумѣлъ приготовить свою физіономію къ тому положенію, въ которое онъ становился передъ женой послѣ открытія его связи. Вмѣсто того чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощенья, остаться даже равнодушнымъ, его лицо, совершенно помимо его воли (видно, нервы не успѣли передать смысла впечатлѣнья), лицо его вдругъ очень мило и пріятно, хотя и нѣсколько насмѣшливо улыбнулось. Этаго онъ не могъ забыть и не могъ простить себѣ и чувствовалъ, что этимъ онъ погубилъ себя совершенно. Да, и тонъ ея и взглядъ, когда она сказала: «теперь мы чужіе, ни я, ни дѣти не могутъ оставаться съ вами»,[292] былъ такой, что она не можетъ измѣнить своему рѣшенію. «И послѣ такой моей глупой улыбки чтожъ она могла сказать и сдѣлать».
<Степанъ Аркадьичъ нѣсколько разъ крякнулъ и ахнулъ, одѣваясь и живо вспоминая вчерашнее. Онъ не видѣлъ выхода, а между тѣмъ въ глубинѣ души его голосъ говорилъ ему, что пройдетъ и обойдется: «Несчастье — думалъ онъ, — вины тутъ моей нѣтъ почти никакой, невозможно же жить иначе, и никто (при этомъ онъ вспоминалъ своихъ сверстниковъ знакомыхъ) и не можетъ подумать, чтобы можно жить иначе. И она страдаетъ, ее жалко, ужасно жалко, — говорилъ себѣ Степанъ Аркадьичъ, вспоминая лицо жены, исполненное выраженіемъ ненависти, но, несмотря на желаніе выразить ненависть, выражающее страшное страданіе. — Да, ее жалко, ужасно жалко».> «Да, несчастье, — думалъ онъ, — ужасное несчастье. Бываетъ же, что идетъ человѣкъ по улицѣ, и кирпичъ упадетъ ему на голову. Вотъ кирпичъ и упалъ мнѣ на голову. Но чтожъ дѣлать, чтожъ дѣлать. И какъ хорошо было все до этаго, какъ мы счастливо жили. И кому какой вредъ я сдѣлалъ этимъ? Никому.[293] Правда, нехорошо, могутъ сказать что она была гувернанткой у насъ въ домѣ. Это правда, что нехорошо, — сказалъ онъ себѣ. — Что-то тривіальное, пошлое есть въ этомъ, но вѣдь пока она была у насъ въ домѣ, я не позволялъ себѣ ничего. Но все сдѣлала эта улыбка. Одно нехорошо — бѣдняжка страдаетъ. И она беременная». И онъ опять видѣлъ передъ собой глаза, дышащіе ненавистью, и содрагающійся ротъ и выраженіе напрасно скрываемаго страданія и чувствовалъ свою глупую улыбку. «Что мнѣ дѣлать чтожъ мнѣ дѣлать?»,[294] говорилъ онъ себѣ, и отвѣта не было, кромѣ того общаго отвѣта, который даетъ жизнь на всѣ сложные и неразрѣшимые вопросы. Отвѣтъ этотъ: надо жить потребностью дня, а тамъ видно будетъ. <И какъ сладкій, крѣпкій сонъ[295] не оставлялъ Степана Аркадьича, несмотря ни на какія нравственныя потрясенія, такъ и сонъ жизни дневной, увлеченіе привычнымъ житейскимъ движеніемъ, независимымъ отъ душевнаго состоянія, и это увлеченіе сномъ жизни никогда не оставляло его.> И онъ поспѣшилъ отдаться[296] этой потребности дня. «Тамъ видно будетъ», сказалъ онъ себѣ, надѣлъ халатъ, привычнымъ молодецкимъ шагомъ подошелъ къ окну, поднялъ стору и громко позвонилъ.
II.
И какъ только яркій свѣтъ зимняго утра освѣтилъ косыми лучами темные узоры ковра, изогнутое кресло и огромный письменный столъ, заставленный бездѣлушками и на краю котораго лежали пакеты и письма,[297] Степанъ Аркадьичъ сталъ, какъ кошка лапами засыпаетъ[298] то, что ей не нравится, сталъ заваливать то, что мучало его.[299] Вошедшій старый другъ камердинеръ Матвѣй внесъ платье и сапоги и подалъ новыя письма и одну телеграму. Степанъ Аркадьичъ схватилъ жадно письма и, разорвавъ ихъ, сѣлъ къ зеркалу и велѣлъ позвать цирюльника.
— Отъ хозяина извощика приходили, — сказалъ Матвѣй, положивъ руки въ карманы пиджака.
Степанъ Аркадьичъ[300] ничего не отвѣтилъ и только взглянулъ на Матвѣя съ выраженіемъ соболѣзнованія къ самому себѣ. Матвѣй уныло, насмѣшливо и вмѣстѣ съ тѣмъ успокоительно твердо молча посмотрѣлъ на своего барина.[301]
— Я приказалъ придти въ то воскресенье, а до тѣхъ поръ чтобы не безпокоили васъ и себя по напрасну, — сказалъ Матвѣй.
Степанъ Аркадьичъ взглянулъ еще разъ на Матвѣя, и въ выраженіи лица его была благодарность и нѣжность. «Вотъ человѣкъ, который понимаетъ меня, вотъ истинный другъ», подумалъ онъ.
«Такъ ты думаешь ничего?», сказалъ его вопросительный взглядъ.
«Знаю, все знаю, — отвѣчалъ взглядъ Матвѣя, — знаю, что деньги нужны и долговъ много и что надо было лѣсъ продать въ имѣньи барыни. А теперь разстройство».
— Да ничего, сударь, образуется, — сказалъ онъ вслухъ.
Степанъ Аркадьичъ, разорвавъ телеграмму, исправилъ своей догадкой перевранныя слова и понялъ, что сестра его, давно обѣщавшая пріѣхать къ нимъ изъ Петербурга, будетъ[302] нынче.
— Матвѣй, Анна Аркадьевна будетъ[303] нынче, — сказалъ онъ, остановивъ на минуту глянцовитую пухлую ручку цирюльника, считавшаго розовую дорогу между кудрявыми бакенбардами.
— Слава Богу, — сказалъ Матвѣй, этимъ отвѣтомъ показывая, что онъ понимаетъ также, какъ и баринъ, значеніе этаго пріѣзда, т. е. что Анна Аркадьевна съумѣетъ помирить мужа съ женою. — Одни или съ супругомъ? — спросилъ онъ.
Степанъ Аркадьичъ не могъ говорить, такъ какъ цирюльникъ занятъ былъ верхней губой, и поднялъ одинъ палецъ. Матвѣй въ зеркало кивнулъ головой.
— Одни. Наверху приготовить?
— Барынѣ доложи, гдѣ прикажутъ.
— Барынѣ доложить? — повторилъ Матвѣй.
— Да, доложи, и вотъ возьми телеграму передай, что они скажутъ.
— Слушаю-съ.
И подвинувъ душистое обтираніе, употребляемое послѣ бритья, и осмотрѣвъ еще разъ порядокъ, въ которомъ лежали платья и помочи, и поправивъ замѣченную имъ неправильность въ постановкѣ свѣтящихся ботинокъ, Матвѣй надѣлъ pince-nez, вдѣлъ большіе слоновой кости рѣзные запонки въ рукава и золотые въ воротъ тонкой, чистѣйшей рубашки и, на нѣкоторое отдаленіе отстранивъ, осмотрѣлъ ее, такъ какъ Степанъ Аркадьичъ былъ прихотливъ насчетъ бѣлья, и тогда только медленно вышелъ. Письма были хотя и незначительныя и не совсѣмъ пріятныя, но они исполняли то, что нужно было, они выставляли впередъ заботы дня и дальше и дальше застилали то, что было всегда нехорошо. Кромѣ писемъ были еще бумаги изъ того присутствія, въ которомъ Степанъ Аркадьичъ былъ членомъ и куда онъ сейчасъ долженъ былъ ѣхать. Онъ взглянулъ и на бумаги и, рѣшивъ, что особенно важныхъ не было, велѣлъ приготовить ихъ въ портфель, чтобы заняться ими въ кабинетѣ присутствія.
Степанъ Аркадьичъ, умывшись, оправивъ ногти и спрыснувъ бакенбарды, въ чистой рубашкѣ, въ панталонахъ и помочахъ стоялъ, нагнувшись передъ зеркаломъ, и двѣ круглые щетки погоняли одна другую, вычесывая его кудрявые волосы и бакенбарды (это энергическое движеніе болѣе всего возбуждало его), когда Матвѣй[304] съ тѣмъ же унылымъ и непроницаемымъ лицомъ вернулся въ комнату.
— Барыня приказали доложить: пускай дѣлаютъ, какъ имъ — вамъ т. е. — угодно, — сказалъ Матвѣй, «а что это значитъ, понимайте, какъ знаете», сказалъ его взглядъ.
Щетки на мгновеніе остановились, и волосы въ это время были зачесаны на лобъ, что придало сконфуженному лицу Степана Аркадъича еще болѣе сконфуженное выраженіе. Онъ помолчалъ, остановивъ руки, вздохнулъ и вдругъ какъ бы сказавъ: «а чортъ съ ними со всѣми», еще рѣшительнѣе сталъ чесать волосы, не переставая, такъ что даже запыхался и покраснѣлъ, тѣми же щетками разчесалъ бакенбарды, перечесалъ волоса назадъ, бросилъ щетки, растянулъ рубашку подъ помочами, прыснулъ духами на рубаху и бороду, надѣлъ крестъ на шею особенный, маленькій, форменный, но нарочно заказанный, жилетъ, сертукъ, расправилъ плечи и привычнымъ движеніемъ разсовалъ по карманамъ папиросы, бумажникъ, спички, часы съ двумя цѣпочками и брелоками и, встряхнувъ батистовый платокъ, чувствуя себя чистымъ, душистымъ, здоровымъ и веселымъ, вышелъ, легко ступая, въ столовую, гдѣ уже ждалъ его серебряный кофейникъ и китайскій приборъ на слегка крахмаленной бѣлѣйшей скатерти. Письма всѣ были прочтены, а съ самимъ собой оставаться ему не хотѣлось, какъ бы опять не пришли дурныя мысли, и потому за кофеемъ онъ развернулъ еще сырую поданную утреннюю газету и сталъ читать.
Апетитъ у Степана Аркадьича всегда былъ также хорошъ, какъ и сонъ, и послѣ 2-хъ чашекъ кофе и калача съ масломъ и свѣденій, почерпнутыхъ изъ газетъ о томъ, что въ наше время возникаетъ новый вопросъ о томъ, квази-либеральная ли партія имѣетъ призваніе къ будущей формировкѣ высшаго слоя или тенденціозность традицій должна уже офиціозно, если можно такъ выразиться, выставить свое новое и честное непреварикаціонное знамя, вникнувъ въ смыслъ этихъ разсужденій, которые не лишены были для него интереса, Степанъ Аркадьичъ прочелъ про обѣщаніе уничтожить сѣдые волосы, про легкую продающуюся карету и молодую особу, ищущую мѣста, что было тоже не лишено интереса, и, ощущая пріятную теплоту въ тѣлѣ, онъ всталъ спокойный, отряхнулъ крошки калача съ жилета.
* № 8 (рук. № 17).
[305]ДВА БРАКА. РОМАНЪ.
Мне отмщеніе. Азъ воздамъ.
Первая часть.
I.
[306] Дарья Александровна Облонская, считавшая 9 лѣтъ своего красавца мужа[307] вѣрнымъ мужемъ, вдругъ открыла, что онъ былъ въ связи съ бывшей въ ихъ домѣ француженкой гувернанткой, и между мужемъ и женой произошла ужасная сцена и ссора, продолжавшаяся уже три дня и ничѣмъ еще не кончившаяся. То, что произошло и происходило еще теперь между мужемъ и женою, нельзя было назвать ссорой, а это было землетрясеніе, разрушившее всѣ основы ихъ жизни, смѣшеніе всего и хаосъ, который чувствовался и прислугой, и дѣтьми, и болѣе всего ими самими.
Первая страница рукописи восьмого по порядку начала «Анны Карениной»
Размер подлинника
Вдругъ оказалось для всѣхъ членовъ семьи и домочадцевъ, что нѣтъ никакого смысла въ ихъ сожительствѣ и что на каждомъ постояломъ дворѣ случайно сошедшіеся люди болѣе связаны между собой, чѣмъ всѣ члены семьи и домочадцы дома Облонскихъ. Дѣти бѣгали по всему дому какъ потерянные, Англичанка поссорилась съ экономкой и написала записку пріятельницѣ, чтобы пріискать ей мѣсто, поваръ ушелъ еще вчера со двора во время самаго обѣда, кухарка и кучеръ просили расчета.
Степанъ Аркадьичъ, виноватый во всемъ, спалъ уже 3-ю ночь не въ спальнѣ жены, а на сафьянномъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ, и, несмотря на то что онъ былъ виноватъ и чувствовалъ свою вину, сонъ[308] Стивы (какъ его звали въ свѣтѣ) былъ также[309] спокоенъ и крѣпокъ, какъ и обыкновенно; и въ обычный часъ, 8 часовъ утра, онъ[310] поворотился на пружинахъ дивана,[311] съ другой стороны крѣпко обнялъ подушку, потерся о нее своимъ красивымъ, свѣже-румяннымъ лицомъ и открылъ свои[312] большіе, блестящіе влажнымъ блескомъ глаза.[313] Онъ сѣлъ на диванъ, улыбнулся,[314] красивой бѣлой рукой граціознымъ жестомъ провелъ по густымъ курчавымъ волосамъ, и во снѣ даже принявшимъ красивую форму.
«Ахъ, какъ хорошо было, — подумалъ онъ, вспоминая сонъ, — да, какъ это было? Да, Алабинъ давалъ обѣдъ въ Нью-Иоркѣ на стеклянныхъ столахъ, да, и какіе то маленькіе графинчики и они же женщины», вспоминалъ онъ, и красивые глаза его,[315] становились болѣе и болѣе[316] задумчивы.
— Да, хорошо было, очень хорошо. Много тамъ было еще отличнаго, да не вспомнишь... А, —[317] сказалъ онъ и, замѣтивъ полосу свѣта, пробивавшуюся сбоку одной изъ[318] суконныхъ сторъ, и, ощущая холодъ въ тѣлѣ отъ сбившейся простыни съ сафьяннаго дивана,[319] онъ весело скинулъ[320] ноги съ дивана, отъискалъ ими шитыя женой (подарокъ къ прошлому рожденью) обдѣланныя въ золотистый сафьянъ туфли и по старой, 9-ти лѣтней привычкѣ, не вставая, потянулся рукой къ тому мѣсту, гдѣ въ спальнѣ у него всегда висѣлъ халатъ, но тутъ онъ вдругъ вспомнилъ, какъ и почему онъ спитъ не въ спальнѣ жены, а въ кабинетѣ, улыбка исчезла съ его[321] красиваго лица, онъ[322] сморщилъ гладкій лобъ.
— Ахъ! Ахъ, Ахъ! Ааа...[323] — заговорилъ онъ, вспоминая все, что было.[324] — Какъ нехорошо...
И[325] его воображенію представились опять всѣ подробности[326] ссоры съ женою,[327] вся безвыходность его положенія.
«Да, она[328] не проститъ, да, она такая женщина», — думалъ онъ про жену.
— Ахъ! Ахъ, Ахъ! — приговаривалъ онъ съ[329] отчаяніемъ, вспоминая самыя тяжелыя для себя впечатлѣнія изъ всей этой ссоры.
«Ахъ, еслибъ заснуть опять! Какъ тамъ все въ Америкѣ безтолково, но хорошо было».
Но заснуть уже нельзя было; надо было вставать[330] бриться, одѣваться, дѣлать домашнія распоряженія, т. е. отказывать въ деньгахъ, которыхъ не было, дѣлать попытки примиренія съ женой, изъ которыхъ едва ли что выйдетъ, потомъ ѣхать въ Присутствіе,[331] главное, надо было вспоминать все, что было. Изъ всего, что онъ вспоминалъ, непріятнѣе всего была та первая минута, когда онъ, вернувшись изъ театра веселымъ и довольнымъ, съ огромной грушей для жены въ рукѣ, увидалъ жену съ[332] несчастной запиской въ рукѣ и съ[333] выраженіемъ[334] ненависти во взглядѣ. И при этомъ воспоминаніи, какъ это часто бываетъ, мучало[335] Степана Аркадьича не самое событіе, но побочное обстоятельство, то, какъ онъ принялъ эту первую минуту гнѣва жены.
* № 9 (рук. №. 9).
III.
[336]Занимая 2-й годъ мѣсто начальника въ Москвѣ, онъ пользовался общимъ уваженіемъ сослуживцевъ, подчиненныхѣ, начальниковъ и всѣхъ, кто имѣлъ до него дѣло. Главный даръ[337] князя Мишуты, заслужившій ему это общее уваженіе, состоялъ, кромѣ мягкости и веселаго дружелюбія, съ которымъ онъ относился ко всѣмъ людямъ, преимущественно въ полной безстрастности и совершенной либеральности, состоящей не въ томъ, чтобы строже судить сильныхъ и богатыхъ, чѣмъ слабыхъ и бѣдныхъ, но въ томъ, чтобы совершенно ровно и одинаково относиться къ обоимъ.
[338]Князь Мишута, не считавшій себя совершенствомъ, былъ исполненъ снисходительности ко всѣмъ. И этимъ онъ нравился людямъ, имѣвшимъ до него дѣло. Кромѣ того, онъ умѣлъ ясно, легко и кратко выражать свои мысли письменно и изустно, и этимъ онъ былъ дорогъ для сослуживцевъ.
Войдя въ Присутствіе, Князь Мишута кивнулъ, проходя, головой почтительному швейцару, поздоровался съ Секретаремъ и товарищами[339] и взялся за дѣло. «Если бы они знали только, — думалъ онъ, когда Секретарь, почтительно наклоняясь, поднесъ ему бумаги, — какимъ мальчикомъ виноватымъ былъ нынче утромъ передъ женой ихъ[340] Начальникъ».
Просидѣвъ засѣданіе и отдѣлавъ первую часть дѣлъ, Степанъ Аркадьичъ, доставая папиросницу, шелъ въ кабинетъ, весело разговаривая съ товарищемъ по службѣ объ сдѣланной ихъ другимъ товарищемъ и исправленной ими ошибкѣ, когда швейцаръ, заслоняя своимъ тѣломъ входъ въ дверь и на носу входившаго затворяя ее, обратился къ Степану Аркадьичу:
— Господинъ спрашиваютъ ваше превосходительство.
Степанъ Аркадьичъ былъ еще Надворный Совѣтникъ, но занималъ мѣсто дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, и потому его звали Ваше Превосходительство.
— Кто такой?
Швейцаръ подалъ карточку.
Константинъ Николаичъ[341] Ленинъ.[342]
— А! — радостно вскрикнулъ Степанъ Аркадьичъ. — Проси въ кабинетъ.
— Это[343] Костя[344] Ленинъ. Знаете: сынъ Николая Федорыча.
— Развѣ онъ въ Москвѣ живетъ?
— Онъ? Онъ вездѣ — въ Москвѣ и въ деревнѣ, что-то усовершенствуетъ — народъ что-то изучаетъ. Но прекрасный малый. Мы съ нимъ и по охотѣ друзья, да и такъ я его люблю, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ съ тѣмъ обычнымъ заочнымъ пренебреженіемъ, съ которымъ всѣ обыкновенно говорятъ о людяхъ, къ которымъ лично мы относимся иногда не только не пренебрежительно, но подобострастно.
<Съ[345] Ленинымъ, когда онъ вошелъ, Степанъ Аркадьичъ обращался тоже не съ тѣмъ пренебреженіемъ, съ которымъ онъ говорилъ; и если не съ подобострастіемъ, котораго и не могло быть, такъ какъ Ордынцевъ былъ лѣтъ на 5 моложе Степана Аркадьича, но съ уваженіемъ и видимой осторожностью, которую, очевидно, вызывало съ разу бросающіеся въ глаза чувствительность, застѣнчивость и вообще несоразмѣрное самолюбіе[346] Ленина. Ордынцевъ былъ красивый молодой человѣкъ лѣтъ 30[347] съ небольшой черной головой и необыкновенно хорошо сложенный. Все въ его походкѣ, постановкѣ груди и движеніи рукъ говорило о большой физической силѣ и энергіи.
— Здраствуй, любезный другъ, ужасно радъ тебя видѣть, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, обнимая его.> — Ужасно, ужасно радъ всегда, а особенно теперь, — сказалъ онъ съ удареніемъ, — тебя видѣть. И спасибо, что отъискалъ меня здѣсь — въ этомъ вертепѣ; знаю твое отвращеніе ко всему административно, судебно, государственно и т. д. Ужъ извини меня за это, — и[348] князь Мишута сталъ смѣясь застегивать мундиръ, какъ будто желалъ скрыть крестъ на шеѣ.
Лицо Ленина,[349] все подвижное, выразительное, сіяло и удовольствіемъ и неудовольствіемъ за то, что швейцаръ грубо остановилъ его, и сдержанностью при видѣ чужихъ лицъ, товарищей[350] Облонскаго.
— [351]Мое отвращеніе, съ чего ты взялъ? Смѣшно мнѣ иногда, — сказалъ онъ, оглядываясь на чужія лица.
— Да позвольте васъ познакомить: нашъ товарищъ[352] Никитинъ, Шпандовскій — Константинъ Дмитричъ Левинъ — гимнастъ и двигатель <— Степанъ Аркадьичъ подчеркнувъ произнесъ это слово —>, а главное, мой другъ Константинъ Николаичъ[353] Ленинъ — и мировой судья и земскій дѣятель.
И тотчасъ же Степану Аркадьичу замѣтно было, что этотъ тонъ шуточной рекомендаціи не понравился[354] Ленину, и онъ поспѣшилъ поправить, взялъ его за пуговицу. Ордынцевъ нахмурился и, какъ бы освобождаясь отъ чего-то, выпрямилъ грудь.
— Очень радъ, — сказалъ онъ сухо, подавая руку Борисову и не глядя на него.
— Ну, когда же увидимся?
— А вотъ что. Въ 4 часа я свободенъ. Давай обѣдать. Гдѣ я найду тебя?
— Въ Зоологическомъ саду, я тамъ выставилъ скотину.
— Ну, и отлично. Я заѣду за тобой. Ну что же, хорошо идутъ дѣла?
— Послѣ разскажу. Ты какъ?
— Я скверно, какъ всегда. А живу.
— Ну, такъ прощай.
— Да посиди же, покури. Да ты не куришь, ну такъ посиди немножко. Какъ щука на мели; тебѣ, я вижу, тяжело.
— Да и что отрывать васъ отъ вашихъ важныхъ государственныхъ дѣлъ.
[355]— Ты видишь, какъ у насъ хорошо и удобно. A тебѣ противно.
— Не противно,[356] напротивъ, — внушительно сказалъ онъ улыбаясь.
— Что же вамъ смѣшно? — спросилъ Борисовъ.
— Да такъ, я увѣренъ, что если бы ничего этаго не было, никакой разницы бы не было. Я увѣренъ, что настоящая жизнь и движеніе не здѣсь, а у насъ въ глуши.
Рѣчь его перебилъ вошедшій Секретарь съ бумагами. Секретарь съ развязной почтительностью и съ нѣкоторымъ общимъ секретарскимъ сознаніемъ своего превосходства подошелъ къ Алабину и сталъ подъ видомъ вопроса объяснять какое-то затрудненіе.[357] Князь Мишута, не дослушавъ, перебилъ Секретаря и, кратко объяснивъ ему, въ чемъ дѣло, отодвинулъ бумаги, сказавъ:
— Такъ и сдѣлайте, пожалуйста.
[358]Левинъ во время совѣщанія съ Секретаремъ стоялъ облокотившись обѣими руками на стулъ, и на[359] лицѣ его остановилась насмѣшливая[360] улыбка.
[361]Секретарь вышелъ.
— Не понимаю, не понимаю, — сказалъ Левинъ, — какъ ты, честный, хорошій человѣкъ, можешь служить.
— Вотъ видишь, надо только не горячиться.
— Ну да, ты умѣешь, у тебя даръ къ этому.
— Т. е. ты думаешь, что у меня есть недостатокъ чего-то.
— Можетъ быть, и да, — весело засмѣявшись, сказалъ Левинъ.
— Ну, хорошо, хорошо, погоди еще, и ты придешь къ этому. Хорошо, какъ у тебя 3000 десятинъ въ Ефремовскомъ уѣздѣ да такіе мускулы и свѣжесть, какъ у 12-лѣтней дѣвочки, а придешь и къ намъ.
[362]— Нѣтъ, ужъ я эту штуку кончилъ совсѣмъ, любуюсь на твое величіе и горжусь тѣмъ, что у меня другъ такой великій человѣкъ, и больше ничего. А моя общественная дѣятельность кончена.
— Ну, что Княгиня и Княжна, — сказалъ онъ и тотчасъ же покраснѣлъ.
— Здоровы, все тоже. Ахъ, какъ жаль, что ты такъ давно не былъ.
— А что? — испуганно спросилъ Левинъ.
— Поговоримъ послѣ. Да ты зачѣмъ собственно пріѣхалъ?
— Ахъ, тоже поговоримъ послѣ, — до ушей покраснѣвъ, сказалъ Левинъ.
— Ну, хорошо. Такъ вотъ что, — сказалъ Мишута, — я бы позвалъ къ себѣ, но жена уѣхала къ своимъ обѣдать. Но завтра пріѣзжай вечеромъ къ тещѣ. Они по старому[363] по четвергамъ принимаютъ. А нынче вотъ что. Да. Если ты хочешь ихъ видѣть, онѣ навѣрно нынче въ Зоологическомъ саду отъ 4 до 5. Кити на конькахъ катается. Ты поѣзжай туда, а я заѣду и вмѣстѣ куда нибудь обѣдать.
— Прекрасно.
— Ну, до свиданья.
— Мое почтенье, — весьма низко и сухо кланяясь, обратился[364] Ленинъ къ[365] Никитину и Шпандовскому съ тѣмъ дерзкимъ, крайне учтивымъ тономъ, который показываетъ, что я васъ знать не хочу, но прощаюсь съ вами потому, что, хотя я противъ своей воли познакомился съ вами, я благовоспитанный человѣкъ.
— Смотри же ты, вѣдь я знаю, забудешь или вдругъ уѣдешь въ деревню, — смѣясь прокричалъ князь Мишута.
— Нѣтъ, вѣрно.
— Очень странный господинъ, — сказалъ[366] Шпандовскій, когда[367] Ленинъ вышелъ.[368]
— Да,[369] но золотое сердце,[370] — сказалъ Князь Мишута. — И представьте, ему 29—30 лѣтъ, онъ какъ красная дѣвушка,[371] да, да, какъ красная дѣвушка, a вмѣстѣ съ тѣмъ полонъ жизни.
— Неужели?
<— Да вотъ, говорятъ, жениховъ въ Москвѣ нѣтъ: свѣжъ, уменъ, образованъ и тысячъ 15 доходу; только немножко, — онъ помахалъ пальцами передъ собой.[372]
Степанъ Аркадьичъ думалъ именно о томъ, что давно ужъ онъ замѣчалъ, какъ Ордынцеву нравилась его свояченица Кити Щербацкая, и что краска, бросившаяся ему въ лицо, когда онъ спросилъ о ней, не показываетъ ли то, что онъ теперь пріѣхалъ въ Москву съ намѣреніемъ сдѣлать предложеніе, чего давно ждали ужъ всѣ въ семьѣ Щербацкихъ. «Хорошо бы было, — думалъ Степанъ Аркадьичъ, — и Долли этаго желаетъ, и, можетъ быть, если бы это случилось, подъ веселую руку и я бы помирился съ ней. Да и славная партія. И нельзя ли у него занять. Ахъ, непріятно! У пріятелей, которыхъ я люблю, не люблю занимать, потому что не отдашь и тогда испортишь дружбу».>
— Да, батюшка, — сказалъ онъ вслухъ, — вотъ счастливчикъ, все впереди, и силы сколько.
— Что же вы жалуетесь, Князь.
— Да скверно, плохо, — сказалъ[373] Князь Мишута, которому натощакъ передъ ѣдой приходили всегда на короткое время мрачныя мысли,[374] и поспѣшилъ приступить къ завтраку.
<III.
Зоологическій садъ былъ полонъ народа.
Около катка играла музыка. Съ горъ катались въ салазкахъ, въ креслахъ и на конькахъ, тѣснясь на лѣстницѣ и у входовъ. Молодцы катальщики измучались, скатывая и втаскивая салазки. Олѣни самоѣдовъ катали любителей. Ha каткѣ кружились дѣти, юноши, взрослые и нѣсколько дамъ. Вездѣ стояли рамки нарядныхъ зрителей въ соболяхъ и бобрахъ. По всѣмъ домикамъ звѣринцевъ и птичниковъ толпились зрители. У подъѣзда стояли сотни дорогихъ экипажей и извощиковъ. Стояли жандармы. За прудомъ, рядомъ съ медвѣдями и волками, въ вновь построенныхъ домикахъ, были выставки.>
IV.
[375]Степанъ Аркадьичъ ужъ находился въ полномъ заблужденіи сна жизни. Лицо его сіяло, какъ и его шляпа и какъ утреннее солнце на инеѣ, покрывавшемъ деревья.
— Зайдемъ на катокъ къ нашимъ — и обѣдать. Гдѣ хочешь?
— Мнѣ все равно. Ты знаешь, что для меня гречневая каша вкуснѣе всего; а такъ какъ ее нѣтъ ни въ Эрмитажѣ ни въ Новотроицкомъ, то мнѣ все равно.
— Ну, такъ въ Эрмитажъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, вспоминая, что въ Новотроицкомъ будутъ просить долгъ. — А Красавцева взять? Онъ милый малый.
— Если можно не брать, то лучше, — сказалъ Ордынцевъ улыбаясь.
— Можно и не брать. А Толстая [?] давно ли? А какова Собѣщанская? Прелестна. Что же Добре? Продулся? Завтра будешь обѣдать?
— А, Наталья Дмитріевна, и вы пришли посмотрѣть коровъ. Вотъ рекомендую — Ордынцевъ, скотоводъ.
Такъ переговаривался, раскланиваясь, Степанъ Аркадьичъ на право и на лѣво. И Ордынцевъ, къ удивленію, замѣчалъ, что на всѣхъ лицахъ, съ которыми говорилъ Алабинъ, отражалась таже ласковость, что и на лицѣ Алабина.
На каткѣ стояла толпа зрителей, и каталось человѣкъ 15.[376] Онъ остановился, чтобы оправиться, и, когда уже подошелъ къ ступени, увидалъ ее. Она была въ суконной, обшитой барашкомъ шубкѣ, въ такой же шапочкѣ. Онъ узналъ ее не по тонкому стану, какого не было у другой женщины, не по длинной граціозной шеѣ, не по маленькой головкѣ съ бѣлокурой тяжестью волосъ, не по ножкамъ, тонкимъ и граціознымъ, въ высокихъ ботинкахъ, не по[377] спокойной граціи движеній; но онъ узналъ ее по трепету своего сердца, когда глаза его остановились на ней. Онъ сошелъ внизъ и, поздоровавшись съ стоявшимъ у катка двоюроднымъ братомъ ея Гагинымъ, сталъ подлѣ него.[378] Она каталась на противуположномъ концѣ и, тупо поставивъ ножки одну за другой, видимо робѣла, катясь на поворотѣ навстрѣчу отчаянно размахивавшему руками и пригибающемуся къ землѣ мальчику. Она каталась одна, но видно было, что всѣ, кто былъ на каткѣ, видѣли и помнили ее и, насколько приличіе позволяло, всѣ смотрѣли на нее и желали ея взгляда. Она вынула лѣвую руку изъ муфты и держала ее на одной правой рукѣ. Она улыбалась своему страху. Потомъ, узнавъ, вѣроятно,[379] Левина, она сдѣлала быстрое движеніе стегномъ и подбѣжала, катясь прямо къ[380] брату и хватаясь за него рукой и вмѣстѣ съ тѣмъ съ улыбкой кивая[381] Левину.[382]
Если былъ недостатокъ въ этой несомнѣнной красавицѣ, то это былъ недостатокъ живости и цвѣта въ лицѣ. Теперь этаго недостатка не было. Лицо ея, строгое и прелестное, съ большими мягкими глазами, было покрыто румянцемъ, глаза свѣтились больше чѣмъ оживленіемъ физическаго движенья. Они свѣтились счастьемъ.
— Давно ли вы здѣсь? — сказала она, подавая[383] Левину узкую въ темной перчаткѣ руку. — Ахъ, благодарствуйте.
Она уронила платокъ изъ муфты, который поднялъ[384] Левинъ, краснѣя и не отвѣчая. Она отвернулась оглядываясь.
— Ахъ да. Я вчера пріѣхалъ. Я не думалъ васъ найти здѣсь. Я не зналъ, что вы катаетесь, и прекрасно катаетесь, — прибавилъ онъ.
— Ваша похвала особенно дорога. Здѣсь про васъ преданье осталось, что вы лучшій конькобѣжецъ. И съ горы какъ то задомъ.[385]
— Да, одно время, когда былъ Американецъ [?], я имѣлъ страсть...
— Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось васъ посмотрѣть.[386]
Левинъ улыбался и чувствовалъ, что глупо улыбается.
Къ[387] Левину и Кити подбѣжалъ, ловко остановившись, молодой человѣкъ Московскаго свѣта, которого оба знали.
— Вотъ я прошу побѣгать, — сказала она ему по французски.
— Ахъ, пожалуйста, тутъ гадость коньки, возьмите мои безъ ремней, очень хороши.
— Да я не заставляю себя просить, но, пожалуйста, не ждите отъ меня ничего, а позвольте просто съ вами побѣгать.
[388]— Какъ хотите, — отвѣчала Кити, и вдругъ, какъ бы солнце зашло за тучи, лицо Кити утратило всю ласковость и замѣнилось строгимъ, холоднымъ выраженіемъ, и[389] Левинъ узналъ эту знакомую игру ея лица, когда она дѣлала усиліе мысли. На гладкомъ мраморномъ лбу ея чуть какъ бы вспухли морщинки.
— Пойдемте еще кругъ, — обратилась она къ молодому человѣку, подавая ему руку, и опять задвигались стройныя ножки.
— А коньки хотите мои? — сказалъ молодой человѣкъ.
— Нѣтъ, все равно.
— Давно не бывали, Николай Константиновичѣ, сударь, — говорилъ катальщикъ, навинчивая ему коньки. — Послѣ васъ нѣту. Хорошо ли будетъ?
«Что значитъ эта перемѣна? — думалъ Ордынцевъ. — Боялась она слишкомъ обрадовать меня, или я дуракъ и смѣшонъ.[390] Да, онъ говоритъ, съ радостью пойдетъ, — думалъ онъ про слова брата. — Ему хорошо говорить, не видя ее. Но развѣ можетъ такая женщина любить меня, съ моимъ лицомъ и моей глупой застѣнчивостью. Я сейчасъ былъ точно дуракъ или хуже, точно человѣкъ, знающій за собой много дурнаго».
— Чтоже готово?
— Готово, сударь. Покажите имъ, какъ бѣгать надо.
Левинъ всталъ на ноги, снялъ пальто, выпрямился, сдѣлалъ шагъ, толкнулъ лѣвое плечо и выбѣжалъ изъ домика, стараясь какъ можно меньше махать руками, выпрямляться и вообще щеголять своимъ бѣганьемъ. Но давно не бѣгавши, послѣ своихъ непріятностей дома, это стояніе на конькахъ, это летящее ощущеніе, сознаніе силы, воспоминаніе веселости, которую онъ испытывалъ всегда на конькахъ, возбудили его, онъ сдѣлалъ два сильныхъ шага и какъ будто по своей волѣ полетѣлъ на одной ногѣ по кругу и догналъ Кити и, съ трудомъ удерживаясь, потихоньку пошелъ с ней рядомъ
— Вѣдь вотъ ничего особеннаго не дѣлаетъ, a совсѣмъ не то, что мы грѣшные.
— Да, очень хорошо.
— Я не знаю, чтоже хорошаго. Иду, какъ и всѣ.
Но чѣмъ больше онъ ходилъ, тѣмъ больше оживлялся,[391] забывалъ удерживаться и сталъ естествененъ и красивъ въ своихъ движеніяхъ.
— Ну, а съ горы? — сказалъ молодой человѣкъ.
Она ничего на сказала, но посмотрѣла на него.
[392]— Попробовать, забылъ ли.
Онъ перебѣжалъ кругъ и пошелъ къ горамъ.
Всѣ смотрѣли на него и скоро увидали, какъ онъ, нагнувшись напередъ, на одной ногѣ скатился за дилижаномъ и смѣясь прибѣжалъ на кругъ.
— Ну вотъ всѣ штуки показалъ, — сказалъ онъ.
Онъ сталъ еще веселѣе и оживленнѣе отъ движеній; но на лицѣ Кити вдругъ опять остановилась холодность.
«Да, я воображаю, какъ я глупъ и смѣшонъ, щеголяя своими ногами», подумалъ онъ, и опять ему стало стыдно и безнадежно.
Кити подбѣжала[393] къ скамейкѣ и кликнула катальщика подкрѣпить конекъ.[394] Левинъ хотѣлъ взять въ руки ея ножку; но она рѣшила, что не стоитъ того, и побѣжала въ домъ снимать коньки.[395] Левинъ снялъ и свои и, выходя, встрѣтилъ ее, когда она мелкимъ шажкомъ переходила черезъ ледъ, и подалъ ей руку до дорожки.
Мать встрѣтила ее.[396]
— Четверги, нынче, какъ всегда, мы принимаемъ, — сказала она сухо. — Скажите, пожалуйста, Мишѣ, вы съ нимъ, чтобъ онъ пріѣхалъ къ намъ нынче. Да вотъ и онъ самъ.[397]
Дѣйствительно, Князь Мишута въ оживленномъ разговорѣ съ извѣстнымъ кутилой Стивой Красавцевымъ, съ шляпой на боку и съ развѣвающимися и сливающимися съ сѣдымъ бобромъ бакенбардами, блестя звѣздочками глазъ, смѣясь и кланяясь направо и налѣво всѣмъ знакомымъ, какъ олицетвореніе спокойствія душевнаго и добродушнаго веселья, шелъ имъ навстрѣчу.
— Ну чтожъ, ѣдемъ, — сказалъ онъ Левину.
— Да, поѣдемъ, — уныло отвѣчалъ Левинъ, провожая глазами садившуюся въ карету красавицу.
— Къ Дюссо или въ Эрмитажъ?
— Мнѣ все равно.
— Ну, въ Англію, — сказалъ Князь Мишута, выбравъ Англію потому, что онъ въ ней былъ менѣе всего долженъ.
— У тебя есть извощикъ? Ну, и прекрасно, а то я отпустилъ карету. Не взять ли Красавцева? Онъ добрый малый. Ну, не возьмемъ, какъ хочешь. Что ты унылый? Ну, да переговоримъ.
И они сѣли на извощика. Всю дорогу они молчали. Левинъ, сдавливаемый всю дорогу на узкомъ сидѣньи толстымъ тѣломъ Князя Мишуты, думалъ о томъ, говорить ли и какъ говорить съ Княземъ Мишутой о его свояченицѣ, а Князь Мишута дорогой сочинялъ menu обѣда.
— Ты вѣдь любишь тюрбо? — сказалъ онъ ему, подъѣзжая.
V.
Въ характерѣ[398] Князя Мишуты не было и тѣни притворства, но когда[399] Левинъ вошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ Эрмитажъ, онъ не могъ не замѣтить нѣкоторой особенности выраженія сдержаннаго сіянія на лицѣ и во всей фигурѣ[400] Князя Мишуты, когда онъ снималъ пальто, въ шляпѣ на бекрень вошелъ въ столовую и отдавалъ приказанья липнувшимъ за нимъ Татарамъ во фракахъ и съ салфетками и когда онъ кланялся на право и на лѣво и тутъ нашедшимся знакомымъ и подошелъ къ буфету и мило по французски пошутилъ съ француженкой въ эквилибристическомъ шиньонѣ и всей казавшейся составленной изъ poudre[de] riz, vinaigre de toilette[401] и лентъ и кружевъ.
— Сюда, Ваше Сіятельство, пожалуйте, здѣсь не обезпокоятъ Ваше Сіятельство, — говорилъ особенно липнувшій старый, свѣтлый Татаринъ.
— Пожалуйте шляпу, Ваше Сіятельство, — говорилъ онъ[402] Левину, въ знакъ почтенія къ[403] Князю Мишутѣ ухаживая и за его гостемъ.
И мгновенно растеливъ еще свѣжую скатерть на кругломъ столѣ подъ бронзой и передъ бархатными стульями и диванами и между зеркалами, со всѣхъ сторонъ отражавшими красивое, сіяющее, красноватое лицо[404] Князя Мишуты, унылое[405] будничное лицо Левина и вьющуюся фигуру Татарина съ его бѣлымъ галстукомъ, широкимъ тазомъ и развѣтвляющимися на заду фалдами фрака.
— Пожалуйте, — говорилъ Татаринъ, подавая карточку и не обращая вниманія на звонки изъ-за двери. — Если прикажете, Ваше Сіятельство, отдѣльный кабинетъ сейчасъ опростается, — говорилъ онъ. — Князь Голицынъ съ дамой. Устрицы свѣжія получены.
— А, устрицы. — Князь Мишута задумался. — Не измѣнить ли планъ, Левинъ?[406]
Онъ остановилъ[407] палецъ на картѣ, и лицо его выражало напряженіе мысли.
— Хороши ли устрицы? Ты смотри.
— Вчера получены.
— Такъ чтожъ, не начать ли съ устрицъ, а потомъ ужъ и весь планъ измѣнить, Левинъ?
— Мнѣ все равно. Мнѣ лучше всего щи и каша; но вѣдь здѣсь нѣтъ.
— Каша а ла Рюсъ. Прикажете? — сказалъ Татаринъ, нагибаясь надъ Левинымъ.
— Нѣтъ, без шутокъ, что ты выберешь, то и хорошо.[408] Я побѣгалъ на конькахъ, и[409] ѣсть хочется. И не думай, — прибавилъ онъ, замѣтивъ грустное выраженіе на лицѣ Облонскаго, — чтобъ я не оцѣнилъ твой выборъ. Я съ удовольствіемъ поѣмъ хорошо.
— А, ну это такъ, — повеселѣвъ сказалъ Мишута. — Ну, такъ дай ты намъ, братецъ ты мой, устрицъ 5 дюжинъ, супъ съ кореньями.
— Принтаньертъ, — подхватилъ Татаринъ, но Степанъ Аркадьичъ, видимо, не хотѣлъ ему доставлять удовольствія называть по французски кушаньи.
— Съ кореньями, знаешь? Потомъ Тюрбо подъ густымъ соусомъ, потомъ... Ростбифу, да смотри, чтобъ хорошъ былъ, — да этихъ каплуновъ, ну и консервовъ.
— Слушаю-съ.
Татаринъ, вспомнивъ манеру Степана Аркадьича не называть по картѣ, не повторялъ всякій разъ за нимъ, но доставилъ себѣ удовольствіе повторить весь заказъ по картѣ:
— Тюрбо, Сосъ бомарше, Poularde à l’estragon, Macedoin[e] du fruit.
И тотчасъ, какъ на пружинахъ, положивъ одну переплетенную карту, подхвативъ другую — карту винъ, понесъ ее къ Мишутѣ.
— Что же пить будемъ?
— Я шампанское, — отвѣчалъ[410] Левинъ.
— Какъ, сначала? А впрочемъ правда, пожалуй.[411] Ты любишь Oeil de Perdrix?[412] Ну, такъ этой марки[413] къ устрицамъ подай, а тамъ видно будетъ.
— Столоваго какого прикажете?
— Нюи подай, вотъ это.
— Слушаю-съ. Сыру вашего прикажете?
— Ну да, пармезанъ. Ты другой любишь?
И Татаринъ съ развѣвающимися фалдами надъ широкимъ тазомъ полетѣлъ и черезъ пять минутъ влетѣлъ съ блюдомъ открытыхъ устрицъ съ шаршавыми раковинами и съ бутылкой.[414]
Князь Мишута перекрестился маленькимъ крестикомъ надъ жилетной пуговицей, смявъ крахмаленную салфетку, засунулъ ее себѣ за жилетъ и взялся за устрицы.
— А не дурны, — говорилъ онъ, серебряной вилочкой сдирая съ перламутровой раковины и шлюпая, проглатывая ихъ одну за другой и вскидывая влажные и блестящіе глаза то на Левина, то на Татарина.[415]
Левинъ лѣниво ѣлъ непитательное блюдо, любуясь на Облонскаго. Даже Татаринъ, отвинтившій пробку и разливавшій игристое розоватое вино по разлатымъ тонкимъ рюмкамъ, поправляя свой бѣлый галстукъ, съ замѣтной улыбкой удовольствія поглядывалъ на Князя. «Вотъ это кушаютъ, служить весело».
— А ты скученъ? — сказалъ Князь Мишута, выпивая свой бокалъ. — Ты скученъ.
И лицо Облонскаго выразило истинное участіе. Его мучало то, что пріятель и собесѣдникъ его огорченъ.[416] Онъ видѣлъ, что[417] Левину хочется говорить о ней, и онъ началъ, разчищая ему дорогу:
— Чтоже, ты поѣдешь нынче вечеромъ къ Щербацкимъ? — сказалъ онъ,[418] отодвигая пустыя раковины и придвигая сыръ.[419]
— Да, я думаю, даже непремѣнно поѣду, хотя мнѣ показалось, что Княгиня неохотно звала меня.
— Что ты! Вздоръ какой! Это ея манера.[420]
— Ну, давай же, братецъ, супъ.
— Ну, такъ теперь давай длинный разговоръ.
— Да только я не знаю, говорить ли. Ну да, — сказалъ онъ, кончивъ супъ, — отчего не сказать. Такъ вотъ что. Если бы у тебя была сестра любимая, и я бы хотѣлъ жениться. Посовѣтовалъ ли бы ты ей выдти за меня?
— Я? Обѣими руками, но, къ несчастью, у меня нѣтъ сестры, а есть свояченица.
— Да я про нее и говорю, — рѣшительно сказалъ Левинъ. — Такъ скажи.
Румянецъ дѣтской покрылъ лобъ, уши и шею Ордынцева, когда онъ сказалъ это.[421]
— Про нее? — сказалъ Князь Мишута. — Но мнѣ нужно знать прежде твои планы. Ты, кажется, имѣлъ время рѣшить.
— Да, но я боюсь, ужасъ меня беретъ, я боюсь, что мнѣ откажутъ. Я всетаки надѣюсь, но тогда ужъ...
— Ну да, ну да,[422] — сіяя добродушной улыбкой, поддакивалъ Князь Мишута.
— И до сихъ поръ я не знаю, чего мнѣ ждать. Про себя я знаю.... да, это я знаю... — Онъ вдругъ сердито взглянулъ на вошедшаго Татарина и перемѣнилъ Русскую рѣчь на Французскую. — Я знаю, что я не любилъ другой женщины и, должно быть, не буду любить.[423]
— Ну да, ну да, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ, и лицо его сіяло[424] все больше и больше, и онъ, не спуская глазъ съ Левина, подвинулъ къ себѣ серебряное блюдо съ тюрбо.[425]
— Ну что ты, какъ братъ, какъ отецъ, сказалъ бы мнѣ? Чего я могу ждать?
— Я? Я бы сказалъ, что я лучше ничего не желаю и что вѣроятности большія есть за то, что тебя примутъ.
— Ты думаешь? А если отказъ? Вѣдь это ужасно.
Онъ свалилъ себѣ рыбу на тарелку, чтобы не развлекать Князя Мишуту, начавшаго было класть.
— Послушай однако, — сказалъ[426] Князь Мишута, кладя свою пухлую руку на локоть[427] Левина, хотѣвшаго ѣсть безъ соуса. — Постой, ты соуса возьми. Пойми однако, что можетъ быть такое положеніе; я не говорю, что оно есть, но оно можетъ быть. Ты любишь дѣвушку и боишься поставить сразу судьбу на карту. Она любитъ и горда и тоже боится. И вы все выжидаете, и родители тоже ждутъ. Ну, подай другую, — обратился онъ къ слугѣ, доливавшему бокалы и вертѣвшемуся около нихъ именно тогда, когда его не нужно было.
— Да, если ты такъ говоришь,[428] — бросая вилку, сказалъ[429] Левинъ.
— Я не говорю, что это есть, это можетъ быть. Но ты[430] кушай.
Онъ[431] подвинулъ ему блюдо.
— Ты не въ присутствіи,[432] Мишута, ты не ограждай своей рѣчи. А если ты меня любишь, чему я вѣрю, скажи прямо, просто. Сколько шансовъ у меня успѣха?
— Да ты вотъ какіе вопросы задаешь![433] На твоемъ мѣстѣ я бы сдѣлалъ предложеніе, — сказалъ онъ.
— Ну, ты дипломатъ, я знаю. Ты не хочешь сказать прямо, но скажи, есть ли кто другой, котораго я могъ бы опасаться.
— Ну, это еще труднѣе задача; но я скажу тебѣ, что есть. Нынѣшнюю зиму Князь[434] Усманской Алексѣй часто ѣздитъ, знаешь. И я бы на твоемъ мѣстѣ рѣшалъ дѣло скорѣе.
— Ну и что?
— Да ничего, я только совѣтовалъ бы рѣшать дѣло скорѣе.[435]
— Но кто это такое и что такое этотъ Уворинъ, я понятія не имѣю. И что же, онъ очень ухаживаетъ?
— И да и нѣтъ. Уворинъ — это очень замѣчательный человѣкъ, и онъ долженъ нравиться женщинамъ.
— Отчего же, что онъ такое? — торопливо, горячо спрашивалъ Левинъ, дергая за руку Князя Мишуту, доѣдавшаго свое блюдо.
— Ты нынче увидишь его. Вопервыхъ, онъ хорошъ, вовторыхъ, онъ джентельменъ въ самомъ высокомъ смыслѣ этаго слова, потомъ онъ уменъ, поэтъ и славный, славный малый.
Левинъ вздохнулъ. Какъ онъ любилъ борьбу въ жизни вообще, такъ онъ не допускалъ ея возможности въ любви.
— Такъ ты говоришь, что есть шансы, — сказалъ онъ, задумчиво выпивая свой бокалъ.
— Вотъ что я тебѣ скажу: моя жена удивительная женщина. Ты вѣдь ее знаешь.[436] Она не глупа, то, что называется умомъ въ свѣтѣ, но она необыкновенная женщина. —[437] Князь Мишута вздохнулъ и помолчалъ минутку, вспомнивъ о своихъ отношеніяхъ съ женою. — Но у нее есть даръ провидѣнія. Не говоря о томъ, что она на сквозь видитъ людей, она знаетъ, что будетъ, особенно въ отношеніи браковъ. Она, напримѣръ, предсказала, что N выдетъ за S.,[438] и такъ и вышло, и она на твоей сторонѣ.
— Она меня любитъ.[439] О, она прелесть! Если бы я могъ любить больше Катерину Александровну, чѣмъ я ее люблю, то я любилъ бы ее за то, что она сестра твоей жены.
— Ну такъ она мало того что любитъ тебя, она говоритъ, что Кити будетъ твоей женой непремѣнно.
— Будетъ моей женой, — повторилъ[440] Левинъ, и лицо его вдругъ просіяло, расплылось улыбкой, той, которая близка къ слезамъ умиленія.
— Что бы тамъ не было, это будетъ, она говоритъ, и это будетъ хорошо, потому что онъ чистый человѣкъ.
Левинъ молчалъ. Улыбка расплылась до слезъ. Онъ сталъ сморкаться.
— Ну, какже я радъ, что мы съ тобой поговорили.
— Да, такъ ты будешь нынче. И я пріѣду.[441] Мнѣ только нужно съѣздить въ одно мѣсто, да, нужно.
— Я не умѣю говорить. Во мнѣ что-то есть непріятное.
— Хочешь, я тебѣ скажу твой недостатокъ. Ты резонеръ. Ты оскорбился?
— Нѣтъ, можетъ быть, это правда.[442] Это твоя жена говоритъ?
— Нѣтъ, это мое мнѣніе.
— Можетъ быть, эти мысли интересуютъ меня.
— Такъ пріѣзжай непремѣнно и отдайся теченью, оно принесетъ тебя. Счетъ! — крикнулъ онъ, взглянувъ на часы.
[443]Левинъ съ радостью досталъ изъ своего полнаго бумажника тѣ 17 рублей, которые съ начаемъ приходились на его долю и которые бы привели его, какъ деревенскаго жителя, въ ужасъ прежде, и Степанъ Аркадьичъ отдѣлилъ 17 рублей отъ 60, которые были у него въ карманѣ, и уплата счета[444] заключила, какъ всегда это бываетъ, прежній тонъ разговора.[445]
— Ну, теперь ты мнѣ скажи откровенно, — сказалъ Князь Мишута, доставая сигару и покойно усаживаясь, держась одной рукой за ручку бокала, а другой сигару. — Ты мнѣ дай совѣтъ. Я сказалъ, что мнѣ нужно съѣздить. Ты знаешь куда — къ женщинѣ. Не ужасайся. Я слабый, я дурной человѣкъ, но я человѣкъ. Ну, послушай. Положимъ, ты женатъ, ты любишь жену, но ты увлекся другой женщиной.[446]
— Извини, но я рѣшительно не понимаю этаго. Какъ бы... все равно, какъ не понимаю, какъ бы я теперь, наѣвшись здѣсь, пошелъ бы мимо калачной и укралъ бы калачъ.
Глаза Князя Мишуты совсѣмъ растаяли.
— Отчего же? Калачъ иногда такъ пахнетъ, что не удержишься. Ну, все равно, человѣкъ укралъ калачъ. Увлекся другой женщиной. Эта женщина милое, кроткое, любящее существо, бѣдная, одинокая и всѣмъ пожертвовала. Теперь, когда уже дѣло сдѣлано, ты пойми, неужели бросить ее? Положимъ, разстаться, чтобъ не разрушить семейную жизнь, но неужели не пожалѣть ее, не устроить, не смягчить?
— Ну ужъ извини меня, ты знаешь, я чудакъ, для меня всѣ женщины дѣлятся просто на два сорта, т. е. нѣтъ, вѣрнѣе, есть женщины и есть стервы. И я прелестныхъ падшихъ созданий не видалъ и не увижу, a такія, какъ та крашенная Француженка у конторки съ завитками, это для меня гадина, и всѣ падшія такія же.[447]
— А Евангельская?
— Я тебѣ говорю не выдумку мою, а это чувство. Какъ то, что ты пауковъ боишься, такъ я этихъ гадинъ, и потому ты, вѣрно, не изучалъ пауковъ и не знаешь ихъ нравовъ, такъ и я.
— Зачѣмъ такъ строго смотрѣть на жизнь, зачѣмъ дѣлать себѣ трудности,[448] зачѣмъ все натуживаться?
— Затѣмъ, чтобы не мучаться.
— Ахъ, повѣрь, все тоже самое будетъ, будешь ли или не будешь натуживаться. Послѣ мучаться, прежде мучаться...
— Да что же дѣлать? Въ этомъ разница нашихъ характеровъ. Ты на все смотришь легко и весело, видишь удовольствіе, а я работу.
— И я правъ, потому что, по крайней мѣрѣ, мнѣ весело, а тебѣ...[449]
Левинъ усмѣхнулся и ничего не сказалъ.
— Ахъ, кабы ты зналъ, какая она женщина.
— Кто? Эта гадина?
Князь Мишута разсмѣялся.
— Прелестная женщина! И женщина, которая внѣ брака жертвуетъ тебѣ всѣмъ, та любитъ... Да. — Левинъ пожалъ плечами. — Но ты не думай, я теперь ѣду навсегда проститься съ ней.
Они вышли и разъѣхались. Князь Мишута — къ прелестной женщинѣ, а Левинъ. — къ себѣ, чтобы переодѣться во фракъ и ѣхать къ Щербацкимъ.
* № 10 (рук. № 16).
Пріятно попыхивая изъ окна папиросу въ окно кареты, Князь Мишука ѣхалъ въ Присутствіе, съ каждымъ шагомъ лошадей, уносившихъ его отъ дома, чувствуя облегченіе отъ своего горя. Когда онъ пріѣхалъ въ Присутствіе и выскочилъ изъ кареты, кивая головой на поклоны писца и швейцара, уже въ душѣ его было все свѣтло и весело.
Княгиня между тѣмъ, успокоивъ ребенка, сѣла опять на то же мѣсто, гдѣ онъ засталъ ее, также сжавъ костлявые руки, неподвижно сидѣла, перебирая въ воспоминаніи весь бывшій разговоръ.
«Но чѣмъ же кончилъ онъ съ нею, — думала она. Неужели онъ видитъ ее? Зачѣмъ я не спросила его, — думала она. — Нѣтъ, нѣтъ, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одномъ домѣ, мы будемъ чужіе. А какъ я любила, Боже мой, какъ я любила его! Какъ я любила, какъ я любила его!» сказала она и заплакала.
II.
Князь Мишука, несмотря на то, что былъ не старъ (ему было подъ 40) и не въ большихъ чинахъ, на то, что никогда ничѣмъ особеннымъ не отличался ни въ школѣ ни по службѣ, никогда не былъ интриганомъ и, несмотря даже на свою всегдашнюю разгульную жизнь, занималъ почетное и приносившее хорошее жалованье мѣсто начальника въ одномъ изъ Московскихъ присутствій.
Мѣсто это онъ получилъ черезъ мужа сестры Анны (ту самую, которую онъ ожидалъ къ себѣ) Каренина, занимавшаго одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ Министерствѣ, къ которому принадлежало Присутствіе; но если бы Каренинъ не назначилъ своего шурина на это мѣсто, то черезъ сотню другихъ лицъ — братьевъ, сестеръ, родныхъ, двоюродныхъ, дядей, тетокъ — Князь Мишука получилъ бы это мѣсто или всякое другое, подобное этому тысячъ въ 6 жалованья, на которое онъ считалъ себя имѣющимъ права. Половина Петербурга и Москвы были родня и пріятели Князя Мишуки, и всѣ знали его за добраго малаго, честнаго Князя Мишуку, который особеннаго пороха не выдумаетъ, но нигдѣ лицомъ въ грязь не ударитъ, и у котораго ничего нѣтъ и, несмотря на то, что онъ женился на богатой, дѣла разстроены, а которому нужны же наконецъ средства къ жизни.
Если бы человѣкъ, не имѣющій связей, хитростью, лестью пріобрѣлъ бы себѣ покровителей и черезъ этихъ покровителей пріобрѣлъ бы то самое мѣсто, которое имѣлъ князь Мишука, человѣкъ этотъ возбуждалъ бы отвращеніе всѣхъ хорошихъ людей; если бы человѣкъ, имѣющій тѣ связи, которые имѣлъ Князь Мишука, воспользовался этими связями, чтобы пріобрѣсти такое мѣсто, изъ котораго онъ вытѣснилъ бы болѣе способнаго человѣка, онъ тоже былъ бы непріятенъ; но Князь Мишука родился и выросъ въ средѣ тѣхъ людей, которые[450] были или стали сильными міра сего. Одна[451] треть государственныхъ людей, стариковъ, была пріятели его отца и знали его въ рубашечкѣ, другая[452] треть была съ нимъ на ты, а 3-я треть была хорошіе знакомые; слѣдовательно,[453] раздаватели земныхъ благъ въ видѣ мѣстъ, арендъ, концессій, уставовъ и т. п. всѣ были пріятели и не могли обойти своего, и Князю Мишукѣ нетолько не нужно было искать или подличать, а только не отказываться, не ломаться, не ссориться, не браниться, чего онъ никогда ни съ кѣмъ не дѣлалъ; кромѣ того, Князь Мишука и не желалъ и не требовалъ для себя особенныхъ большихъ земныхъ благъ, а самыхъ скромныхъ[454] — жалованье, пособіе, денежную награду и т. п. На эти блага ужъ онъ считалъ свои права несомнѣнными, и ему бы даже невозможно до смѣшнаго показалось то, чтобы ему, напримѣръ, отказали въ мѣстѣ въ тысячъ 6 жалованья, тѣмъ болѣе что онъ чувствовалъ, что онъ свою должность могъ исполнять и ислолнялъ хорошо.
Занимая 2-й годъ мѣсто начальника Присутствія въ Москвѣ, Князь Мишука, и прежде пользовавшійся общимъ расположеніемъ, пріобрѣлъ еще большее уваженіе сослуживцевъ, подчиненныхъ, начальниковъ и всѣхъ, кто имѣлъ до него дѣло.
Главный даръ Князя Мишуки, заслуживавшій ему эту общую любовь и уваженіе даже, состоялъ, кромѣ мягкости и веселаго дружелюбія, съ которыми онъ относился ко всѣмъ людямъ, кромѣ точности и пунктуальности, преимущественно въ полной безстрастности, съ которой онъ относился къ дѣлу, и въ полнѣйшей природной либеральности, состоящей для него въ томъ, что онъ совершенно ровно и одинаково относился ко всѣмъ людямъ, какого бы состоянія и званія они ни были. Кромѣ того, князь Мишука, не считавшій себя совершенствомъ, былъ исполненъ снисходительности къ людямъ и этимъ нравился всѣмъ тѣмъ, кто имѣлъ до него дѣло. Сверхъ же всего этаго онъ имѣлъ даръ, обыкновенно независящій отъ ума или другихъ способностей, но какъ таланты, случайно розданные людямъ, — онъ имѣлъ даръ ясно, легко и кратко и все таки форменно выражать смыслъ дѣла письменно и изустно, и этимъ даромъ онъ законно первенствовалъ въ своемъ присутствіи.
Войдя въ присутствіе, провожаемый почтительнымъ швейцаромъ съ портфелемъ, Князь Мишука прошелъ въ свой маленькій кабинетъ и надѣлъ мундиръ. Писцы и служащіе всѣ встали, почтительно кланяясь. Князь Мишука поспѣшно привычно прошелъ къ своему мѣсту и сѣлъ, здороваясь, пожимая руки, съ членами.
Секретарь, почтительно наклоненный, подошелъ съ бумагами и, указывая на бумаги, проговорилъ тихимъ голосомъ:
— Журналъ вчерашняго присутствія и свѣденія отъ Пензенскаго Губернскаго Правленія по дѣлу о кражѣ...
— Хорошо, хорошо, благодарю, — проговорилъ Князь Мишука, закладывая жирнымъ пальцемъ бумагу и съ привычной скромной офиціальностью открылъ присутствіе.
«Если бы они знали, — думалъ онъ, слушая докладъ, — какимъ виноватымъ мальчикомъ полчаса тому назадъ былъ ихъ Предсѣдатель», и[455] звѣздочки глазъ его весело заблестѣли. Колесо завертѣлось, Князь Мишука почувствовалъ, что вертится и самъ въ немъ, и забылъ все непріятное. Одно, что во время занятій приходило ему въ голову, — была пріятная мысль о томъ, что въ 2 часа надо сдѣлать перерывъ и позавтракать.
Еще не было 2-хъ часовъ, когда у большихъ стеклянныхъ дверей залы присутствія, у которыхъ стоялъ сторожъ,[456] показалась фигура человѣка безъ мундира, и всѣ члены изъ подъ портрета и изъ за зерцала, обрадывавшись развлеченію, оглянулись на явившагося человѣка, но зазѣвавшійся сторожъ тотчасъ же изгналъ вошедшаго и заперъ за нимъ дверь.
Князю Мишукѣ, не переставая слушать дѣло, показалось, что вошедшій былъ пріятель его Левинъ, и онъ, нагнувшись къ сосѣду члену, проговорилъ:
— Кажется, Константинъ Левинъ. Кажется, онъ.
Князь Мишука любилъ Левина и еще по нѣкоторымъ соображеніямъ очень желалъ его видѣть теперь и радъ былъ, что онъ пріѣхалъ. Онъ окончилъ скорѣе обыкновеннаго дѣла и, сдѣлавъ перерывъ, пошелъ, доставая папиросу, въ свой кабинетъ. Два товарища его, мрачный не отъ характера, но отъ слабости, старичокъ Никитинъ и элегантный камеръюнкеръ Шпандовскій вышли съ нимъ же.
— Послѣ завтрака успѣемъ кончить, — сказалъ князь Мишука.
— Какъ еще успѣемъ, — сказалъ старичокъ.
— А какой мерзавецъ этотъ Фенинъ, — сказалъ Шпандовскій объ одномъ изъ лицъ, участвовавшихъ въ дѣлѣ, которое они разбирали.
Князь Мишука, поморщившись, промолчалъ на слова Шпандовскаго, давая этимъ замѣтить, что неприлично преждевременно составлять сужденіе.
— Кто это былъ? — спросилъ онъ у сторожа.
— [457]Проситель, Ваше Сіятельство, безъ упроса[458] лѣзетъ, я только отвернулся.
— Гдѣ онъ?
— Тутъ гдѣ то, — и сторожъ отворилъ дверь.
[459]Некрасивый, но чрезвычайно статный, невысокій молодой человѣкъ съ маленькой бородкой, густыми бровями и блестящими[460] голубыми глазами, видимо не зная, что ему съ собой дѣлать, держа баранью шапку подъ мышкой, быстро ходилъ взадъ и впередъ передъ дверью.
Лицо Князя Мишуки просіяло нетолько радостью, но нѣжностью, какъ при видѣ любимой женщины, при видѣ этаго молодаго человѣка.
— Такъ и есть! Левинъ! — проговорилъ онъ. — Какъ хорошо! Наконецъ то ты! — И онъ, обнявъ, поцѣловался съ молодымъ человѣкомъ.
— Я не зналъ, гдѣ ты живешь и заѣхалъ сюда, — сказалъ Левинъ краснѣя.
Ему, видимо, неловко было то дружеское отношеніе на ты, въ которомъ онъ былъ съ начальникомъ, подчиненные котораго только что чуть не вытолкали его. Князь Мишука былъ на ты со всѣми почти своими знакомыми, онъ не былъ на ты только съ тѣми, которыхъ онъ считалъ подлецами; съ тѣми, съ которыми обыкновенно не подаютъ руки, съ тѣми онъ не былъ на ты. А то онъ былъ на ты съ веселыми старичками 60 лѣтъ, съ мальчиками 20 лѣтъ, съ актерами, съ министрами, съ купцами и съ генералъ адъютантами, такъ что очень многіе изъ людей, бывшихъ съ нимъ на ты, находились на 2-хъ крайностяхъ общественной лѣстницы и очень бы удивились, что они имѣютъ черезъ Мишуку что нибудь общее. Онъ былъ на ты со всѣми людьми, съ которыми онъ былъ знакомь и пилъ шампанское, а пилъ онъ шампанское со всѣми. Съ Левинымъ, несмотря на то, что Левинъ былъ лѣтъ на 10 моложе его, онъ былъ на ты однако не по одному шампанскому. Левинъ былъ товарищемъ по университету и другомъ брата его жены, утонувшаго прекраснаго юноши Князя Щербацкаго, и вслѣдствіи этаго Князь Мишука сошелся съ нимъ и полюбилъ его,[461] насколько могъ любить.
Шпандовскій, вглядываясь въ новое для него лицо Левина, котораго онъ зналъ по слухамъ и въ особенности по извѣстному всей Россіи старшему брату философу Левину, замѣтилъ, что этотъ Левинъ долженъ быть очень нервный, чувствительный и не свѣтскій человѣкъ, составлявшій совершенную противоположность ихъ Князю Мишукѣ.
— Ну, пойдемъ въ кабинетъ. Мы тебя ждали, ждали, — говорилъ Князь Мишука, подъ словомъ «мы» разумѣя себя и семью жены, въ особенности ея сестру Кити, на которой Князю Мишукѣ хотѣлось женить Левина. — Ужасно, ужасно радъ тебя видѣть, — говорилъ Князь Мишука, сіяя улыбкой и сжимая свои звѣздочки и похлопывая Левина по мускулистой, крѣпкой ляжкѣ. — Ахъ, зачѣмъ ты раньше не пріѣхалъ?
Лицо Левина, подвижное, выразительное, сіяло удовольствіемъ при видѣ человѣка, котораго, онъ, видимо, любилъ, и вмѣстѣ отражало досаду за неловкость столкновенія съ швейцаромъ и стѣсненіе при видѣ постороннихъ лицъ — мрачнаго отъ слабости старичка и элегантнаго Шпандовскаго съ такими бѣлыми, тонкими пальцами, такими длинными ногтями и такими въ рубль серебромъ огромными, блестящими запонками на рубашкѣ. Эти руки съ запонками не давали ему свободы мысли.
— Ахъ да, позвольте васъ познакомить, — сказалъ Облонскій. — Мои товарищи — Никитинъ, Шпандовскій, — и, обратившись къ Левину, — Земскій дѣятель, Мировой Судья, новый земскій человѣкъ, гимнастъ, поднимающій одной рукой 5 пудовъ, — и, замѣтивъ, что Левинъ нахмурился при этой шуточной рекомендаціи, — и мой другъ Константинъ Дмитричъ Левинъ.
— Очень пріятно, — сказалъ старичокъ, но отъ слабости сказалъ это такъ, что, очевидно, ему было въ высшей степени непріятно.
— Имѣю честь знать вашего брата, — сказалъ Шпандовскій,[462] предоставляя къ пожатію свою необыкновенную руку совсѣмъ — съ перстнемъ, запонками и когтями.
Знакомство съ мрачнымъ старичкомъ и Шпандовскимъ не содѣйствовало развязности Левина. Несмотря на то, что имѣлъ обожаніе къ своему умному брату, онъ терпѣть не могъ, когда къ нему обращались не какъ къ Константину Левину, а къ брату знаменитаго Сергѣя Левина.
— Нѣтъ, ужъ и не Мировой Судья, и не главный, и ничто, — сказалъ онъ, обращаясь къ Облонскому. — И если когда нибудь моя нога будетъ...
— Какъ, ты вышелъ? — спросилъ Облонскій.
— Еще не вышелъ, но я подалъ въ отставку и подъ судомъ.
— Вотъ штука. Какъ такъ?
— Ахъ, длинная исторія, и я столько разъ разсказывалъ, что надоѣло, и когда нибудь послѣ, — говорилъ Левинъ, опять оглядываясь на чужихъ и продолжая сидѣть въ неловкой позѣ, не зная, куда дѣвать свою шапку.
— Да ты и въ европейскомъ платьѣ, а не въ русскомъ, — сказалъ Облонскій, обращая вниманіе на его новое, очевидно отъ французскаго портнаго платье.
Левинъ покраснѣлъ.
— Гдѣ же ты былъ въ это время?
— У себя въ Клекоткѣ и въ разъѣздахъ, и дѣлъ конца нѣтъ, и мерзости, мерзости, гадости со всѣхъ сторонъ. Ты можешь себе представить, что я отданъ подъ судъ за рѣшеніе праваго дѣла, и отданъ кѣмъ же? Людьми, изъ которыхъ каждый есть по малой мѣрѣ мошенникъ.
Левинъ вдругъ оживился, видимо забывъ про чужія лица и про то, что онъ сейчасъ только объявилъ, что не станетъ разсказывать, бросилъ свою шапку на столъ, вся сильная[463] фигура его распустилась, и онъ началъ разсказывать живо, съ юморомъ и съ желчью, длинную исторію о томъ, какъ его отдали подъ судъ за то, что онъ хотѣлъ только быть справедливымъ. Смыслъ исторіи былъ тотъ, что Левинъ, бывши Мировымъ Судьей, захотѣлъ дѣйствовать[464] по совѣсти, предполагая, что цѣль его дѣятельности есть справедливость, и забылъ, что, главное, надо дѣйствовать по закону, и, обвинивъ очевидно виновнаго и выручивъ пострадавшаго, но не по закону, онъ попался въ руки шайки, какъ онъ называлъ, уѣздныхъ воровъ, которые жили жалованьями и опеками, и что эта шайка сердится на него давно за его борьбу съ ними по воровству земскихъ денегъ и другихъ, подвела его, перерѣшила его рѣшеніе, и его отдали подъ судъ. Для слушавшихъ его было очевидно, что дѣйствовалъ глупо и попался по дѣломъ; но только Князь Мишука, любившій его, видѣлъ, что, хотя и глупо, хотя такъ и нельзя дѣйствовать, онъ дѣйствовалъ честно, мило, такъ, какъ и слѣдовало дѣйствовать съ его характеромъ, тѣмъ самымъ, который и былъ особенно милъ для него.
Шпандовскій же изъ разсказа вывелъ только то заключеніе, что нѣтъ ничего вреднѣе для умнаго человѣка, какъ жить въ деревнѣ.
«Вотъ онъ, — думалъ онъ, — умный, хорошо воспитанный человѣкъ, и чѣмъ онъ занятъ, о чемъ говоритъ съ такимъ жаромъ, какъ о государственномъ дѣлѣ? Что у мужика украли 2-хъ клячъ, и что ему хотѣлось старшину и кабатчика обвинить. Только деревня можетъ такъ загрубить человѣка».
Левинъ еще не кончилъ говорить, когда вошелъ Секретарь и съ развязной почтительностью и нѣкоторымъ общимъ секретарскимъ скромнымъ сознаніемъ своего превосходства знанія подошелъ съ бумагами къ Облонскому и сталъ подъ видомъ вопроса объяснять какое то затрудненіе.
* № 11 (рук. № 16).
III.
Когда Облонскій спросилъ у Левина, зачѣмъ онъ собственно пріѣхалъ, онъ покраснѣлъ до ушей, потому что онъ самъ себѣ не смѣлъ еще признаваться въ томъ, зачѣмъ онъ пріѣхалъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ въ глубинѣ души онъ очень хорошо зналъ, что онъ пріѣхалъ затѣмъ, чтобы окончательно рѣшить мучавшій его уже 2-й годъ вопросъ, будетъ или нѣтъ Кити Щербацкая его женой. Она росла дѣвочкой на его глазахъ. Когда онъ былъ товарищемъ по университету съ ея братомъ, онъ былъ даже немножко влюбленъ въ старшую сестру Долли, которая была[465] съ нимъ однихъ лѣтъ и вышла за Облонскаго, и, когда онъ послѣ поѣздки за границу былъ у нихъ въ Москвѣ, онъ нашелъ дѣвочку Кити прелестной дѣвушкой.[466] Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, сыну хорошаго дома, прекрасно учившемуся, человѣку 27 лѣтъ, сдѣлать предложеніе княжнѣ Щербацкой; по всѣмъ вѣроятностямъ онъ долженъ былъ быть признанъ хорошей партіей, но Левину казалось, что Кити была такое совершенство во всѣхъ отношеніяхъ, а онъ такое ничтожество, что не могло быть и мысли о томъ, что его другіе и она сама признали достойнымъ ея.
Онъ видѣлъ въ себѣ два главные недостатка, которые, по его понятію, лишали его права думать о ней. Первое — это было то, что онъ не имѣлъ никакой опредѣленной дѣятельности и положенія въ свѣтѣ, тогда какъ его товарищи теперь, когда ему было 30[467] лѣтъ, были уже который Полковникъ и флигель-адъютантъ, который профессоръ, который почтенный предводитель, Директоръ банка и желѣзныхъ дорогъ; онъ же (онъ зналъ очень хорошо, какимъ онъ долженъ былъ казаться для другихъ) — онъ начиналъ разныя дѣятельности: былъ въ министерствѣ послѣ выхода изъ Университета, былъ Мировымъ Посредникомъ — поссорился, былъ Предсѣдателемъ Управы, былъ Мировымъ Судьей, написалъ книгу о политической экономіи, носилъ русскую поддевку и былъ славянофиломъ. И все это для него, въ его жизни бывшее столь законнымъ и послѣдовательнымъ, для посторонняго зрителя должно было представляться безтолковщиной безпокойнаго и бездарнаго малаго, изъ котораго въ 32 года ничего не вышло. Другой же недостатокъ, самый главный, который онъ зналъ за собой, состоялъ въ томъ, что онъ никогда не объяснялся ни въ какой любви женщинѣ — считалъ себя столь некрасивымъ, что ни одна женщина, тѣмъ болѣе столь красивая, какъ Кити, не могла любить его. Его отношенія[468] прежнія дружескія съ Кити вслѣдствіи дружбы съ ея братомъ казались ему еще новой преградой въ возможности любви. Некрасиваго, добраго,[469] умнаго человѣка, какимъ онъ себя считалъ, онъ полагалъ, что можно любить какъ пріятеля, но чтобы любить той любовью, которою онъ любилъ красавицу Кити, нужно было быть красавцемъ, а онъ былъ дуренъ.
Слыхалъ онъ, что женщины любятъ часто некрасивыхъ людей, но не вѣрилъ этому. Онъ могъ любить только красивыхъ. Въ послѣднее время, въ бытность свою у знаменитаго умнаго брата, къ которому онъ ѣздилъ совѣтоваться о своихъ непріятностяхъ, онъ рѣшилъ сказать ему о своей любви къ Кити и, къ удивленью своему, услыхалъ отъ брата, которому онъ вѣрилъ во всемъ, мнѣніе, обрадовавшее и удивившее его. Братъ сказалъ ему: «если ты хочешь жениться, что я одобряю, то Щербацкіе отдадутъ за тебя дочь обѣими руками и отслужатъ молебенъ, а если она не дура, а она славная дѣвушка, пойдетъ съ радостью».
Константинъ Левинъ вѣрилъ во всемъ брату и, какъ ни противно это было его внутреннему убѣжденію, заставилъ себя повѣрить настолько, чтобы поѣхать въ Москву и сдѣлать если не предложеніе, то попытку возможности предложенія.
Въ 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, онъ слѣзъ съ извощика у Зоологическаго Сада и съ толпой входившихъ пошелъ дорожкой къ горамъ и катку, на которомъ она была навѣрное, потому что онъ видѣлъ ихъ карету у подъѣзда.
* № 12 (рук. № 103).
Онъ, кончившій прекрасно курсъ, исполненный и физической и нравственной силы и энергіи человѣкъ, чувствовалъ, что онъ какъ бы даромъ хлѣбъ ѣстъ, не избравъ никакой общественной дѣятельности, и сознаніе того, что въ немъ чего то недостаетъ, тяготило его. Но онъ только на дняхъ бросилъ избранную имъ по совѣту брата Сергѣя Дмитрича земскую дѣятельность и, несмотря на все уныніе, которое онъ испытывалъ теперь, оставшись безъ общественной дѣятельности, онъ не могъ не бросить ее такъ, какъ не можетъ не бросить человѣкъ ассигнацію, которая по его опыту оказалась фальшивой. Были въ немъ какія то другія требованья, для которыхъ онъ жертвовалъ дѣятельностью.
Точно также бросилъ онъ службу въ министерствѣ по окончаніи курса, точно также онъ бросилъ два года тому назадъ мировое посредничество и судейство. Былъ онъ и славянофиломъ, тоже въ родѣ должности, былъ свѣтскимъ человѣкомъ, но бросилъ и это. И все это для него, въ его жизни бывшее столь законнымъ и послѣдовательнымъ, для посторонняго зрителя должно было представляться безтолковщиной безпокойнаго и бездарнаго малаго, изъ котораго въ 32 года ничего не вышло. И онъ чувствовалъ это, и, несмотря на то, что всѣ его опыты и исканія были искренни, онъ чувствовалъ, что нетолько онъ долженъ казаться, но что дѣйствительно онъ и есть безтолковый, бездарный малый. Особенно живо онъ чувствовалъ это, когда онъ бывалъ въ городѣ и сходился съ людьми, занятыми опредѣленной дѣятельностью, и видѣлъ всю эту кипящую со всѣхъ сторонъ опредѣленную, всѣми признанную и всѣми уважаемую общественную дѣятельность. Только онъ одинъ былъ безъ мѣста и безъ дѣла. Такъ онъ думалъ о себѣ въ городѣ. Въ деревнѣ же онъ успокоивался. Въ деревнѣ всегда было дѣло, и дѣло, которое онъ любиль, и конца не было дѣлъ, и дѣло было такое, что еще вдвое болѣе, все таки не достигнешь того, что желательно. Но деревенское дѣло было глупое дѣло бездарнаго человѣка, онъ чувствовалъ это.
* № 13 (рук. № 12).
Въ гостиную, волоча ногами по ковру, вошла высокая фигура Князя.
— А, Константинъ Дмитричъ, Давно ли? — заговорилъ онъ съ притворствомъ радушія и, подойдя, обнялъ и подставилъ щеку, которая такъ и осталась, потому что Левинъ довольно неучтиво отстранил[ся] и пожалъ руку.
— Чтоже васъ такъ бросаютъ?[470]
— Да я пріѣхалъ не во время, рано; я вѣдь деревенщина.
— Ха ха ха, — громко захохоталъ Князь, только потому хохоча черезъ ха ха ха, а не черезъ ба ба ба, что онъ хохоталъ когда то и смутно помнилъ, какъ онъ смѣивался. — Ну, что хозяйство, дѣла скотныя? Я вѣдь всегда тебя очень радъ видѣть.[471]
Черезъ 5 минутъ вошла[472] подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замужъ, извѣстная умница и болтунья Графиня Нордстонъ.[473]
Вслѣдъ за ней вышла и Кити безъ слѣдовъ слезъ, но съ пристыженнымъ и тихимъ выраженіемъ лица. Пока Нордстонъ заговорила съ Княземъ, Кити подошла къ Левину.
— Какъ я вамъ благодарна, что вы не уѣхали. Не уѣзжайте, простите.>
* № 14 (рук. № 17).
Но Левинъ не то что былъ невеселъ, онъ былъ стѣсненъ. Несмотря на то, что онъ живалъ въ городахъ и въ свѣтѣ, эта обстановка бронзъ, зеркалъ, газа. Татаръ — все это ему послѣ деревенской жизни было стѣснительно.
— Я провинціалъ сталъ, меня все это стѣсняетъ.
— Ахъ да, помнишь, какъ мы разъ отъ цыганъ ѣхали, — вспомнилъ Степанъ Аркадьичъ (Левинъ одно время, увлеченный Облонскимъ, ѣздилъ къ цыганамъ) — и мы заѣхали ужинать въ 5-мъ часу утра въ Bocher de lancala?
— Что? не помню.
— Какже, ты отличился. Намъ не отворяли, и ты вызвался убѣдить ихъ. И говоришь: «намъ только кусочекъ жаркаго и сыра», и, разумѣется, намъ захлопнули дверь.
— Да, у меня въ крови деревенскія привычки, — смѣясь сказалъ Левинъ.
* № 15 (рук. № 17).
— Ну, теперь давай тотъ длинный разговоръ, который ты обѣщалъ.
— Да только я не знаю, говорить ли, — краснѣя сказалъ Левинъ.
— Говорить, говорить и непремѣнно говорить. О, какой ты счастливецъ! — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, глядя въ глаза Левину.
— Отчего?
— Узнаю коней ретивыхъ по какимъ то ихъ таврамъ, юношей влюбленныхъ узнаю по ихъ глазамъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ.
— Ну, не очень юноша. Тебѣ сколько лѣтъ?
— Мнѣ 34. Я двумя годами старше тебя. Да не въ годахъ, у тебя все впереди, а...
— А у тебя уже назади?
— Нѣтъ, хоть не назади, у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее такъ, въ пересыпочку.
— А что?
— Да нехорошо. Ну, да я не объ себѣ хочу говорить, и потомъ объяснить всего нельзя, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, который дѣйствительно не любилъ говорить, хоть ему хотѣлось теперь все разсказать именно Левину. Онъ зналъ, что Левинъ, хоть и строгій судья и моралистъ, какъ онъ зналъ его, пойметъ и съ любовью къ нему обсудитъ и извинить, можетъ быть.
— Не объ себѣ, ну, выкладывай. Эй, принимай! — крикнулъ онъ Татарину.
Но Левину что то мѣшало говорить. Однако онъ, видимо сдѣлавъ усиліе, началъ:
— Ты догадываешься?
— Догадываюсь; но не могу начать говорить. Ужъ по этому ты можешь видѣть, вѣрно или невѣрно я догадываюсь, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, и прекрасные глаза сіяли почти женской нѣжностью, глядя на Левина.[474]
— Ну чтожь ты скажешь мнѣ? По крайней мѣрѣ, ты откровенно, пожалуйста, — говорилъ Левинъ, — какъ ты смотришь на это? Какъ на возможную и желательную для тебя?
— Я? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ. — Я ничего такъ не желалъ бы, какъ этаго. Ничего. Это лучшее, что могло бы быть.
— Но возможная ли?
— Отчего жъ невозможная?
— Я и хотѣлъ просить тебя сказать мнѣ откровенно свое мнѣніе, и если меня ждетъ отказъ, какъ я думаю...
— Отчего?
— Если ждетъ отказъ, то избавить меня и ее отъ тяжелой минуты.
— Ну, это во всякомъ случаѣ для дѣвушки не тяжелая минута, а такая, которой онѣ гордятся.
— Ну что ты, какъ братъ, какъ отецъ, сказалъ бы мнѣ? Чего я могу ждать?
— Я? Я бы сказалъ, что[475] ты теперь выбралъ самое лучшее время для предложенія.
— Отчего? — сказалъ Левинъ и свалилъ себѣ рыбу на тарелку, чтобы не развлекать[476] Степана Аркадьича, начавшаго было ему класть.[477]
— Оттого что послѣднюю зиму сталъ ѣздить къ нимъ Алексѣй Вронской, — сказалъ[478] Степанъ Аркадьичъ, кладя свою[479] красивую бѣлую руку на локоть Левина, хотѣвшаго ѣсть безъ соуса.
— Постой, соуса возьми.[480]
— Ну и что же?
— Алексѣй Вронский есть, я думаю, лучшая партія въ Россіи, какъ говорятъ матушки. И какъ я вижу, онъ влюбленъ по уши. Но я тебѣ... И говорить нечего; несмотря на то, что Вронской отличный малый, для меня то, чтобы ты женился на Кити, было бы... Ну, я не стану говорить что̀, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, не любившій фразъ.
Но Левинъ видѣлъ по сіяющему и серьезному лицу Облонскаго, что это были не слова. Левинъ не могъ удержаться, чтобы не покраснѣть, когда Облонскій произнесъ наконецъ словами то, о чемъ они говорили.
— Ну, подай другую, — обратился Степанъ Аркадьичъ къ Татарину, доливавшему бокалы и вертѣвшемуся около нихъ именно тогда, когда его не нужно было.
— Да, да, ты правъ. Я говорилъ глупости.
— Нѣтъ, отчего, ты спрашивалъ моего совѣта.
— Но кто это такой и что такое этотъ Вронской, я понятія не имѣю.[481]
— Вронскій богачъ, сынъ графа Иларіона [1 неразобр.], кавалеристъ и отличный, точно отличный малый.
— Но что же онъ такое? Подробнѣе скажи мнѣ, — сказалъ Левинъ.
— Ты нынче увидишь его. Во первыхъ, это славный малый, во вторыхъ, не изъ тѣхъ класическихъ приличныхъ дурногвардейцевъ, а очень образованный человѣкъ, въ своемъ родѣ новый сортъ людей.
— Какой же новый сортъ?
— По моему, это вотъ какой новый сортъ:[482] онъ либераленъ, понимаешь, въ своемъ родѣ и кругѣ. Разумѣется, онъ не соціалистъ,[483] но онъ какъ будто не дорожитъ тѣми преимуществами, которыя ему сами собой дались какъ сыну графа Вронскаго, а онъ[484] страстный конскій охотникъ, спортсмэнъ, живетъ внѣ Петербурга, за ремонтами, и хочетъ выдти въ отставку. Однимъ словомъ, пренебрегаетъ тѣми благами, за которыми всѣ бѣгаютъ, и совершенно, и притомъ[485] славный малый и выпить не дуракъ.
— Ну такъ что же, — сказалъ Левинъ, задумчиво выпивая бокалъ.
— А то, что на твоемъ мѣстѣ я бы рѣшилъ дѣло какъ можно скорѣе, и если ты будешь выбранъ, какъ я надѣюсь и желаю...
— Ты надѣешься?
* № 16 (рук. № 103).
Кити испытывала послѣ обѣда и до начала вечера чувство подобное тому, которое испытываетъ юноша передъ сраженіемъ. Сердце ея билось сильно, и мысли не могли ни на чемъ остановиться, возвращаясь къ роковому вопросу: «который?»
Но какъ только она начинала думать объ этомъ, она или вспоминала разговоры и положенiе съ Левинымъ и съ[486] Удашевымъ, или представляла себѣ положенія будущія замужемъ за Левинымъ и за[487] Удашевымъ, но думать и рѣшать ничего не могла. Когда она думала о прошедшемъ, она съ удовольствіемъ, съ нѣжностью останавливалась на воспоминаніяхъ своихъ отношеній съ Левинымъ. Воспоминанія[488] дѣтства и воспоминанія о дружбѣ его съ умершимъ братомъ придавали поэтическую грустную прелесть этимъ мыслямъ. Да и вообще ей легко, радостно было вспоминать про Левина. Въ воспоминанія же[489] объ Удашевѣ примѣшивалось что то[490] неловкое, несмотря на то, что онъ былъ въ высшей степени свѣтскій и спокойный человѣкъ, какъ будто фальшь какая то была не въ немъ, онъ былъ очень простъ и милъ, но въ ней самой, тогда какъ съ Левинымъ она чувствовала себя совершенно простою и ясною; но за то какъ только она думала о будущемъ съ[491] Удашевымъ, все будущее представлялось прелестнымъ, блестящимъ, невѣдомо поэтическимъ, съ Левинымъ же ничего не представлялось радостнаго, но что то туманное, сѣрое.
Войдя наверхъ, чтобы одѣться для вечера, она, взглянувъ въ зеркало, съ радостью замѣтила, что она въ одномъ изъ своихъ хорошихъ дней и въ полномъ обладаніи всѣхъ своихъ силъ, что ей такъ нужно было для предстоящаго сраженія: она чувствовала въ себѣ внѣшнюю тишину и свободную грацію движеній и холодную мраморность, которую она любила въ себѣ. Въ половинѣ осьмаго, гораздо ранѣе обыкновеннаго пріѣзда гостей, лакей доложилъ:
— Константинъ Дмитричъ Левинъ.
Княгиня еще была въ своей комнатѣ, и Князь не выходилъ.
«Такъ и есть», подумала Кити, и вся кровь прилила ей къ сердцу. Она ужаснулась на свою блѣдность, взглянувъ въ зеркало. Она знала, что онъ затѣмъ и пріѣхалъ раньше, чтобы застать ее одну и сдѣлать предложеніе.[492]
«Боже мой, неужели это я сама должна рѣшить этотъ вопросъ? — подумала она. — Отчего ни мама, ни папа, отчего мнѣ не прикажутъ: дѣлай это или это. И потомъ такъ скоро. Ну, что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю. Это будетъ неправда. Скажу, что люблю. И это неправда. А все-таки надо рѣшить,[493] но зачѣмъ такъ вдругъ, такъ скоро! Но всетаки надо идти, пока не вышла maman».
Она[494] уже подходила къ дверямъ большой гостиной и слышала его шаги, но рѣшительно не знала, что она скажетъ ему.
Онъ думалъ и чувствовалъ хотя не тоже, что она, но столь же мучительное и тяжелое.
«Зачѣмъ, и неужели необходимо это страданіе нравственное, — думалъ онъ, — для человѣка, который хочетъ сдѣлать самое законное простое дѣло — взять жену. А чтожъ дѣлать? Ҍздить въ домъ, выжидать. И такъ[495] Облонскій далъ мнѣ замѣтить, что я долженъ былъ давно сдѣлать предложеніе, что я компрометировалъ. A мнѣ нужно знать, есть ли надежда? И вотъ теперь я, ничего не зная, не видавъ ее 8 мѣсяцевъ, рѣшаюсь сказать это слово. Рѣшаюсь получить отказъ — позоръ.[496] И я долженъ самъ сдѣлать этотъ страшный вопросъ, отчего не другіе за меня?[497] Все лучше, чѣмъ это мученье нерѣшительности, — думалъ Левинъ, входя въ гостиную. — И для нея это легче. Пускай же такъ и будетъ.[498] Заикнусь ли, не заикнусь, я скажу».[499]
Едва онъ вошелъ въ пустую гостиную, какъ услыхалъ звукъ ручки двери и увидалъ ее въ сѣромъ[500] платьѣ, входившую въ гостиную.
— Вы не устали послѣ вашихъ[501] подвиговъ на льду? — сказала она, съ улыбкой подавая ему руку.
— Я не во время, кажется? слишкомъ рано.[502] Но я только того и хотѣлъ застать васъ одну, — сказалъ онъ,[503] не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смѣлости.
— Садитесь, Константинъ Дмитричъ, мы всегда рады вамъ,[504] — говорила она, сама не зная, что говорятъ ея губы.
Онъ взглянулъ на нее,[505] и она поняла по этому умному, все вдругъ понимающему взгляду, что нельзя было[506] говорить пустяковъ теперь. Она покраснѣла,[507] взяла альбомъ, лежавшій на столѣ, и стала открывать и закрывать застежку.
— Я сказалъ вамъ, что не знаю, надолго ли я пріѣхалъ....
«Какъ онъ помнить всѣ свои слова, — подумала она, — это непріятно».
— Что это отъ васъ зависитъ....
Она все ниже и ниже склоняла голову и не знала, что она отвѣтитъ на приближающееся. И еще ничего не случилось, но ей всей душой было жалко его — и себя.
— Можетъ быть, я съумасшедшій и надѣюсь на то, чего нельзя. — Лицо его дѣлалось все мрачнѣе и мрачнѣе. — Я пріѣхалъ за тѣмъ, чтобы предложить вамъ себя, свою руку, свою любовь. — А ... быть моей женой.
Онъ поглядѣлъ на нее изъ-подъ опущенныхъ бровей такъ, какъ будто ждалъ только отказа. Она тяжело[508] дышала, не глядя на него; но какъ только онъ замолкъ, она подняла свои[509] свѣтлые, ясные глаза прямо на него и, увидавъ его[510] холодное, почти злое выраженіе, тотчасъ же отвѣчала то, что непосредственно пришло ей.
— Ахъ, зачѣмъ вы это говорите. Я не... Это нельзя, это невозможно, простите меня...
Онъ видѣлъ, что она съ трудомъ удерживаетъ слезы. <Какъ онъ сидѣлъ, такъ и остался, ухватясь обѣими руками за ручки креселъ и уставившись за уголъ висящаго со стола ковра, и на лицѣ его остановилась злая усмѣшка надъ самимъ собой.
«Еще бы, какже это могло быть?»[511] думалъ онъ, не поднимая глазъ, сидя неподвижно передъ ней и чувствуя, какъ, точно волны, наплывала и сплывала краска на его лицѣ.
Молчаніе продолжалось съ секунду. Наконецъ онъ поднялъ глаза. Онъ сказалъ:
— Простите меня, — и хотѣлъ встать, но она тоже начала говорить:[512]
— Константинъ Дмитричъ, будьте великодушны,[513] я такъ привыкла смотрѣть на васъ какъ на друга...
— Не говорите, — проговорилъ отрывисто, всталъ[514] и хотѣлъ уйти.
Но въ это самое время вышла Княгиня,[515] недовольная, но улыбающаяся своей четверговой улыбкой. Она сѣла и тотчасъ же спокойно начала говорить о томъ, что ей не было интересно и потому не могло быть ни для кого интересно. Онъ сѣлъ опять, ожидая пріѣзда гостей, чтобы уѣхать незамѣтно.[516]
Минутъ черезъ пять вошла пріѣхавшая подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замужъ, извѣстная умница и болтушка Графиня Нордстонъ.
Графиня Нордстонъ была сухая, желтая, съ черными блестящими глазами,[517] болѣзненная и нервная женщина. Она любила Кити всей силой своей души, восхищалась, гордилась ею.[518] Любовь ея къ Кити, какъ всегда любовь замужнихъ къ дѣвушкамъ, выражалась только въ одномъ — въ желаніи выдать Кити по своему идеалу счастья замужъ. Левинъ, котораго она часто у нихъ видала, прежде былъ ей противенъ и непріятенъ, какъ[519] что то странное и чуждое, но теперь, когда онъ мѣшалъ ея плану выдать Кити за Удашева, она еще болѣе не благоволила къ нему. Ея постоянное и любимое занятіе при встрѣчѣ съ нимъ состояло въ томъ, чтобы шутить надъ нимъ.
— Я люблю, когда онъ съ высоты своего величія смотритъ на меня и или прекращаетъ свой умный разговоръ со мной, потому что я глупа и мнѣ не по силамъ, или онъ снисходитъ до меня; я это очень люблю: снисходить. Я очень рада, что онъ меня терпѣть не можетъ.
Она была права, потому что дѣйствительно Левинъ терпѣть не могъ и презиралъ ее за то, чѣмъ она[520] гордилась и что въ достоинство себѣ ставила, — за ея утонченное свѣтское образованіе.[521] «Какъ онѣ не понимаютъ, — думалъ онъ часто про нее, — что эту свѣтскую притворную манеру мы[522] любимъ въ женщинахъ привлекательныхъ. Это покровъ таинственности на красотѣ; а она, эта дура (Левинъ былъ всегда рѣзокъ въ своихъ мысляхъ), безъ красоты, безъ граціи, даже безъ здоровья, думаетъ этой то слабостью, свѣтскостью, безъ прелести, щеголять одною ею».
Между Нордстонъ и Левинымъ существовало то нерѣдко встрѣчающееся въ свѣтѣ отношеніе, что два человѣка, оба хорошіе и умные, презираютъ другъ друга всѣми силами души, презираютъ до такой степени, что не могутъ даже серьезно обращаться другъ съ другомъ и не могутъ даже быть оскорблены одинъ другимъ.
Графиня Нордстонъ тотчасъ же накинулась на Левина.
— А! Константинъ Дмитричъ! Опять пріѣхали въ нашъ развратный Вавилонъ, — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая прошлогоднія еще его слова, что Москва есть Вавилонъ. — Что, Вавилонъ исправился или вы[523] испортились, — прибавила она, съ[524] усмѣшкой оглядываясь на Кити.
— Я очень польщенъ, Графиня, тѣмъ, что вы такъ помните мои слова, — отвѣчалъ Левинъ, сейчасъ же по привычкѣ входя въ свое шуточное враждебное отношеніе къ Графинѣ Нордстонъ. — Вѣрно, они на васъ очень сильно дѣйствуютъ.
— Ахъ какже, я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась, а я ѣздила утро къ своимъ друзьямъ.
И она начала разговоръ съ Кити. Левинъ собрался встать и уйти. Какъ ни неловко это было, ему все таки легче было сдѣлать эту неловкость, чѣмъ остаться весь вечеръ и видѣть Кити тоже мучающуюся, изрѣдка взглядывающую на него и избѣгающую его взгляда. Онъ хотѣлъ встать, но Княгиня замѣтила, что онъ молчитъ, и обратилась к нему.
— Чтожъ, вы надолго пріѣхали въ Москву? Вѣдь вы, кажется,[525] мировымъ земствомъ занимаетесь, и вамъ нельзя надолго.
— Нѣтъ, Княгиня, я ужъ этимъ не занимаюсь, — сказалъ онъ безъ улыбки. — Я пріѣхалъ на нѣсколько дней.[526]
«Что то съ нимъ особенное, — подумала Графиня Нордстонъ, взглядываясь въ его строгое, серьезное лицо, — что то онъ не втягивается въ свои разсужденія. Но я ужъ выведу его. Ужасно люблю сдѣлать его дуракомъ передъ Кити и сдѣлаю»[527].
— Константинъ Дмитричъ, — сказала она ему, — растолкуйте мнѣ, пожалуйста, что это такое значитъ, вы все знаете. У насъ въ Калужской деревнѣ всѣ мужики и всѣ бабы все пропили, что у нихъ было, и теперь ничего намъ не платятъ. Вы такъ хвалите всегда мужиковъ.
Въ это время еще дама входила въ комнату, и Левинъ всталъ. Онъ сверху внизъ посмотрѣлъ на Графиню Нордстонъ и тихо и грустно отвѣчалъ:
— Извините меня, Графиня, но это не можетъ быть[528] и даже нехорошо выдумано.
И, разсердивъ ее ужасно и этимъ взглядомъ и этимъ отвѣтомъ, онъ отвернулся, вглядываясь въ лицо входившаго вслѣдъ за дамой[529] военнаго.
«Это долженъ быть[530] Удашевъ», подумалъ Левинъ, и, чтобы убѣдиться въ этомъ, Левинъ взглянулъ на Кити.
Кити уже успѣла взглянуть на Удашева и оглянулась на Левина, и ея невольно счастливые глаза встрѣтили грустный, но всетаки полный любви взглядъ Левина. Кити опустила глаза[531] и покраснѣла. Левинъ понялъ, что она любила этаго человѣка, такъ же вѣрно, какъ еслибы она сказала ему это словами. Но кто же такой былъ[532] онъ?
Теперь, хорошо ли, дурно ли, ужъ Левинъ не могъ не остаться, чтобы не узнать, что за человѣкъ былъ тотъ, котораго она любила.
[533]Есть люди, которые, встрѣчая своего счастливаго соперника въ чемъ бы то ни было, готовы сейчасъ же отвернуться отъ всего хорошаго, что есть въ немъ, и видѣть одно дурное; есть люди, которые, напротивъ, болѣе всего желаютъ найти въ этомъ счастливомъ соперникѣ тѣ качества, которыми онъ побѣдилъ ихъ, и ищутъ съ щемящей болью въ сердцѣ однаго хорошаго. Левинъ принадлежалъ къ такимъ людямъ. Но ему не трудно было отъискивать хорошее и привлекательное въ[534] Удашевѣ. Оно сразу бросалось ему въ глаза.[535]
Удашевъ — невысокій брюнетъ съ красивымъ и чрезвычайно чистымъ лицомъ (какъ съ иголочки мундиръ его, такъ и лицо, курчавые съ преждевременной лысиной волоса, черные усы — все лоснилось). Удашевъ вошелъ съ тѣми рѣдко встрѣчающимися уже въ свѣтѣ пріемами скромности, учтивости и вмѣстѣ спокойнаго достоинства. «Сынъ хорошаго семейства, благовоспитанный и красивъ, очень красивъ», сказалъ себѣ Левинъ, наблюдая его въ то время, какъ онъ, давъ дорогу дамѣ, послѣ нея подошелъ къ княгинѣ и къ Кити.
«Но любитъ ли онъ ее такъ, какъ я люблю ее, такъ, какъ ее должно любить», подумалъ онъ.
Одна черта его характера, тотчасъ же выразившаяся при его входѣ въ гостиную, особенно рѣзко, пріятно и вмѣстѣ съ тѣмъ вызывая зависть поразила Левина. Эта черта была очевидная привычка къ спокойствію и счастію. Сеичасъ видно было, что онъ одинъ изъ тѣхъ балованныхъ дѣтей судьбы, которые не знаютъ лишеній, стѣсненій, неловкости отношеній. Со всѣми поздоровавшись, со всѣми сказавъ нѣсколько словъ, онъ сѣлъ[536] опять съ той же нѣжной осторожностью, какъ показалось Левину, подлѣ Кити и взглянулъ на Левина. Но тотчасъ же быстро всталъ и проговорилъ:
— Княжна, представьте меня, пожалуйста, — вмѣстѣ съ тѣмъ уже протягивая[537] руку Левину. Видно было, что ему неловко было быть въ гостиной съ незнакомымъ человѣкомъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ Левинъ ему нравился и что онъ не могъ сомнѣваться въ томъ, чтобы кто нибудь не былъ радъ съ нимъ познакомиться.
— Графъ Алексѣй Васильичъ[538] Удашевъ, Константинъ Дмитричъ Левинъ, — проговорила Кити, глядя на нихъ, когда Удашевъ по своей привычкѣ крѣпко, крѣпко пожималъ руку, наивно и дружелюбно прямо своими открытыми глазами глядя въ лицо Левину.
«Какъ бы хорошо было, если бы они были дружны между собой и со мною», пришло ей въ голову, и смѣшна и страшна ей показалась эта мысль, когда она вспомнила то, что сейчасъ только было.
[539]Удашевъ не сказалъ ничего про знаменитаго брата.
— Я много слышалъ про васъ[540] отъ Княжны, но удивляюсь, что ни раза не встрѣчалъ. Очень радъ, — прибавилъ онъ излишне радушно.
Это не понравилось Левину.
— Константинъ Дмитричъ[541] ненавидитъ и презираетъ городъ и насъ, горожанъ, — сказала Графиня Нордстонъ.
— Точно также, какъ Графиня насъ, провинціаловъ, — сказалъ Левинъ.
[542]Удашевъ взглянулъ на Левина и Графиню Нордстонъ и, очевидно понявъ ихъ отношенія, улыбнулся.
«Да, его должны любить женщины», подумалъ Левинъ, чувствуя эту улыбку.
— А вы всегда въ деревнѣ? — спросилъ[543] Удашевъ. — Вотъ чему я завидую.
— Я слыхалъ, что бѣдные люди завидуютъ тѣмъ, которые могутъ жить въ городѣ, но не наоборотъ, — отвѣчалъ Левинъ.
— Да, потому что всякій можетъ жить въ деревнѣ, — подхватилъ[544] Удашевъ, но я не могу.
«Едва ли онъ любитъ деревню, — подумалъ Левинъ. — Видно, что онъ говоритъ для гостиной, т. е. что говоритъ что попало, признавая ту невмѣняемость, которая составляетъ главное условіе удобнаго разговора въ гостиныхъ. Онъ не искренній человѣкъ, — подумалъ Левинъ, — но долженъ нравиться».
— Но надѣюсь, Графъ, что вы бы не всегда жили в деревнѣ, — сказала Графиня Нордстонъ.
— Не знаю, я не пробовалъ, но люблю деревню. Я испыталъ странное чувство, — началъ онъ. И у него была такая пріятная дикція и по русски и въ особенности по французски, что невольно его слушали и не перебивали. — Я нигдѣ такъ не скучалъ по деревнѣ, русской деревнѣ съ лаптями[545] и мужиками, какъ когда прожилъ съ матушкой зиму въ[546] Ницѣ, — сказалъ онъ.
— Вы знаете — Ница скучна сама по себѣ. Да, но и Неаполь,[547] Соренто, даже они хороши на короткое время. Неправда ли,[548] Графиня, что...
Онъ говорилъ, обращаясь и къ Кити и къ Левину, глядя на нихъ[549] своимъ твердымъ, открытымъ взглядомъ, очевидно то, что ему приходило въ голову.[550]
Замѣтивъ, что Графиня Нордстонъ начала разсказывать свое впечатлѣніе пріѣзда въ Венецію, онъ остановился, съ интересомъ слушая ее и не досказавъ того, что началъ. <Разсказывая про свое впечатлѣніе Венеціи, Графиня Нордстонъ упомянула объ Аннѣ Карениной, съ которой она тогда провела зиму въ Римѣ, и разговоръ перешелъ на Каренину и на ея ожидаемый пріѣздъ.[551] Всѣ начали съ похвалъ тому лицу, <о которомъ говорили,> и понемногу изъ похвалъ, которыя даютъ мало пищи разговору, естественно перешли въ болѣе или менѣе остроумное осужденіе.
— Я очень люблю Анну, — говорила Графиня Нордстонъ, — но я всегда удивлялась ея способности не только поддѣлываться, но совершенно сживаться съ тѣмъ кругомъ, въ которомъ она живетъ. Въ Римѣ она была въ непроходящемъ восторгѣ отъ искусства, потомъ я ее нашла въ Петербургѣ[552] влюбленной во дворъ и большой свѣтъ.
Кити, какъ всякая женщина, не безъ удовольствія слушавшая осужденіе другой[553] женщины, пришла на помощь сестриной золовкѣ.
— Но она[554] необыкновенно религіозна, добра.
— Да, но эта религіозность и добро — принадлежность grande dame извѣстнаго круга, — вмѣшался Вронскій.[555]
— Все таки она[556] очень милая женщина[557] и дѣлаетъ много добра.
Вронскій замолчалъ улыбаясь. Кити обратилась къ Левину, чтобы и его ввести въ разговоръ.
— А вы, Константинъ Дмитричъ, вѣрите, чтобы придворная женщина могла дѣлать добро?
— Придворность, по моему, не мѣшаетъ добру, — отвѣчалъ Левинъ. — Богатство и роскошь мѣшаютъ. И я потому только не вѣрю въ добродѣтельность свѣтскихъ дамъ, что онѣ, раздавая фуфайки по 20 копеекъ людямъ, умирающимъ отъ холода, сами носятъ 4000 рублевыя собольи шубы.
«А какой славный, умный человѣкъ, и наружность какая милая», подумалъ Вронскій на Левина.
Разговоръ[558] не умолкалъ ни на минуту, такъ что старой Княгинѣ, всегда имѣвшей про запасъ, въ случаѣ отсутствія тэмы, два тяжелыя орудія: классическое и реальное образованіе и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать свои запасныя орудія, и графинѣ Нордстонъ некогда и нельзя было дразнить Левина.
[559]Разговоръ зашелъ о вертящихся столахъ и духахъ,[560] и Графиня Нордстонъ, вѣрившая въ спиритизмъ, стала разсказывать тѣ чудеса, которыя она видѣла.
— Ахъ, Графиня, непремѣнно свезите, ради Бога свезите меня къ нимъ. Я никогда ничего не видалъ необыкновеннаго, хотя вездѣ отъискиваю, — сказалъ[561] Удашевъ.
— Хорошо, въ будущую субботу, но вы, Константинъ Дмитричъ, вѣрите? — спросила она Левина.
— Зачѣмъ вы меня спрашиваете? Вы, вѣрно, знаете, что я скажу.
— Но я хочу слышать ваше мнѣніе.
Левинъ пожалъ плечами.
— Я долженъ быть неучтивъ.
— Чтожъ, вы не вѣрите?
— Чтобы вамъ сказать, Графиня? Еслибы почтенная старушка дама, которую вы должны уважать, разсказывала бы вамъ, что у ней каждый день на носу цвѣтутъ померанцы?
— Я бы сказала, что съумасшедшая старушка. Такъ вы меня называете и старушкой и съумасшедшей, — и она не весело засмѣялась.
— Да нѣтъ, Маша, Константинъ Дмитричъ говоритъ, что онъ не можетъ вѣрить, — сказала Кити.
Но[562] Удашевъ съ своей открытой веселой улыбкой сейчасъ же пришелъ на помощь разговору, угрожающему сдѣлаться непріятнымъ.
— Вы совсѣмъ не допускаете возможность? — спросилъ онъ. — Почему же? Мы допускаемъ существованіе электричества, котораго мы не знаемъ, почему же не можетъ быть новая сила, еще намъ неизвѣстная, — сказалъ онъ.
— Когда найдено было электричество, — отвѣчалъ Левинъ, — то только было открыто явленіе и неизвѣстно было, откуда оно происходитъ и что оно производитъ, и вѣка прошли послѣ того, какъ подумали о приложенiи его, а спириты, напротивъ, начали съ того, что столики имъ пишутъ, и духи приходятъ, а потомъ уже стали говорить, что это есть сила неизвѣстная.
[563]Удашевъ съ чуть замѣтной улыбкой посмотрѣлъ на Левина, и, очевидно, понялъ его, но не отвѣчалъ, а продолжалъ свое.
— Да, но спириты говорятъ: теперь мы не знаемъ, что это за сила, но сила есть, и вотъ при какихъ условіяхъ она дѣйствуетъ. А ученые пускай разбираютъ. Нѣтъ, я не вижу, почему это не можетъ быть новая сила.
— А потому, — сказалъ Левинъ, — что при электричествѣ всякій разъ, какъ вы потрете смолу о шерсть, будетъ искра, a здѣсь не всякій разъ, стало быть, это не природное явленіе.
Вѣроятно, чувствуя, что разговоръ принимаетъ для гостиной слишкомъ серьезный характеръ,[564] Удашевъ тотчасъ же постарался перемѣнить его.
— Давайте попробуемъ, — началъ онъ, но Левинъ не могъ никогда привыкнуть къ тому, что въ гостиной не слѣдуетъ говорить толково и послѣдовательно. Ему всегда казалось, что ежели соберутся люди, ничего не дѣлая, то, очевидно, для того, чтобы разговаривать, высказывать свои мысли, и, всегда увлекаясь разговоромъ, говорилъ серьезно то, что думалъ, забывая то, что въ гостиной неприличнѣе всего толковый разговоръ, потому что онъ мѣшаетъ общественности.
Онъ началъ говорить то, что думалъ, и тотчасъ же почувствовалъ, что онъ глупо дѣлаетъ,[565] и что[566] Удашевъ гораздо умнѣе его, но онъ не могъ удержаться, тѣмъ болѣе что онъ чувствовалъ себя раздраженнымъ.
[567]— Я думаю, — говорилъ онъ, — что попытка спиритовъ объяснять свои чудеса какой-то новой силой — самая неудачная. Они прямо говорятъ о силѣ духовной и хотятъ ее подвергать опыту.
Всѣ ждали, когда онъ кончитъ, и онъ чувствовалъ, что онъ глупъ.
— А я думаю, что вы будете отличный medium, — сказала Графиня Нордстонъ, — въ васъ есть что то восторженное.
Левинъ[568] покраснѣлъ и замолчалъ.
— Давайте сейчасъ, Княжна, испытаемъ столъ, пожалуйста, — сказалъ[569] Удашевъ. — Княгиня, вы позволите?
И[570] Удашевъ, вставъ, отъискивалъ глазами столикъ.
Кити[571] встала[572] за столикомъ и проходя взглянула на раздраженное лицо Левина и опять встрѣтилась съ нимъ глазами.
Только что хотѣли устроиваться около столика, какъ[573] вошелъ старый князь. Молодые люди встали, здороваясь съ нимъ.
— А! — сказалъ он, увидавъ Левина, — радъ васъ видѣть! — и онъ обнялъ его. — Какъ дѣла, на долго ли?
Здравствуйте, Графъ, — сказалъ онъ холодно и сѣлъ въ кресло.[574] И бѣгло вопросительно взглянувъ на Кити, обратился къ Левину, спрашивая его о хозяйствѣ.
Какъ только отецъ вошелъ, Кити покраснѣла; она одна знала, какъ отецъ ревниво относился къ ея искателямъ[575] и какъ онъ подъ своимъ важнымъ и глуповатымъ даже видомъ былъ проницателенъ и насквозь все видѣлъ то, что его интересовало. Кити взглядывала на Левина. Она понимала[576] все, что онъ перечувствовалъ въ этотъ вечеръ. Она понимала, какъ тяжело, неловко ему теперь съ ея отцомъ. И ей всей душой было жалко его. И вмѣстѣ съ тѣмъ ей пріятно было жалѣть его въ несчастьи, которое сдѣлала она.
— Такъ-то, такъ-то, мой милѣйшій Константинъ Дмитричъ, обмолотили, продали хлѣба, да и въ Москву, — говорилъ старый Князь.
— Князь, отпустите намъ Константина Дмитрича, — сказала графиня Нордстонъ. — Мы хотимъ опытъ сдѣлать.
— Какой опытъ, столы вертѣть? И, извините меня, дамы и господа, но, по моему, въ колечко веселѣе играть, по крайней мѣрѣ есть смыслъ.
[577]Удашевъ посмотрѣлъ съ удивленьемъ на князя своими открытыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчасъ же заговорилъ съ Графиней Нордстонъ о предстоящемъ на будущей недѣлѣ большомъ балѣ.
— Я надѣюсь, что вы будете? — обратился онъ къ Кити.
Отпущенный старымъ Княземъ, Левинъ незамѣтно вышелъ, и послѣднее впечатлѣніе, вынесенное имъ изъ этаго вечера, было улыбающееся счастливое лицо Кити, отвѣчавшей[578] Удашеву на его вопросъ о балѣ.
На большой лѣстницѣ Левинъ встрѣтился съ Облонскимъ, входившимъ наверхъ.
— Чтожъ такъ рано, сказалъ Степанъ Аркадьичъ, хватая его за руку.
Левинъ нахмурился и, высвобождая схваченную Облонскимъ руку, сердито проговорилъ:
— Мнѣ нужно еще...
— Что же, что? — съ участіемъ проговорилъ по французски Облонскій.
[579]— Да ничего особеннаго. Я тороплюсь.....
Онъ не договорилъ, глотая что то оставшееся въ горлѣ, и сбѣжалъ съ лѣстницы.
* № 17 (рук. № 21).
[580]Удашевъ между тѣмъ, выѣхавъ въ 12 часовъ отъ Щербацкихъ съ тѣмъ выносимымъ всегда отъ нихъ пріятнымъ чувствомъ чистоты, свѣжести и невинности съ присоединеніемъ поэтическаго умиленія за свою любовь къ Кити и ея любовь, про которую онъ зналъ, — чувство, которое отчасти зависѣло и отъ того, что не курилъ цѣлый вечеръ, — закурилъ папиросу и, сѣвъ въ сани, задумался, куда ѣхать коротать вечеръ. Онъ стоялъ у Дюссо и, зайдя въ столовую, ужаснулся на видъ Туровцина, Игнатьева и Кульмана, ужинавщихъ тамъ.
«Нѣтъ, я не могу съ ними сидѣть нынче». Онъ чувствовалъ, что между имъ и Кити, хотя и ничего еще не было сказано, установилась[581] опредѣленная и сознаваемая ими обоими связь и что она почему то особенно усилилась нынѣшній вечеръ.[582]
«Прелестная дѣвушка! И тронулся, тронулся вешній ледокъ», думалъ онъ о ней.
Онъ вернулся въ свой нумеръ, велѣлъ себѣ принести ужинать и, открывъ французскій романъ, разстегнувшись, сѣлъ за столъ. Но книга не читалась. Онъ видѣлъ ея, ея румянецъ, ея улыбку, ея робость ожиданія, что вотъ вотъ онъ скажетъ, и боязнь вызвать это слово.
«Ну и что же? — спросилъ онъ себя. — Неужели жениться?» Это было слишкомъ легко и слишкомъ просто. Да и зачѣмъ?
[583]Удашевъ былъ[584] скромный человѣкъ, но онъ не могъ не знать, что онъ былъ одинъ изъ лучшихъ жениховъ въ Россіи и что въ свѣтскомъ отношеніи родные Щербацкихъ должны быть болѣе довольны этимъ бракомъ, чѣмъ его родные. Хотя онъ зналъ, что ни одинъ Русскій человѣкъ не сдѣлалъ бы mesaillance,[585] женившись на Кити, и онъ зналъ, что мать егo одобряетъ этотъ бракъ, но онъ чувствовалъ, что ему не хочется, потому что это слишкомъ легко и просто и вмѣстѣ серьезно.[586] Удашевъ никогда не зналъ[587] семейной жизни. Самый бракъ, самая семейная жизнь, помимо той женщины, которая будетъ его женой, не только не представляли для него никакой прелести, но онъ по своему взгляду на семейную жизнь видѣлъ до сихъ поръ, что на мужѣ лежитъ отпечатокъ чего то смѣшнаго. Онъ никогда и не думалъ жениться до нынѣшней зимы въ Москвѣ, когда онъ влюбился въ Кити.[588] Только теперь, чѣмъ дальше и дальше заходили его отношенія съ нею, ему приходила эта мысль; но она приходила ему только по отношенію къ нему самому. По отношенію же къ ней, о томъ, что она, любя его, будетъ несчастлива, если онъ не женится, эта мысль никогда не приходила ему въ голову. И потому онъ только спрашивалъ себя, необходимо ли для его счастья жениться на ней, и былъ въ нерѣшительности. Онъ былъ уменъ и добръ. Но потому ли, что всякое чувство слишкомъ сильно овладѣвало имъ, или потому, что онъ не задумывался надъ жизнью, у него въ головѣ никогда не помѣщалась вмѣстѣ мысль о томъ, что ему нужно отъ человѣка и что человѣку нужно отъ него.
Выйдя очень молодымъ блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ и, хотя и ѣздилъ въ свѣтъ изрѣдка, не имѣлъ въ свѣтѣ ни связей и ни разу по тому тону, царствующему въ его кругѣ, не ухаживалъ за дѣвушкой. Тутъ, въ Москвѣ, это случилось съ нимъ въ первый разъ, и въ первый разъ онъ испытывалъ всю прелесть, послѣ роскошной, утонченно грубой петербургской жизни, сближенія съ невиннымъ прелестнымъ существомъ, которое полюбило его. Онъ не зналъ, что это заманиваніе барышень безъ намѣренія жениться есть одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ дурныхъ и пріятныхъ поступковъ блестящихъ молодыхъ людей, какъ онъ. Онъ думалъ, что онъ самъ первый открылъ его, и наслаждался своимъ открытіемъ. Онъ видѣлъ, какъ онъ говорилъ себѣ, что ледокъ весенній таялъ и она была переполнена любви къ нему, что изъ нея, какъ изъ налитаго яблочка, готова была брызнуть эта любовь. Стоило ему только сказать слово. Онъ не говорилъ этаго слова, и упрекать ему себя не за что было. Онъ говорилъ, что̀ всегда говорятъ въ свѣтѣ, всякій вздоръ, но вздоръ такой, которому онъ умѣлъ придавать для нея смыслъ. Онъ ничѣмъ не связалъ себя, онъ только въ Москвѣ, какъ въ деревнѣ, веселился невинными удовольствіями (онъ часто думалъ, какъ посмѣялись бы ему его товарищи), но послѣднее время его честная натура подсказывала ему, что надо предпринять что то, что что то можетъ быть нехорошо. Но какъ только онъ говорилъ себѣ — жениться? — ему чего-то совѣстно становилось и казалось, что этаго нельзя. Нынѣшній вечеръ онъ однако почувствовалъ, что надо рѣшить вопросъ.
«Ну, что же — жениться? Ахъ, все бы, только не жениться», наивно отвѣчалъ онъ себѣ. Мало того, что это было слишкомъ просто и легко [1 неразобр.] мало того, что онъ никогда не думалъ о женитьбѣ и семьѣ и не могъ представить себѣ жизни внѣ условій холостой свободы, — главная причина была та, что онъ, женившись, выпускалъ тотъ зарядъ чего то, который онъ держалъ въ запасѣ и который онъ не считалъ нужнымъ выпускать.
Онъ ничего не дѣлалъ путнаго, онъ это зналъ, но онъ не представлялъ изъ себя человѣка, который дѣлаетъ важное дѣло, а, напротивъ, онъ имѣлъ видъ человѣка, всѣмъ пренебрегающаго и не хотящаго дѣлать ничего. A вмѣстѣ съ тѣмъ онъ зналъ и другимъ давалъ чувствовать, что если бы онъ захотѣлъ, то онъ многое бы могъ сдѣлать. И в этомъ была его роль, къ которой онъ привыкъ и которой гордился. Женись онъ, и кончено.
«Да, прелестная дѣвушка и милая! Какъ она любитъ невинно, — думалъ онъ.[589] — Ну, а потомъ? Впрочемъ, все видно будетъ. Еще времени много, и я ничѣмъ не связалъ себя».
№ 18 (рук. № 17).
Онъ кончилъ первымъ курсъ въ артиллерійскомъ училищѣ и имѣлъ большую способность къ математикѣ, но не бралъ, кромѣ какъ на ночь, книги — романа — въ руки; онъ былъ любезный, блестящій, свѣтскій человѣкъ и предпочиталъ женщинъ и не ѣздилъ въ общество. Онъ по положенію и примѣру брата могъ бы идти по дорогѣ честолюбія. Успѣхами онъ пренебрегалъ и былъ во фронтѣ; онъ былъ богатъ и отдалъ все состояніе брату, женатому, оставивъ себѣ 30 тысячъ въ годъ. Отъ лѣни ли, отъ того ли, что онъ хотѣлъ уберечь свѣжесть запаса, не растративъ его кое-какъ, но въ этой жизни спустя рукава онъ находилъ удовольствіе.
* № 19 (рук. № 13).
VII.
На другой день былъ морозъ еще сильнѣе, чѣмъ наканунѣ. Иней начиналъ спадать. И туманъ стоялъ надъ городомъ.
Въ 11 часовъ утра Степанъ Аркадьичъ, выѣхавъ встрѣчать сестру, неожиданно столкнулся на подъѣздѣ станціи съ Вронскимъ, пріѣхавшимъ съ старымъ лакеемъ въ ливреѣ, въ огромной старинной съ гербами каретѣ.[590]
— А, Ваше сіятельство! — вскрикнулъ Степанъ Аркадьичъ, только что выйдя изъ кареты, стоя на приступкахъ большой лѣстницы и дожидаясь, пока отъѣдетъ его карета и подъѣдетъ карета, изъ которой выглядывалъ Вронскій. — А каковъ морозъ? Ты за кѣмъ?
Степанъ Аркадьичъ, какъ и со всѣми, былъ на ты съ Вронскимъ, но почему то, особенно со стороны Вронскаго, это было непрочно и неловко.
— За матушкой. Она нынче должна быть изъ Петербурга, — отвѣчалъ Вронскій, поддерживая саблю, выходя изъ кареты. — Я думаю, ужъ нѣтъ другаго такого экипажа въ Москвѣ. А вы кого встрѣчаете? — И[591] вспомнивъ, что онъ на ты, что ему всегда было неловко, прибавилъ, пожимая руку: — Ты кого встрѣчаешь? — И они пошли въ большую дверь.
— Я? Я хорошенькую женщину, — сказалъ онъ улыбаясь. — Я думаю, что самую хорошенькую и самую нравственную женщину Петербурга — сестру Анну, — сказалъ онъ, — Каренину, — разрѣшая недоумѣвающій наивный взглядъ агатово-черныхъ глазъ Вронскаго. — Ты ее, вѣрно, знаешь?
— Къ[592] сожалѣнію нѣтъ. Я встрѣтилъ разъ Анну... — онъ задумался... — Аркадьевну давно у дяди, но едва ли она помнитъ меня.
— Ну a Алексѣя, моего могущественнаго зятя, вѣрно знаешь? Вотъ человѣкъ, который пойдетъ далеко!
— Алексѣя Александровича я[593] знаю. Онъ нетолько пойдетъ, но ужъ и пошелъ далеко. Это вполнѣ государственный человѣкъ.
— Уу! — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, выражая этимъ восклицаніемъ способность зятя къ дѣятельности государственнаго человѣка. — И отлично живутъ, примѣрная семья, — сказалъ онъ, выражая этимъ, какъ понялъ Вронскій, свое удивленіе къ тому, что счастливая семейная жизнь можетъ существовать даже при такой некрасивой и жалкой наружности, какъ наружность Алексѣя Александровича.
— Да, но очень уменъ, — отвѣчалъ Вронскій и,[594] кажется, хорошій очень человѣкъ.
— Я не спорю, я его очень люблю, отличный малый, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ про зятя такимъ тономъ, который показывалъ, что онъ не любилъ его, на сколько могъ Степанъ Аркадьичъ не любить кого нибудь. — Но Анна — это такая прелесть. Я не знаю женщины лучше, добрѣе ее.
Вронскій смотрѣлъ прямо на Алабина своими большими прекрасными глазами и, такъ какъ нечего было сказать на это, ничего не сказалъ; но въ душѣ онъ удивлялся этой нѣжности брата къ сестрѣ, тѣмъ болѣе, что[595] онъ особенно не любилъ тотъ петербургскій кружокъ, котораго Анна Аркадьевна составляла украшеніе. Если онъ бѣжалъ подъ предлогомъ болѣзни отъ почестей, которыя его ждали въ Петербургѣ, то преимущественно вслѣдствіи отвращенія къ тому могущественному кружку, котораго главнымъ лицомъ былъ Алексѣй Александровичъ и который казался ложнымъ, фальшивымъ, напыщеннымъ Вронскому. Это былъ тотъ кружокъ, который Вронскій называлъ шуточно: утонченно-хомяковско-православно-женско-придворно-славянофильски добродѣтельно изломанный. И ему много лжи, притворства, скромности и гордости казалось въ этомъ тонѣ, и онъ терпѣть не могъ его и лицъ, какъ Каренины, мужа, жену и сестру, которыя составляли его. Отъ этаго онъ ничего не отвѣтилъ Алабину.
— Ты взойди сюда, Михайла, — сказалъ Вронскій къ высокому старому материному лакею, пріѣхавшему съ нимъ. — Для матушки вѣдь переѣздъ изъ Петербурга въ Москву теперь кажется труднѣе, чѣмъ на лошадяхъ, — улыбаясь своей кроткой и тихой улыбкой, сказалъ Вронскій. — Тамъ братъ посадилъ ее въ вагонъ съ дѣвушкой и съ Джипомъ, приказалъ кондуктору дѣлать такъ, чтобы какъ можно было похоже на карету, здѣсь мы съ Михайлой встрѣтимъ.
— Вѣрно, въ особомъ отдѣленіи?
— Ну, разумѣется. Чтобъ она была довольна, надо, чтобы провезти ее изъ Петербурга въ Москву такъ, чтобы она не чувствовала, что смѣшалась съ другими, чтобы ее мірокъ, атмосфера ѣхали съ нею...
— Ну да, ну да, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ, сіяя глазками. — Что, скоро ли? Лучше бы пройти туда на платформу.
Такъ говорили они, ходя взадъ и впередъ по залѣ и ожидая прихода поѣзда.[596]
[597]Приближеніе время прихода поѣзда все болѣе и болѣе обозначалось движеніемъ, приготовленіемъ[598] на станціи, бѣганьемъ артельщиковъ, прислуги, отпираніемъ шкапчиковъ, съ газетами, появленіемъ жандармовъ, служащихъ и подъѣздомъ встрѣчающихъ. Степанъ Аркадьичъ и[599] Вронскій[600] были не только пропущены, но приглашены на платформу за тѣ самыя двери, отъ которыхъ[601] отгоняли другихъ, желавшихъ пройти туда же.
Морозный паръ лежалъ на всемъ. Холодно было смотрѣть на рельсы. Рабочіе въ шубахъ съ обиндѣвшими усами дѣлали что то. Закутанный стрѣлочникъ пробѣжалъ. Какой то паровикъ свистя проѣхалъ по дальнимъ рельсамъ. Наконецъ засвистѣлъ вдали паровозъ, загудѣла труба, задрожала платформа и, пыхая сбиваемымъ книзу паромъ, сталъ подкатываться огромный тендеръ съ своимъ кланяющимся начальнику станціи крѣпышомъ машинистомъ, обиндѣвшимъ и обвязаннымъ, въ курткѣ, и медленно и мѣрно насупливающимся и растягивающимся рычагомъ средняго колеса, и за тендеромъ, все медленнѣе и медленнѣе и болѣе колебля платформу, стали проходить почтовый вагонъ, вагоны съ багажами и съ визжавшей собакой, потомъ классы съ высовывающимися [?] изъ-за оконъ пасажирами — коричневые 2-го, потомъ синій 1-го класса. Молодцоватый кондукторъ, на ходу давая свистокъ, соскочилъ сзади, и вслѣдъ за нимъ стали по одному на останавливающемся ходу сходить нетерпѣливые пасажиры — Гвардейскій офицеръ, прямо держась и строго оглядываясь, и купчикъ съ сумкой, весело улыбаясь.
[602]Навстрѣчу выходившимъ толпились встрѣчающіе и влѣзали въ вагоны въ фартукахъ и съ бляхами на грудяхъ артельщики. Толпа, все увеличиваясь и увеличиваясь, загромоздила платформу.[603] Вронскій стоялъ рядомъ съ Алабинымъ, и оба оглядывали вагоны, отъискивая тѣхъ, кого они встрѣчали.[604]
III
— Графиня Вронская въ этомъ отдѣленіи, пожалуйте, — сказалъ молодой кондукторъ, прикладывая руку къ шапкѣ, подходя къ Вронскому.[605] Видно было, что хотя онъ и шутилъ только что о привычкахъ своей матери, свиданье съ ней занимало его всего.
Онъ, никого не видя, быстро пошелъ за кондукторомъ. Въ самыхъ дверяхъ вагона онъ почти столкнулся съ невысокой дамой въ бархатномъ платьѣ, обшитомъ мѣхомъ, съ необыкновенно тонкой таліей и широкими плечами. Остановившись, чтобы извиниться и дать ей пройти, онъ взглянулъ въ ея лицо, скромно выглядывавшее изъ овальной рамки бѣлаго платка, которымъ была обвязана ея голова и шея.[606] Задумчивые сѣрые глаза изъ-подъ необыкновенно длинныхъ рѣсницъ смотрѣли на него дружелюбно внимательно. И дама отстранилась, давая ему дорогу. Онъ поклонился и прошелъ къ своей матери, которая, сбросивъ съ колѣнъ собачку, съ трудомъ поднимала свое одѣтое въ малиновую бархатную шубку тяжелое старческое тѣло съ диванчика и радостно улыбалась ему и съ своей одышкой уже тяжело дышала отъ всего того, что она хотѣла только сказать любимому сыну.
— Получилъ телеграмму? Здоровъ? Ну, слава Богу.
— Хорошо доѣхали? — слушалъ и говорилъ онъ, цѣлуя пухлую руку матери и вмѣстѣ съ тѣмъ думалъ: «Ахъ, это вѣдь Каренина, а я и не узналъ». И онъ оглянулся.
Каренина стояла у двери, слегка улыбаясь красными, изогнутыми губами, и глядѣла тѣми же задумчивыми глазами въ дверь, ожидая, вѣроятно, брата и, очевидно, стараясь не мѣшать свиданію сына съ матерью.
— Анна! А вашъ братъ? Неужели его нѣтъ, — сказала старуха, за взглядомъ сына перенеся свои глаза на Каренину.
Каренина поразила въ первую минуту Вронскаго своими таинственными глазами и особеннымъ страннымъ, но сильнымъ и вмѣстѣ граціознымъ сложеніемъ; теперь, когда онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее, его поразило необыкновенное спокойствіе граціи въ ея позѣ. Она ждала и не торопилась.
Улыбка, какъ будто много знающая и относящаяся къ нему и немного насмѣшливая, почему то тревожила Вронскаго.
— Братъ вашъ здѣсь.
— Да, онъ всегда ищетъ тамъ, гдѣ не надо, — сказала она, — онъ 2 раза пробѣжалъ мимо нашего вагона, — сказала она, и звуки ея голоса, густаго, нѣжнаго и чрезвычайно естественнаго (что, къ несчастью, онъ слышалъ такъ рѣдко), опять, какъ неожиданностью, поразили его.
— Извините меня, я не узналъ васъ въ первую минуту, да и вы, вѣроятно, не помните меня.
— О нѣтъ, — сказала она, — я бы узнала васъ, потому что мы съ Графиней, кажется, всю дорогу говорили про васъ, — и она улыбнулась опять, и опять въ этой улыбкѣ ему показалась насмѣшливость, и онъ подумалъ: «Вѣроятно, матушка разсказывала ей и мои планы женитьбы», и почему то это ему непріятно показалось.
Онъ быстро вышелъ на крылечко и крикнулъ:
— Алабинъ, твоя сестра здѣсь![607]
И Степанъ Аркадьичъ, толкая народъ, улыбаясь, быстрымъ шагомъ прошелъ мимо оконъ, но опять, къ удивленью Вронскаго, Каренина не дождалась его, а быстрой, легкой походкой подошла навстрѣчу брату и, просіявъ лицомъ, какъ будто попавъ подъ лучъ свѣта, обхватила его правой рукой за шею, крѣпко и быстро притянула къ себѣ и, громко чмокнувъ, поцѣловала.[608]
Что то въ быстрыхъ, но всегда граціозныхъ въ своей простотѣ движеніяхъ и въ походкѣ, такъ странно легко носившей довольно полное тѣло, было опять особенно ново и поразительно для Вронскаго.[609]
— Прелесть! — сказала старушка про Каренину. — Ее мужъ со мной посадилъ, и я такъ была рада, такая милая, добрая. Прелестная женщина, — продолжала старушка, не прерывая своихъ похвалъ, несмотря на то, что предметъ ихъ, Каренина, опять вошла въ вагонъ, чтобы проститься съ Графиней.
— Ну, вотъ вы, Графиня, встрѣтили сына, а я брата, и теперь прощайте, благодарю васъ очень, очень, — сказала она по французски. — И всѣ исторіи мои пришли къ концу, а то бы нечего ужъ разсказывать.
— Ну, нѣтъ, милая, — сказала старушка, трепля и гладя руку сына, которую она держала въ своей рукѣ. — Я бы съ вами объѣхала вокругъ свѣта и не соскучилась. Вы однѣ изъ тѣхъ милыхъ женщинъ, съ которыми и поговорить и помолчать пріятно. А объ сынѣ, пожалуйста, не думайте. Нельзя такъ не разлучаться никогда. У Анны Аркадьевны — сказала Графиня, объясняя сыну, — есть сынокъ 8 лѣтъ, кажется, и она никогда съ нимъ не разставалась и все мучается, что оставила его.
— Да, мы всю дорогу съ Графиней говорили — я о своемъ, она о своемъ сынѣ, — сказала Каренина, поправляя неловкое положеніе, въ которое ихъ ставила старушка, и опять насмѣшливая улыбка показалась на ея губахъ.
«Зачѣмъ мама ей разсказывала про мою любовь», подумалъ онъ.
— Ну, прощайте, прощайте, милая. Дайте поцѣловать ваше хорошенькое личико. Безъ васъ бы я пропала.
— Ваша матушка слишкомъ добра. Я благодаря ей не видѣла времени, — сказала Каренина и, наклонивъ съ улыбкой голову, подала руку Вронскому и вышла.
«Такъ вотъ онъ, этотъ необыкновенный сынъ! этотъ герой, этотъ фениксъ, который влюбленъ и котораго всетаки не можетъ стоить ни одна женщина, — думала Каренина, вспоминая хвалы матери своему сыну. — Ахъ, Боже мой, да что мнѣ за дѣло».
— Ну, Аннушка, ты ужъ устрой багажъ и пріѣзжай, — сказала она подошедшей дѣвушкѣ, доставая билетъ, и положила руку на руку брата.
— Послушай, любезный, вещи сестры, — сказалъ онъ служащему, кивнувъ пальцемъ, и прошелъ съ ней въ дамскую комнату.
— Ну что жъ, какъ ты, Анна? Алексѣй Александровичъ, твой Сережа?
— Все[610] хорошо, очень хорошо.
— Впрочемъ и спрашивать нечего. Ты сіяешь, — сказалъ Стива, какъ будто издалека вглядываясь въ нее, — и пополнѣла ровно на столько, чтобы не подурнѣть, a похорошѣть.
[611]— Право? Ну, мнѣ все равно. Но что жъ это? — сказала она съ грустнымъ выраженіемъ. — Неужели? Ахъ, Стива, Стива! — сказала она, покачивая головой. — Это ужасно. Женщины не прощаютъ этаго.
Онъ зналъ, что она говорила про его невѣрность. Онъ писалъ ей. Онъ съ виноватымъ лицомъ стоялъ передъ нею.
— Послѣ, послѣ. Да, ужасно, я негодяй, но помоги, но пойми.
[612]Старый[613] дворецкій, ѣхавшій съ Графиней, явился въ вагонъ доложить, что все готово. И Графиня прервала свой разсказъ о внукѣ, крестникѣ, о милости Государя и др. и со страхомъ поднялась, чтобы идти сквозь столь ненавистную ей толпу станціи желѣзной дороги.
— Пойдемте, мама, теперь мало народа, и мы васъ проведемъ прекрасно, — сказалъ сынъ.
Дѣвушка несла мѣшекъ и собачку, артельщикъ другіе мѣшки. Вронскій велъ подъ руку, дворецкій поддерживалъ за другую руку. Съ трудомъ перебравшись черезъ мучительный для старыхъ людей порогъ, шествіе тронулось дальше и подходило уже къ[614] залѣ. Молодая дама въ блестящей атласной шубкѣ, съ краснымъ чѣмъ то на подолѣ, съ блестящими ботинками съ пуговицами и кисточками и съ лиловой вуалью до половины нарумяненнаго лица, громко[615] говоря что-то, съ испуганнымъ лицомъ почти пробѣжала навстрѣчу и чуть не толкнула старуху и привела ее въ ужасъ.[616] Еще пробѣжалъ артельщикъ. Очевидно что-то случилось на станціи. Послышались шаги, голоса, и народъ отъ подъѣзда хлынулъ назадъ, и ужасъ чего-то случившагося распространился на всѣхъ лицахъ.
— Что такое? что, гдѣ? Бросился? Раздавили?
Вронскій посадилъ мать на кресло рядомъ съ Карениной и быстрыми шагами пошелъ за Степаномъ Аркадьичемъ, пошедшимъ узнавать, что такое.
Стрѣлочникъ попалъ подъ отодвигаемый поѣздъ, и его раздавило на смерть. Еще прежде чѣмъ вернулись Вронскій и Алабинъ, лакей разсказалъ это Графинѣ.
Степанъ Аркадьичъ вернулся прежде и разсказалъ ужасныя подробности.
— Но гдѣ же Алеша? — задыхаясь и трясясь, спрашивала мать, какъ будто боясь, съ нимъ бы не случилось чего.
— Вотъ онъ идетъ.
[617]Вронскій шелъ торопливо, застегивая сертукъ, и лицо его было блѣдно, какъ платокъ.
— Поѣдемте, мама.
— Чтожъ, неужели ты видѣлъ его?
— Да,[618] видѣлъ.
— Совсѣмъ убитъ, умеръ? — спросила Анна Аркадьевна.
Онъ взглянулъ на нее[619] строго, какъ ей показалось.
— Да, — отвѣчалъ онъ холодно.
— Ужасно то, что осталось несчастное семейство, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ. — Какая ужасная смерть.
— Напротивъ, мгновенная, — сказалъ Вронскій.
— Мгновенная, — повторила она задумчиво, и красота ея таинственныхъ, въ глубь смотрящихъ глазъ поразила его. — Ну, прощайте еще разъ, Графиня, — сказала она.
— Ну, пойдемте, мама, — сказалъ сынъ.
Но только что онъ взялъ ее за руку, какъ подошелъ Начальникъ Станціи.
— Вы пожертвовали для семейства убитаго 200 рублей, потрудитесь записать.
Вронскій оглянулся на Анну, она пристально смотрѣла на него. Онъ покраснѣлъ и отошелъ съ Начальникомъ Станціи, что то живо говоря ему.[620]
— Что съ тобой, Анна? — спросилъ братъ, когда они отъѣхали уже нѣсколько сотъ саженъ.
Анна молчала и тряслась вся, какъ въ лихорадкѣ.
— Ничего, — сказала она, насильно улыбаясь.
— Вотъ ты говоришь, что я здорова. А ужасно нервна стала. Эта дорога и это страшное событіе и твое положеніе — все это меня ужасно взволновало. Ничего, это пройдетъ. Ну, а Долли ужасно убита, ты говоришь? — «Я думаю», сказала она про себя, не глядя на брата.
— Анна, ты пойми, — началъ Степанъ Аркадьичъ, снимая шляпу отъ волненья, — ты пойми, что я чувствую себя виноватымъ до такой степени, что я не нахожу словъ. Съ такой женщиной, какъ Долли. Но, другъ мой, я вѣдь признаю свою вину. Неужели все погибло? — Онъ всхлипнулъ и помолчалъ. — Дѣвушка эта...
— Ахъ, ради Бога не разсказывай подробности, — положивъ свою маленькую ручку на рукавъ его шубы, сказала Анна Аркадьевна.
— Но, Анна, ты всегда была моимъ ангеломъ хранителемъ, ты вся живешь для добра. Спаси меня.... Ты, я знаю, утѣшишь, успокоишь, устроишь, она любитъ тебя, вѣритъ тебѣ....
— Да, но почему ты думаешь, что я могу сдѣлать что нибудь? Ахъ, какъ вы гадки, всѣ мущины, — сказала она.
Подъѣхавъ къ своему дому, Степанъ Аркадьичъ высадилъ сестру, значительно вздохнувъ, пожалъ ей руку и поѣхалъ въ Присутствіе.
* № 20 (рук. № 17).
— Графиня Вронская въ этомъ отдѣленіи, пожалуйте, — сказалъ молодцоватый кондукторъ, подходя къ Вронскому.
Лицо Вронскаго выражало волненіе, и видно было, что, хотя онъ шутилъ только что о привычкахъ своей матери, свиданье съ ней волновало его. Онъ непривычно быстро пошелъ за кондукторомъ. Въ самыхъ дверяхъ вагона онъ почти столкнулся съ[621] дамой въ[622] темносинемъ суконномъ платьѣ съ пелеринкой, обшитомъ мѣхомъ.[623]
Тотчасъ же по простотѣ этаго платья и манерѣ дамы, узнавъ, что это была дама, Вронскій остановился, чтобы извиниться.[624] Взглянувъ на простое[625] лицо дамы,[626] обвязанной кругомъ по шляпѣ большимъ платкомъ, и встрѣтившись взглядомъ съ глазами, дружелюбно внимательно смотрѣвшими на него, Вронскому вспомнилось что то знакомое и милое, но что была эта дама, онъ не могъ вспомнить. Дама эта, очевидно, старалась отдѣлаться, и не знала какъ, отъ другой дамы, прощавшейся съ ней и о чемъ то просившей. Проходя, Вронскій услыхалъ:
— Что вамъ стоитъ? А можетъ быть, это Богъ свелъ меня съ вами. Вы слово скажете мужу.
— Я все готова сдѣлать, что отъ меня зависитъ, но повѣрьте, что это не въ моей власти, — сказалъ нѣжный густой голосъ.
* № 21 (рук. № 17).
Въ дверяхъ зашумѣло, и вмѣсто женскаго полушалія — мужской голосъ.
— Пришелъ проститься съ вами, Анна Аркадьевна, — говорилъ голосъ. — Хоть немножко насладиться вашимъ обществомъ, и за то спасибо.
Вронской оглянулся. Просительница дама ушла, и въ дверяхъ стоялъ старикъ въ собольей шапкѣ, знаменитый ученый, котораго Вронской зналъ съ вида.
— Надѣюсь встрѣтиться съ вами въ Москвѣ и продолжать нашъ споръ и доказать — вы знаете, мы, женщины, смѣлы — доказать, что въ нигилистахъ не можетъ быть ничего честнаго.
— Петербургскій взглядъ, — сударыня.
— Не Петербургскій, a человѣческій, — сказалъ нѣжный, чистый голосъ.
— Ну съ, позвольте поцѣловать вашу ручку.
— До свиданья, Иванъ Петровичъ. Да посмотрите — если братъ тутъ, пошлите его ко мнѣ.
— А вашего брата нѣтъ? Неужели его нѣтъ? — сказала старуха, за взглядомъ сына перенося свои глаза на даму въ пелеринѣ, обшитой мѣхомъ.
«Ахъ, вѣдь это Каренина», подумалъ Вронской, теперь совершенно разсмотрѣвъ ее. Она была похожа на брата — то же красивое, цвѣтное и породистое лицо и сложеніе, но совершенно другія глаза.[627] Глаза ея казались[628] малы отъ густыхъ черныхъ рѣсницъ, окаймлявшихъ ихъ.[629] Но[630] главная черта ея, бросавшаяся въ глаза, были черные, какъ вороново крыло, волоса, которые не могли быть приглажены и вездѣ выбивались и вились.
* № 22 (рук. № 17).
<— Ну такъ скажи же мнѣ все про себя. Прежде чѣмъ я ее увижу, мнѣ нужно понять ваше положеніе.
— Что мнѣ сказать, — началъ Облонскій, снимая шляпу отъ волненія.[631] — Я погубилъ себя и семью,[632] я пропалъ, и семья, и она, и дѣти — все пропало,[633] если ты не поможешь.
— Отчего жъ ты такъ отчаиваешься?
— Надо знать Долли, какая она женщина. И она беременная.[634] Какъ она можетъ простить меня, когда я самъ не могу простить.[635]
— Но что она говоритъ?
— Она говоритъ, что не можетъ жить со мной, что она оставитъ меня, и она это сдѣлаетъ.
— Но какъ? Вѣдь надо же жить какъ нибудь, надо устроить судьбу дѣтей.
— Анна, ты всегда была моимъ Ангеломъ-хранителемъ, спаси меня.
— Да, но почему ты думаешь, что я могу сдѣлать что нибудь?[636] Ахъ, какъ вы гадки, всѣ мущины, — сказала она.
— Нѣтъ, она не проститъ, — сказалъ онъ.
— Если она тебя любила, то проститъ непремѣнно.
— Ты думаешь, проститъ? Нѣтъ, не проститъ, — повторялъ онъ черезъ минуту.>
* № 23 (рук. № 17).
<Общественныя условія такъ сильно, неотразимо на насъ дѣйствуютъ, что никакія разсужденія, никакія, даже самыя сильныя чувства не могутъ заглушить въ насъ сознаніе ихъ.> Долли была убита своимъ горемъ, вся поглощена имъ, но, несмотря на то, она помнила, что Анна золовка была жена однаго изъ важнѣйшихъ лицъ Петербурга и Петербургская grande dame, и это то обстоятельство сдѣлало то, что она не исполнила того, что обѣщала мужу, т. е. не забыла то, что пріѣдетъ золовка. Будь ея золовка неизвѣстная деревенская барыня, она, можетъ быть, и не захотѣла бы знать и видѣть ее, но Анна — жена Алексѣя Александровича — этаго нельзя было сдѣлать. «Кромѣ того, Анна ни въ чемъ не виновата, — думала Долли. — Я объ ней кромѣ нетолько самаго хорошаго, но не знаю ничего кромѣ общаго восторга и умиленія, и въ отношеніи себя я видѣла отъ нея только ласку и дружбу — правда, нѣсколько приторную, съ афектаціей какого-то умиленія, но дружбу. За что же я не приму ее»?
Но все таки Долли съ ужасомъ и отвращеніемъ представляла себѣ тѣ религіозныя утѣшенія и увѣщанія прощенія христіанскаго, которыя она будетъ слышать отъ золовки.
* № 24 (рук. № 103)
Цѣлый день этотъ, особенно занятой пріѣздомъ матери, разговорами съ ней,[637] Удашевъ совершенно неожиданно и не кстати въ серединѣ разговоровъ, постороннихъ мыслей вдругъ слышалъ нѣжный и густой голосъ, говорившій: «ваша матушка про своего, а я про своего сына», и вмѣстѣ съ голосомъ и словами передъ воображеніемъ[638] Удашева являлись[639] глубокіе глаза и полный, крѣпкій станъ, и легкія, быстрыя граціозныя движенія, тщетно удерживаемая улыбка,[640] и онъ цѣлый день былъ какъ не свой, а потерянный. Какъ только онъ оставался одинъ, самъ съ собой, голосъ этотъ пѣлъ эти простыя слова, и[641] Удашеву становилось на душѣ радостно, и онъ улыбался чему то. Когда онъ задумывался о томъ, что бишь ему нынче дѣлать, что предстоитъ пріятнаго или тяжелаго въ этотъ день, онъ находилъ въ своей душѣ[642] воспоминаніе о Карениной, которую онъ видѣлъ одну минуту.
«Отчего же мнѣ не поѣхать къ[643] Облонскимъ?» вдругъ пришло ему въ голову въ серединѣ 3-го акта, въ самую торжественную минуту драмы.
Онъ всталъ и пошелъ черезъ ноги 1-го ряда.[644] Выйдя изъ театра, онъ взялъ извощика и поѣхалъ къ Облонскимъ. Но войдя въ сѣни, на него вдругъ нашелъ страхъ неловкости, сомнѣніе, чего онъ никогда еще въ жизни не испытывалъ. «Не поздно ли? Не странно ли будетъ, что я войду? Что сказать, если и войду? И зачѣмъ я пріѣхалъ?»
Увидавъ въ передней лакея Щербацкихъ, сомнѣніе его еще болѣе усилилось.[645] Онъ рѣшилъ, что не взойдетъ, и придумалъ предлогъ предполагаемаго обѣда. Онъ доставалъ бумажникъ, чтобы написать два слова Облонскому, когда вдругъ какая то странная сила потянула его взглядъ кверху, и онъ увидалъ[646] съ косами на головѣ легкимъ, граціознымъ шагомъ шедшую гдѣ то въ вышинѣ женщину. И это была она. Она наклонила голову.[647] Онъ понялъ, что войти къ Облонскимъ нельзя, что она можетъ быть недовольна, но онъ видѣлъ ее и, поговоривъ на лѣстницѣ съ Степаномъ Аркадьичемъ, онъ уѣхалъ домой.
[648]Когда онъ нынѣшній вечеръ ложился спать, онъ, какъ обыкновенно это послѣднее время, вспомнилъ о Кити Щербацкой и задалъ себѣ вопросъ, что же дѣлать; онъ услыхалъ только голосъ: «Я про своего, а ваша матушка про своего сына», и глаза, и наклонъ головы съ косами и съ выбившимися колечками на шеѣ, и дѣвичiй образъ съ таинственными глазами представились ему.
И вслѣдъ за этимъ вопросъ измѣнился. Вопросъ уже былъ не о томъ,[649] жениться или нѣтъ, но о томъ, чѣмъ онъ далъ поводъ думать, что онъ намѣренъ жениться.
[650]«Рѣшительно ничѣмъ, — отвѣчалъ онъ себѣ. — Я какъ будто предчувствовалъ это. Да, я ничѣмъ не связанъ, и это кончено».
Онъ говорилъ это себѣ, но чувствовалъ, что къ испытываемой имъ радости примѣшивалось невольно сознаніе какого то дурнаго поступка. Но такъ или иначе рѣшилъ онъ самъ [съ] собою.
«Я не могу больше ѣздить къ Щербацкимъ, и моя идилія кончена. И надо уѣхать отсюда. Ремонтъ приметъ Федченко все равно».
* № 25 (рук. № 14).
X.
У[651] однаго изъ главныхъ лицъ Москвы былъ большой балъ.[652] Танцовали въ большой залѣ.[653] Балъ былъ великолѣпенъ, но, какъ и всегда въ Москвѣ, бѣденъ мущинами.
Кити пріѣхала съ матерью рано и застала уже половину залъ полными, только что начинали танцовать. Въ толпѣ, но отдѣляясь отъ толпы не только для Кити, но и для постороннихъ, стоялъ Вронскій, очевидно ожидая и отдѣляясь отъ толпы не одной своей красивой наружностью, но и той особенной граціей и скромной свободой обращенія, которыя отличали его отъ всѣхъ.
Кити была въ голубомъ платьѣ съ бѣлымъ вѣнкомъ на головѣ и если бы она не знала, что она хороша, она бы увѣрилась въ этомъ потому, какъ она встрѣчена была въ залахъ. Опять, какъ и въ тотъ день, какъ Левинъ видѣлъ ее на конькахъ, въ строгомъ и спокойномъ по складу своему лицѣ ея было красящее ее оживленіе, сдержанное волненіе, скрываемое рѣшительностью, которую бы можно назвать отчаянностью, если бы это настроеніе не было скрыто привычкой свѣтскаго приличія.
Съ самаго того вечера, въ который она отказала Левину, 8 дней она не видала больше Вронскаго. Даже въ обычный пріемный четвергъ онъ не былъ у нихъ. Но она знала, что онъ былъ въ городѣ, знала, что онъ будетъ на балѣ. Она знала это отъ Анны, которая ѣздила на другой день своего пріѣзда къ старухѣ Вронской и тамъ встрѣтила сына и разсказывала, что просидѣла тамъ болѣе часа[654] и что онъ будетъ на балѣ, потому что приглашалъ Анну танцовать съ нимъ.[655] Китти страшно было подумать о томъ, чтобы ея отношенія съ нимъ могли прекратиться именно тогда, когда она такъ рѣшительно отказала Левину. Это было хуже чѣмъ ужасно, это было глупо и смѣшно, и она еще не позволяла себѣ вѣрить этому. Должны были быть непонятными для нея причины, которыя помѣшали ему видѣть ее впродолженіи 8 дней. «Мать не желаетъ. Онъ дѣлаетъ окончательныя приготовленія», думала она и съ одинаковымъ страхомъ отгоняла и утѣшительныя и безнадежныя мысли. Балъ долженъ рѣшить все. Она увидитъ его, она танцуетъ съ нимъ 1-ю кадриль и, вѣроятно, мазурку, которую она рѣшила отдать ему. Глаза ея встрѣтились съ его глазами. «Да, онъ ждалъ меня!» подумала она, и, здороваясь съ хозяйкой и знакомыми, она ждала его и услыхала его шаги и увидала даже, не глядя на него, черную тѣнь его мундира. Онъ стоялъ подлѣ нее и напоминалъ о 1-й кадрили, къ которой уже оркестръ игралъ призывъ. Она спокойно положила свою прелестную формой обнаженную руку съ однимъ тонкимъ браслетомъ съ изумрудомъ, подаркомъ Степана Аркадьича, и счастливая голубая и нарядная пошла съ нимъ по скользкому паркету подъ яркимъ свѣтомъ свѣчей въ середину шумно устанавливавшихся паръ. Онъ говорилъ, какъ всегда, просто и спокойно. Объяснилъ дѣлами то, что не пріѣхалъ въ четвергъ, и Кити такъ хотѣлось вѣрить ему, что она не сомнѣвалась въ томъ, что прежнія ихъ отношенія нисколько не измѣнились. Даже разсѣянность, съ которой онъ отвѣчалъ на нѣкоторые вопросы, и взглядъ, обращаемый постоянно на входныя двери, не обратилъ на себя ея вниманія. Тѣже были его прекрасные, прямо и честно смотрѣвшіе наивные агатовые глаза, и тоже было ея чувство къ этимъ глазамъ, что она не допускала возможности, чтобы что нибудь измѣнилось; a вмѣстѣ съ тѣмъ какая то змѣя не переставая сосала ея сердце; она какъ будто предчувствовала большое несчастье, и волненье ея не утихало.
Въ то самое время какъ Вронскій, отведя ее къ толпѣ нетанцующихъ дамъ, кланяясь отходилъ отъ нея, въ залу вошла[656] Анна въ черномъ обшитомъ кружевами Долли (Кити узнала ихъ) бархатномъ платьѣ съ[657] лиловыми цвѣтами на головѣ.[658] Анна остановилась на мгновеніе у входа, спокойно отъискивая хозяйку своими странными отъ рѣсницъ, несвѣтящимися глазами. И увидавъ ее, слегка кланяясь знакомымъ, пошла къ ней своей легкой, какъ бы летящей походкой. Хозяинъ и хозяйка поспѣшили къ ней навстрѣчу.[659] Она улыбнулась своей добродушной свѣтлой улыбкой. Она подходила ужъ къ Кити, когда Корнилинъ [?], знаменитый церемонимейстеръ, дирижеръ баловъ, съ своимъ быстрымъ взглядомъ, оглядывающимъ свое хозяйство, увидалъ ее и подошелъ къ ней той особенной ловкой, свободной походкой, которой ходятъ только[660] дирижирующiе балами.
— Анна Аркадьевна, какъ я счастливъ, — сказалъ онъ, улыбаясь, наклоняясь и предлагая руку, — туръ вальса.
Она посмотрѣла, кому передать вѣеръ и, отдавъ[661] его съ улыбкой К[орнилину?], положила привычнымъ[662] и особеннымъ, ей одной свойственнымъ жестомъ руку на его плечо.
— Вы давно ли тутъ? A Лидія гдѣ? — спросила она его про его жену.
— Мы вчера пріѣхали, мы были на выставкѣ въ Вѣнѣ, теперь я ѣду въ деревню оброки собирать, — говорилъ онъ, продолжая вальсировать. — Да, — сказалъ онъ, — отдыхаешь, вальсируя съ вами, прелесть, précision.[663] А тутъ ни одной нѣтъ хорошей для вальса. Нечто маленькая Щербацкая.
— Да, мы съ вами уже спѣлись, — сказала Анна, напоминая, какъ часто они вальсировали на Петербургскихъ балахъ. — Отведите меня къ Лидіи, — сказала она.
Кор[нилинъ] сдѣлалъ еще туръ и прямо завальсиров[алъ], укорачивая шагъ и приговаривая «pardon, mesdames», прямо на народъ и прямо къ своей женѣ, которую хотѣла видѣть Анна. <Еще войдя на балъ, Анна невольно замѣтила Гагина, только что кончившаго вальсъ и[664] отводившаго хорошенькую свѣтлую, сіяющую голубую Кити къ матери. Глаза ихъ встрѣтились тогда же и, странно, Анна, столь привычная къ свѣту, ко всѣмъ возможнымъ положеніямъ, замѣтила, что глаза ихъ встрѣтились, и отвернулась, такъ что онъ не успѣлъ поклониться. Теперь, проходя черезъ толпу къ Лидіи Корсаковой, она еще, странно, не видѣла его, но чувствовала, что онъ шелъ за нею и смотрѣлъ на нее.> Едва она подошла къ красавицѣ Лидіи Корсаковой, прелестной брюнеткѣ съ чрезмѣрно открытыми плечами и руками, какъ Вронскій ужъ подошелъ и, низко кланяясь, сказалъ, что онъ пришелъ поклониться, такъ какъ не имѣлъ времени, и просить на тѣ танцы, которые она можетъ дать ему.[665]
Она не замѣтила или не хотѣла замѣтить его поклон[а] въ то время, какъ она проходила мимо его. Она повернулась къ нему, холодно[666] улыбаясь.
— Сейчасъ я къ вашимъ услугамъ, — сказала она ему, я не видѣлась еще съ старымъ другомъ. И вотъ на балѣ...
— Я думаю, Лидію Ивановну легче всего встрѣтить на балѣ, — сказалъ онъ улыбаясь.
— А вы знакомы?
— Съ кѣмъ мы не знакомы, — сказала Лидія Корсакова. — Насъ съ мужемъ знаютъ, какъ бѣлаго волка.
И она обратилась къ Аннѣ съ вопросомъ о ея мужѣ, о ней; она говорила съ ней и чувствовала его взглядъ. И взглядъ этотъ непріятно смущалъ ее. Подъ его взглядомъ она чувствовала свою наготу и стыдилась ея, — чувство, котораго она не испытывала съ давней дѣвичьей поры.[667] <Взглядъ его былъ странный, она представилась ему прелестной, когда онъ въ первый разъ увидалъ ее. Но этихъ плечъ, этой груди и рукъ онъ не видѣлъ. Онѣ были лишнія, они ослѣпляли его.> Это ей тяжело, непріятно стало, она чуть, съ свойственнымъ ей движеніемъ, топнула ногой съ вопросомъ и упрекомъ во взглядѣ: «Ну что вамъ отъ меня надо? И развѣ можно такъ смотрѣть на людей?» Но сердитое выраженіе ея лица вдругъ смягчилось, когда она увидала въ его взглядѣ не смѣлость, не дерзость, но виноватую[668] покорность лягавой собаки. «Что хочешь дѣлай со мной, — говорилъ его взглядъ. — Но не оскорбить тебя я хочу, а себя хочу спасти и не знаю какъ».
Поговоривъ съ Лидіей, она обратилась къ нему, и ей самой на себя досадно было, что она не могла быть вполнѣ натуральна съ нимъ. Она взглянула на свои таблетки, хотя этаго вовсе не нужно было дѣлать.
— Кадриль, слѣдующую, да еще.
Молодой человѣкъ подбѣжалъ, прося на кадриль.
— Мазурку? — сказалъ Гагинъ.
— Я думала, что вы танцуете съ Кити, — сказала она, и опять въ глазахъ у нихъ промелькнуло что-то такое, что говорило о томъ, что между ними уже было прошедшее — неясное, но сильное.
— Теперь могу я васъ просить на туръ вальса? — сказалъ онъ, оттирая молодого человѣка, который, видимо, только что сбирался это сдѣлать.
Она улыбнулась молодому человѣку и опять своимъ быстрымъ жестомъ занесла обнаженную руку — Гагинъ увидалъ въ первый разъ эту руку — на его эполетъ. Онъ обнялъ ея полную талію; лицо ея съ подробностями вьющихся волосъ на шеѣ, родинки подъ щекой, лицо это, странное, прелестное, съ[669] таинственными глазами и блестѣвшими изъ подъ длинныхъ рѣсницъ и смотрѣвшими мимо его, было въ разстояніи поцѣлуя отъ него. Онъ не спускалъ съ нея глазъ, сдѣлалъ первое движенiе, какъ вдругъ Корсаковъ на бѣгу захлопалъ въ ладоши, и звуки вальса остановились.
— Ахъ, виноватъ! — закричалъ онъ, рысью подбѣгая къ нимъ, — я не видалъ. Вальсъ, опять вальсъ, — закричалъ онъ.
<Гагинъ все это время держалъ ее талію и при первыхъ звукахъ пошелъ съ ней туръ. Когда онъ опять взглянулъ ей въ глаза, глаза эти нетолько блестѣли, но дрожали, вспыхивали страннымъ блескомъ, который какъ бы ослѣпилъ его.
Въ тѣснотѣ кадрили Гагинъ досталъ стулъ, но она не хотѣла сѣсть, и стоя они разговаривали о[670] четѣ Корсаковыхъ. Они говорили о пустякахъ, но ослѣпительный блескъ не потухалъ въ ея глазахъ.
— Я его давно знаю, — говорилъ Гагинъ, — это самая милая чета, которую я знаю. Вотъ люди, которые легко берутъ жизнь. Она — это товарищъ мужа. Одна цѣль — веселиться.
— Да и хорошо честно веселиться.
— И какъ Богъ устроилъ, что у нихъ нѣтъ дѣтей, такъ это нейдетъ имъ.
— Я думаю, напротивъ, что они оттого такъ устроились, что у нихъ нѣтъ дѣтей.
— Нѣтъ, а отчего жъ, они оба богаты, красивы, неревнивы.
— О нѣтъ, я знаю даже случай, гдѣ онъ былъ ревнивъ; впрочемъ, я начинаю сплетничать. Но все это у нихъ такъ мило. Ну что, Княгиня отдохнула съ дороги?
— Напротивъ, она готова сейчасъ ѣхать опять съ вами. Она безъ ума отъ васъ.
Она подняла глаза и посмотрѣла на него, какъ бы говоря: «не скажите глупаго комплимента». Но глаза его отвѣтили: «зачѣмъ говорить, вы сами знаете, что я безъ ума отъ васъ», и опять виновато покорно смотрѣли его[671] агатовые наивные глаза изъ его[672] красиваго лица.
Кити была въ голубомъ платьѣ съ голубымъ вѣнкомъ на головѣ, и голубое настроеніе было въ ея душѣ, когда она вошла въ зало. И первое лицо, встрѣтившее ее, былъ Гагинъ. Она танцовала съ нимъ 1-ю кадриль, но онъ былъ неспокоенъ странно и смотрѣлъ на дверь. Она видѣла его тоже, когда Анна вошла въ залу, и выраженіе лица его, серьезное, строгое даже, выраженіе лица, похожее на выраженіе человѣка, готовящегося на дѣло, долженствующаго рѣшить его жизнь.> Весь балъ, весь свѣтъ — все закрылось туманомъ въ душѣ Кити. Только привычка свѣта поддерживала ее и заставляла дѣлать все, что отъ нея могло требоваться. По этой же привычной способности она поняла, что мазурку, которую она оставляла до сихъ поръ для[673] Вронскаго, нужно отдать, и она отдала ее Корсакову. Передъ мазуркой она вышла въ гостиную и опустилась въ кресло. Воздушная юбка платья поднялась облакомъ вокругъ ея тонкаго стана. Она держала вѣеръ и обмахивала свое разгоряченное лицо.
— Кити, что же это такое! — сказала Графиня Нордстонъ, по ковру неслышно подходя къ ней. — Я не понимаю этаго.
У Кити дрогнула нижняя губа, она быстро встала.
— Нечего понимать. Очень весело, — сказала она и вышла въ залу.
— Онъ при мнѣ звалъ ее на мазурку. Она сказала: «вы развѣ не танцуете съ Кити Щербацкой?»
[674]— Ахъ, мнѣ все равно, — сказала Кити, чувствуя ужъ не горе, а ужасъ и отчаяніе передъ своимъ положеніемъ.
Ей хорошо было танцовать въ 1-й парѣ съ Корсаковымъ, потому что не надо было говорить, онъ все бѣгалъ изъ мѣста въ мѣсто. Гагинъ съ Анной танцовали въ серединѣ и сидѣли почти противъ нея. Она видѣла ихъ своими дальнозоркими глазами, видѣла ихъ и вблизи, когда они сталкивались въ парахъ, и она видѣла, что они по своему чувствовали одни во всемъ залѣ.[675] Мало того, она видѣла, что на лицѣ Гагина, всегда столь твердомъ и независимомъ, было только то выраженіе, которое было на лицѣ Анны. И странно, Кити ужаснулась этому чувству, но что то ужасно жестокое въ своемъ оживленіи было въ лицѣ Анны въ ея простомъ черномъ платьи съ ея прелестными плечами и руками. Она[676] любовалась ей больше, чѣмъ прежде, но теперь она ненавидѣла ее и себя за то, что она ненавидѣла ее. Она считала себя подавленной, убитой, и лицо ея выражало это.[677]
Когда Гагинъ увидалъ ее, столкнувшись съ ней въ мазуркѣ, онъ былъ пораженъ ея некрасивостью. Онъ почти не узналъ ее.[678]
— Прекрасный балъ, — сказала она ему.
— Да, — отвѣчалъ онъ, — надѣюсь, что вы веселитесь.
В серединѣ мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсаковымъ, Анна, разойдясь съ кавалеромъ, вышла на середину круга, взяла двухъ кавалеровъ, потомъ подозвала къ себѣ одну даму и Кити. Кити испуганно смотрѣла на нее, подходя. Анна, прищурившись смотрѣла на нее, не видя еe, и вдругъ сказала виновато:
— Мнѣ нужно одну, кажется, одну, — и она равнодушно отвернулась отъ[679] вопросительнаго взгляда Кити. «Да, что то чуждое, бѣсовское и прелестное было въ ней», сказала себѣ Кити.
Анна не хотѣла остаться ужинать, но хозяинъ сталъ просить ее:
— Полноте, Анна Аркадьевна, — заговорилъ Корсаковъ, почти насильно забирая ея обнаженную руку подъ рукавъ своего фрака. — Какая у меня идея котильона! Un bijou![680]
И онъ тянулъ ее настолько, насколько дозволяло приличіе.[681]
Хозяинъ улыбался одобрительно.[682] Вронскій стоялъ подлѣ и ничего не говорилъ, но встрѣтился съ ней глазами, и она почувствовала, что между нимъ и ею уже было прошедшее, длинное, сложное, котораго не было.
— Успѣете отдохнуть завтра въ вагонѣ, — говорилъ Корсаковъ.
— А вы ѣдете завтра? — сказалъ[683] Вронскій.
— Да, — отвѣчала она,[684] съ неудержимымъ дрожащимъ блескомъ глазъ и улыбкой взглянувъ на него.
XI.
— Я не знаю что со мной сдѣлалось, — говорила она на другой день Долли, сидя въ ея гостиной передъ обѣдомъ, послѣ котораго она должна была ѣхать. — Мнѣ было весело, какъ 18 лѣтней дѣвочкѣ, я не думала, чтобы я, мать семейства, могла еще такъ веселиться. Но одно, — она вдругъ покраснѣла до корней вьющихся волосъ на шеѣ, до слезъ, — одно, Долли, душенька, помоги мнѣ. Я не знаю, какъ это сдѣлалось, но Алексѣй Гагинъ не отходилъ отъ меня, и я боюсь, я кокетничала съ нимъ, сама не зная этаго. Я не знаю, что нашло на меня, я забыла Кити и все, и мнѣ просто было весело. По правдѣ тебѣ сказать, я отъ этаго не остаюсь до завтра, хотя могла бы. Михаилъ Михайловичъ пріѣдетъ послѣ завтра. Долли, ты не повѣришь, мнѣ на Кити смотрѣть стыдно, и оттого она не пріѣдетъ обѣдать. Но право, право, я не виновата или виновата немножко.[685]
— О какъ я узнаю Стиву, — засмѣялась Долли и, чтобъ смягчить, поцѣловала Анну. — Я узнаю.
— О нѣтъ, о нѣтъ. — Анна нахмурилась. — Я даже не позволю себѣ усумниться въ самой себѣ. Все это новыя лица, я на минутку все забыла.
— А они чувствуютъ это, — сказала Долли. — Впрочемъ, правду сказать тебѣ, я и не очень желаю Гагина для Кити. Мое сердце на стороне Ордынцева; да если онъ могъ влюбиться въ тебя въ одинъ день, то и лучше, чтобы онъ не женился.
Анна задумалась радостно. «Влюбленъ въ меня, — думала она. — Можетъ».
Кити, правда, не пріѣхала. Степанъ Аркадьичъ простился еще утромъ, и они обѣдали одни, и Долли никогда не могла забытъ этого милаго часа, который она провела съ Анной. Анна, какъ будто для того чтобы жалѣли о ней, была еще милѣе, дѣти не отходили отъ нея, и мальчика обманули и услали внизъ, а то онъ рыдалъ, какъ только заговаривали объ ея отъѣздѣ.
— Ну, прощай, милый, милый другъ, — говорила Долли, обнимая ее при прощаньи. — То, что ты сдѣлала, я не забуду никогда.
— Да чтожъ я, — застѣнчиво улыбнулась [Анна].
— Ты меня поняла, ты меня поняла, и ты прелесть.
«Ну, все кончено, и слава Богу, — подумала Анна какъ только она сѣла одна съ Аннушкой въ вагонъ, — все кончено, и слава Богу, а я дурно поступила, и я могла увлечься, да, могла».
Ни знакомыхъ, ни пріятныхъ лицъ никого не было. Попробовала почитать, бросила, и началось то волшебное тяжелое состояніе — полусвѣтло, чужія лица, шопотъ, вздрагиванье, то тепло, то холодно, а тамъ отворенная дверь, мракъ, буря, снѣгъ и подтянутый кондукторъ съ слѣдами бури на воротникѣ.
Барыня больна жаромъ. Анна сняла шубу, все жарко, и нервы натянуты; воздуха, дышать, дышать. Она надѣла шубку и на первой станціи вышла на крылечко. Аннушка бросилась. «Нѣтъ, я подышать». Буря, свистъ, стукотня. «Депеша дан[а]. Сюда, пожалуйста», и тѣни. Страшно, жутко, кто себя знаетъ, что будетъ. — Вдругъ фигура мужская. Она посторонилась пройти, но онъ къ ней.
— Не нужно ли вамъ чего? — съ низкимъ поклономъ.
— Какъ вы! — и она поблѣднѣла. — Вы зачѣмъ ѣдете?
— Чтобъ быть съ вами.
— Не говорите этаго, это гадко, дурно для васъ, для меня.
— О если это что нибудь для васъ.
Она задыхалась отъ волненія.
— Зачѣмъ? Кто вамъ позволилъ говорить мнѣ это?
— Я не имѣю права, но моя жизнь не моя, а ваша и навсегда.
Она закрыла лицо руками и шла въ вагонъ. Всю ночь она не спала, старушка сердилась; колеблющійся свѣтъ, тряска, свистъ, стукъ остановки и буря, бѣснующаяся на дворѣ.
* № 26 (рук. № 15).
<У однаго изъ главныхъ лицъ Москвы былъ большой балъ. Кити уговорила Анну ѣхать на этотъ балъ, и хоть не въ лиловомъ, какъ Кити непремѣнно воображала, а въ черномъ бархатномъ срѣзанномъ платьѣ, на которое Долли дала свои венеціанскіе гипюра-кружева. Анна ѣхала, и Кити была довольна.
Балъ этотъ долженъ былъ рѣшить ея судьбу, и она теперь, принеся въ жертву Левина, не сомнѣвалась ни минуты въ томъ, что она рѣшится по ея желанію.>
Кити не видала Вронскаго съ самаго того дня, когда она отказала Левину, но знала, что онъ въ городѣ и будетъ на балѣ.
Анна ѣздила на другой день своего пріѣзда къ старухѣ Вронской, застала тамъ сына, провела съ нимъ болѣе часа и вернулась еще съ большей увѣренностью въ томъ, что онъ очень, очень хорошій молодой человѣкъ и будетъ прекрасный мужъ для Кити.
— Одно, что мнѣ не понравилось въ немъ, — говорила Анна, — это то, что онъ хочетъ выходить въ отставку, а въ его положеніи это значитъ искать немилости, бравировать. Я его, кажется, убѣдила не дѣлать этаго, а понемногу, если онъ не хочетъ жить въ Петербургѣ, удаляться отъ двора и перейти въ штатскую номинальную должность. Это все гордость, — говорила Анна.
Анна же разсказывала, что она будетъ на балѣ. Кити ѣхала на балъ все съ тѣмъ же чувствомъ юноши, идущимъ на сраженіе, не покидавшимъ ее съ четверга; но успѣхъ сраженія казался ей несомнѣннымъ, и она чувствовала себя сильной и красивой, какъ никогда. Костюмъ ея былъ голубое платье съ бѣлымъ тюникомъ, и голубые цвѣты на головѣ вѣнкомъ шли къ ней. Если бы она и сомнѣвалась въ своемъ успѣхѣ, первыя минуты входа ея на балъ подтвердили ей ея увѣренность въ томъ, что она хороша.
Она не успѣла дойти до 2-й залы, какъ таблетки ея уже были наполнены именами тѣхъ, съ которыми она танцуетъ, и улыбающіяся при встрѣчѣ ея лица подругъ, очевидно подъ улыбкой скрывающія зависть, говорили ей про ея успѣхъ.
* № 27 (рук. № 15).
Какъ ни любовалась Кити Анной, она не ожидала ее найти столь красивою. Въ особенности простота и спокойствіе ее манеры въ этой бальной суетѣ и бальномъ туалетѣ придавали Аннѣ особенную красоту въ глазахъ Кити. Анна улыбкой встрѣтила Кити, и улыбка эта сказала, что она тоже любуется ею, и пожала ей руку.
Кити видала прежде Анну въ Москвѣ и Петербургѣ въ гостиныхъ и любовалась граціей и ловкостью ея ума, всегда добродушнаго, но эти прелести ума Кити мало цѣнила. Въ этотъ пріѣздъ она особенно полюбила Анну, потому что увидала ее въ совершенно новомъ, задушевномъ быту у сестры; но она никогда не видала ее на балѣ и теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Она ждала ее въ лиловомъ и теперь, увидавъ ее, поняла, что она не могла быть въ лиловомъ, а что ея прелесть состояла въ томъ, что она всегда выступала изъ своего туалета, что туалетъ никогда не могъ быть видѣнъ на ней. И черное платье съ кружевомъ не было видно, была видна одна она.
И Кити, подумавъ о себѣ, побоялась, не давитъ ли ее самою ея розовый воздушный туалетъ, не замѣтенъ ли онъ. Но это было не справедливо. И улыбка Анны сказала ей это. «Charmant»,[686] говорила эта улыбка. Но, кромѣ того, въ бальной, совершенно новой Аннѣ Кити увидала еще новую прелесть — то, что Анна[687] не видѣла, очевидно, ничего веселаго и ничего непріятнаго на балѣ. Не было въ ней ни этаго сіянія, готовности, которое бываетъ у очень молодыхъ выѣзжающихъ и рѣжетъ немного, ни этаго старанія стать выше толпы, этой глупой философіи бальной, которая такъ свойственна некрасивымъ и не recherchées[688] женщинамъ.. Она была спокойна и весела. Тѣмъ, которые хотѣли затѣвать съ ней тонкіе и глубокомысленные разговоры, она легко и весело перерѣзывала нить разговора.[689]
Хозяинъ дома говорилъ съ ней, когда Кити подошла къ ней.
Кипарисовъ наклонился, прося на туръ вальса.
— Давно ли вы здѣсь? — спросила она.
— Мы 3-го дня пріѣхали.
— A Лидія тутъ?
— Да, мы были въ Вѣнѣ, а теперь я ѣду собирать оброки.
— А вы знакомы? — спросилъ хозяинъ.
— Съ кѣмъ мы не знакомы? Мы какъ бѣлые волки, насъ всѣ знаютъ. Туръ вальса.
— Я не танцую, — сказала она, — когда могу не танцовать.
— Надѣюсь, что нынче вы не можете не танцовать.
Въ это время подходилъ Вронскій. Кити замѣтила, что онъ смотрѣлъ на Анну и поклонился ей, но что Анна, хотя и могла видѣть его, быстро подняла руку на плечо Кипарисова и не отвѣтила на его поклонъ, не видавъ его.[690]
Вронскій подошелъ къ ней, напоминая о первой кадрили, и пригласилъ на вальсъ. Приведя ее назадъ, Вронскій опять подошелъ къ Аннѣ и предложилъ вальсъ. Опять Кити показалось странно то, что Анна какъ будто сердито повернулась къ нему и неохотно занесла свойственнымъ ей быстрымъ жестомъ на плечо обнаженную полную руку. Едва они сдѣлали первое движеніе, какъ вдругъ Кипарисовъ на бѣгу захлопалъ въ ладоши, и звуки вальса остановились.
— Ахъ, виноватъ, — закричалъ онъ, увидавъ ихъ, и, рысью выбѣжавъ на середину, закричалъ: — вальсъ!
Вронскiй покраснѣлъ, чего никогда еще не видала Кити, а Анна съ тѣмъ же холоднымъ и недовольнымъ лицомъ поспѣшно отстранилась отъ него.
«За что она недовольна имъ?» подумала Кити.
Послѣ вальса началась 1-я кадриль. И для Кити примѣты сбывались. Она танцовала не переставая. Первая кадриль съ нимъ прошла просто и весело. Онъ объяснилъ нездоровьемъ то, что не былъ въ четвергъ. Въ тѣснотѣ кадрили она и не ждала серьезнаго разговора; но она ждала мазурки и не отдавала ее. Въ одной изъ тѣхъ скучныхъ кадрилей, которыя она танцовала то съ танцующими старыми людьми, не представляющими никакого интереса, то съ юношами, представлявшими еще меньше интереса, она танцовала vis-à-vis съ Вронскимъ и Анной.
* № 28 (рук. № 103).
[691]XIII ... слѣдующая по порядку.
Прямо отъ Щербацкихъ послѣ[692] мучительнаго вечера Левинъ заѣхалъ на телеграфъ и далъ знать къ себѣ въ деревню, чтобы за нимъ выѣхали лошади. Вернувшись къ брату, у котораго онъ стоялъ, онъ зашелъ къ кабинетъ брата,[693] чтобы объявить ему, что онъ завтра ѣдетъ, и прервалъ его въ его занятіяхъ. Братъ сидѣлъ съ двумя свѣчами у письменнаго стола[694] и быстро писалъ. Вокругъ него лежали открытыя книги. Онъ откинулся на спинку кресла и, поднявъ глаза, остановилъ эти свои всегда проницательные глаза на разстроенномъ лицѣ меньшаго брата. Проницательные глаза на этотъ разъ ничего не видали. Лицо старшаго брата было совсѣмъ другое, чѣмъ оно было утромъ: оно осунулось и какъ бы похудѣло; но глаза блестѣли, какъ звѣзды, блестѣли, ничего не видя и не наблюдая.
— Что, ѣдешь? — сказалъ онъ. — Что же такъ? — Онъ, очевидно, забылъ о томъ, когда пріѣхалъ братъ, за чѣмъ, на долго ли, и съ трудомъ старался вспомнить. — Что же, ты кончилъ свои дѣла...
Константинъ Левинъ понялъ, что брату будетъ стоить перерыва мыслей разговоръ его съ нимъ, и потому поспѣшно отвѣтилъ:
— Да, кончилъ. Такъ я соберу оброкъ и пришлю, — сказалъ онъ.
Сергѣй Левинъ вдругъ нагнулся и приписалъ два слова на полѣ бумаги.
— Да, да, благодарствуй, — сказалъ онъ. — Ну, прощай, Костя. Извини меня.
Константинъ Левинъ всталъ и направился къ двери.
— Ахъ да, — сказалъ онъ, останавливаясь. — Гдѣ стоитъ Николинька?
Сергѣй Левинъ нахмурился.
— Не знаю, право, впрочемъ у Прохора лакея есть адресъ. Развѣ ты хочешь его видѣть? Вѣдь ничего не выйдетъ.
— Да, можетъ быть.
— Ну, какъ знаешь. Прощай.
И Константинъ Левинъ ушелъ въ свою комнату укладываться. «Да, что то есть во мнѣ противное, отталкивающее, — думалъ онъ про себя. — И не гожусь я для другихъ людей. Гордость, говорятъ. Нѣтъ, у меня нѣтъ и гордости. — И онъ представлялъ себѣ Удашева, счастливаго, добраго, умнаго и наивнаго, никогда ни въ чемъ не сомнѣвающагося. — Она должна была выбрать его. И такъ и надо».[695]
И онъ чувствовалъ себя несчастнымъ, и съ сознаніемъ своего несчастія, по какому то тайному для него родству чувствъ, соединилось воспоминаніе о братѣ Николаѣ и желаніе видѣть его и помочь ему.[696] «Поѣздъ отходитъ утромъ. Я успѣю съѣздить къ нему». Онъ спросилъ у Прохора адресъ брата Николая и велѣлъ привести извощика.[697]
Утромъ, когда Константинъ Левинъ узналъ о томъ, что братъ Николай здѣсь въ Москвѣ, онъ испыталъ непріятное чувство стыда за погибшаго брата и забылъ о немъ. Онъ зналъ, что дѣйствительно ничего нельзя было сдѣлать. Что двѣ доли состоянія были уже промотаны Николаемъ Левинымъ и что, давая ему еще, братья только бы лишали себя и ему бы не помогли, какъ не наполнили бы бездонную бочку. Кромѣ того Николай Левинъ считалъ себя обиженнымъ братьями и, казалось, ненавидѣлъ братьевъ, и въ послѣднее свиданье, гдѣ ссора произошла преимущественно между Сергѣемъ и Николаемъ (Константинъ только держалъ сторону Сергѣя), Николай, выходя, сказалъ рѣшительно: «Теперь между нами все кончено, и я обоихъ васъ не знаю».[698] Утромъ, когда онъ чувствовалъ себя полнымъ надеждъ,[699] Константинъ Левинъ рѣшилъ самъ съ собою, что вслѣдствіи этаго всего дѣла съ братомъ Николаемъ и ѣздить къ нему нѣтъ никакой надобности. Онъ испытывалъ утромъ только чувство гадливости, какъ будто его изъ свѣта и ясности тянулъ кто то въ нечистоту и грязь, и онъ только отряхнулся и пошелъ своей дорогой; но теперь, вечеромъ, чувствуя себя несчастнымъ, мысль о братѣ Николаѣ, пришедшая ему еще въ сѣняхъ дома Щербацкихъ, не покидала его, и онъ рѣшился употребить нынѣшній вечеръ на то, чтобы отъискать его и попытаться сойтись съ нимъ. Онъ зналъ, что братъ Николай не любилъ Сергѣя, но что его онъ всегда любилъ и что слова его (съ его перемѣнчивымъ характеромъ) ничего не значатъ. А, не смотря на его паденье, Константинъ Левинъ не только любилъ, но уважалъ своего брата Николая и считалъ его однимъ изъ умнѣйшихъ и добрѣйшихъ людей, которыхъ онъ зналъ. Отъискавъ Троицкое подворье, Константинъ Левинъ вошелъ чрезъ грязную дверь съ блокомъ въ грязный корридоръ, и пропитанный табакомъ, вонючій теплый воздухъ охватилъ его.
— Кого вамъ? — спросила развращенная и сердитая женщина.
— Левина.
— 21-й нумеръ.
Дверь 21 № была полуотворена, и оттуда въ полосѣ свѣта выходилъ густой дымъ дурнаго и слабаго табака и слышался не знакомый Константину Левину голосъ; но Константинъ Левинъ тотчасъ же узналъ, что братъ тутъ, онъ услыхалъ его кашель — тонкій, напряженный и сердитый. Онъ вошелъ въ дверь, голосъ непріятный продолжалъ говорить, разсказывая какое то судебное дѣло, какъ добыты слѣдствіемъ улики какія то.
— Ну, чортъ его дери, — сквозь кашель проговорилъ голосъ брата. — Маша! Добудь ты намъ не улики, a поѣсть и водки.
Женщина молодая, рябоватая и не красивая, но очень пріятная, въ простомъ шерстяномъ платьѣ безъ воротничковъ и рукавчиковъ, открывавшихъ пухлую шею и локти, вышла за перегородку и увидала Левина.
— Какой то баринъ, Николай Дмитричъ, — сказала она.
— Кто еще тамъ? — сердито закричалъ голосъ.
— Это я, — сказалъ Константинъ Левинъ, выходя на свѣтъ.
— Кто я?
— Можно тебя видѣть?
— А! — проговорилъ Николай Левинъ, вставая и хмуря свое и такъ мрачное и сердитое лицо. — Константинъ! Что это тебѣ вздумалось. Ну, входи же. Это мой братъ Константинъ меньшiй, — сказалъ онъ, обращаясь къ господину старому, но крашеному и молодящемуся съ стразовой булавкой въ голубомъ шарфѣ.
Константинъ Левинъ съ перваго взгляда получилъ отвращеніе къ этому господину, да и кромѣ самыхъ дрянныхъ людей онъ не ожидалъ никого встрѣтить у брата, и ему, какъ оскорбленіемъ, кольнуло въ сердце, что этому господину братъ, вѣрно, разсказывалъ про ихъ отношенія.
— Это мой адвокатъ, — онъ назвалъ его, — дѣлецъ. Ну, садись, — сказалъ Николай Левинъ, замѣтивъ непріятное впечатлѣніе, произведенное на брата его знакомымъ.
И годъ тому назадъ, когда послѣдній разъ Константинъ видѣлъ брата, Николай былъ не хорошъ и даже страшенъ, но теперь и некрасивость и мрачность, особенно когда онъ былъ золъ, еще увеличились. Маленькій, нескладный ростъ, растрепанная, грязная одежда, не вьющіеся[700] густые висящіе на морщинистый лобъ взлохмаченные волосы, короткая борода, не растущая на щекахъ, усы и брови длинные и висящіе внизъ на глаза и губы, худое, желтое лицо и блестящіе, непріятные по своей проницательности глаза.
— Я нынче пріѣхалъ, узналъ, что ты тутъ, и хотѣлъ...
— Да,[701] отъ лакея Сергѣя Дмитріевича. Ну, да чтобъ ты такъ не бѣгалъ глазами, я тебѣ въ двухъ словахъ объясню, зачѣмъ я здѣсь и кто это. Изъ Кіева я убѣжалъ отъ долговъ, сюда пріѣхалъ получить долгъ съ Васильевскаго, онъ мнѣ долженъ 40 тысячъ по картамъ. Это дѣлецъ, — сказалъ онъ, указывая на господина, — адвокатъ, по мнѣ, понимаешь. Порядочные адвокаты ходятъ къ порядочнымъ, а къ нашему брату такіе же, какъ мы. А это, — сказалъ онъ по французски, указывая на женщину, — моя жена, т. е. не бойся, знаменитое имя Левиныхъ не осрамлено, мы не крутились, а вокругъ ракитаго куста. Я ее взялъ изъ дому, но желаю всѣмъ такихъ женъ. Ну, ступай, Маша. Водки, водки, главное. Ну, теперь видишь, съ кѣмъ имѣешь дѣло. И если ты считаешь, что компрометировался, то вотъ Богъ, а вотъ порогъ.
Константинъ Левинъ слушалъ его, но понималъ не то, что ему говорилъ братъ, а все то, что заставляло его говорить такъ, и внимательно смотрѣлъ ему прямо въ глаза. Николай Левинъ понималъ это; онъ зналъ, какъ братъ одной съ нимъ породы, однаго характера, ума, понималъ насквозь значеніе его словъ, и, видимо,[702] сознаніе того, что онъ слишкомъ понятъ, стало непріятно ему. Онъ повернулся къ адвокату.
— Ну, батюшка, видите, какіе у меня братья, у него 3 тысячи да земель не заложенныхъ, и, видите, мною не брезгаютъ.
— А что же, есть надежда получить эти деньги? — спросилъ Константинъ Левинъ, чтобы вести разговоръ общій, пока не уйдетъ этотъ господинъ.
— Когда я пьянъ, то чувствую надежду, — отвѣчалъ Николай Левинъ, — и потому стараюсь быть всегда пьянъ.
— Полная, Константинъ Дмитричъ, — отвѣчалъ адвокатъ улыбаясь. — Я принялъ мѣры и полагаю...
Константинъ Левинъ не слушалъ адвоката, а оглядывалъ комнату. За перегородкой въ грязной конуркѣ, вѣроятно, спалъ онъ — брать. На диванчикѣ лежала ситцевая подушка, и, вѣроятно, спала она. На ломберномъ столѣ въ углѣ былъ его міръ умственный. Тутъ Константинъ Левинъ видѣлъ тетради, исписанныя его почеркомъ, и книги, изъ которыхъ онъ, къ удивлен(і)ю, узналъ Библію.[703]
— Ну, ему не интересно, — перебилъ его Николай Левинъ, — а вотъ водки — это лучше, — прибавилъ онъ, увидѣвъ входившую Машу съ графинчикомъ и холоднымъ жаркимъ. — Ну что жь ты дѣлаешь, разскажи, — сказалъ онъ, сдвигая карты и патроны со стола, чтобы опростать мѣсто для ужина, и повеселѣвъ уже при одномъ видѣ водки.
— Я все въ деревнѣ живу.
— Ну a Амалія наша (онъ такъ называлъ мачиху) — чтоже, бросила шалить или все еще соблазняется? Какая гадина!
— За что ты ее ругаешь? Она, право, добрая и жалкая старуха.
— Ну, a Сергѣй Дмитричъ все философіей занимается? Вотъ пустомеля то. Я при всей бѣдности издержалъ 3 рубля, взялъ его послѣднюю книгу. Удивительно мнѣ, какъ эти люди могутъ спокойно говорить о философіи. Вѣдь тутъ вопросы жизни и смерти. Какъ за нихъ возьмешься, такъ вся внутренность переворачивается, и видишь, что есть минуты, особенно съ помощью вотъ этаго, — онъ взялъ графинчикъ и сталъ наливать водку, — что есть минуты, когда не то что понимаешь, а вотъ, вотъ поймешь, откроется завѣса и опять закроется, а они, эти пустомели, о томъ, что ели ели на мгновенье постигнуть можно, они объ этомъ пишутъ, это то толкуютъ, то есть толкуютъ, чего не понимаютъ, и спокойно безъ[704] любви, безъ уваженія даже къ тому, чѣмъ занимаются, а такъ, изъ удовольствія кощунствовать.
— Не говори этого. Ты знаешь, что это неправда, — сказалъ Константинъ Левинъ и, видя въ немъ все то же раздраженье и зная, что онъ ни отъ чего такъ не смягчается, какъ отъ похвалы, чтобы смягчить его, захотѣлъ употребить это средство. — Ты знаешь, что это не правда. Разумѣется, есть люди, какъ ты, которыхъ глубже затрагиваютъ эти вопросы и они глубже ихъ понимаютъ.
Но только что онъ сказалъ это, глаза, смотрѣвшіе другъ на друга, запрыгали, замелькали, и Николай Левинъ понялъ, что онъ съ умысломъ сказалъ это. И Константинъ Левинъ замолчалъ.
— Ну и ладно. Хочешь водки? — сказалъ Николай Левинъ и вылилъ жадно одну рюмку водки въ свой огромный ротъ и, облизывая усы, съ такою же жадностью, нагнувшись всѣмъ тѣломъ, взялся за жаркое, глотая огромными кусками, какъ будто у него отнимутъ сейчасъ или что оттого, что онъ съѣстъ или не съѣстъ, зависитъ вся судьба его. Константинъ Левинъ смотрѣлъ на него и ужасался. «Да, вотъ онъ весь тутъ, — думалъ онъ. — Вотъ эта жадность ко всему — вотъ его погибель. Какъ онъ ѣстъ теперь эту спинку сухаго тетерева, такъ онъ все бралъ отъ жизни».
— Ну, да что говорить о другихъ. Ты что же дѣлаешь въ деревнѣ? — сказалъ Николай Левинъ. Онъ выпилъ еще водки, и лицо его стало менѣе мрачно. — Ну съ, Михаилъ Вакулычъ, прощайте. Приходите завтра, а я съ нимъ поболтаю, — сказалъ онъ адвокату и, вставъ, еще выпилъ водки и вышелъ съ нимъ за дверь.
Слѣдующая по порядку XIII.
— Что, вы давно съ братомъ? — спросилъ Константинъ Левинъ Марью, сидѣвшую у окна и курившую папиросу.
— Второй годъ, — сказала она вспыхнувъ и поторопилась сказать, откуда онъ взялъ ее. — Здоровье ихъ не хорошо, а вонъ все, — она показала глазами на водку.
И Константинъ Левинъ, не смотря на то, что онъ только нынче утромъ говорилъ, что для него нѣтъ падшихъ созданій, а с...., онъ почувствовалъ удовольствіе отъ того, что эта с..... чутьемъ поняла, что онъ любитъ брата, и какъ бы приняла его въ свои сообщники. Въ ней было такъ много простоты[705] и любви къ этому человѣку, что ему пріятно было съ нею понимать другъ друга.
— Что, съ моей женой знакомишься? Славная дѣвка, — сказалъ Николай Левинъ, ударивъ ее по плечу. — Ну, теперь мы одни. Разсказывай про себя. Не велятъ намъ наши умники признавать родство по роду, а я вотъ[706] тебя увидалъ, что то іокнуло. Выпей же. Въ этомъ не одна veritas,[707] а мудрость вся. Ну, разсказывай про себя, что ты дѣлаешь.
Константинъ Левинъ разсказалъ свои занятія хозяйствомъ, потомъ земствомъ и свои разочарованія. Николай Левинъ расхохотался дѣтскимъ смѣхомъ.
— Это хорошо. Это значитъ, что ты лгать не можешь. Вѣдь все это вранье, игрушки и перетасовка все того же самаго, самаго стараго и глупаго. Одинъ законъ руководитъ всѣмъ міромъ и всѣми людьми, пока будутъ люди. Сильнѣе ты другаго — убей его, ограбь, спрячь концы въ воду, и ты правъ, а тебя поймаютъ, тотъ правъ. Ограбить однаго нельзя, a цѣлый народъ, какъ нѣмцы французовъ, можно. И тотъ, кто видитъ это, чтобы пользоваться этимъ, тотъ негодяй, а тотъ, кто видитъ это и не пользуется, a смѣется, тотъ мудрецъ, и я мудрецъ.
Но странное дѣло, Константинъ Левинъ, слушая его, слушая то самое, что онъ самъ иногда думалъ, не только не утверждался въ этихъ мысляхъ, но, напротивъ, убѣждался, что смотрѣть на міръ такъ нельзя, что это болѣзнь. Въ глазахъ его брата весь міръ было такое безобразіе, что страшно было жить въ немъ, и понятно, что спастись отъ него можно было только въ забвеніи. Онъ сталъ возражать ему, но Николай Левинъ не далъ говорить ему.
— Нѣтъ, братъ, не порть себя, вѣдь не увѣришь себя въ томъ, чему не вѣришь. Не знаю, что изъ тебя выйдетъ, — продолжалъ онъ съ улыбкой (онъ рѣдко улыбался, но улыбка его была чрезвычайно пріятна), — не настолько у тебя запаса есть, что пустомелей ты не будешь, а это хуже всего. Спиться, какъ я, тоже не хорошо, противно, какъ я самъ себѣ бываю, и рѣшительно не знаю, куда тебя вынесетъ. Нечто вотъ эта, — сказалъ, онъ указывая на Машу. — Эти умѣютъ жить во всемъ этомъ сумбурѣ, у нихъ все глупо и ясно. Выпей, Маша. Или нѣтъ, не пей.
— Ты думаешь? — сказалъ Константинъ Левинъ краснѣя, — что женитьба...
— Да, на міру смерть красна. Выводить людей, чтобы вмѣстѣ горе дѣлить на этомъ дурацкомъ свѣтѣ.
— Но ты мнѣ про себя разскажи, — сказалъ Константинъ Левинъ. Константину тяжело было это воззрѣніе на міръ, а онъ не могъ не раздѣлять его. — Про себя скажи, что ты дѣлалъ и дѣлаешь? Не могу ли я?
Онъ не договорилъ, потому что блѣдное лицо Николая покраснѣло.
— Ты ужъ не любезничай, пожалуйста, дружокъ. Я васъ ограбилъ, ужъ это я знаю, и сказалъ и скажу, что больше я гроша отъ васъ не возьму, да я и по природѣ бездонная кадка. Это я сказалъ и скажу, — заговорилъ онъ съ злостью, — что если бы мнѣ дали тогда мою часть, когда мнѣ нужна была, вся бы жизнь моя была другая.
Эта мысль и упрекъ, который онъ дѣлалъ Сергѣю Левину за то, что ему не дали его части, когда онъ ее требовалъ, было его больное мѣсто. Константинъ Левинъ зналъ, что это было несправедливо и что онъ всегда, раздражаясь, говорилъ про это. И теперь все выраженіе лица его измѣнилось, и онъ не замѣчалъ, что то, что онъ говорилъ, было непослѣдовательно и не логично, потому что какая же могла быть его жизнь, когда онъ вообще считалъ всякую жизнь безсмыслицей и себя по природѣ бездонной кадкой. Но, напавъ разъ на эту тему, онъ много и долго и желчно говорилъ, особенно упрекая брата Сергѣя въ его безсердечности.[708]
— Ты знаешь, за что онъ ненавидитъ меня.
— Вопервыхъ, не только не ненавидитъ, но любитъ.
— Ужъ позволь мнѣ знать, ненавидитъ за то, что я нахожу, что всѣ его сочиненія написаны прекраснымъ языкомъ, но вода, и за то, что говорилъ ему это. — Но Константинъ Левинъ съ трудомъ могъ сбить его съ этой темы. — Ну, хорошо, оставимъ. Чтоже тебѣ про меня знать? Таже исторія. Въ Кіевѣ лроигралъ все, занялъ, не отдалъ.
— Но сколько?
— Ахъ, все равно, и если заплачу и если не заплачу. Я давно сказалъ, что вы за меня не отвѣтчики. Ну, имя ваше я въ грязи таскаю. Ну, это не бѣда. Пожалуй, я назовусь Левинскимъ. Одно утѣшительно — это то, что когда мы оба умремъ и на томъ свѣтѣ вспомнимъ съ Сергѣемъ Дмитріевичемъ, какъ онъ обижался на меня за то, что я имя его въ грязи таскаю. Ну вотъ увидишь, что мы тамъ никакъ не будемъ въ состояніи понять, что такое это должно означать, — сказалъ онъ, какъ и всегда отвлекая разговоръ отъ себя.
— Да этакъ, пожалуй, мы тамъ и не поймемъ, что такое значитъ, что мы братья.
— Нѣтъ, — визгливо и широко раскрывая ротъ, прокричалъ Николай Левинъ, — Нѣтъ, это мы поймемъ, и многое еще поймемъ. Мы поймемъ все настоящее, коренное, — заговорилъ онъ восторженно, блестя глазами изъ лица, которое теперь было совершенно другое, чѣмъ то, которое увидалъ Константинъ Левинъ, войдя въ комнату. Теперь это было вдохновенно-прелестное лицо, каждое движеніе этаго лица приковывало къ себѣ вниманіе. Вообще въ эту минуту, послѣ 5-ти рюмокъ водки, Николай Левинъ находился въ самомъ выгодномъ моментѣ своего пьянства. Мысли еще своимъ обиліемъ не затемняли слова, и языкъ дѣйствовалъ еще послушно. Нѣтъ, все das Echte[709] мы и тамъ поймемъ, оно вездѣ одно. Мы поймемъ то, что насъ съ тобою связываетъ, то, зачѣмъ ты пріѣхалъ сюда ко мнѣ, да, вотъ этотъ твой взглядъ, old boy,[710] — сказалъ онъ, замѣтивъ, какъ слезы выступали на глаза брата, — вотъ это, — сказалъ онъ, указывая на Машу, — то, что насъ связываетъ, связало съ ней. Вотъ съ этой б....., да.
— Вы бы поменьше пили, Николай Дмитричъ, — сказала Маша, вызванная этимъ обращеніемъ.
— Да ты думаешь, она ничего непонимаетъ? Она все это понимаетъ лучше всѣхъ насъ. А что, вѣдь не похожа она на б....., и правда, что есть въ ней что то хорошее, милое, — сказалъ онъ.
— Вы, я думаю удивляетесь на него, — сказалъ Константинъ Левинъ, чтобы сказать что нибудь.
— Да не говори ей «вы». Она боится. Ей, кромѣ Мироваго Судьи, когда ее судили за воровство, котораго она не крала, кромѣ Мироваго Судьи, никто не говорилъ «вы». Да, братъ, то, что меня съ ней связываетъ, то, что мы съ ней при свѣтѣ нашей любви видимъ другъ въ другѣ, это останется. Останется то, что меня связываетъ вотъ съ этимъ, — онъ указалъ на книги. — Ты знаешь, я что дѣлаю. Я перевожу Библію. Вотъ книга.
И онъ сталъ объяснять свой взглядъ на нѣкоторыя любимыя его книги, особенно книгу Іова. Но скоро языкъ его сталъ мѣшаться, и онъ сталъ перескакивать съ однаго предмета на другой, и Константинъ Левинъ уѣхалъ отъ него, попросивъ Машу извѣщать его о состояніи его здоровья и, главное, если нужны будутъ деньги. Онъ и теперь хотѣлъ передать ей тайно отъ него 100 рублей, но она не взяла, сказавъ, что утаить нельзя, а сказать — онъ разсердится.
* № 29 (кор. №109).
И въ воображеніи Левина мгновенно одно за другимъ возникли тѣ отмѣченныя въ его воспоминаніи «сомнительными» событія изъ жизни брата Николая.
Онъ избилъ до полусмерти мальчика, котораго онъ взялъ изъ деревни и воспитывалъ, готовя въ университетъ, такъ что мать мальчика подала жалобу на Николая Левина.
Это гадко, но надо знать страстность, неудержимость его характера и вмѣстѣ всегда единственный двигатель всѣхъ его дѣйствій — безкорыстное увлеченіе добромъ.
Онъ проигралъ деньги шулеру и, не платя денегъ, подалъ прошеніе на шуллера, доказывая, что тотъ его обманулъ, и, разумѣется, не доказалъ. Все это было гадко, глупо. Но надо было знать брата Николая, чтобы понимать, какъ въ его понятіи нельзя было отдать плуту деньги, которыя онъ желалъ употребить не для себя, а съ пользой для другихъ. Онъ попадался полиціи въ безобразныхъ кутежахъ и буйствахъ, которыя были отвратительны; но Константинъ Левинъ зналъ, что въ эти кутежи и буйства Николая вовлекали окружавшіе его люди, а что Николай Левинъ былъ лишенъ способности понимать разницу между хорошими и дурными людьми. У него всѣ были хороши. И зналъ, что кутежи эти вытекали изъ потребности забыться. А забыться нужно было отъ того, что жизнь не удовлетворяла тѣмъ требованіямъ, которыя мучали его. A требованія были самыя высокія. Онъ неправильно обвинялъ Сергѣя Ивановича въ томъ, что тотъ не далъ ему продать общее имѣніе и взять свою половину для какой то химической фабрики, которую онъ хотѣлъ завести и которая должна была осчастливить и обогатить цѣлую губернію.
Константинъ Левинъ зналъ, что Николай былъ кругомъ виноватъ въ этомъ столкновеніи, несправедлив, озлобленъ, но Константинъ Левинъ зналъ тоже, что счеты между двумя старшими братьями велись давнишніе и что логически Николай Левинъ былъ кругомъ виноватъ и не правъ въ томъ, въ чемъ онъ обвинялъ Сергѣя Иваныча, но вообще онъ имѣлъ основаніе для озлобленія и только потому былъ неправъ, что не могъ, не умѣлъ или не хотѣлъ указать, въ чемъ именно виноватъ Сергѣй Иванычъ передъ нимъ, а винъ этихъ было много — маленькихъ, ничтожныхъ, но жестокихъ оскорбленій — насмѣшки, умышленнаго непониманія и презрѣнія. Константинъ Левинъ помнилъ, какъ въ то время, когда Николай былъ въ періодѣ внѣшней набожности, постовъ, монаховъ, службъ церковныхъ, Сергѣй Иванычъ только смѣялся надъ нимъ, какъ потомъ, когда Николай кончилъ курсъ и поѣхалъ въ Петербургъ служить, по адресному календарю выбравъ мѣсто — Отдѣленіе составленія законовъ, какъ самую разумную дѣятельность, какъ Сергѣй Иванычъ, имѣвшій связи и вѣсъ уже тогда,[711] выставлялъ своего брата какъ чудака и младенца. Была и доля зависти Николая къ успѣху Сергѣя Иваныча, думалъ Константинъ Левинъ и понималъ, что, какъ честная натура, не признавая въ себѣ этой зависти, Николай придумывалъ причины озлобленія противъ Сергѣя Иваныча. Болѣе же всего — это очень хорошо понималъ Константинъ Левинъ — братъ Николай былъ озлобленъ и на Сергѣя Иваныча и на общество за то, что и Сергѣй Иванычъ и весь міръ были логически правы, отвергая и презирая его; a вмѣстѣ съ тѣмъ, не смотря на свою нелогичность, онъ чувствовалъ, что онъ въ душѣ своей, въ самой основѣ своей души, и правѣе и лучше[712] Сергѣя Иваныча и тѣхъ, кто составляютъ общественное мнѣніе. Ту высоту, съ которой погибавшій братъ Николай презиралъ общество и Сергѣя Иваныча, Константинъ Левинъ особенно живо понималъ и чувствовалъ теперь. Разсужденіе его началось съ униженія, съ признанія себя недостойнымъ и дурнымъ, и кончилось тѣмъ, что онъ хотѣлъ примкнуть къ той точкѣ зрѣнія брата Николая, съ которой можно презирать тѣхъ, передъ которыми онъ считалъ себя дурнымъ.
Узнавъ отъ Прокофья адресъ брата, Левинъ пріѣхалъ въ 11-мъ часу въ[713] гостинницу, гдѣ стоялъ его братъ. Левинъ замѣтилъ, что швейцаръ измѣнилъ тонъ почтительности, когда онъ спросилъ Левина.
— Наверху, 12-й и 13-й, — сказалъ швейцаръ.
— Дома?
— Должно, дома.
Дверь 12 нумера была полуотворена, и оттуда въ полосѣ свѣта выходилъ густой дымъ дурнаго и слабаго табака, и слышался незнакомый Левину голосъ; но Левинъ тотчасъ же узналъ, что братъ тутъ, онъ услыхалъ его покашливанье, и при этомъ звукѣ передъ его воображеніемъ возникъ образъ брата, какимъ онъ его видѣлъ въ послѣдній разъ съ его большимъ, нескладнымъ ростомъ и большими, наивными и дикими глазами, которые могли смотрѣть такъ соблазнительно нѣжно и такъ страшно жестоко.
Онъ вошелъ въ дверь, незнакомый голосъ говорилъ:
— Наша артель только потому не могла дать желаемыхъ результатовъ, что капиталы старались задавить ее, какъ враждебное явленіе...
Константинъ Левинъ заглянулъ въ дверь и увидалъ взъерошеннаго молодого человѣка въ поддевкѣ, который говорилъ, брата, сидѣвшаго спиной, и какую то женщину. У него больно сжалось сердце при мысли о томъ, въ средѣ какихъ чужихъ людей живетъ его братъ, и еще больнѣе стало, когда онъ изъ разговора человѣка въ поддевкѣ понялъ, что это былъ соціалистъ. Онъ не давалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, что[714] этотъ соціалистъ былъ самымъ рѣзкимъ признакомъ погибели брата, что, какъ воронья надъ тѣломъ, такъ близость этаго рода людей показываетъ смерть, но онъ почувствовалъ это. Онъ стоя слушалъ.
— Ну, чортъ ихъ дери, — прокашливаясь проговорилъ голосъ брата. — Маша! Добудь тъ намъ поѣсть и водки.
Молодая женщина, рябоватая и некрасивая, въ простомъ шерстяномъ платьѣ безъ воротничковъ и рукавчиковъ, открывавшихъ пухлую шею и локти, вышла за перегородку и увидала Левина.
— Какой-то баринъ, Николай Дмитричъ, — сказала она.
— Кого нужно? — сердито закричалъ Николай Левинъ.
— Это я, — сказалъ Константинъ Левинъ, выходя на свѣтъ, и хотѣлъ еще сказать что то, но остановился, увидавъ брата. Онъ не ожидалъ его такимъ.[715]
— Кто я? — еще сердитѣе вскрикнулъ Николай Левинъ, не узнавая еще брата, и сдѣлалъ столь знакомое Константину Левину судорожное движение головой и шеей, какъ будто галстукъ жалъ его.
Константинъ Левинъ зналъ, что это движеніе есть признакъ самаго дурнаго расположенія духа, и со страхомъ ждалъ, какъ приметъ его братъ, когда узнаетъ.
— А, Костя! — вдругъ неожиданно радостно вскрикнулъ онъ, глаза его засвѣтились нѣжностью, и [онъ] двинулся къ нему, чтобы его обнять. Но потомъ опять оглянулся на молодаго человѣка, сдѣлалъ опять судорожное движеніе головой и остановился, и совсѣмъ другое, дикое и[716] страдальческое и жестокое выраженіе остановилось на его худомъ лицѣ.
— Я писалъ вамъ и Сергѣю Иванычу, что я васъ не знаю. Вы меня стыдитесь и ненавидите, и я васъ не хочу знать. Что тебѣ, что вамъ нужно?
Какъ онъ совсѣмъ не такой былъ, какимъ его воображалъ Константинъ Левинъ! Какъ многое изъ его характера, изъ того, что дѣлало столь труднымъ общеніе съ нимъ, какъ все это забылъ Константинъ Левинъ и какъ онъ все это мучительно вспомнилъ, когда увидалъ его лицо и въ особенности это судорожное поворачиванье головы. Но Левинъ не думая отвѣтилъ, что ему пришло въ голову.
— Мнѣ нужно тебя видѣть, потому что ты мой братъ, и я тебя не стыжусь и не ненавижу, а я тебя... — Онъ остановился, съ радостью увидавъ, что слова эти подѣйствовали на брата.
Николай дернулся губами.
— А, ты такъ, — сказалъ онъ смутившись. Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, 3 порціи принеси. Постой, Маша. Ты знаешь, — сказалъ онъ, указывая на господина въ поддевкѣ съ лохматой шапкой волосъ. — Это г-нъ Крицкій, мой сосѣдъ по нумеру и мой другъ. Очень замѣчательный человѣкъ. Его, разумѣется, преслѣдуетъ полиція, потому что онъ не подлецъ. А это мой братъ — не Кознышевъ, quasi-философъ, а Константинъ.
— Я пойду, — робко прошептала женщина отъ дверей.
— Нѣтъ, постой, я сказалъ, — крикнулъ онъ.
И съ тѣмъ практическимъ неумѣньемъ и съ той нескладностью разговора, которую такъ зналъ Константинъ, онъ, не отпуская Машу, сталъ разсказывать Константину Левину всю исторію Крицкаго; какъ его выгнали изъ университета за то, что[717] онъ завелъ общество вспомоществованія бѣднымъ студентамъ и воскресныя школы, и какъ потомъ онъ поступилъ въ народную школу учителемъ и его оттуда выгнали, и какъ онъ завелъ производительную артель и его за это то судили. Всѣ молчали. Онъ одинъ говорилъ. И Константинъ Левинъ видѣлъ, что онъ сердится за то, что и ему, и Крицкому, и Машѣ неловко.
— Да, я слышалъ, вы разсказывали сейчасъ про артель, — сказалъ онъ Крицкому.
— Я ничего не разсказывалъ, — насупившись, сердито проговорилъ Крицкій.
— Ну, постой, — перебилъ Николай Левинъ, — а эта женщина, — сказалъ онъ брату, указывая на Машу, — моя подруга жизни. Я взялъ ее изъ дома. — Онъ покраснѣлъ, говоря это. — Но люблю ее и уважаю и всѣхъ, кто меня хочетъ знать, прошу любить и уважать ее. Она все равно что моя жена. Все равно. Такъ вотъ ты знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло. И если думаешь, что ты унизишься, то вотъ Богъ, а вотъ порогъ.
— Отчего же я унижусь, я не понимаю.
— Ну, хорошо.
Николай перевелъ глаза съ Крицкаго на брата и улыбнулся своей дѣтской, наивной улыбкой.
— Вы не дичитесь его, — сказалъ онъ Крицкому. — Онъ это можетъ понять, разскажите ему нашъ планъ.
— Да я нисколько не дичусь, а только не вижу надобности разсказывать то, что можетъ быть неинтересно.
— Ты видишь ли, — заговорилъ Николай, съ усиліемъ морща лобъ и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить все, что нужно и хотѣлось ему сказать брату. — Вотъ видишь ли, — онъ указалъ въ углѣ комнаты какіе то желѣзные брусья, завязанныя бичевками въ бумагѣ, очевидно изъ лавки. — Видишь ли это? — Это матерьялъ для нашей артели. Комунисты — пошлое слово, а, какъ я ихъ понимаю, это апостолы. Они то самое, что были первые христіяне. Они проповѣдуютъ равенство.
— Да, но только съ той разницей — отвѣчалъ Константинъ Левинъ, которому не нравился вообще Крицкій[718] и въ особенности не нравился потому, что его сближеніе съ братомъ показывало ему очевиднѣе всего паденіе брата, — да, но съ той разницей, что первые христіяне признавали одно орудіе — любовь и убѣжденіе; а, сколько я понимаю,[719] проповѣдники комунисты признаютъ и требуютъ насиліе,[720] — нѣсколько сердито заговорилъ братъ. — Свобода и равенство.
Константинъ Левинъ замолчалъ, видя, что возраженіе раздражаетъ брата. Притомъ вопросъ комунизма не интересовалъ его вообще и теперь еще менѣе, чѣмъ когда либо. Онъ вглядывался въ наружность брата и думалъ, какъ бы сойтись и помочь ему. Для него было несомнѣнно, что братъ не могъ интересоваться комунизмомъ, но что это была та высота, съ которой онъ, презираемый всѣми, старался презирать всѣхъ.
— Я съ своей стороны, — сказалъ Крицкій, — вовсе не утверждалъ, чтобы мы были подобны первымъ христіанамъ. Я, признаюсь вамъ, и не знаю, что они проповѣдывали, да и нe хочу знать, — сказалъ онъ съ улыбкой, злой и враждебной, напоминавшей выраженіе собаки, показавшей зубы. — И мы предоставляемъ проповѣдывать любовь тѣмъ, которые довольны существующимъ порядкомъ вещей. А мы признаемъ его прямо уродливымъ и знаемъ, что насиліе побѣждается только насиліемъ.[721]
Константинъ Левинъ смотрѣлъ на Крицкого и перемѣнилъ объ немъ свое мнѣніе. Онъ понравился ему: было что то напряженно честное и искреннее и, главное, огорченное и въ его выраженіи и въ его тонѣ. Но онъ не сталъ возражать ему. Самый вопросъ не интересовалъ его. Его интересовало только отношеніе къ нему брата.
* № 30 (рук. № 103).
XVIII.
Утромъ Константинъ Левинъ выѣхалъ изъ Москвы и къ вечеру пріѣхалъ. Дорогой, въ вагонѣ, онъ разговаривалъ съ сосѣдями о политикѣ, о послѣднихъ книгахъ, о знакомыхъ, и тоска и недовольство собой все точно также мучали его, какъ и въ Москвѣ, но когда онъ вышелъ на своей станціи, увидалъ криваго кучера Игната съ поднятымъ воротникомъ кафтана, когда увидалъ въ неяркомъ свѣтѣ, падающемъ изъ оконъ станцiи, свои ковровыя сани, своихъ лошадей съ подвязанными хвостами, въ сбруѣ съ кольцами и махрами, когда кучеръ Игнатъ, еще въ то время, какъ укладывались, разсказалъ ему важнѣйшія деревенскія новости о перевозѣ изъ сушилки гречи и о томъ, что отелилась Пава, онъ почувствовалъ, что понемногу переносится въ другой міръ, въ такой, въ которомъ совсѣмъ другая оцѣнка радостей и горестей. Это онъ почувствовалъ при одномъ видѣ Игната и лошадей, но когда онъ надѣлъ привезенный ему тулупъ и сѣлъ, закутавшись, въ сани, когда тронулся, поглядывая на пристяжную, знакомую ему, бывшую верховой, донскую, надорванную, но лихую лошадь, онъ вдругъ почувствовалъ успокоеніе и совершенно иначе сталъ понимать то, что съ нимъ случилось. Онъ не чувствовалъ болѣе униженья, стыда, недовольства собой. Онъ чувствовалъ себя собой и другимъ не хотѣлъ быть.
По славной дорогѣ прокативъ въ 40 минуть 11-ть верстъ до деревни, онъ засталъ еще старушку мачиху, жившую съ нимъ въ деревнѣ, не спящей. Изъ оконъ ея комнаты падалъ свѣтъ на снѣгъ площадки передъ домомъ. Кузьма, услыхавъ колокольчикъ, выбѣжалъ на крыльцо. Левинъ вошелъ. Лягавая сука Ласка визжала, терлась, поднималась и хотѣла и не смѣла положить переднія лапы ему на грудь.
Мачиха вышла на площадку лѣстницы и, удивленная неожиданнымъ скорымъ возвращеніемъ пасынка, спросила, что случилось:
— Отъ чего ты такъ скоро?
— Ничего, maman, соскучился. Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше, — отвѣчалъ онъ ей. — Сейчасъ приду, все вамъ разскажу, только переодѣнусь.
Мачиха вернулась къ себѣ и съ своей сожительницей Натальей Петровной, ожидая Костю, по своему принялась обсуждать причину его скораго возвращенія.
Не смотря на то, что Левинъ не говорилъ своей мачихѣ о своихъ намѣреніяхъ, она съ Натальей Петровной почти всякій разъ предполагала, что онъ ѣдетъ въ Москву жениться, и со страхомъ ожидала новой хозяйки.
— Можетъ быть, все покончилъ и образовался, да и пріѣхалъ все собирать.
— Вы вѣчно все глупости выдумываете, — отвѣчала мачиха. — Просто кончилъ дѣло.
Между тѣмъ Левинъ прошелъ въ кабинетъ. Кабинетъ медленно освѣтился принесенной свѣчой, выступили знакомыя подробности: оленьи рога, полки съ книгами, зеркало печи съ отдушниками, которую давно надо починить, диванъ, большой столъ, на столѣ начатая открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь съ его почеркомъ. Онъ прочелъ: «Тепло есть сила, но сила есть тепло. Чтоже мы выиграли?» Прочелъ онъ свои замѣтки о книгѣ, которую онъ читалъ. Потомъ онъ подошелъ къ углу, гдѣ у него стояли двѣ пудовыя гири и гимнастически поднялъ ихъ, разминаясь. За дверью заскрипѣли женскіе шаги. Онъ поспѣшно поставилъ гири. Вошла дѣвушка отъ мачихи, предлагая чаю. Онъ покраснѣлъ, увидавъ ее.
«Я думалъ, что это кончено», сказалъ онъ себѣ.
— Сейчасъ приду на верхъ, — отвѣчалъ онъ.
И быстро переодѣлся и побѣжалъ на верхъ, но по дорогѣ встрѣтилъ его прикащикъ.
Прикащикъ принесъ письма, бумаги и разсказалъ, что гречу не привезли изъ сушилки, не смотря на то, что это было приказано сдѣлать въ день отъѣзда. Левину стало досадно, и онъ сдѣлалъ выговоръ прикащику. Но было одно важное и радостное событіе: это было то, что отелилась Пава, лучшая, дорогая корова (Игнатъ не умѣлъ сказать, бычка или телку отелила Пава). Она отелила телку.
— Кузьма, дай тулупъ. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну, — сказалъ онъ прикащику.
Скотная конюшня для дорогихъ коровъ была сейчасъ за домомъ. Пройдя черезъ дворъ мимо сугроба у сирени, онъ подошелъ къ конюшнѣ. Пахнуло навознымъ теплымъ паромъ, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленныя непривычнымъ свѣтомъ фонаря, зашевелились по свѣжей соломѣ. Мелькнула гладкая, чернопѣгая, широкая спина Голландки; Беркутъ, быкъ, лежалъ съ своимъ кольцомѣ въ губѣ и хотѣлъ было встать, но раздумалъ и только пыхнулъ раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, какъ гипопотамъ, Пава, задомъ повернувшись, заслоняла отъ входившихъ теленка и стала обнюхивать его. Левинъ вошелъ въ денникъ по свѣжей соломѣ, оглядѣлъ Паву и поднялъ краснопѣгаго теленка на его шатающіяся длинныя ноги. Взволнованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левинъ подвинулъ къ ней телку, тотчасъ же начавшую снизу вверхъ поталкивать подъ пахъ мать, и стала лизать ее шаршавымъ языкомъ.
— Да сюда посвѣти, Федоръ, сюда фонарь, — говорилъ Левинъ, оглядывая телку. — Въ мать, даромъ что мастью въ отца. Очень хорошо! Вотъ это будетъ корова! Василій Федоровичъ, вѣдь хороша? — обращался онъ къ прикащику, совершенно примиряясь съ нимъ за гречу подъ вліяніемъ радости за телку.
— Въ кого же дурной быть?
— Ну, хорошо, теперь ступайте, и я домой пойду.
Онъ[722] вернулся домой въ самомъ веселомъ расположеніи духа.[723] Онъ подсѣлъ къ мачихѣ, разсказалъ ей про брата Сергѣя, про Николая не говорилъ, зная, что она не любитъ его; потомъ посмѣшилъ ее, зная, что она это любила, сдѣлалъ съ ней 12-ть спящихъ дѣвъ, любимый ея пасьянсъ, принимая въ немъ живѣйшее участіе, и усѣлся на большомъ креслѣ въ ея комнатѣ съ книгой и стаканомъ чая на маленькомъ столикѣ, то читая, то вступая въ разговоръ, который вела мачиха съ Натальей Петровной.
Кромѣ дѣла по своему и братниному хозяйству, у Левина всегда бывало свое умственное дѣло. Онъ кончилъ курсъ по Математическому факультету, и одно время страстно занимавшая его математика давно уже ему опротивѣла, но естественныя, историческія и философскія науки поперемѣнно интересовали его. Безъ всякой связи и послѣдовательности онъ бросался съ страстью, съ которой онъ все дѣлалъ, то въ изученіе одной, то другой стороны знанія. Учился, читалъ, доходилъ то того, что все это вздоръ, и бросалъ и брался за другое. Теперь онъ былъ въ періодѣ физическихъ занятій. Его занимали вопросы электричества и магнетизма. Онъ читалъ Тиндаля и, взявъ книгу, вспомнилъ весь свой ходъ мыслей, свои осужденія Тиндалю за его самодовольство, ловкость и усовершенствованія произведенія опытовъ и отсутствіе философской подкладки. «И потомъ онъ все вретъ о кометахъ, но красиво. Да, — вдругъ всплывала радостная мысль, — черезъ два года, можетъ быть, вотъ что у меня въ стадѣ: двѣ голландки, сама Пава еще можетъ быть жива, 12-ть молодыхъ Беркутовыхъ дочерей. Да подсыпать на казовый конецъ этихъ трехъ — чудо!»
Онъ опять взялся за книгу.
«Ну, хорошо, электричество и тепло — одно и тоже, но возможно ли въ уравненіи для рѣшенія вопроса подставить одну величину вмѣсто другой? Нѣтъ. Ну, такъ чтоже! Связь между всѣми силами природы чувствуется инстинктомъ.[724] А всетаки пріятно. Да, особенно пріятно, какъ Павина дочь будетъ уже краснопѣгой коровой, и все стадо, въ которое подсыпать этихъ трехъ. Отлично! Да, что то тяжко было въ Москвѣ. Ну, что же дѣлать. Я не виноватъ».
Старая Ласка, еще несовсѣмъ переварившая радость его пріѣзда и бѣгавшая, чтобы полаять на дворѣ, вернулась, махая хвостомъ, и, внося съ собой запахъ воздуха, подошла къ нему, подсунула голову подъ его руку, жалобно подвизгивая, требуя, чтобъ онъ поласкалъ ее. И когда онъ поласкалъ, она тутъ же, у ногъ его, свернулась кольцомъ, положивъ голову на заднія пазанки. И въ знакъ того, что теперь все хорошо и благололучно, слегка раскрыла ротъ, почмокала губами и, лучше уложивъ около старыхъ зубъ липкія губы, затихла въ блаженномъ спокойствіи.
Левинъ внимательно слѣдилъ за этимъ послѣднимъ ея движеніемъ.
«Такъ то и я!» сказалъ онъ себѣ, думая о томъ, что было въ Москвѣ, и дѣйствительно онъ чувствовалъ успокоеніе. Онъ въ первый разъ теперь былъ въ состояніи ясно понять и прочувствовать то, что съ нимъ было, все, что онъ потерялъ, и ему было грустно, очень грустно, но грусть эта была спокойная.
Левинъ едва помнилъ свою мать, память о ней была для него самымъ священнымъ воспоминаніемъ, и будущая жена его должна была быть въ его воображеніи повтореніемъ того прелестнаго священнаго идеала женщины, которымъ была для него мать.
Для Левина любовь была совсѣмъ не то, что она была для Степана Аркадьича и для большинства его знакомыхъ. Первое отличіе его любви уже было то, что она не могла быть запрещенная, скрывающая и дурная. У него было то запрещенное и скрываемое, что другіе называли любовь. Но для него это было не любовь, но стыдъ, позоръ, вѣчное раскаяніе. Его любовь, какъ онъ понималъ ее, не могла быть запрещенною, но была высшее счастье на землѣ, поэтому она должна стоять выше всего другаго. Все другое, мѣшающее любви, могло быть дурное, но не любовь. И любовь къ женщинѣ онъ не могъ представить себѣ безъ брака. Его понятія о женитьбѣ поэтому не были похожи на понятія Степана Аркадьича и другихъ, для которыхъ женитьба была одно изъ многихъ общежительныхъ дѣлъ; для Левина это было одно высшее дѣло, отъ котораго зависѣло все счастье жизни.
Въ юности его мечты о женитьбѣ были общія, неопредѣленныя, но съ того времени, какъ онъ, вернувшись изъ-за границы, узналъ Кити взрослой дѣвушкой, мечты эти слились съ любовью къ одной женщинѣ, которая одна отвѣчала его требованіямъ и сама собой становилась на то мѣсто идеала женщины, которое занимала мать. Чувство это, несмотря на сомнѣнія въ себѣ, страхъ отказа, росло и росло и достигло своей высшей ступени въ то время, какъ онъ поѣхалъ въ Москву. У чувства этаго была уже длинная исторія. Тысячи сценъ съ нею, самыхъ чистыхъ и невинныхъ (его любовь такъ была далека отъ чувственности, что онъ часто боялся, что у него не будетъ дѣтей), тысячи сценъ, гдѣ она то утѣшала и ласкала его (воображеніе его постоянно путало будущую жену съ бывшей матерью), то была веселой подругой и товарищемъ, то была матерью его дѣтей (онъ представлялъ себѣ уже взрослыхъ, не менѣе 5-ти лѣтъ, дѣтей и много мальчиковъ и дѣвочекъ), то была, и это чаще всего, благодѣтельницей крестьянъ и образецъ добродушія и кротости для всѣхъ окружающихъ. Тысячи такихъ сценъ были прожиты съ нею и прожиты имъ съ нею по нѣскольку разъ этой жизнью воображенія. Нѣкоторыя слова даже по нѣскольку разъ уже были сказаны (все въ этой воображаемой жизни имъ и ею). Много сновъ съ нею повторялись уже. И теперь со всѣмъ этимъ должно было разстаться.
[725]И несмотря на то,[726] услыхавъ чмоканье уложившей губы собаки, сидя на своемъ креслѣ съ книгой и слушая лепетъ мачихи съ Натальей Петровной, онъ сказалъ себѣ: «такъ то и я», и почувствовалъ успокоеніе.
* № 31 (рук. № 16).
На другой день бала Анна Аркадьевна рано утромъ послала мужу телеграмму, извѣщающую о своемъ выѣздѣ въ тотъ же день, несмотря на то что она[727] намѣревалась пріѣхать только на другой день.
— Я соскучилась о Сережѣ, — объясняла она[728] невѣсткѣ перемѣну своего намѣренія, — нѣтъ, ужъ лучше нынче.
Мишенька, какъ всегда, не обѣдалъ дома и обѣщалъ только пріѣхать проводить сестру въ 7 часовъ. Кити тоже не пріѣхала, приславъ записку, что у нее голова болитъ, и Долли съ Анной обѣдали одни съ дѣтьми и Англичанкой. И Анна, какъ будто нарочно, для того чтобы больше жалѣли о ней, когда она уѣдетъ, была, особенно мила и задушевна съ Долли и дѣтьми. Дѣти опять не отходили отъ нее, и надо было обмануть ихъ, чтобы они пустили ее уѣхать. Тѣ послѣдніе полчаса, которые Долли провела съ Анной въ ея комнатѣ, когда Анна уже пошла одѣваться и Долли пошла за ней, Долли никогда потомъ не могла забыть. Анна была весь этотъ день, особенно эти послѣдніе полчаса, въ томъ размягченномъ припадкѣ чувствительности, которые иногда находили на нее. Любовь, нѣжность ко всѣмъ и ко всему, казалось, переполняли ея сердце, и сердце это было такъ открыто въ эти минуты, что она высказывала всѣ свои тайныя мысли, и всѣ эти мысли были[729] прекрасны. Глаза ея блестѣли лихорадочнымъ блескомъ и безпрестанно подергивались слезами умиленія.
— Что бы было со мной, съ нимъ, съ дѣтьми безъ тебя, — сказала ей Долли.
Анна посмотрѣла на нее, и глаза ее подернулись слезами.
— Не говори этаго, Долли. Не я, а ты. У тебя въ сердцѣ нашлось столько любви, чтобъ ты простила...
— Да, простила, но...
Она не договорила.
— Долли! У каждаго есть свои skeletons[730] въ душѣ, какъ Англичане говорятъ.
— Только у тебя нѣтъ.
— Есть, — вдругъ сказала Анна, и какая [-то] смѣшная, хитрая улыбка сморщила ея губы.
— Ну, такъ они смѣшные skeletons, а не мрачныя, — улыбаясь сказала Долли.
— Нѣтъ, мрачные. Ты знаешь, отчего я ѣду нынче, а не завтра? Это признанье, которое меня давило, и я хочу его тебѣ сдѣлать.
И, къ удивленію своему, Долли увидала, что Анна покраснѣла до ушей, до вьющихся черныхъ колецъ волосъ на шеѣ.
— Да, — продолжала Анна. — Ты знаешь, отчего Кити не пріѣхала обѣдать. Она ревнуетъ ко мнѣ. Я испортила, т. е. я была причиной того, что балъ этотъ былъ для нея мученьемъ, а не радостью. Но, право, право, я не виновата или виновата немножко, — сказала она, тонкимъ голосомъ протянувъ слово «немножко».
— О, какъ ты похожа на Мишеньку, — смѣясь сказала Долли.
Анна какъ будто оскорбилась и нахмурилась.
— О нѣтъ, о нѣтъ! Я не Мишенька. Я оттого говорю тебѣ, что я ни на минуту даже не позволяю себѣ сомнѣваться въ себѣ.
— Да, Мишенька мнѣ говорилъ, что ты съ Вронскимъ танцовала мазурку и что онъ...
— Ты не можешь себѣ представить, какъ это смѣшно вышло. Я только думала сватать, и вдругъ я почувствовала себя польщенной...
— О, они это сейчасъ чувствуютъ, — сказала Долли.
— Но я бы была въ отчаяніи, если бы онъ точно сталъ ухаживать за мной. Это глупо и ни къ чему не ведетъ.
— Впрочемъ, Анна, по правдѣ тебѣ сказать, я не очень желаю для Кити этаго брака. Мое сердце на сторонѣ Левина. И лучше, чтобы это разошлось, если онъ, этотъ Вронскій, могъ влюбиться въ тебя въ одинъ день.
— Ахъ, Боже мой, это было бы такъ глупо, — сказала Анна, и опять густая краска выступила на ея лицо. — Такъ вотъ я и уѣзжаю, сдѣлавъ себѣ врага въ Кити, которую я такъ полюбила. Ахъ, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли. Да?
— Какія мысли! Это не можетъ быть.
— Да, но я такъ бы желала, чтобы вы меня всѣ любили, какъ я васъ люблю и еще больше полюбила, — сказала Анна съ слезами на глазахъ. — Ахъ, какъ я нынче глупа!
Она провела платкомъ по лицу и стала одѣваться.
Уже передъ самымъ отъѣздомъ пріѣхалъ, опоздавши, Степанъ Аркадьичъ съ краснымъ, веселымъ лицомъ и запахомъ вина и сигары.
Чувствуя, что чувствительность Анны сообщилась и ей, Долли съ слезами на глазахъ въ послѣдній разъ обняла золовку и прошептала:
— Помни, Анна, что то, что ты сдѣлала, я никогда не забуду и что я люблю и всегда буду любить тебя какъ лучшаго друга.
— Я не понимаю, за что, — проговорила Анна.
— Ты меня поняла и понимаешь. Ты прелесть.
И такъ онѣ разстались.
—————
«Ну, все кончено, и слава Богу, — была первая мысль, пришедшая Аннѣ Аркадьевнѣ, когда она, простившись послѣдній разъ съ братомъ, стоявшимъ въ вагонѣ до 3-го звонка, сѣла на свой диванчикъ рядомъ съ Аннушкой. Она оглядѣлась въ полусвѣтѣ спальнаго вагона. — Слава Богу, завтра увижу Сережу и Алексѣя Александровича, и пойдетъ моя жизнь, уже тѣмъ хорошая, что привычная, по старому. Утро визиты, иногда покупки, всякій день посѣщеніе моего пріюта, обѣдъ съ Алексѣемъ Александровичемъ и кѣмъ нибудь и разговоры о важныхъ придворныхъ и служебныхъ новостяхъ. Avant soirée[731] съ Сережей, потомъ укладывать его спать и вечеръ или балъ, а завтра тоже».
Какая то больная дама укладывалась ужъ спать. Двѣ другія дамы говорили, очевидно, нестолько для себя, сколько для нея, на дурномъ французскомъ языкѣ, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замѣчанія о топкѣ. Аннѣ не хотѣлось ни съ кѣмъ говорить, она попросила Аннушку достать фонарикъ, прицѣпила его къ ручкѣ кресла и достала англійскій романъ. Но не читалось, сначала мѣшала возня и ходьба; потомъ, когда тронулись, нельзя было не прислушаться къ звукамъ; потомъ снѣгъ, бившій въ лѣвое окно и налипавшій на окно, и видъ закутаннаго прошедшаго кондуктора, занесеннаго снѣгомъ съ одной стороны, и разговоры о томъ, что страшная метель на дворѣ, развлекали ея вниманіе. Но потомъ все было тоже и тоже: таже тряска съ постукиваніемъ, тотъ же снѣгъ въ окно, тѣже быстрые переходы отъ пароваго жара къ холоду и опять къ жару, то же мерцаніе тѣхъ же лицъ въ полумракѣ и тѣже голоса. Аннушка ужъ дремала, держа свои узлы широкими руками въ прорванной одной перчаткѣ. Анна Аркадьевна не могла и думать о снѣ, она чувствовала себя столь возбужденною. Она попробовала опять читать, долго не понимала того, что читаетъ, но потомъ вчиталась было, какъ вдругъ она почувствовала, что ей стыдно чего то, что точно она сдѣлала дурной, низкій поступокъ, и ей стыдно за него. «Чего же мнѣ стыдно?» спросила она себя. Стыднаго ничего не было. Она перебрала всѣ свои московскія воспоминанія. Всѣ были хорошія, пріятныя. Вспомнила балъ. Вспомнила Вронскаго и его влюбленное, покорное лицо, вспомнила всѣ свои отношенія съ нимъ — ничего не было стыднаго. A вмѣстѣ съ тѣмъ на этомъ самомъ мѣстѣ воспоминаній чувство стыда усиливалось, какъ будто какой-то внутренній голосъ именно тутъ, когда она вспоминала о Вронскомъ, говорилъ ей: тепло, очень тепло, горячо, чѣмъ ближе она подходила къ Вронскому. Опять она повторила себѣ: «Ну, слава Богу, все кончено», и опять взялась за книгу. Она взялась опять за книгу, но рѣшительно уже не могла читать. Какое то странное возбужденіе все болѣе и болѣе усиливалось въ ней. Она чувствовала, что нервы ея натянуты, какъ струны, готовыя порваться, особенно въ головѣ, что глаза ея раскрываются больше и больше, что пальцы на рукахъ и ногахъ нервно движутся, что въ груди что то давитъ дыханье и что всѣ звуки въ этомъ колеблющемся полумракѣ съ болѣзненной яркостью воспринимаются ею. Что она не знаетъ хорошенько, ѣдетъ ли она или стоитъ. Аннушка ли подлѣ нея или чужая, что тамъ на ручкѣ — салопъ ли это или звѣрь, и что она сама не знаетъ, гдѣ она и кто она. И что ей странно отдаваться этому волшебному забытью, и что то тянетъ къ нему. Она поднялась, чтобы опомниться, и сняла теплый капотъ. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедшій худой мужикъ былъ истопникъ и что это вѣтеръ и снѣгъ ворвались за нимъ въ дверь; но потомъ опять все смѣшалось, что то странно заскрипѣло и застучало, какъ будто раздирали кого то, потомъ красный свѣтъ ослѣпилъ глаза, и потомъ все закрылось стѣной, и ей казалось, что она провалилась, и вдругъ голосъ окутаннаго человѣка и занесеннаго снѣгомъ прокричалъ что то. Она опять поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъѣхали къ станціи. Она попросила Аннушку подать опять снятый капотъ, надѣла его и направилась къ двери.
— Выходить изволите, — сказала Аннушка.
— Нѣтъ, я только подышать, мнѣ что то нехорошо.
И она отворила дверь. Метель и вѣтеръ рванулись ей на встрѣчу. Она вернулась назадъ, ужаснувшись. Но потомъ опять отворила дверь и рѣшительно вышла на крылечко, держась за перилы. Ей хотѣлось понять, что дѣлалось на дворѣ, для того чтобы разогнать это[732] забытье, которое томило ее.
Вѣтеръ былъ силенъ на крылечкѣ, но на платформѣ за вагонами должно было быть затишье. Она сошла и стала,[733] дыша снѣжнымъ морознымъ воздухомъ и оглядываясь въ полусвѣтѣ.
Страшная буря рвалась и свистѣла[734] между колесами вагоновъ по столбамъ на углѣ станціи. Все: и вагоны, и столбы, и люди — все было съ одной стороны занесено снѣгомъ. Но какіе то люди бѣгали, скрыпя на доскахъ платформы по снѣгу. Какая то согнутая тѣнь человѣка проскользнула подъ ея ногами, и послышались знакомые звуки молотка по желѣзу.
— Депешу дай! — послышался голосъ.
— Сюда пожалуйте, № 108, — кричалъ кто-то, и занесенный снѣгомъ пробѣжалъ обвязанный человѣкъ.
Хотя голова ея стала и свѣжѣе нѣсколько, чувство[735] жуткости и тоски[736] не покидало ее. Она вздохнула полной грудью и уже вынула руку изъ муфты, чтобы взяться за перила и входить, какъ вдругъ какая то[737] тѣнь подлѣ самой ее заслонила ей слабый свѣтъ, падающій отъ фонаря. Она оглянулась и въ туже минуту узнала Вронскаго. Онъ, приложивъ руку къ козырьку, наклонился передъ нею и спросилъ, не нужно ли ей чего нибудь. Не можетъ ли онъ служить. Появленіе его тутъ было слишкомъ неожиданно и вмѣстѣ съ тѣмъ было такъ ожиданно, что она довольно долго ничего не отвѣчала и, держась рукой за холодный столбикъ, молча смотрѣла на него, и, несмотря на тѣнь, въ которой онъ былъ, она видѣла, или ей казалось, что она видѣла, его лицо и глаза, выраженіе ихъ до малѣйшихъ подробностей. Это было опять то выраженіе испуганнаго восхищенія, которое такъ подѣйствовало на нее вчера.
— Какъ вы? Зачѣмъ вы? — сказала она и въ туже минуту вспомнила, что ей надо было только сказать: «нѣтъ, ничего, благодарю васъ». Она пустила руку и остановилась, обдумывая, чтобы сказать ему простое. Но онъ уже отвѣчалъ на ея вопросъ:
— Я ѣду для того, чтобы быть тамъ, гдѣ вы, — сказалъ его нѣжный голосъ, и она ясно видѣла теперь, хотя и въ темнотѣ, выраженіе его всей фигуры, склоненной головы, какъ бы ожидавшей удара, и лица, робкаго и раскаивающагося за то, что онъ смѣлъ говорить.
И въ это же время буря, какъ бы одолѣвъ препятствіе, засыпала снѣгъ съ крышъ вагоновъ, затрепала какимъ то желѣзньмъ оторваннымъ листомъ, и гдѣ то впереди плачевно и мрачно заревѣлъ густой свистокъ вагона.
— Не говорите этаго, — сказала она, — это дурно для васъ, для меня.
— О, если бы это что нибудь было для васъ.
— Но что же это! — почти вскрикнула она, тяжело переводя дыханіе, и,[738] взявшись за столбикъ, хотѣла уйти, но, какъ бы обдумавъ, опять остановилась.
— Какое право вы имѣете говорить мнѣ это?
— Мое право, — сказалъ онъ вдругъ,[739] какъ будто слова эти, давно готовыя, сами вырвались изъ его устъ, — то, что моя жизнь не моя, а ваша и навсегда.
Она, тяжело дыша, стояла подлѣ него.
— Но простите меня. Я не буду больше говорить этаго. Мнѣ нужно было сказать это вамъ, чтобы объяснить...
— Я ничего не хочу слышать.
И она быстро вошла в вагонъ. Но въ маленькихъ сѣняхъ она остановилась и закрыла лицо руками. Когда она вошла въ вагонъ и сѣла на свое мѣсто, то волшебное напряженное состояніе, которое ее мучало и сначала, продолжалось еще съ большею силою. Она не спала всю ночь. И всю ночь въ странномъ безпорядкѣ и въ самыхъ странныхъ сочетаніяхъ она видѣла и слышала дѣйствительные и воображаемые предметы и звуки. Блѣдное морщинистое лицо старушки в чепцѣ подъ колеблющимся свѣтомъ фонаря, Вронскій, просящій прощенія и предлагающій царство и отбирающій билеты, занесенный снѣгом съ одной стороны Аннушка, храпящая звуками молотка о желѣзо, и буря, уносящая все, и толчки красныхъ огней, скрипящихъ подъ давленіемъ колесъ, и красные огни глазъ Вронскаго, рѣжущіе глаза до тѣхъ поръ, пока ихъ не заноситъ снѣгомъ, и стыдъ, стыдъ не совершеннаго постыднаго дѣла.
Къ утру она задремала, сидя въ креслѣ, и когда проснулась, то уже было бѣло, свѣтло, и поѣздъ подходилъ къ Петербургу. И тотчасъ же мысли о домѣ, мужѣ, о сынѣ толпою пришли ей, и она съ удивленіемъ вспомнила вчерашній ужасъ и стыдъ. Да, было одно — это признаніе Вронскаго. Да, это было не во снѣ, но это была глупость, которой она легко положитъ конецъ. «Такъ чего же мнѣ стыдно?» опять спросила она себя и не находила отвѣта.
Въ Петербургѣ, только что остановился поѣздъ, она вышла. Первое лицо,[740] обратившее ея вниманіе, было лицо мужа. Онъ стоялъ, невольно обращая на себя вниманіе почтительностью служащихъ и полиціи, не подпускавшихъ къ нему народъ.[741]
— Какъ ты милъ, что самъ пріѣхалъ, — сказала она.
— Это меньшее, что я могъ сдѣлать за то, что ты дала мнѣ лишній день, — отвѣчалъ онъ, цѣлуя ея руку съ спокойной сладкой улыбкой.
— Сережа здоровъ?
— [742]Онъ, здоровъ, — сказалъ онъ и, взявъ ее подъ руку, повелъ къ каретѣ, также улыбаясь и перенося свои глаза выше толпы, чтобы никого не видѣть.
Въ дверяхъ Вронскій поклонился Аннѣ Аркадьевнѣ и спросилъ, какъ она провела ночь.
— Благодарю васъ, очень хорошо.
Она взглянула на мужа, чтобы узнать, знаетъ ли онъ Вронскаго. Алексѣй Александровичъ смотрѣлъ на Вронскаго, вспоминая, кто это.
Вронскій[743] между тѣмъ смотрѣлъ на Каренина,[744] какъ будто въ первый разъ увидѣлъ его:[745] изучалъ всѣ малѣйшія подробности его лица, сложенія, одежды даже.
«Да, онъ уменъ, — думалъ онъ,[746] глядя на его высокій лобъ съ горбинами надъ бровями, — и твердый, сильный человѣкъ, это видно по выдающемуся подбородку, съ характеромъ, несмотря на физическую слабость. Глаза его маленькіе не видятъ изъ подъ очковъ, когда не хотятъ, но онъ долженъ быть и тонкій наблюдательный человѣкъ, когда онъ хочетъ, онъ добрый даже, но онъ[747] не привлекательный человѣкъ, и она не можетъ любить и не любитъ его, я видѣлъ это по ея взгляду».
— Графъ Вронскій.
— А, очень радъ, — равнодушно сказалъ Алексѣй Александровичъ, подавая руку. — Туда ѣхала съ матерью, а назадъ съ сыномъ, — сказалъ онъ, ударяя, какъ имѣлъ привычку, безъ причины на одно слово и, какъ бы отпустивъ Вронскаго, пошелъ дальше, глядя выше людей, но Вронскій шелъ подлѣ и спрашивалъ у Анны, позволено ли ему будетъ пріѣхать къ ней.
— Очень рады будемъ, — сказалъ Алексѣй Александровичъ, все также улыбаясь, — по понедѣльникамъ, — и теперь уже, отпустивъ совсѣмъ Вронскаго, обратился къ женѣ.
— Мари вчера была у[748] Великой Княгини.
— А, — сказала Анна.
Она думала въ это время о томъ, что замѣтила особенный, какъ бы чахоточный румянецъ на щекахъ Вронскаго и складку между бровей. И ей жалко стало его. Но въ ту же минуту она подумала: «но что мнѣ», замѣтила и стала спрашивать о томъ, что ея belle soeur[749] дѣлала у Курковыхъ.
— Что, этотъ Вронскій тотъ, что за границей былъ? — спросилъ ее мужъ.
— Да, братъ нашего.
— Онъ, кажется, одинъ изъ такихъ, что слышали звонъ, — сказалъ съ своей той же улыбкой и ударяя любовно на словѣ звонъ, — но не знаютъ, гдѣ онъ. Но еще разъ меrсі, мой другъ, что подарила мнѣ день, тебѣ карету подастъ Кондратій, а я ѣду въ Министерство.
И онъ, пожавъ ей руку, отошелъ отъ нея.
* № 32 (рук. № 21).
<Онъ уѣзжалъ изъ Москвы неожиданно, не объяснивъ матери, для чего онъ уѣзжаетъ. Нѣжная мать огорчилась, когда узнала отъ сына, что онъ никогда и не думалъ жениться, и разсердилась на него (что съ ней рѣдко бывало) за то, что онъ не хотѣлъ объяснить ей, почему онъ уѣзжаетъ въ Петербургъ, не дождавшись[750] ремонта, который онъ собиралъ въ Москвѣ, и именно тогда, когда она поторопилась вернуться изъ Петербурга, чтобы быть съ нимъ.
— Простите меня, maman, но я, право, не могу оставаться уже по одному тому, — сказалъ онъ съ улыбкой, —[751] что отъ меня ожидается то, чего я не могу сдѣлать, и мнѣ лучше уѣхать.
— Но отчего же такъ вдругъ?
Онъ не объяснилъ матери другой причины[752] и уѣхалъ. Неловкость объясненія товарищамъ и начальникамъ того, что онъ уѣзжаетъ, не дождавшись ремонта, тоже ни на минуту не заставила его задуматься.>
* № 33 (рук. № 22).
[753]Первое лицо, встрѣтившее ее дома, былъ сынъ. Онъ выскочилъ къ ней по лѣстницѣ, несмотря на крикъ Mariette, не пускавшей его, и повисъ ей на шеѣ.
— Мама! Мама! — кричалъ онъ. — Мама! Мама!
Анна не ожидала такой радости, и эта радость сообщилась ей. Она на рукахъ внесла его на лѣстницу и, только съ улыбкой кивнувъ головой Mariette, убѣжала съ нимъ въ свою комнату и стала цѣловать его.
«О, какихъ пустяковъ я боялась!» подумала она.
Когда Mariette вошла въ комнату, они уже нацѣловались, и Анна разсказывала сыну, какая въ Москвѣ есть дѣвочка Таня и какъ Таня эта умѣетъ читать и учитъ даже брата.
— А рисовать умѣетъ? — спрашивалъ Сережа.
Mariette жаловалась, но упрекать нельзя было. Анна пошла въ свою комнату, и Сережа пошелъ за ней.
Еще Анна не успѣла напиться кофе, какъ ей доложили о пріѣздѣ Лидіи Ивановны [1 неразобр.]. Пыхтя вошла съ мягкими глазами кубышка.
— Я не могла дождаться.
Анна любила ее, но въ это свиданіе она какъ будто въ первый разъ увидала ее со всѣми ея недостатками. Ей показалось что то ненатуральное и излишнее въ тонѣ Графини Лидіи Ивановны.
— Ну, что мой другъ, снесли оливковую вѣтвь? — спросила она.
— Да, когда я уѣхала, они сошлись опять. Но вы не повѣрите, какъ это тяжело и какъ они оба жалки.
— Да, много, много горя и зла на свѣтѣ, и я такъ измучена нынче, — сказала Графиня Лидія Ивановна.[754]
— А что? — спросила Анна.
— Я начинаю уставать отъ тщетнаго ломанія копій за правду. И иногда совсѣмъ развинчиваюсь. Дѣло сестричекъ (это было филантропическое, религіозное, патріотическое учрежденіе) подвигалось бы, но съ этими господами ничего невозможно дѣлать, — сказала она съ насмѣшливой покорностью судьбѣ. — Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потомъ обсуждаютъ такъ мелко и ничтожно.[755] Два-три человѣка, вашъ мужъ въ томъ числѣ, понимаютъ значеніе этаго дѣла, a другіе только роняютъ. Вчера мнѣ пишетъ Гжадикъ (это былъ извѣстный панславистъ за границей), — и Графиня Лидія Ивановна разсказала содержаніе письма Гжадика. Послѣ Гжатика Графиня разсказала еще непріятности и козни, дѣлаемыя противъ дѣла соединенія церквей, и уѣхала, торопясь, такъ какъ ей въ этотъ день надо было быть еще на засѣданіи одного общества и на славянскомъ комитетѣ.[756]
«Вѣдь все это было и прежде, но отчего я не замѣчала этаго прежде, — сказала себѣ Анна. — Или она раздражена очень нынче; что же ей дѣлать, бѣдной, дѣтей нѣтъ. Правда, что смѣшно, что ея цѣль религія и добродѣтель, а она все сердится и все враги у нее... Но все таки она милая».
Послѣ Графини Лидіи Ивановны пріѣхала кузина Алексѣя Александровича, старая дѣвушка, унылая и скучная, но торжественная, потому что она знала Жуковского и Мойера. Въ 3 часа и она уѣхала.
* № 34 (рук. № 26).
— Ну что, Долинька, твой козырь что подѣлываетъ?
— Ничего, папа, — отвѣчала Долли, понимая, что рѣчь идетъ о мужѣ, — все ѣздитъ. Я его почти не вижу, — не могла она не прибавить съ насмѣшливой улыбкой.
— Что жъ, онъ не уѣхалъ еще въ деревню лѣсъ продавать?
— Нѣтъ, все собирается.
— Вотъ какъ? — промычалъ Князь. — Ну, всетаки у тебя больше шансовъ встрѣтить его гдѣ-нибудь. Если встрѣтишь, скажи ему, что мнѣ нужно его видѣть и переговорить съ нимъ.
Княгиня и Кити съ любопытствомъ взглянули на Князя. «О чемъ ему могло быть нужно переговорить съ Стивой?» Княгиня думала, что она догадалась.
— Да и мнѣ жалко этотъ лѣсъ, — сказала она про лѣсъ, который продавалъ Степанъ Аркадьичъ въ имѣньи ея дочери. — Но что же дѣлать, если необходимо. Я сама думаю, какъ бы онъ не продешевилъ. Ты, вѣрно, про это хочешь переговорить съ нимъ?
— Да, да, про это самое, — сказалъ Князь, съ своимъ непроницаемымъ видомъ взглянувъ на Кити, и Кити поняла, что ему нужно было видѣть Степана Аркадьича, чтобы переговорить не о лѣсѣ, а о ней. Что — она не знала, но вѣрила, что любовь отца не обманетъ его.
Долли очень скоро удалось въ этотъ день встрѣтить Степана Аркадьича. Онъ обѣдалъ у Генерала-Губернатора и пріѣхалъ домой переодѣть фракъ. И до обѣда еще заѣхалъ къ тестю.
— Ну что, когда ты ѣдешь совершать условія на лѣсъ? — прямо приступилъ онъ къ дѣлу.
— Да все некогда, Князь, — отвѣчалъ Степанъ Аркадьичъ.
Онъ все время находился въ холодныхъ отношеніяхъ съ тестемъ, но эта холодность со стороны стараго Князя нисколько не мѣшала неизмѣнному добродушію и веселому спокойствію Степана Аркадьича.
«Вы меня не любите, тѣмъ хуже для васъ, a мнѣ все равно. Я и съ вами пріятель, какъ и со всѣми моими пріятелями».
— Что жъ, вы думаете, что я продешевлю?
— Это-то я думаю. Мы съ тобой не такіе мастера наживать, какъ проживать; но въ томъ дѣло, что я бы просилъ тебя ѣхать скорѣе. И заѣхать къ Константину Левину.
— Я и хотѣлъ.
— Такъ, пожалуйста, Стива, поѣзжай къ нему, и вы пріятели. И ты знаешь, между разговоромъ сондируй его о Кити. Я того мнѣнія, что онъ робѣетъ сдѣлать предложеніе, а она любитъ его.
Степанъ Аркадьичъ былъ очень удивленъ этой непривычной заботливостью отца, онъ разсказалъ все, что зналъ о намѣреньяхъ Левина, и обѣщалъ ѣхать.
Князь, прося его, чтобы это было тайной, опять впалъ въ свое видимое равнодушіе и, подставивъ небритую щеку, отпустилъ его.
* № 35 (рук. № 18).
Часть вторая.
Глава I. Дьяволъ.
Прошло два мѣсяца. Вернувшись въ Петербургъ, жизнь Анны пошла по старому. Все было то же: тотъ же мужъ, тотъ же сынъ, тѣ же наполняющіе жизнь выѣзды, тѣ же три свѣтскіе круга, въ которые три ѣздила Анна; но все это со времени пріѣзда ея изъ Москвы измѣнилось. Прежде свѣтская жизнь съ толками о новомъ бракѣ, о повышеньи, перемѣщеньи, съ заботами о туалетѣ для бала, для праздника, съ мелкими досадами за первенство того или другаго, той или другой, мелкими тщеславными радостями успѣха спокойно наполняла ея время. Свѣтская жизнь эта, казавшаяся Аннѣ, пока она не вступила въ эту жизнь, такимъ страшнымъ водоворотомъ, опаснымъ, раздражающимъ, оказалась, какъ она испытала это въ эти послѣдніе два года своей Петербургской жизни, такой смирной и тихой. Затрогивали только самые мелкіе интересы, и Анна часто испытывала среди визитовъ, обѣдовъ, вечеровъ, баловъ чувство усталости и скуки однообразнаго исполненія долга. Теперь все это вдругъ перемѣнилось. Не стало этой середины. Или ей было несносно, противно въ свѣтѣ, или она чувствовала, что ей было слишкомъ не весело, а радостно быть въ свѣтѣ. Весь свѣтскій кругъ одинъ, всѣ знаютъ другъ друга и ѣздятъ другъ къ другу, но въ этомъ большомъ кругѣ есть свои подраздѣленія.
Анна имѣла друзей и близкіе связи въ трехъ различныхъ кругахъ. Одинъ — это былъ[757] служебный, офиціальный кругъ ея мужа, сослуживцевъ, подчиненныхъ, и нѣкоторыя жены ихъ считались достойными. Другой кругъ — это былъ тотъ кругъ, черезъ который Алексѣй Александровичъ сдѣлалъ свою карьеру, кругъ, близкій къ двору, внѣшне скромный, но могущественный. Центромъ этаго кружка была Графиня А.; черезъ нее то Алексѣй Александровичъ сдѣлалъ свою карьеру. Въ кружкѣ этомъ царствовалъ постоянно восторгъ и умиленье надъ своими собственными добродѣтелями. Православіе, патріотизмъ и славянство играли большую роль въ этомъ кругѣ. Алексѣй Александровичъ очень дорожилъ этимъ кругомъ, и Анна одно время, найдя въ средѣ этаго кружка очень много милыхъ женщинъ и въ этомъ кружкѣ не чувствуя себя принужденной къ роскоши, которая была имъ не по средствамъ,[758] сжилась съ этимъ кружкомъ и усвоила себѣ ту нѣкоторую утонченную восторженность, царствующую въ этомъ кружкѣ. Она, правда, никогда не вводила этотъ тонъ, но поддерживала его и не оскорблялась имъ. Теперь же, вернувшись изъ Москвы, кружокъ этотъ ей сталъ невыносимъ, она видѣла все притворство, на которомъ замѣшанъ онъ, и скучала и сколь возможно менѣе ѣздила къ[759] Графинѣ N.
Другой кругъ, въ которомъ появлялась Анна, былъ собственно[760] свѣтъ. Кругъ огромныхъ домовъ, баловъ, экипажей, посланниковъ, [1 неразобр.] театровъ, маскарадовъ, кругъ людей и знатныхъ и громадно богатыхъ. Связь ея съ этимъ кругомъ держалась черезъ Бетси Курагину, жену ея двоюроднаго брата, у которой было 120 тысячъ дохода и которая съ самаго начала появленія Анны въ свѣтъ влюбилась въ нее и ухаживала за ней и втягивала ее въ свой кругъ, смѣясь надъ тѣмъ кругомъ и называя его композиціей изъ чего-то славянофильско-хомяковско-утонченно православно-женско-придворно подленькаго.[761]
— Это богадѣльня. Когда стара и дурна буду, я сдѣлаюсь такая же, — говорила Бетси, — но вы la plus jolie femme de Petersbourg.[762]
Этого круга Анна избѣгала прежде сколько могла, такъ какъ онъ требовалъ расходовъ выше ея средствъ, да и по душѣ предпочитала первый. Теперь же сдѣлалось наоборотъ. И она избѣгала восторженныхъ друзей своихъ и ѣздила въ большой свѣтъ. И тамъ она встрѣчала Удашева и испытывала волнующую радость при этихъ встрѣчахъ. Особенно часто встрѣчала она Удашева у Бетси, которая была урожденная Удашева и ему двоюродная. Удашевъ былъ вездѣ, гдѣ только онъ могъ встрѣтить ее, и онъ говорилъ ей, когда могъ, о своей любви. Всякій разъ она запрещала ему это, она ему не подавала никакого повода, но всякій разъ, какъ она встрѣчалась съ нимъ, въ душѣ ея загоралось то самое чувство оживленія, которое нашло на нее въ тотъ день въ вагонѣ, когда она въ первый разъ встрѣтила его. Она сама чувствовала, что радость свѣтилась въ ея глазахъ и морщила ея губы, и она не могла затушить ее. И онъ видѣлъ это, и онъ покорялся ей, но также упорно[763] преслѣдовалъ ее. Но онъ не преслѣдовалъ ее,[764] онъ только чувствовалъ и зналъ это, что не могъ жить внѣ лучей ея, и онъ старался видѣть ее, говорить съ ней. Его полковая жизнь шла по старому — тѣже манежи, выходы, смотры, только онъ рѣже ѣздилъ въ ягтъ клубъ, меньше принималъ участія въ полковыхъ дѣлахъ и кутежахъ и больше ѣздилъ въ свѣтъ, въ тотъ большой роскошный свѣтъ; въ маленькій кружокъ Графини[765] А. онъ не былъ допущенъ, да и не желалъ этаго. Одинъ разъ обѣдалъ у Удашевыхъ[766] и раза 3 былъ съ визитомъ. Въ свѣтѣ Удашевъ устроилъ себѣ ширмы, чтобы не компрометировать Каренину. Онъ видимо ухаживалъ за выѣзжавшей первый годъ княжной Бѣлосельской, и въ свѣтѣ поговаривали о возможности этаго брака. Удашевъ никогда ни съ кѣмъ не говорилъ о своемъ чувствѣ; но если бы онъ высказалъ кому нибудь, онъ бы высказалъ то, что онъ думалъ: т. е. что онъ не имѣетъ никакой надежды на успѣхъ, что онъ злится на себя и свою страсть, которая изломала всю его жизнь, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ въ глубинѣ души гордился своей страстью и зналъ очень хорошо, что въ несчастной любви къ дѣвушкѣ, которая свободнѣе женщины, вообще есть что-то жалкое, смѣшное; но въ любви къ замужней женщинѣ, чтобы ни пѣли моралисты, есть что-то грандіозное, доказывающее силу души.
Удашевъ одинъ разъ обѣдалъ у Карениныхъ. Алексѣй Александровичъ позвалъ его, встрѣтивъ; но больше его не звали, — на этомъ настояла Анна, — и бывалъ съ визитами, но Анна не принимала его, когда могла. Поэтому онъ могъ видѣть ее только въ свѣтѣ и сталъ опять ѣздить повсюду въ свѣтъ, который онъ было оставилъ. Въ свѣтѣ, для того чтобы имѣть предлогъ, а отчасти и потому, что первую зиму выѣзжавшая княжна Бѣлосельская была очень милая дѣвушка, Удашевъ ухаживалъ будто бы за Княжной Бѣлосельской, и вездѣ, гдѣ бывала Анна, былъ и онъ.
Страсть страстью; но день, имѣющій 24 часа, долженъ былъ наполняться. Удашевъ не могъ не продолжать свою холостую и полковую товарищескую жизнь, хотя и старался избѣгать товарищескихъ попоекъ.
* № 36 (рук. № 24).
[767]Вронскій поѣхалъ во Французскій театръ, гдѣ ему дѣйствительно нужно было видѣть Полковаго Командира, не пропускавшаго ни однаго представленія французскаго театра, съ тѣмъ чтобы переговорить съ нимъ о своемъ миротворствѣ, о томъ дѣлѣ, которое занимало и забавляло его уже 3-й день. Въ дѣлѣ этомъ былъ замѣшанъ и Петрицкій, котораго онъ любилъ, и другой, недавно поступившiй, славный малый, товарищъ, молодой князь Кадровъ, главное же, были замѣшаны интересы полка. <Дѣло затѣялось на завтракѣ, который давалъ ихъ выходившій изъ полкa офицеръ. Князь Кадровъ и Петрицкій въ 1-мъ часу, уже поѣвши устрицъ и выпивши бутылку Шабли, громко разговаривая и смѣясь, ѣхали на извощикѣ[768] къ товарищу, дававшему завтракъ, когда мимо нихъ пролетѣлъ лихачъ извощикъ съ молоденькой, хорошенькой дамой, въ бархатной шубкѣ. Дама оглянулась на ихъ говоръ и смѣхъ.
— Смотри, смотри, прелесть какая хорошенькая! Пошелъ, извощикъ, догоняй! Рубль на водку.
Извощикъ навскачь сталъ гнать за лихачемъ. Дама оглянулась другой, третій разъ. Офицеры смѣясь покрикивали ей и ѣхали за нею. Сворачивать не приходилось, такъ какъ дама ѣхала нетолько по тому же направленію, по которому нужно было ѣхать офицерамъ, но остановилась даже и вышла передъ тѣмъ самымъ домомъ, въ который ѣхали офицеры. Она вышла прежде ихъ. Извощикъ, видно, былъ заплаченъ и отъѣхалъ; а хорошенькая дама, оглянувшись на офицеровъ, вошла на то самое крыльцо, на которое имъ надо было входить, и офицеры только видѣли ее мелькомъ, какъ она еще разъ оглянулась, входя на лѣстницу. Она взошла выше той площадки, на которой жилъ тотъ товарищъ, къ которому они ѣхали, и скрылась.
Петрицкій и Кадровъ опоздали, и уже человѣкъ 30 офицеровъ шумѣли за виномъ.[769] Вронской былъ тутъ же. Петрицкій и Кедровъ, перебивая одинъ другаго, принялись разсказывать о красотѣ встрѣченной дамы и о[770] необыкновенномъ случаѣ, что она живетъ въ этомъ самомъ домѣ. Пріѣхавшіе, чтобы догнать другихъ, выпили залпомъ нѣсколько бокаловъ и успѣшно догнали, даже перегнали другихъ.[771] Вронскій, занятый другимъ разговоромъ, и не замѣтилъ, какъ эти два молодца, чрезвычайно пораженные красотой этой лореточки и заманчивымъ оглядываніемъ ея на нихъ, отправились въ кабинетъ къ хозяину и, призвавъ туда хозяйскаго лакея и наведя справки о томъ, живетъ ли мамзель наверху, и, получивъ отъ него утвердительный отвѣтъ, написали неизвѣстной посланіе, что они оба влюблены, умираютъ отъ любви къ ней, и сами понесли это письмо наверхъ.
[772]Вронской узналъ все это уже тогда, когда въ комнату ворвались оба молодые люди съ лицами, разстроенными чѣмъ то особеннымъ кромѣ пьянства. Изъ ихъ разсказовъ[773] Вронскій понялъ, что, когда они позвонили, къ нимъ вышла дѣвушка. Узнавъ, что тутъ живетъ дама, которая часъ тому назадъ пріѣхала на извощикѣ въ бархатной шубкѣ, они просили передать письмо, прося отвѣта. Но пока дѣвушка переговаривалась и спрашивала, отъ кого записка, выскочилъ какой то человѣкъ съ бакенбардами колбасиками, какъ они разсказывали, бросилъ письмо и ткнулъ въ грудь Кадрова. Это разсказывалъ Петрицкій.
— Нѣтъ, не толкнулъ, а грубо заперъ дверь, — оправдывался Кедровъ.
— Ну, не толкнулъ, — продолжалъ Петрицкій, — но все таки чортъ знаетъ что такое! A Василій (лакей) говорилъ, что мамзель. Мы спрашивали у него. Онъ говорилъ: много ихъ мамзелей.
Всѣ посмѣялись этой исторіи, но[774] Вронской и нѣкоторые другіе поняли, что исторія эта не хороша, но дѣлать и говорить теперь нечего было.
На другой день Полковой Командиръ позвалъ[775] Вронскаго къ себѣ и, такъ какъ и ожидалъ[776] Вронской, дѣло шло объ исторіи вчерашней мамзели и Петрицкаго съ Кедровымъ.> Оба были въ эскадронѣ[777] Вронскаго. Къ полковому командиру пріѣзжалъ чиновникъ комиссіи прошеній титулярный совѣтникъ Венденъ съ жалобой на его офицеровъ, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, какъ разсказывалъ Венденъ, — онъ былъ женатъ полгода, — была въ церкви съ матушкой и вдругъ почувствовала нездоровье, происходящее отъ извѣстнаго положенія, не могла больше стоять и поѣхала домой на первомъ попавшемся ей лихачѣ — извощикѣ. Тутъ за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще хуже разболѣвшись, прибѣжала на лѣстницу домой. Самъ Венденъ, вернувшись изъ присутствія, услыхалъ звонокъ и какіе то голоса, вышелъ и увидалъ пьяныхъ офицеровъ съ письмомъ, вытолкалъ ихъ и просилъ строгаго наказанія.
— Нѣтъ, какъ хотите, a Петрицкій, вы его защищаете, совсѣмъ онъ становится невозможенъ, — сказалъ Полковой командиръ. — Нѣтъ недѣли безъ исторіи. Вѣдь этотъ чиновникъ не оставитъ дѣла, онъ поѣдетъ дальше.
[778]Вронской видѣлъ всю неблаговидность этаго дѣла, въ особенности то, что кто то из товарищей получилъ ударъ въ грудь и что удовлетворенія требовать нельзя, а, напротивъ, надо все сдѣлать, чтобы смягчить этаго титулярнаго совѣтника и замять дѣло. Полковой командиръ призвалъ[779] Вронскаго именно потому, что зналъ его за рыцаря чести, твердости, умнаго человѣка и, главное, человѣка, дорожащаго честью полка. Они потолковали и рѣшили, что надо ѣхать имъ: Петрицкому и Кедрову къ этому титулярному совѣтнику извиняться, и[780] Вронскій самъ вызвался ѣхать съ ними, чтобы смягчить это дѣло сколько возможно. Полковой командиръ и[781] Вронскій оба понимали, что имя[782] Вронскаго и флигель-адъютантскій вензель должны много содѣйствовать смягченію титулярнаго совѣтника. И дѣйствительно, эти два средства оказались отчасти дѣйствительными, но результатъ примиренія остался сомнительнымъ, какъ и разсказывалъ это[783] Вронскій.
Вотъ этимъ то дѣломъ миротворства и занимался[784] Вронской въ тотъ день, какъ кузина его ждала обѣдать. Молодые люди, несмотря на свои товарищескія, запанибратскія отношенія съ[785] Вронскимъ, уважали его и покорились его рѣшенью ѣхать извиниться съ нимъ вмѣстѣ, тѣмъ болѣе что свое рѣшенье онъ высказалъ имъ строго и рѣшительно, объявивъ, что если это дѣло не кончится миромъ, то имъ обоимъ надо выдти изъ полка. Одна уступка, которую онъ сдѣлалъ, состояла въ томъ, что Кедровъ могъ не ѣхать, такъ какъ онъ тоже считалъ себя оскорбленнымъ.
Въ назначенный часъ[786] Вронской повезъ Петрицкаго къ титулярному совѣтнику. Титулярный совѣтникъ принялъ ихъ, стоя, въ вицмундирѣ, и румяное лицо его съ бакенбардами колбасиками, какъ описывалъ Петрицкій, было торжественно, но довольно спокойно.
[787]Вронской видѣлъ, что они съ Полковымъ Командиромъ не ошиблись, предположивъ, что имя и эполеты будутъ имѣть свое вліяніе.
Титулярный совѣтникъ поклонился[788] Вронскому и подалъ ему руку, но чуть наклоненіемъ головы призналъ существованіе Петрицкаго.[789] Вронской началъ говорить:
— Два товарища мои были вовлечены цѣлымъ рядомъ несчастныхъ случайностей въ ошибку, о которой они отъ всей души сожалѣютъ, и просятъ васъ принять ихъ извиненія.
Титулярный совѣтникъ шевелилъ губами и хмурился.
— Я вамъ скажу,[790] Графъ, что мнѣ очень лестно ваше посредничество и что я бы готовъ признать ошибку и раскаянье, если оно искренно, но, согласитесь...
Онъ взглянулъ на Петрицкаго и поднялъ голосъ.[791] Вронской замѣтилъ это и поспѣшилъ перебить его.
— Они просятъ вашего извиненія, и вотъ мой товарищъ и пріятель Петрицкій.
Петрицкій промычалъ, что онъ сожалѣетъ, но въ глазахъ его не было замѣтно сожалѣнія, напротивъ, лицо его было весело, и титулярный совѣтникъ увидалъ это.
— Сказать: извиняю,[792] Графъ, очень легко, — сказалъ титулярный совѣтникъ, но испытать это никому не желаю, надо представить положеніе женщины......
— Но согласитесь, опять перебилъ[793] Вронской. — Молодость, неопытность, и потомъ, какъ вы знаете, мы были на завтракѣ, было выпито.... Я надѣюсь, что вы, какъ порядочный человѣкъ, войдете въ положеніе молодыхъ людей и великодушно извините. Я съ своей стороны, и Полковой командиръ просилъ меня, будемъ вамъ искренно благодарны, потому что я и прошу за людей, которыми мы дорожимъ въ полку. Такъ могу ли я надѣяться, что дѣло это кончится миромъ?
На губахъ титулярнаго совѣтника играла пріятная улыбка удовлетвореннаго тщеславія.
— Очень хорошо,[794] Графъ, я прощаю, и онъ подалъ руку. — Но эти господа должны знать, что оскорблять женщину неблагородно.....
— Совершенно раздѣляю ваше мнѣніе, но если кончено.... — хотѣлъ перебить[795] Вронской.
— Безъ сомнѣнія кончено, — сказалъ титулярный совѣтникъ. — Я не злой человѣкъ и не хочу погубить молодыхъ людей; не угодно-ли вамъ сѣсть? Не угодно-ли?
Онъ подвинулъ спички и пепельницу. И Вронской чувствовалъ, что меньшее, что онъ можетъ сдѣлать, это посидѣть минуту, тѣмъ болѣе что все такъ хорошо обошлось.
— Такъ прошу еще разъ вашего извиненія и вашей супруги за себя и за товарища, — сказалъ Петрицкій.
Титулярный совѣтникъ подалъ руку и закурилъ папиросу. Все, казалось, прекрасно кончено, но титулярный совѣтникъ хотѣлъ подѣлиться за папиросой съ своимъ новымъ знакомымъ,[796] Графомъ и флигель-адъютантомъ, своими чувствами, тѣмъ болѣе, что[797] Вронской своей открытой и благородной физіономіей произвелъ на него пріятное впечатлѣніе.
— Вы представьте себѣ,[798] Графъ, что молодая женщина въ такомъ положеніи, стало быть, въ самомъ священномъ, такъ сказать, для мужа положеньи, ѣдетъ изъ церкви отъ нездоровья, и тутъ вдругъ.....
[799]Вронской хотѣлъ перебить его, видя, что онъ бросаетъ изъ подлобья мрачные взгляды на Петрицкаго.
— Да, но вы изволили сказать, что вы простили.
— Безъ сомнѣнія, и въ этомъ положеньи два пьяные...
— Но позвольте...
— Два пьяные мальчишки позволяютъ себѣ писать и врываться.
Титулярный совѣтникъ[800] покраснѣлъ, мрачно смотрѣлъ на Петрицкаго.
— Но позвольте, если вы согласны...
Но титулярнаго совѣтника нельзя было остановить.
— Врываться и оскорблять честную женщину. Я жалѣю, что щетка не подвернулась мнѣ. Я бы убилъ....
Петрицкій всталъ нахмурившись.
— Я понимаю, понимаю, — торопился говорить[801] Вронской, чувствуя, что смѣхъ поднимается ему къ горлу, и опять пытаясь успокоить титулярнаго совѣтника, но титулярный совѣтникъ уже не могъ успокоиться.
— Во всякомъ случаѣ я прошу васъ признать, что сдѣлано съ нашей стороны что возможно. Чего вы желаете? Погубить молодыхъ людей?
— Я ничего не желаю.
— Но вы извиняете?
— Для васъ и для Полковаго Командира, да, но этихъ мерз...
— Мое почтеніе, очень благодаренъ, — сказалъ[802] Вронской и, толкая Петрицкаго, вышелъ изъ комнаты.>
* № 37 (рук. № 19).
«Ну, такъ и есть, — подумала хозяйка, также какъ и всѣ въ гостиной, съ тѣхъ поръ какъ она вошла, невольно слѣдившіе за ней, — такъ и есть, — думала она, какъ бы по книгѣ читая то, что дѣлалось въ душѣ Карениной, — она кинулась ко мнѣ. Я холодна, она мнѣ говоритъ: мнѣ все равно, обращается къ Д., тотъ же отпоръ. Она говоритъ съ двумя-тремя мущинами, а теперь съ нимъ. Теперь она взяла въ ротъ жемчугъ — жестъ очень дурнаго вкуса, онъ встанетъ и подойдетъ къ ней».
И такъ точно сдѣлалось, какъ предполагала хозяйка. Гагинъ всталъ. Рѣшительное, спокойное лицо выражало еще большую рѣшительность; онъ шелъ, но еще не дошелъ до нея, какъ она, какъ будто не замѣчая его, встала и перешла къ угловому столу съ лампой и альбомомъ. И не прошло минуты, какъ уже она глядѣла въ альбомъ, а онъ говорилъ ей:[803]
— Вы мнѣ сказали вчера, что я ничѣмъ не жертвую. Я жертвую всѣмъ — честью. Развѣ я не знаю, что я дурно поступилъ съ Щербацкой? Вы сами говорили мнѣ это.
— Ахъ, не напоминайте мнѣ про это. Это доказываетъ только то, что у васъ нѣтъ сердца.
Она сказала это, но взглядъ ея говорилъ, что она знаетъ, что у него есть сердце, и вѣритъ въ него.
— То была ошибка, жестокая, ужасная. То не была любовь.
— Любовь, не говорите это слово, это гадкое слово.
Она подняла голову, глаза ея блестѣли изъ разгоряченнаго лица. Она отвѣчала, и очевидно было, что она не видѣла и не слышала ничего, что дѣлалось въ гостиной. Какъ будто электрическій свѣтъ горѣлъ на этомъ столикѣ, какъ будто въ барабаны били около этаго столика, такъ тревожило, раздражало все общество то, что происходило у этаго столика и, очевидно, не должно было происходить. Всѣ невольно прислушивались къ ихъ рѣчамъ, но ничего нельзя было слышать, и, когда хозяйка подошла, они не могли ничего найти сказать и просто замолчали. Всѣ, сколько могли, взглядывали на нихъ и видѣли въ его лицѣ выраженіе страсти, а въ ея глазахъ что то странное и новое. Одинъ только Алексѣй Александровичъ, не прекращавшій разговора съ Генераломъ о классическомъ образованіи, глядя на свѣтлое выраженіе лица своей жены, зналъ значеніе этаго выраженія.[804] Со времени пріѣзда ея изъ Москвы онъ встрѣчалъ чаще и чаще это страшное выраженіе — свѣта, яркости и мелкоты, которое находило на лицо и отражалось въ духѣ жены. Какъ только находило это выраженіе, Алексѣй Александровичъ старался найти ту искреннюю, умную, кроткую[805] Анну, которую онъ зналъ, и ничто въ мірѣ не могло возвратить ее въ себя, она становилась упорно, нарочно мелочна, поверхностна, насмѣшлива, логична,[806] холодна, весела и ужасна для Алексѣя Александровича. Алексѣй Александровичъ, религіозный человѣкъ, съ ужасомъ ясно опредѣлилъ и назвалъ это настроеніе; это былъ дьяволъ, который овладѣвалъ ея душою. И никакія средства не могли разбить этаго настроенія. Оно проходило само собою и большею частью слезами. Но прежде это настроеніе приходило ей одной, теперь же онъ видѣлъ, что оно было въ связи съ присутствіемъ этаго[807] красиваго, умнаго и хорошаго юноши.
Алексѣй Александровичъ ясно доказывалъ Генералу, что навязыванье классическаго образованія также невозможно, какъ навязываніе танцовальнаго образованія цѣлому народу.[808] Но онъ видѣлъ, чувствовалъ, ужасался, и въ душѣ его становилось холодно.
Окончивъ разговоръ, онъ всталъ и подошелъ къ угловому столу.
— [809]Анна, я бы желалъ ѣхать, — сказалъ онъ, не глядя на вставшаго[810] Вронскаго, но видя его, видя выраженіе его лица, умышленно, чтобъ не выказать ни легкости, ни презрѣнія, ни сожалѣнія, ни озлобленія, умышленно безвыразительное. Онъ понималъ все это и небрежно поворачивалъ свою шляпу.
— Ты хотѣла раньше ѣхать домой, да и мнѣ нужно.
— Нѣтъ, я останусь, пришли за мной карету, — сказала она просто и холодно.
«Это онъ, это дьяволъ говоритъ въ ней», подумалъ Алексѣй Александровичъ, глядя на ея прямо устремленные на него, странно свѣтящіеся между рѣсницъ глаза.
— Нѣтъ, я оставлю карету, я поѣду на извощикѣ.
И, откланявшись хозяйкѣ, Алексѣй Александровичъ вышелъ.
Истинно хорошее общество только тѣмъ и хорошее общество, что въ немъ до высшей степени развита чуткость ко всѣмъ душевнымъ движеніямъ. Ничего не произошло особеннаго. Молодая дама и знакомый мущина отошли къ столу и въ продолженіе полчаса о чемъ то[811] говорили; но всѣ чувствовали, что случилось что то непріятно грубое, неприличное, стыдное. Хотѣлось завѣсить ихъ. И когда Алексѣй Александровичъ вышелъ, Княгиня[812] Нана рѣшилась во что бы то ни стало нарушить уединеніе и перезвала къ ихъ столу двухъ гостей. Но черезъ 5 минутъ[813] Анна встала и простилась, сіяющей улыбкой пренебреженія отвѣчая на сухость привѣтствій. Вслѣдъ за ней вышелъ и[814] Вронскій.
— Что я вамъ говорила?
— Это становится невозможно, — переговорили хозяйка дома и толстая дама. — Бѣдный дуракъ!
Старый, толстый Татаринъ, кучеръ въ глянцевитомъ кожанѣ, съ трудомъ удерживалъ лѣваго прозябшаго сѣраго, извивавшагося у подъѣзда; лакей стоялъ, отворивъ дверцу. Швейцаръ стоялъ, держа внѣшнюю дверь.[815] Анна Каренина отцѣпляла маленькой бѣлой ручкой кружева рукава отъ крючка шубки и, нагнувши головку, улыбалась.[816] Вронскій говорилъ:
— Вы ничего не сказали, положимъ, я ничего не требую, ничего. Только знайте, что моя жизнь — ваша, что одна возможность счастья — это ваша любовь.[817]
— Какъ должно быть ужасно легко мущинамъ повторять эти слова. Сколько разъ вы говорили это?[818] Я одинъ разъ сказала это... и то неправду. Поэтому я не скажу этаго другой разъ, — повторила она медленно, горловымъ густымъ голосомъ, и вдругъ, въ тоже время какъ отцѣпила кружево,[819] она прибавила: — Я не скажу, но когда скажу... — и она взглянула ему въ лицо. — До свиданья, Алексѣй Кирилычъ.
Она подала ему руку[820] и быстрымъ, сильнымъ шагомъ прошла мимо Швейцара и скрылась въ каретѣ. Ея взглядъ, прикосновеніе руки прожгли его. Онъ поцѣловалъ свою ладонь въ томъ мѣстѣ, гдѣ она тронула его, и поѣхалъ домой, безумный отъ счастья.
Вернувшись домой, Алексѣй Александровичъ не прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, какъ онъ это дѣлалъ обыкновенно, а, спросивъ, дома ли Марья Александровна (сестра), и, узнавъ, что ея тоже нѣтъ дома, вошелъ на верхъ не раздѣваясь и, заложивъ за спину сцѣпившіяся влажныя руки, сталъ ходить взадъ и впередъ по залѣ, гостинной и диванной. Образъ жизни Алексѣя Александровича, всегда встававшаго въ 7 часовъ и всегда ложащагося въ постель въ половинѣ 1, былъ такъ регуляренъ, что это отступленіе отъ привычки удивило прислугу и удивило самаго Алексѣя Александровича, но онъ не могъ лечь и чувствовалъ, что ему необходимо объясниться съ женой и рѣшить свою и ея судьбу.
Онъ, не раздѣваясь, ходилъ своимъ[821] слабымъ шагомъ взадъ и впередъ по звучному паркету освѣщенной одной лампой столовой, по ковру темной гостиной, въ которой свѣтъ отражался только въ большое зеркало надъ диваномъ, и черезъ ея кабинетъ, въ которомъ горѣли двѣ свѣчи,[822] освѣщая красивые игрушки, такъ давно близко знакомыя ему, ея письменнаго стола, и до двери спальни, у которой онъ поворачивался.[823]
Онъ слышалъ, какъ въ спальню вошла[824] Аннушка, горничная, слышалъ, какъ она выглянула на него и потомъ, какъ будто сердясь на то, что онъ такъ непривычно ходить не въ своемъ мѣстѣ, стала бить подушки, трясти какими то простынями.
Всѣ эти столь привычные предметы, звуки[825] имѣли теперь значеніе для Алексѣя Александровича и мучали его.
Какъ человѣку съ больнымъ пальцемъ кажется, что какъ нарочно онъ обо все ушибаетъ этотъ самый палецъ, такъ Алексѣю Александровичу казалось, что все, что онъ видѣлъ, слышалъ, ушибало его больное мѣсто въ сердцѣ.
На каждомъ протяженіи въ своей прогулкѣ и большей частью на[826] паркетѣ свѣтлой столовой онъ останавливался и говорилъ себѣ: «Да, это необходимо рѣшить и прекратить и высказать свой взглядъ на это и свое рѣшеніе. Но высказать что же и какое рѣшеніе? Что же случилось? Ничего. Она долго говорила съ нимъ. Ну, что же?[827] Можетъ быть, я вижу что то особенное въ самомъ простомъ, и я только подамъ мысль»... и онъ трогался съ мѣста; но какъ только онъ входилъ въ темную гостиную, ему вдругъ представлялось это преображенное, мелкое, веселое и ужасное выраженіе лица, и онъ понималъ, что дѣйствительно случилось что то[828] неожиданное и страшное и такое, чему необходимо положить конецъ, если есть еще время. Онъ входилъ въ кабинетъ и тутъ, глядя на ея столъ съ лежащей наверху малахитоваго бювара начатой запиской, онъ живо вспоминалъ ее тою, какою она была для него эти 6 лѣтъ — открытою,[829] простою и довольно поверхностною натурою, вспоминалъ ея вспыльчивость, ея несправедливыя[830] досады на него[831] и потомъ простое раскаяніе — слезы дѣтскія почти и нѣжность, да, нѣжность. «А теперь? Нѣтъ этаго теперь, рѣже и рѣже я вижу и понимаю ее, и больше и больше выступаетъ что то новое, неизвѣстное. Есть же этому причина». Вспоминалъ онъ тоже свое часто повторявшееся въ отношеніи ея чувство своей недостаточности. Онъ вспоминалъ, что часто она какъ будто чего то требовала отъ него такого, чего онъ не могъ ей дать, и какъ онъ успокоивалъ себя, говоря: нѣтъ, это мнѣ только такъ кажется. А, видно, было что то между ними, и вотъ эта трещина оказалась.
«Все равно, я долженъ объясниться и разрѣшить все это».
Румяное, круглое лицо съ огромнымъ шиньономъ въ бѣлѣйшихъ воротничкахъ высунулось изъ двери спальной.
— Извольте ложиться, Алексѣй Александровичъ, я убралась,[832] — сказала Аннушка.
Алексѣй Александровичъ заглянулъ въ спальню, и вдругъ при видѣ этой горничной и при мысли о томъ, что она догадывается[833] или догадается, почему такъ непривычно во 2-мъ часу не ложится спать ея баринъ, чувство[834] отвращенія[835] къ женѣ, къ той, которая ставила его въ унизительное положеніе, стрѣльнуло въ сердце.
— Хорошо, сказалъ онъ[836] и, прибавивъ шагу, направился опять къ столовой.
У подъѣзда зашумѣли. Алексѣй Александровичъ вернулся въ ея кабинетъ и, сдвинувъ очки, близко посмотрѣлся въ зеркало. Лицо его,[837] желтое и худое, было покрыто красными пятнами и показалось ему самому отвратительно.
«И[838] неужели это такія простыя, ничтожныя событія и признаки — вечеръ у Княгини, то, что я не легъ спать въ опредѣленное время, это мое разстроенное лицо, — неужели это начало страшнаго бѣдствія?»
Да, какой то внутренній голосъ говорилъ ему, что это было начало несчастія. Что несчастіе уже совершилось, хотя еще не выразились всѣ его послѣдствія. «Но всетаки я долженъ высказать и высказать слѣдующее», и Алексѣй Александровичъ ясно и отчетливо пробѣжалъ въ головѣ весь конспектъ своей рѣчи къ ней: 1) воззваніе къ ней и попытка вызова на признаніе и вообще откровенность съ ея стороны 2) религіозное объясненіе значенія брака 3) ребенокъ и онъ самъ — ихъ несчастье 4) ее собственное несчастье.
На лѣстницу входили женскіе шаги. Алексѣй Александровичъ, готовый къ своей рѣчи, стоялъ, осторожно соединяя кончики пальцевъ обѣихъ [рукъ], и приводилъ въ спокойствіе и порядокъ мысли, которые онъ хотѣлъ передать женѣ. Этотъ жестъ соединенія кончиковъ пальцевъ рукъ всегда успокоивалъ его и приводилъ въ акуратность, которая теперь такъ нужна была ему. Но еще по звуку тонкаго сморканія на серединѣ лѣстницы онъ узналъ, что входила не Анна, а жившая съ нимъ сестра его Мари. Алексѣй Александровичъ гордился своей сестрой Мари, прозванной свѣтскими умниками душой въ турнюрѣ, былъ обязанъ ей большею частью своего успѣха въ свѣтѣ (она имѣла высшія женскія связи, самыя могущественныя), былъ радъ тому, что она жила съ нимъ, придавая характеръ высшей утонченности и какъ будто самостоятельности его дому. Онъ и любилъ ее, какъ онъ могъ любить, но онъ не любилъ разговаривать съ нею съ глаза на глазъ. Онъ зналъ, что она никогда не любила его жены, считая ее[839] мелкою и terre à terre[840] и потому не подмогою, a помѣхою въ карьерѣ мужа, и потомъ тотъ усвоенный Мари тонъ слишкомъ большаго ума, доходившаго до того, что она ничего не говорила просто, былъ тяжелъ съ глазу на глазъ.
Мари была мало похожа на брата, только большіе выпуклые полузакрытые глаза были общіе. Мари была не дурна собой, но она уже пережила лучшую пору красоты женщины, и съ ней сдѣлалось то, что дѣлается съ немного перестоявшейся простоквашей. Она отсикнулась. Та же хорошая простокваша стала слаба, не плотна и подернулась безвкусной, нечисто цвѣтной сывороткой. Тоже сдѣлалось съ ней и физически и нравственно. Мари была чрезвычайно, совершенно искренно религіозна и добродѣтельна. Но съ тѣхъ поръ какъ она отсикнулась, что незамѣтно случилось съ ней года два тому назадъ, религiозность не находила себѣ полнаго удовлетворенія въ томъ, чтобы молиться и исполнять Божественный законъ, но въ томъ, чтобы судить о справедливости религіозныхъ взглядовъ другихъ и бороться съ ложными ученіями, съ протестантами, съ католиками, съ невѣрующими. Добродѣтельныя наклонности ея точно также съ того времени обратились не на добрыя дѣла, но на борьбу съ тѣми, которые мѣшали добрымъ дѣламъ. И какъ нарочно послѣднее время всѣ не такъ смотрѣли на религію, не то дѣлали для улучшенія духовенства, для распространенія истиннаго взгляда на вещи. И всякое доброе дѣло, въ особенности угнетеннымъ братьямъ Славянамъ, которые были особенно близки сердцу Мари, встрѣчало враговъ, ложныхъ толкователей, съ которыми надо было бороться. Мари изнемогала въ этой борьбѣ, находя утѣшенье только въ маломъ кружкѣ людей, понимающихъ ее и ея стремленія.
— О, какъ я подрублена нынче, — сказала она по французски, садясь на первый стулъ у двери.
Братъ понялъ, что она хотѣла сказать, что устала.
— Я начинаю уставать отъ тщетнаго ломанія копій за правду. И иногда я совсѣмъ развинчиваюсь. А Анна? — прибавила она, взглянувъ на лицо брата. — Что значитъ, — сказала она, — это отступленіе отъ порядка? Люди акуратные, какъ ты, выдаютъ себя однимъ отступленіемъ. Что такое?
— Ничего. Мнѣ хотѣлось поговорить съ Анной.
— А она осталась у Нана? — взглянувъ, сказала Мари, и большіе полузакрытые глаза ея подернулись мрачнымъ туманомъ.
— О, какъ много горя на свѣтѣ и какъ неравномѣрно оно распредѣляется, — подразумѣвая подъ этимъ горе Алексѣя Александровича, отра[жа]ющееся на нее. — Княгиня надѣялась, что ты заглянешь, — продолжала она, чтобъ показать, что понимаетъ горе брата, но не хочетъ о немъ говорить. — Дѣло сестричекъ (это было филантропически-религіозное учрежденіе) подвинулось бы, но съ этими господами ничего не возможно дѣлать, — сказала она съ злой насмѣшливой покорностью судьбѣ. — Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потомъ обсуждаютъ такъ мелко и ничтожно.
Она очень огорчена, но и не можетъ быть иначе... Разсказавъ еще нѣкоторыя подробности занимавшаго ее дѣла, она встала.
— Ну, вотъ, кажется, и Анна, — сказала она. — Прощай. Помогай тебѣ Богъ.
— Въ чемъ? — неожиданно спросилъ онъ.
— Я не хочу понимать тебя и отвѣчать тебѣ. Каждый несетъ свой крестъ, исключая тѣхъ, которые накладываютъ его на другихъ, — сказала она, взглянувъ на входившую Анну. — Ну, прощайте. Я зашла узнать, зачѣмъ онъ не спитъ, — сказала она Аннѣ, — и разговорилась о своемъ горѣ. Доброй ночи.[841]
Анна[842] чуть замѣтно улыбнулась, поцѣловалась съ[843] золовкой и обратилась къ мужу.
— Какъ, ты не въ постели? — и, не дожидаясь отвѣта, быстро и легко прошла въ темную гостиную.
Въ гостиной она остановилась, какъ бы задумавшись о чемъ то. Алексѣй Александровичъ вошелъ за ней въ гостиную. Она стояла въ накинутомъ распущенномъ башлыкѣ, играя обѣими руками его кистями и задумчиво опустивъ голову. Увидавъ его, она подняла голову, улыбнулась.
— Ты не въ постели? Вотъ чудо! — И съ этими словами скинула башлыкъ и прошла въ спальню. — Пора, Алексѣй Александровичъ, — проговорила она изъ за двери.
— [844]Анна, мнѣ нужно переговорить съ тобой!
— Со мной? — Она высунулась изъ двери. — Ну да, давай переговоримъ, если такъ нужно. — Она сѣла на ближайшее кресло. — А лучше бы спать.
— Что съ тобой? — началъ онъ.
— Какъ что со мной?
Она отвѣчала такъ просто, весело, что тотъ, кто не зналъ ее, какъ мужъ, не могъ бы замѣтить ничего неестественнаго ни въ звукахъ, ни въ смыслѣ ея словъ. Но для него, знавшаго, что когда[845] на лицѣ его видна была тревога, забота, иногда самая легкая, она тотчасъ же замѣчала ее и спрашивала причины; для него, знавшаго, что всякія свои радости, веселье, горе она тотчасъ сообщала ему, для него теперь видѣть, что она не хотѣла замѣчать его состоянія, что не хотѣла ни слова сказать про себя, было ужасно.
— Какъ что со мной? Со мной ничего. Ты уѣхалъ раньше, чтобы спать, и не спишь, не знаю отчего, и я пріѣхала и хочу спать.
— Ты знаешь, что я говорю, — повторилъ онъ тихимъ и строгимъ голосомъ. — У тебя въ душѣ что то дѣлается. Ты взволнована и обрадована чѣмъ-то независимо отъ меня, отъ общей спокойной жизни. Ты весела..., — сказалъ онъ, самъ чувствуя всю праздность своихъ словъ, когда онъ говорилъ ихъ и смотрѣлъ на ея смѣющіеся, страшные теперь[846] для него глаза.
— Ты всегда такъ, — отвѣчала она, какъ будто совершенно не понимая его и изо всего того, что онъ сказалъ, понимая только послѣднее. — То тебѣ непріятно, что я скучна, то тебѣ непріятно, что я весела. Мнѣ не скучно было. Это тебя оскорбляетъ.
[847]Онъ вздрогнулъ, какъ будто его кольнуло что то,[848] чувствуя, что то дьявольское навожденіе, которое было въ ней, не пронзимо ничѣмъ.
— [849]Анна![850] Ты ли это? — сказалъ онъ также тихо, сдѣлавъ усиліе надъ собой и удержавъ выраженіе отчаянія.
— Да что же это такое, — сказала она съ такимъ искреннимъ и комическимъ всетаки, веселымъ удивленіемъ. — Что тебѣ отъ меня надо?
— Тебя, тебя, какая ты есть, а не это, — говорилъ Алексѣй Александровичу махая рукой, какъ бы разгоняя то, что застилало ее отъ него. И голосъ его задрожалъ слезами.
— Это удивительно, — сказала она, не замѣчая его страданія и пожавъ[851] плечами. — Ты нездоровъ, Алексей Александровичъ.
Она встала и хотѣла[852] уйти; но онъ схватилъ своей разгоряченной рукой ея тонкую и холодную руку и остановилъ ее. Она бы могла шутя стряхнуть его руку, и въ томъ взглядѣ, который она опустила на его костлявую слабую руку и на свою руку, выразилось насмѣшливое презрѣніе, но она не выдернула руки, только съ отвращеніемъ[853] дрогнула плечомъ.
— Ну-съ, я слушаю, что будетъ.
— [854]Анна! — началъ онъ, составляя концы пальцевъ и изрѣдка ударяя на излюбленныя слова, — Анна, повѣришь ли ты мнѣ или нѣтъ, это твое дѣло, но я обязанъ передъ тобой, передъ собой и передъ Богомъ высказать всѣ мои опасенія и всѣ мои сомнѣнія. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богомъ. Разорвать эту связь можетъ только преступленіе.[855] Въ связи нашей есть таинство, и ты и я — мы его чувствуемъ, и оттого я знаю, хотя ничего не случилось, я знаю, что теперь, именно нынче, въ тебя вселился духъ зла и искушаетъ тебя, завладѣлъ тобой. Ничего не случилось, — повторилъ онъ болѣе вопросительно, но она не измѣняла удивленно насмѣшливаго выраженія лица, — но я вижу возможность гибели для тебя и для меня[856] и прошу, умоляю опомниться, остановиться.
— Что же, это ревность, къ кому? Ахъ, Боже мой, и какъ мнѣ на бѣду спать хочется.
— Анна, ради Бога не говори такъ,[857] — сказалъ онъ кротко.
— Можетъ быть, я ошибаюсь, но повѣрь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, какъ и за тебя. Я люблю, я люблю тебя, — сказалъ онъ.
При этихъ словахъ на мгновеніе лицо ее опустилось, и потухла насмѣшливая искра во взглядѣ.
— Алексѣй Александровичу[858] я не понимаю, — сказала она.
— Позволь, дай договорить, да,[859]... я думалъ[860] иногда прежде о томъ, что бы я сдѣлалъ, если бы[861] моя жена измѣнила мнѣ. Я бы оставилъ ее и постарался[862] жить одинъ. И я думаю, что я бы не былъ счастливъ, но я могъ бы такъ жить, но не я главное лицо, а ты.[863] Женщина, преступившая законъ, погибнетъ, и погибель ее ужасна.
[864]Она молчала, но онъ чувствовалъ, что неприступная черта лежала между нимъ и ею.
— Если ты дорожишь собой, своей вѣчной душой, отгони отъ себя это холодное, не твое состояніе, вернись сама въ себя, скажи мнѣ все, скажи мнѣ, если даже тебѣ кажется, что ты жалѣешь, что вышла за меня, что ты жалѣешь свою красоту, молодость, что ты боишься полюбить или полюбила, — продолжалъ онъ.
— Мнѣ нечего говорить, — вдругъ быстро выговорила, — да и... пора спать.
— Хорошо, — сказалъ онъ.
[865]Алексѣй Александровичъ[866] тяжело вздохнулъ и пошелъ раздѣваться.
Когда онъ пришелъ въ спальню, тонкія губы его были строго сжаты, и глаза не смотрѣли на нее. Когда онъ легъ на свою постель, Анна ждала всякую минуту, что онъ еще разъ заговоритъ съ нею. Она не боялась того, что онъ заговоритъ, и ей хотѣлось этаго. Но онъ молчалъ. «Ну, такъ я[867] заговорю съ нимъ, вызову его опять», подумала она, но въ туже минуту услыхала ровный и спокойный свистъ въ его крупномъ горбатомъ носу.
Она осторожно поднялась и сверху внимательно разглядывала его спокойное, твердое лицо,[868] и особенно выпуклые и обтянутые жилистыми вѣками яблоки закрытыхъ глазъ испугали ее. Эти глаза похожи были на мертвые.
— Нѣтъ, ужъ поздно, голубчикъ, поздно, — прошептала она, и ей весело было то, что уже было поздно, и она долго лежала неподвижно съ открытыми глазами, блескъ которыхъ, ей казалось, она сама въ темнотѣ видѣла.
* № 38 (рук. № 22).
Это было очень мило, но разговоръ перервался, и опять надо было затѣвать новое. Хозяйка занялась этимъ дѣломъ раздуванія огня разговора и предложила вопросъ о возможности счастливыхъ браковъ безъ страсти.
— Я думаю, — сказала[869] одна дама, — что бракъ по разсудку — самый счастливый, потому что видятъ другъ друга, какіе есть, а не какіе кажутся.[870]
— Да, это было бы такъ, если бы дѣйствительно любви не было, — сказалъ кто-то. — Но счастье браковъ по разсудку разлетается именно отъ того, что появляется любовь, та самая, которую не признавали.
— Но если это такъ, какъ скарлатина, то черезъ это надо пройти. Всякая дѣвушка должна влюбиться, опомниться и выдти замужъ. Тогда надо выучиться прививать любовь, какъ оспу.
— Я была влюблена въ дьячка, — сказала княгиня Мягкая.
— Нѣтъ, я думаю безъ шутокъ, что для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться.
— Вотъ именно, — сказала Анна, — надо ошибиться и поправиться.
Она засмѣялась, перегнулась къ столу, сняла перчатку съ бѣлой руки и взяла чашку.
— Ну, а если ошибка въ женитьбѣ? — сказалъ хозяинъ.
— Все таки надо поправиться.
— Но какъ?
— Я не знаю какъ, — сказала она. — Никогда не поздно раскаяться.
[871]Вронской смотрѣлъ на Анну[872] на столько, на сколько позволяло приличіе, и лицо его сіяло счастіемъ.
* № 39 (рук. № 31).
Послѣ объясненія своего съ женою Алексѣй Александровичъ почувствовалъ себя до такой степени несчастнымъ и жалкимъ и сознаніе своей жалкости такъ оскорбляло его, что онъ съ тѣхъ поръ ни разу не вызывалъ жену на объясненія и избѣгалъ ее, что было такъ легко и естественно при той занятой и свѣтской жизни, которую они оба вели. Онъ съ такимъ усиліемъ началъ это унизительное объясненіе тогда и такъ пристыженъ былъ тѣмъ отпоромъ мнимаго непониманія, который ему дала Анна, что онъ не въ силахъ былъ начать новое. На него нашелъ столбнякъ гордости. «Не хочешь, — говорилъ онъ, мысленно обращаясь къ ней, — тѣмъ хуже для тебя». Онъ самъ чувствовалъ, что это отношеніе къ женѣ было безумно, что оно было подобно тому, что бы сказалъ человѣкъ, попытавшійся тщетно потушить пожаръ и который, разсердившись бы на тщету своихъ усилій, сказалъ бы: «Такъ на же тебѣ, такъ сгоришь за это».
Онъ чувствовалъ это нѣсколько разъ, хотѣлъ заговорить съ нею, но всякій разъ имъ овладѣвалъ столбнякъ гордости. Онъ, съ трудомъ удерживая слезы, обдумывалъ самъ съ собой, что онъ скажетъ ей; но какъ только онъ подходилъ къ ней, лицо его противъ его воли принимало холодно спокойное выраженіе, и онъ говорилъ не о томъ, что хотѣлъ.
* № 40 (рук. № 27).
I.
Левинъ жилъ въ деревнѣ, и стыдъ отказа, привезенный имъ изъ Москвы, все болѣе и болѣе застилался невидными, но значительными для него событіями деревенской жизни. Съ нимъ свершалось то, что онъ себѣ ставилъ не разъ какъ правило, для утѣшенія въ горестныя минуты, но что, какъ правило, никогда не утѣшало его, но въ дѣйствительности всегда оказывалось. справедливо. Въ то время, когда онъ пріѣхалъ изъ Москвы и вздрагивалъ и краснѣлъ всякій разъ, какъ вспоминалъ свой позоръ, онъ сказалъ себѣ: «Сколько у меня бывало такихъ горестей и стыдовъ, которые казались непереносимы, какъ, напримѣръ, единица за латынь, когда я думалъ, что погибъ отъ этаго; падшая любимая лошадь и другіе, и чтожъ, теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, какъ это могло огорчать меня. Тоже будетъ и съ этимъ горемъ. Пройдутъ года, и я буду удивляться, какъ это могло огорчать меня».
Но тогда это разсужденіе не успокоило его, а прошло 3 мѣсяца, и дѣйствительно онъ началъ успокаиваться, но не совсѣмъ. Онъ забывалъ, что, кромѣ времени, прошедшаго послѣ единицы за латынь и погибели лошади, былъ уже выдержанный экзаменъ въ латыни и другія лучшія лошади, но теперь не было другой женщины, которая бы замѣнила ему ту, которую онъ потерялъ безвозвратно. А онъ чувствовалъ самъ, какъ чувствовала любящая его старушка тетушка и всѣ его окружающіе, что нехорошо человѣку единому быти. Онъ помнилъ, какъ онъ, разговорившись шутя, сказалъ разъ своему скотнику Николаю, наивному, милому мужику: «Что, Николай, хочу жениться», и какъ Николай поспѣшно отвѣчалъ, какъ дѣло, въ которомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія: «И давно пора, Константинъ Дмитричъ».
Но женитьба теперь стала отъ него дальше, чѣмъ когда либо. Мѣсто было занято, и, когда онъ теперь въ воображеніи ставилъ на это мѣсто кого-нибудь изъ тѣхъ дѣвушекъ, которыхъ онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что это было совершенно невозможно. Но время дѣлало свое, и съ каждой недѣлей онъ рѣже и рѣже и съ меньшею живостью и болью вспоминалъ о Кити, и, хотя предполагалъ по времени, что теперь она уже замужемъ или выйдетъ на дняхъ, онъ ждалъ съ нетерпѣніемъ подтвержденія этаго предположенія, зная, что это извѣстіе, какъ выдергиваніе зуба, совсѣмъ вылечить его.
Но еще прежде чѣмъ онъ получилъ это извѣстіе, пришла весна, одна изъ тѣхъ рѣдкихъ весенъ, которыхъ и старики не запомнятъ, и эта прекрасная весна почти совсѣмъ успокоила его.
Не весна съ цвѣточками и соловьями такъ успокоительно подѣйствовала на него, но весна рѣдкая для травъ и хлѣбовъ. Весна долго не открывалась. Днемъ таяло на солнцѣ, а ночью подмороживало. Настъ былъ такой, что на возахъ ѣздили. Такъ тянулось недѣли три; казалось, конца не будетъ. Потомъ вдругъ понесло теплымъ вѣтромъ, тучи полились дождемъ три дня и три ночи теплой бурей. Потомъ сталъ туманъ, и понемногу стали разбираться переломанныя льдины, вспѣнившіеся потоки, и вдругъ прояснѣло, и въ тотъ же день весь дрожащій теплый воздухъ наполнился звуками жаворонковъ, на низахъ заплакали чибисы надъ болотами, булькающими отъ проснувшейся въ нихъ жизни. Мужики откидывали навозъ отъ завалинъ и отдирали примерзшія къ плетню бороны и ладили сохи. Бабы с незагорѣлыми бѣлыми ногами легко и весело, звонко болтая, шли за водой. Облѣзшая, вылинявшая мѣстами только скотина заревѣла на выгонахъ, пощипывая старику съ пробивавшейся зеленой травкой; заиграли кривоногіе ягнята вокругъ теряющихъ волны блеящихъ матерей, запахло землей отъ отошедшихъ полей и огородовъ, надулись почки горькой и липкой спиртовой березы, распушилась верба надъ быстро, на глазахъ тающимъ въ лѣсахъ снѣгомъ у корней, и по старымъ [1 неразобр.] слѣдамъ полетѣла выставленная, облетавшаяся пчела, и весело заблестѣли озими, всѣ гладкія, ровныя, какъ бархатъ, безъ одной плѣшины и вымочки.
[873]Левинъ надѣлъ большіе сапоги и одну суконную поддевку и пошелъ по хозяйству. Коровы были выпущены на варокъ и, сіяя перелинявшей гладкой шерстью, грѣлись на солнцѣ. Онъ велѣлъ выгнать ихъ на выгонъ. «Ничего, пусть загрязнятся, обчистятся. А телятъ выпустить на варокъ». Приплодъ нынѣшняго года былъ хорошъ. Даже полукровные были хороши. Ранніе были съ мужицкую корову. Но Павина дочь выдавалась изъ всѣхъ. Полюбовавшись скотиной, онъ сдѣлалъ распоряженія о водопоѣ, такъ какъ вода въ прудѣ была грязна, и замѣтилъ, что на неупотреблявшемся зимой варкѣ рѣшетки были кѣмъ то поломаны. Онъ послалъ за плотникомъ. Плотникъ ладилъ сохи, которыя должны были быть налажены еще до масляницы. Это было досадно, но это была привычная досада. Какъ ни бился Левинъ въ хозяйствѣ, въ томъ, чтобы дѣлать все впередъ, а не тогда, когда нужно употреблять, и чтобы сдѣланное разъ было спрятано, это повторялось всегда и во всемъ, сколько ни бился онъ. Общій порядокъ бралъ свое. Рѣшетки не нужны были зимой на варкѣ, ихъ снесли въ конюшню и переломали, теперь надо дѣлать новыя. Сохи велѣно чинить зимой, и нарочно взято 3 плотника, но всѣмъ имъ нашлись дѣла всю зиму, и сохи ладили и въ его экономіи, какъ и всѣ мужики, тогда, когда пахать надо было.
— Позовите Василія Ѳедоровича (прикащика).
Василій Ѳедоровичъ, сіяя также, какъ и всѣ и все въ этотъ день, въ обшитомъ мерлушкой тулупчикѣ, пришелъ, шагая черезъ грязь, и доказалъ, что иначе нельзя было. Но въ такой день нельзя было сердиться.
— Ну что, сѣять можно?
— За Туркинымъ верхомъ съ понедѣльника можно.
— Ну, а клеверъ?
— Послалъ-съ, разсѣваютъ. Не знаю только пролѣзутъ ли, тонко.
— На сколько десятинъ?
— На три.
— Отчего?
— Телѣгъ еще не собрали.
— Ахъ, какъ вамъ не стыдно.
— Да не безпокойтесь, все сдѣлаемъ во времени.
Опять это была одна изъ старыхъ досадъ Левина. Клеверъ надо было сѣять чѣмъ раньше, тѣмъ лучше; но это вводилъ Левинъ, и ему не вѣрили, и всякій разъ надо было бороться.
— Игнатъ, — крикнулъ онъ кучеру, съ засученными рукавами у колодца обмывавшему коляску — Осѣдлай мнѣ.
— Кого прикажете?
— Ну, хоть Копчика.
— Слушаюсь.
Весна — время плановъ и предположеній. Левинъ всегда чувствовалъ это, и, какъ дерево, не знающее еще, куда и какъ разрастутся эти молодые побѣги и вѣтви, заключенные въ налитыхъ почкахъ, онъ придумывалъ и предполагалъ, что онъ сдѣлаетъ новаго въ любимомъ имъ хозяйствѣ.
Пока сѣдлали лошадь, онъ сообщилъ свои планы прикащику, и прикащикъ, какъ всегда, дѣлалъ усилія въ угожденіе хозяину, чтобы не показать равнодушія къ этимъ планамъ. Планы всѣ были хороши — вывезти весь навозъ, перепахать паръ лишній разъ и принанять рабочихъ, для того чтобы убрать покосы всѣ не исполу, а работниками, но прикащикъ, ближе стоящій къ дѣлу, зналъ, что въ дѣлѣ хозяйства довлѣетъ дневи злоба его и что въ каждомъ хозяйствѣ есть предѣлы возможнаго. Рабочихъ, сколько они не пытались, они не могли нанять больше 40, 37, 38, и больше нѣтъ и что противъ расчета работъ хозяина много будетъ еще непредвидѣннаго, долженствующаго измѣнить планы. Такіе разговоры всегда были досадны Левину, но нынче было такъ хорошо, что онъ только посмѣялся прикащику.
— Ну, ужъ знаю, вы все поменьше да похуже, но я нынѣшній годъ не дамъ вамъ по своему дѣлать. Все буду самъ.
— Да я очень радъ.
— Такъ за березовымъ доломъ разсѣваютъ клеверъ, я поѣду посмотрю, — сказалъ онъ, садясь на своего маленькаго буланаго Колпика, и бойкой иноходью доброй застоявшейся лошадки, попрашивающей поводья, поѣхалъ по грязи двора за ворота и въ поле.
Если ему весело было дома на скотномъ дворѣ, то въ полѣ, мѣрно покачиваясь на иноходи добраго конька, впивая теплый съ свѣжестью запаха снѣга воздухъ, слушая жаворонковъ и глядя на пухнувшія почки деревьевъ, на бѣгущіе, журчащіе ручьи, на которые косился Колпикъ, и въ особенности на свои зеленя, на огромное пространство, зеленѣющее ровнымъ бархатнымъ ковромъ кое гдѣ въ лощинахъ, съ бѣлыми пятнами снѣга, ему стало еще веселѣе. Ни видъ крестьянской лошади и стригуна, топтавшихъ его зеленя (онъ велѣлъ согнать ихъ встрѣтившемуся мужику), ни насмѣшливый ли, глупый отвѣтъ мужика Ипата, котораго онъ встрѣтилъ и который на вопросъ его: «Что, Игнатъ, скоро сѣять?» — «Надо прежде вспахать».[874] Несмотря на это, чѣмъ дальше онъ ѣхалъ, тѣмъ ему веселѣе становилось. И хозяйственные планы, одинъ лучше другаго — обсадить всѣ поля лозинами, перерѣзать на 6 полей навозныхъ и 3 запасны[я], смежныя, выстроить дворъ на дальнемъ концѣ поля и вырыть прудъ — представлялись ему. Клеверъ сѣялъ солдатъ работникъ Василій весельчакъ, котораго онъ любилъ. Телѣга съ сѣменами стояла не на рубежѣ, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошадью. Онъ велѣлъ отвести лошадь. Василий извиняясь сказалъ:
— Ничего, сударь, затянетъ. А ужъ сѣвъ, Константинъ Дмитричъ, первый сортъ.
— А трудно ходить?
— Страсть! по пудовику на лаптѣ волочишь. Да ужъ я стараюсь.
Левинъ поглядѣлъ, какъ онъ шагаетъ съ налипшими комьями земли на каждой ногѣ, и подумалъ, что онъ такъ шагаетъ съ утра, и постоялъ съ нимъ, чтобы разговориться. Онъ хотѣлъ сообщить ему свою радость о прекрасной веснѣ, даже сообщить ему свои планы; но Василій всѣ его затѣванія разговора сводилъ на то, что онъ старается, какъ отцу родному, и что самъ не любитъ дурно сдѣлать — «хозяину хорошо, и намъ хорошо» и что онъ хозяевами доволенъ, и попросилъ отъ имени рабочихъ прибавки харча, такъ [какъ] работа пошла тяжелѣе и дни большіе. Хотя конецъ этотъ и былъ не совсѣмъ пріятенъ Левину, такъ [какъ] надо было отказать, но онъ все-таки, слѣзши съ лошади и пробовавъ самъ разсѣивать и убѣдившись, что онъ это не можетъ дѣлать такъ хорошо, какъ Василій, и запыхавшись, онъ отъѣхалъ отъ него и поѣхалъ посмотрѣть поле подъ пшеницу за Туркинымъ верхомъ. Лошадь кое гдѣ взяла выше ступицы по паханному полю, кое гдѣ былъ ледокъ, кое гдѣ на буграхъ просыхало, и Левинъ порадовался на пахоту и рѣшилъ, что можно сѣять съ понедѣльника. Проѣзжая назадъ черезъ Кочакъ, ручей, чуть не увязла лошадь, но тутъ же поднялъ утокъ и куликовъ и подумалъ, что нынче должна быть тяга. Проѣзжая черезъ лѣсъ, лѣсникъ подтвердилъ, что вальдшнепы есть. И Левинъ поѣхалъ рысью домой, чтобы успѣть пообѣдать и приготовить ружье къ вечеру.
Подъѣзжая домой въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа со стороны гумна, Левинъ услыхалъ колкольчикъ со стороны главнаго подъѣзда къ дому.
«Да, это съ желѣзной дороги, — подумалъ онъ, — самое время Московскаго поѣзда. Кто бы это? Вѣрно, братъ. Вотъ бы хорошо было».
Онъ тронулъ лошадь и, выѣхавъ за акацію, увидалъ подъѣзжающую ямскую тройку съ желѣзнодорожной станціи и господина съ бакенбардами.
«Братъ, онъ», подумалъ Левинъ и радостно поднялъ руки кверху, но тутъ же увидалъ, что это не братъ, а кто то, кого онъ не узналъ.
«Чортъ его дери, — проговорилъ онъ, — какой нибудь дуракъ изъ Москвы», подумалъ онъ, вспоминая, что онъ многимъ своимъ такъ называемымъ пріятелямъ въ Москвѣ хвастался своими мѣстами на вальдшнеповъ и звалъ на тягу.
— Аа! — сказалъ онъ, узнавъ Облонскаго, и не безъ удовольствія. Изъ всѣхъ Московскихъ дураковъ этотъ былъ все-таки пріятнѣе всѣхъ — одно, что онъ напоминалъ это дѣло съ Кити, но и это къ лучшему. «Узнаю вѣрно, вышла ли или когда выходитъ замужъ».
И въ этотъ прекрасный весенній день Левинъ почувствовалъ, что воспоминанье о ней совсѣмъ даже не больно ему.
— Что, не ждалъ? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ съ комкомъ грязи на щекѣ, половинѣ носа и на глазѣ и брови, сіяя весельемъ и здоровьемъ и блестя глазками. — Пріѣхалъ тебя видѣть, разъ, — сказалъ онъ, обнимая и цѣлуя его, — на тягѣ постоять и лѣсъ въ Ергушовѣ продать.
— И прекрасно! Какова весна? Пойдемъ въ домъ. Ты тетушку знаешь?
— Знаю, какъ же.
Элегантныя вещи — ремни, чемоданъ, мѣшокъ, ружье — были внесены въ комнату для пріѣзжихъ; и вымытый, слегка спрыснутый духами, расчесанный, онъ сіяя вышелъ въ гостиную, побесѣдовалъ съ тетушкой и взялся за закуску. Несмотря на старанія тетушки и повара, обѣдъ былъ совсѣмъ не такой, какой привыкъ кушать Степанъ Аркадьичъ; вина никакого другаго не было, кромѣ домашняго травнику и бѣлаго крымскаго, но онъ и травникъ нашелъ необыкновеннымъ и выпилъ 3 рюмки, и обѣдъ — супъ съ клецками и курицу подъ соусомъ — нашелъ необыкновенными, и вино бѣлое, онъ сказалъ, что, право, очень, очень недурно, и выпилъ цѣлую бутылку.
За обѣдомъ шелъ общій оживленный разговоръ. Левинъ замѣтилъ и то, что Степанъ Аркадьичъ какъ бы умышленно избѣгалъ разговора о Щербацкихъ, и то, какъ онъ умѣлъ быть простъ, добродушенъ и милъ, безъ всякаго старанія.
Чопорная старушка тетушка, сама того не замѣчая, была втянута въ пріятный для себя разговоръ о старыхъ родныхъ и знакомыхъ, и кто кому племянникъ, и жены родня, и какъ и кто на комъ женатъ.
— Ну, теперь не пора ли? — сказалъ онъ за кофеемъ.
И они пошли одѣваться на тягу.
Степанъ Аркадьичъ досталъ свои сапоги, и Кузьма, уже чуявшій большую наводку, не отходилъ отъ Степана Аркадьича и надѣвалъ ему и чулки и сапоги, что Степанъ Аркадьичъ охотно предоставлялъ ему дѣлать.
— Ты прикажи, Костя, если пріѣдетъ Рябининъ купецъ, я ему велѣлъ нынче пріѣхать, принять и подождать.
— А ты развѣ Рябинину продаешь?
— А что?
— Плутъ страшный, окончательный и положительный.
Степанъ Аркадьичъ засмѣялся.
— Да, онъ удивительно смѣшно говоритъ.
Старая сука, сетеръ Ласка, какъ съумашедшая, вилась около хозяина, когда оба охотника съ ружьями вышли на крыльцо.
— Я велѣлъ заложить, хотя недалеко, а то пѣшкомъ пройдемъ.
— Нѣтъ, лучше поѣдемъ.
Степанъ Аркадьичъ обвернулъ себѣ сапоги тигровымъ пледомъ, и они поѣхали.
— Ну, что, какъ ты поживаешь? началъ Степанъ Аркадьичъ, какъ бы сбираясь на большой и важный разговоръ. Но Левину не хотѣлось говорить теперь, до охоты. И онъ отвлекъ разговоръ, переведя его на Облонскаго.
— Меня спрашивать нечего. Твои дѣла какъ, т. е. сердечныя?
— О! mon cher![875] — Глаза Степана Аркадьича засвѣтились, сжавшись. — Ты вѣдь не признаешь любви послѣ брака — это все дурно, по твоему. А я не признаю жизни безъ любви, но, mon cher, бываютъ тяжелыя минуты. Бываютъ женщины, которыя мучаютъ тебя. Да ты не повѣришь, я въ какомъ положеніи теперь...
И Степанъ Аркадьичъ, которому подъ вліяніемъ выпитаго вина хотѣлось поговорить о своей любви, разсказалъ Левину цѣлый романъ, въ которомъ онъ игралъ роль de l’amant de coeur[876] женщины, находящейся на содержаніи. Левинъ слушалъ, удивлялся и не зналъ, что говорить; но Степану Аркадьичу и не нужно было, чтобы онъ говорилъ, онъ только самъ хотѣлъ высказать свою исторію.
* № 41 (рук. № 31).
— Какова весна, Василій! А? — сказалъ онъ.
— Что говорить, Божья благодать, — отвѣчалъ Василій. — Богъ даетъ, и людямъ стараться надо. Я, Константинъ Дмитричъ, кажется, какъ отцу родному стараюсь. Я и самъ не люблю дурно сдѣлать и другимъ не велю. Я хозяевами доволенъ. Одно — рабочіе обижаются. Работа пошла тяжелѣе и дни большіе, а харчи все зимніе. Я говорю — власть хозяина. Нанялся — продался.
Недовольство рабочихъ на харчи была старая, уже давно знакомая тема для Левина. Было время, когда онъ заводилъ особенную кухню, самъ ходилъ въ нее, пробовалъ ѣду, давалъ по фунту мяса, молоко и завелъ скатерти и требовалъ чистоту, и тогда почти всѣ рабочіе разбѣжались, а жалобамъ на кухарку, на прикащика не было конца. Потомъ Левинъ[877] разсердился, поручилъ все прикащику. Онъ сталъ давать имъ сала въ щи, какъ онъ выражался, когда есть кинуть сальца, когда нѣтъ — молочка снятого, и всѣ совершенно были довольны. Теперь же послѣднее время Левинъ завелъ артель и выдавалъ харчи по условію.
* № 42 (рук. № 27).
Левинъ видѣлъ, что Степанъ Аркадьичъ принадлежитъ къ этому весьма распространенному типу горожанъ вообще и въ особенности Петербургскихъ, которые, побывавъ въ три года раза два въ деревнѣ и поговоривъ раза два съ купцомъ, прикащикомъ и мужикомъ, запомнятъ два-три слова деревенскихъ и кстати и полагаютъ, что имъ весь деревенскій бытъ ясенъ и что ихъ уже никто не обманетъ, и, благодаря этой увѣренности, продолжаютъ служить пищей для весьма распространеннаго еще типа купцовъ въ родѣ Рябинина, которые не торгуютъ, а только выжидаютъ дураковъ господъ и ловятъ ихъ. А такъ [какъ] дураки въ сословіи Облонскаго не переводятся, то класъ все больше и больше распространяется и богатѣетъ.
— Вѣдь это не обидной лѣсъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, желая этимъ словомъ «обидной» совсѣмъ убѣдить Левина въ несправедливости его сомнѣній, — а дровяной больше. И станетъ не больше 30 саженъ на десятину, а онъ мнѣ далъ по 200 рублей.
Левинъ улыбнулся.
— Вѣдь я не стану тебя учить, какъ заключенье или что ты тамъ такое пишешь въ своемъ присутствіи, а если мнѣ нужно, то спрошу у тебя, а ты такъ увѣренъ, что ты понимаешь всю эту грамоту о лѣсѣ. Она трудная. Счелъ ли ты деревья?
— Ахъ, вотъ еще вздоръ, — даже съ нѣкоторой раздражительностью сказалъ Облонский.
— Ну, а я 20 разъ въ лѣто проѣду черезъ вашъ лѣсъ, и осенью съ гончими бываю, и знаю, и свой лѣсъ считалъ. И ни одинъ купецъ не купитъ не считая, если ему не отдаютъ даромъ, какъ ты. Твой лѣсъ стоитъ 500 рублей за десятину чистыми деньгами, а онъ тебѣ далъ 200 въ разсрочку. Значитъ, ты ему подарилъ тысячъ 30.
— Ну, купи ты! Вотъ вы всегда такъ.
— Я не торгую лѣсами. Ну, да вотъ и онъ, — сказалъ Левинъ, увидавъ стоявшую подлѣ дома телѣжку съ прикащикомъ купца, державшимъ лошадь.
И лошадь, и телѣжка, и въ особенности красное, полнокровное лицо прикащика сіяли поучительнымъ самодовольствомъ и говорили всѣмъ: «Вотъ какъ дѣлаютъ, вотъ какъ нынче дѣлаютъ. Посмотрите, все у насъ просто и прочно и прилично».
Въ передней еще ихъ встрѣтилъ длиннополый купецъ, сіявшій улыбкой и, очевидно, въ жизни своей никогда ни въ чѣмъ не ошибавшійся. Какъ ни безобразно было его[878] сюртукъ съ пуговицами ниже задницы, его сапоги въ калошахъ, его[879] жилетъ съ мѣдными пуговицами, цѣпочка, его лицо хищное, сухое, ястребиное въ соединеніи съ подлой улыбкой, какъ ни безобразенъ былъ его[880] безсмысленный говоръ, пересыпанный словами: положительно, окончательно и т. п., и его движенія, все это было такъ твердо, рѣшено, so settled, [881] что нельзя было, долго поговоривъ съ нимъ, не пожелать быть похожимъ на него.
* № 43 (рук. № 27).
Левинъ былъ не въ духѣ. 1-е онъ стрѣлялъ плохо, 2-е — этотъ купецъ. Онъ терпѣть не могъ этихъ людей, живущихъ только глупостью Степанъ Аркадьичей. Дѣло было кончено, но ему, умному хозяину, выросшему и жившему въ деревнѣ, безобразіе этого дѣла было противно. Онъ зналъ, что лѣсъ былъ весь подѣлочный, стоилъ 500 minimum за десятину, что другіе купцы или были въ стачкѣ или подкупленные люди. Степану Аркадьичу — какое ему было дѣло; но онъ былъ дворянинъ по крови и видѣть не могъ совершающееся это со всѣхъ сторонъ обѣднѣніе дворянства — и не роскошью. Это ничего, это дворянское дѣло. И не жалко прожившагося на роскоши барина; прожить только онъ и умѣетъ умно — это дворянское дѣло. Не жалко было имѣній, которыя продавались по безхозяйству и покупались мужиками. Это было справедливо. Дворянинъ ничего не дѣлаетъ, а мужикъ работаетъ и вытѣсняетъ празднаго человѣка, но ему было невыносимо досадно, какъ проживались эти петербургскіе господа только тѣмъ, что они были глупы, и такихъ имѣній много около него. То полячокъ за 1/4 цѣны взялъ все на аренду, то этакій Рябининъ купилъ рубль за 25 копѣекъ. И на мѣсто добродушныхъ дураковъ вступаютъ въ[882] кругъ земства мелкіе плуты эксплуататоры. И надо же было, чтобы у него въ домѣ дѣлали эту дурацкую продажу. Это злило его. 3-е, что и было главное, онъ узналъ, что Кити не замужемъ и что она больна, какъ онъ догадался, несмотря на то что Степанъ Аркадьичъ не хотѣлъ говорить этаго, — больна отъ любви не взаимной. Это оскорбленіе какъ будто падало на него. Ему казалось, что этотъ человѣкъ, который презиралъ ее любовь, а она презирала его, что этотъ человѣкъ презиралъ его и былъ его врагъ.
* № 44 (рук. № 28).
На конюшнѣ мальчикъ его (грумъ), узнавъ еще издалека его коляску, вызвалъ Англичанина. Сухой Англичанинъ, самъ бывшій жокей, теперь тренеръ, въ высокихъ сапогахъ и въ короткомъ пиджакѣ, съ волосами, оставленными только подъ бородой, вышелъ, раскачиваясь, навстрѣчу.
— Ну что Фру-Фру? — спросилъ Вронскій по англійски.
— Все хорошо, — медленно отвѣчалъ Англичанинъ, — немного возбуждена, но[883] въ хорошемъ духѣ. Лучше не ходите, — прибавилъ Англичанинъ. — Она очень возбуждена съ тѣхъ поръ, какъ надѣли намордникъ, и я не велѣлъ выводить другихъ лошадей и входить туда до скачки. А то какъ дверь отворять...
— Нѣтъ, ужъ взойду, она меня знаетъ.
— Come on! —[884] пропустилъ сквозь зубы Англичанинъ и пошелъ впередъ, размахивая руки своей развинченной походкой.
[885]— Обѣдали? — спросилъ онъ.
— Обѣдалъ немного.
— Такъ надо рюмку хересу, садясь.
Они вошли въ широкія кленовыя лакированныя двери конюшеннаго татерзала. Съ обѣихъ сторонъ широкаго въ 6 аршинъ мощеннаго коридора стояли лошади по широкимъ устланнымъ соломой стойламъ, отгороженнымъ рѣзными столбами. Въ конюшнѣ было свѣтло, какъ на дворѣ, отъ свѣта, подавшего въ цѣльныя окна сверху. Дежурный, въ чистой курткѣ, нарядный, молодцоватый мальчикъ, съ метлой въ рукѣ, встрѣтилъ входившихъ и пошелъ за ними. Вронскій привычнымъ взглядомъ оглядывалъ знакомыхъ ему, стоявшихъ въ татерзалѣ лошадей, двѣ были свои верховыя; но онъ, не доходя до Фру-Фру, остановился передъ рыжимъ жеребцомъ, на которомъ былъ намордникъ. Жеребецъ стоялъ, равномѣрно поднимая храпъ и опуская его.
— Хорошъ, — сказалъ Вронскій, останавливаясь противъ него и охотницкимъ взглядомъ сразу охватывая всѣ главныя достоинства лошади — его широкій, мускулистый задъ и мышки, низкую бабку надъ точенымъ копытомъ. — Одна голова велика, а то совершенство. — Да, это мой одинъ серьезный соперникъ, — сказалъ онъ Англичанину.
— Безъ препятствій — да, — сказалъ Англичанинъ, — и если бы вы ѣхали на немъ, за васъ бы держалъ.
— Фру-Фру нервнѣе, онъ — сильнѣе, — сказалъ Вронскій, невольно улыбаясь отъ похвалы своей ѣздѣ.
— Съ препятствіями все — ѣздокъ и счастье, — сказалъ Англичанинъ.
Они подошли къ Фру-Фру, невысокой гнѣдой, нѣсколько подласой кобылѣ.
Фру-Фру была лошадь совсѣмъ другаго типа, чѣмъ рыжій, она не была такъ правильно и сильно сложена и костью была много слабѣе и тоньше. Въ ней были даже дурные недостатки, въ ней была вывернутая косолапина и въ переднихъ и заднихъ ногахъ. Мышка была въ ней не такъ крупна, как у рыжаго, но она вся была нервы, всѣ ея мышцы рѣзко выдѣлялись изъ подъ тонкой кожи. Вся она была подъ сѣткой выступавшихъ жилъ. А голова совершенно сухая, безъ мяса, съ огромнымъ веселымъ и страстнымъ взглядомъ и храпомъ съ раструбомъ и полна выраженія и огня.
— Ну, вотъ видите, — сказалъ Англичанинъ. — Го, го, — голосомъ успокаивая лошадь, которая, заслышавъ шаги и увидавъ людей, переступала тонкими точеными ногами, косясь своимъ выпуклымъ глазомъ то съ той, то съ другой стороны на вошедшихъ.
— Го, го, — заговорилъ Вронскій и подошелъ къ ней.
* № 45 (рук. № 29).
«Да, я возненавижу его, если онъ не пойметъ всего значенія этаго. Лучше не говорить, зачѣмъ испытывать», думала она.
— Ради Бога, — повторилъ онъ.
— Я брюхата, — сказала она тихо, и руки и губы ея задрожали. Но она не спускала съ него глазъ.
Она не ошиблась: ужасъ и растерянность выразились на его лицѣ. Онъ хотѣлъ что то сказать и остановился. Онъ выпустилъ ея руку и опустилъ голову. Потомъ онъ взглянулъ на нее, стараясь проникнуть въ ея чувство, поцѣловалъ ея руку, всталъ и молча прошелся по терасѣ.
— Такъ это кончено! — сказалъ онъ, рѣшительно подходя къ ней. — Ни я, ни вы не смотрѣли на наши отношенія какъ на игрушку, и теперь это рѣшено. Необходимо кончить всю эту ложь, весь этотъ стыдъ, — сказалъ онъ оглядываясь, — подъ к[оторыми] мы живемъ.
— Какъ же кончить? — сказала она съ злой насмѣшкой.
Она теперь совершенно успокоилась, и лицо ея сіяло вызывающей дерзкой радостью, выраженіе которой такъ зналъ въ ней и котораго такъ боялся Вронскій.
— Оставить мужа и соединить нашу жизнь. Она соединена и такъ.
— Но какъ?[886] Въ этомъ то и трудность, — сказала она съ той же насмѣшкой надъ самой собою и безвыходностью своего положенія.
— Надо придумать какъ, — сказалъ онъ строго. — Все лучше, чѣмъ то унизительное положеніе, въ которомъ мы оба. Знать, что мужъ все знаетъ, и обманывать...
— Ахъ, онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ, — заговорила Анна быстро, едва поспѣвая выговаривать одно слово за другимъ. — Онъ ничего, ничего никогда не понималъ и теперь не понимаетъ. Если бы онъ понималъ что-нибудь, развѣ бы онъ[887] оставилъ меня?[888] Онъ дальше своего министерства не понимаетъ и не признаетъ жизни. И все, что мѣшаетъ его успѣху, для него вредно. И жена, которая оставитъ его, испортитъ ему карьеру. И потому онъ не пуститъ меня. А ему все равно.
«Ахъ, если бы это было такъ, — думалъ Вронскій, слушая ея неестественно быструю рѣчь, какъ будто подсказываемую ей кѣмъ то. — Ахъ, если бы это было такъ, но онъ, мужъ, понимаетъ многое, и онъ любитъ и ее и сына, и она себя обманываетъ и заглушаетъ свое раскаяніе, говоря это».
* № 46 (рук. № 29).
II.
Алексѣй Александровичъ Каренинъ со времени перваго объясненія съ женою послѣ вечера у... болѣе не пытался объясняться съ нею, хотя онъ видѣлъ, что причинъ для тѣхже объясненій становится больше и больше. Какъ будто нарочно случилось то, что постоянная дача Алексѣя Александровича была въ П[арголовѣ], и постоянно его жена одна живала лѣтомъ на дачѣ, а онъ оставался въ Петербургѣ, и это какъ будто нарочно сложилось для того, чтобы содѣйствовать сближенію Анны съ Вронскимъ, который стоялъ съ полкомъ въ Красномъ. Послѣднее время Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что подозрѣнія его болѣе и болѣе подтверждаются. Онъ видѣлъ, что въ свѣтѣ уже иначе смотрятъ на его жену. И сестра его Мери нанесла ему послѣдній ударъ: она, жившая лѣтомъ всегда вмѣстѣ съ Анной на дачѣ, нынѣшній годъ, подъ предлогомъ приглашенія отъ друзей провести лѣто съ ними, переѣхала въ Сергіевское и оставила Анну одну. Алексѣй Александровичъ зналъ, что Мери такъ чиста и нравственна, что она уже считала для себя невозможнымъ оставаться съ его женою. Все это зналъ Алексѣй Александровичъ, все это болѣе и болѣе мучало его, но онъ, связанный своимъ положеніемъ человѣкъ и имѣющій всетаки только подозрѣнія, не могъ предпринять ничего рѣшительнаго. Сколько разъ во время своей 8-ми лѣтней счастливой жизни съ женою, глядя на чужихъ невѣрныхъ женъ и обманутыхъ мужей, говорилъ себѣ Алексѣй Александровичъ: «Какъ допустить до этаго? Какъ не остановить и не развязать этаго безобразнаго положения?» Но теперь, когда онъ самъ сталъ или почти сталъ въ это положеніе, онъ не могъ придумать, что сдѣлать. Изъ всѣхъ возможныхъ выходовъ молчаніе и соблюденiе внѣшнихъ приличій казалось ему всетаки самымъ благоразумнымъ. Съ цѣлью соблюденія этихъ приличій онъ и поѣхалъ нынче на скачки. Онъ въ весну былъ нѣсколько разъ на дачѣ; но послѣднее время не былъ болѣе 2-хъ недѣль. Въ день скачекъ, когда весь дворъ бывалъ въ Красномъ, Алексѣй Александровичъ рѣшилъ, что ему надо быть тоже, и кромѣ того[889] его тянуло постоянно туда, къ женѣ. Сестра его[890] Мери была въ Петербургѣ, и онъ вмѣстѣ съ нею поѣхалъ на дачу.[891] Мери ненавидѣла скачки и потому сказала, что она подождетъ ихъ и приготовитъ чай.
Когда Алексѣй Александровичъ пріѣхалъ въ 6-мъ часу на дачу, жены его уже не было, она вслѣдъ за Вронскимъ выѣхала къ Бетси Кириковой, чтобы везти[892] ее съ собой на скачки. Дружба послѣднее время Анны съ Бетси Кириковой и всякое упоминаніе о ней было мучительно для Алексѣя Александровича. Бетси была красавица, жена урода Князя Кирикова и въ давнишней извѣстной всему свѣту связи съ извѣстнымъ чиновникомъ Петербурга. Ее принимали ко двору и потому принимали въ извѣстномъ кругу, но elle était mal vue.[893] Алексѣй Александровичъ пріѣхалъ на скачки одинъ и уже въ бесѣдкѣ нашелъ свою жену.
* № 47 (рук. № 29).
— Но я бы не хотѣла видѣть этихъ ужасовъ. И не поѣду другой разъ. Это меня слишкомъ волнуетъ. Неправда ли, Анна?
— Волнуетъ, но нельзя оторваться, — сказала Анна, глядя въ бинокль. — Если бы я была Римлянка, я бы не пропускала ни одного цирка.
— Ну, въ этомъ я не согласенъ съ тобой, мой другъ, — сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Именно въ этихъ спортахъ есть стороны...
Прервавъ рѣчь, Алексѣй Александровичъ поспѣшно, но достойно всталъ и низко поклонился Великому Князю.
— Ты не скачешь, — пошутилъ Великій Князь.
— Моя скачка труднѣе, Ваше Величество.
И хотя отвѣтъ былъ глупъ и ничего не значилъ, Великій Князь сдѣлалъ видъ, что получилъ умное слово отъ умнаго человѣка и вполнѣ понимаетъ.
— Есть двѣ стороны, — продолжалъ снова Алексѣй Александровичъ, — исполнителей и зрителей. И любовь къ этимъ зрѣлищамъ есть вѣрнѣйшій признакъ низкаго развитія.
— Во мнѣ есть этотъ признакъ, — сказала Анна и обратилась внизъ къ Корсунскому, отвѣчая на его вопросъ.
— Анна Аркадьевна, пари. За кого вы держите?
— Если бы я была мущина, я бы прожилась на пари.
— Ну, держите со мной. Я за Кузовцева. Васъ совсѣмъ не видно. Какое прелестное зрѣлище.
Но въ это время пускали ѣздоковъ, и всѣ разговоры прекратились. Алексѣй Александровичъ замолкъ, и всѣ поднялись и обратились къ рѣкѣ. Говорить уже нельзя было, но за то удобно было смотрѣть на Анну, такъ какъ всѣ глаза направлены были на скачущихъ, и Алексѣй Александровичъ внимательно наблюдалъ свою жену и читалъ, какъ по книгѣ, на ея лицѣ подтвержденіе своего несчастія.
* № 48 (рук. № 29).
Алексѣй Александровичъ учтиво подалъ ей руку, но она остановилась, прислушиваясь къ тому, что говорилъ генералъ о паденіи Вронскаго. Генералъ говорилъ, что онъ убился, какъ ему сказывали.
— Это ужасно! Лошадь сломала ногу, говорятъ.
Анна слушала, не спрашивая и не трогаясь съ мѣста, и смотрѣла въ бинокль. Препятствіе, на которомъ упалъ Вронскій, было такъ далеко, что ничего нельзя было разобрать. Въ это время подскакалъ Махотинъ, выигравшій призъ. Государь поднялся, въ толпѣ зашевелились, и все тронулись выходить.
— Хотите идти? — сказалъ Алексѣй Александровичъ женѣ. Она не двигалась съ мѣста. — Анна, поѣдемъ, если ты хочешь.
— Нѣтъ, я останусь, — сказала она.
Она видѣла, что отъ мѣста паденія Вронскаго черезъ кругъ бѣжалъ офицеръ къ[894] бесѣдкѣ. Она догадывалась, что онъ бѣжитъ сказать.
— Не убился, цѣлъ и невредимъ, но лошадь сломала спину.
[895]Анна быстро сѣла и закрыла лицо вѣеромъ. Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что она нервно рыдала и не могла удержать слезъ радости. Алексѣй Александровичъ загородилъ ее собою, давая ей время оправиться, и заговорилъ со стоявшими внизу. Когда онъ оглянулся на нее, она уже оправилась, и онъ надѣялся, что никто этаго не замѣтилъ.
— Чтожъ, поѣдемъ, — сказалъ онъ тихо, нагибаясь къ ней, и съ выраженіемъ кротости, всегда раздражавшей ее. — Кити ждетъ насъ съ чаемъ.
— Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, Анна увезла и Анна обѣщалась привезти меня, — вмѣшалась Бетси.
«Да, это довѣренная и сообщница», подумалъ Алексѣй Александровичъ, глядя на Бетси и учтиво улыбаясь ей.
— О, разумѣется, но, надѣюсь, ты скоро пріѣдешь. Я не могу долго оставаться.
— Только время забросить Бетси, — отвѣчала Анна.
* № 49 (рук. «№ 30).
Кити Щербацкая еще далеко не кончила полнаго предназначеннаго ей курса водъ, какъ уже отецъ и мать ея съ радостью видѣли, что здоровье ея совершенно поправилось. Она была также здорова, также энергична, какъ прежде. Она не была только также весела. Въ Соденѣ было очень много того больнаго жалкаго народа, который собирается тамъ; но были тоже и такіе больные и больныя, какъ Кити, которые пріѣзжаютъ туда почти здоровые, только подъ вліяніемъ угрозы предстоящей болѣзни. Въ числѣ ихъ была Англичанка, 28 лѣтняя самостоятельная дѣвушка, дочь пастора, и Леди, съ которой особенно сблизилась Кити. Это сближеніе помогло здоровью Кити едва ли не больше, чѣмъ и перемѣна условій жизни и самыя воды. Это сближеніе, вопервыхъ, наполнило сердце Кити новой страстной привязанностью, не имѣющей ничего общаго съ ея прежнимъ чувствомъ и замужествомъ, и, вовторыхъ, главное, открыло ей цѣлый новый міръ, цѣлое новое поприще дѣятельности.
Онѣ обѣ пріѣхали съ начала курса и часто встрѣчались, не бывши знакомы. Кити всегда была съ матерью или отцомъ. Миссъ Флора Суливантъ была или одна или съ англійскимъ семействомъ, которое стояло въ одномъ отелѣ съ Щербацкими. Часто онѣ встрѣчались, и обѣ чувствовали, что особенно нравятся другъ другу; но не было случая познакомиться. Кити нравилась всѣмъ своей граціей и красотой, и поэтому было неудивительно что она понравилась Миссъ Суливантъ; Но въ Миссъ Суливантъ не было ничего особенно привлекательнаго для невнимательнаго взгляда.[896] Скромный и всетаки безвкусный туалетъ, очень длинная уродливая талія и маленькіе голубые глаза и горбатый большой носъ. Но во всемъ ея существѣ былъ такой отпечатокъ чистоты нравственн[ости], во всѣхъ движеніяхъ было такъ много простоты спокойствія и достоинства, въ маленькихъ глазахъ было такое выраженіе честности и въ улыбкѣ такая обворожительная прелесть, что Кити все чаще и чаще заглядывалась на нее, какъ будто зная впередъ, что имъ предназначено полюбить другъ друга. Знакомство ихъ началось такъ: На 2-й недѣлѣ послѣ пріѣзда Щербацкихъ на утреннихъ водахъ появилось новое лицо или, скорѣе, два лица, обратившихъ на себя общее вниманіе. Это былъ очень высокій сутуловатый господинъ съ огромными руками и въ короткомъ по росту старомодномъ пальто съ черными наивными и вмѣстѣ странными глазами. Съ господиномъ этимъ была рябоватая миловидная женщина, одѣтая такъ, какъ одѣваются въ Россіи горничныя. Для не русскихъ лица эти были очень странны; но Щербацкіе съ перваго взгляда узнали русскихъ, но русскихъ странныхъ. Русскій громкій говоръ господина, имѣвшаго непріятную привычку подергиваться головой, тотчасъ же подтвердилъ ихъ догадку. А на другой день по Kurliste[897] они узнали, что это былъ Левинъ. Николай, котораго Щербацкіе не знали, хотя и знали его печальную исторію. Приходилось безпрестанно встрѣчаться, и это было очень непріятно для Княгини, такъ какъ она узнала, кто была женщина съ Левинымъ, и для Кити по воспоминаніямъ, которыя это возбуждало въ ней, и въ особенности потому, что Николай Левинъ[898] не спускалъ съ нея своего упорнаго наивнаго взгляда, когда она была въ виду. И по взгляду этому Кити чувствовала, что она нравилась ему; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не упускалъ никогда случая, когда она была въ слуху,[899] чтобы не сказать что нибудь непріятное; «Ненавижу этихъ русскихъ за границей» или «Опять идетъ», «Что бы сидѣли», «Все шляются» и т. п. Вслѣдствіи этаго Николай Левинъ особенно интересовалъ Кити и, кромѣ того, возбуждалъ въ ней глубокое чувство жалости. Онъ казался очень плохъ.
Былъ ненастный день. Дождь шелъ все утро, и больные съ зонтиками толпились въ галлереѣ. Николай Левинъ казался особенно дуренъ и сердитъ въ этотъ день. Онъ сидѣлъ и нѣсколько разъ принимался кашлять и что то сердито кричать на свою няню и на прислугу. Кити ходила по галлереѣ, не доходя до него, чтобы не видѣть его, но она слышала его кашель. Миссъ Суливанъ ходила съ своимъ омбрелла[900] во всю длину галлереи. Опять онѣ встрѣтились дружелюбно, нѣжнымъ даже взглядомъ. «Сейчасъ непремѣнно заговорю съ ней», сказала себѣ Кити и пошла къ ключу, чтобы тамъ встрѣтиться съ ней. Но она подходила къ ключу, а Миссъ Суливанъ уже отошла, выпивъ свой стаканъ. «Чудо какъ мила. Непремѣнно заговорю съ ней», думала Кити, подходя по галлереѣ къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ Левинъ, когда вдругъ она увидала, что тамъ что то случилось около кресла Левина и Миссъ Суливанъ идетъ своимъ быстрымъ шагомъ прямо къ ней.
— Вы Русская? — сказала она по французски. — Будьте такъ добры послужить мнѣ переводчикомъ. Съ вашимъ соотечественникомъ сдѣлалось дурно.
Кити[901] отвѣчала, что она очень рада.
— Благодарю васъ, — сказала Миссъ Суливанъ и направилась съ ней къ кучкѣ, собравшейся около Левина. Его посадили на кресло и несли. Миссъ Суливанъ тронула зонтикомъ Машу, испуганно шедшую сзади. Она оглянулась.
— Потрудитесь спросить у нея, — сказала она Кити, — есть ли у него родные и гдѣ? Докторъ сказалъ, что онъ очень плохъ.
Кити спросила, и Марья Николаевна, обрадовавшись русскому языку и милому лицу Кити, покраснѣвъ, отвѣчала, что здесь нѣтъ, а что въ Россіи есть.
— Да это бываетъ съ ними, это ничего.
Кити хотѣла еще поговорить съ Марьей Николаевной, когда испуганная Княгиня подбѣжала къ ней и отвела ее.
— Благодарю, благодарю очень, — сказала Миссъ Суливанъ съ своей прелестной грустной улыбкой, крѣпко пожавъ ея руку, и пошла за больнымъ. Въ тотже вечеръ докторъ разсказалъ, что Левину лучше, что у него порвался сосудъ и онъ потерялъ много крови и ослабѣлъ, но онъ можетъ протянуть еще года. При этомъ докторъ разсказалъ, что Миссъ Суливанъ цѣлый вечеръ сидѣла у него, читая ему[902] Евангеліе и что онъ былъ очень тронутъ и доволенъ этимъ. На другое утро Кити уже прямо подошла къ Миссъ Суливанъ.
— Какъ вы хороши, — сказала она ей. — Мнѣ говорили, что вы вчера просидѣли весь вечеръ у нашего больнаго соотечественника.
— Я исполнила только долгъ всякой христіанки, — сказала Миссъ Суливанъ краснѣя.
— Да, но я не исполнила его, — сказала Кити.
— Вамъ неудобно это было въ этотъ разъ, но я увѣрена, что вы его исполняли не разъ.
— Я боюсь, что нѣтъ.
— Тѣмъ болѣе это доказываетъ, что вы его понимаете.
— Какъ онъ принялъ васъ?
[903]— Онъ не знаетъ по англійски, и я читала по французски. Но у меня не хорошъ выговоръ, и ему было непріятно первое время. Но дѣйствіе словъ Спасителя одно и тоже на всѣхъ языкахъ. Онъ успокоился и былъ радъ.
— Какъ вы хороши, — повторила Кити.
— Мнѣ давно хотѣлось сойтись съ вами.
— И мнѣ тоже. Это чувствуется. Вы говорите по англійски?
— О да, немного.
Когда Миссъ Суливанъ стала говорить на элегантномъ англійскомъ языкѣ вмѣсто дурнаго французскаго, она еще болѣе понравилась Кити. И съ этаго дня началось сближеніе, которое со стороны Кити перешло въ[904] восхищеніе и преданность. Кити никогда не встрѣчала еще такихъ людей, какъ Миссъ Флора Суливанъ. И въ томъ состояніи совершенной[905] путаницы, потери всякой руководительности въ жизни она влюбилась въ миссъ Суливанъ и въ ея нравственный характеръ. До сихъ поръ Кити жила однимъ чувствомъ, отдавалась ему, и все было хорошо, нетолько хорошо, но превосходно — она была счастлива, и счастливы были всѣ ея окружающіе; она жила всѣмъ существомъ своимъ, отдаваясь только инстинктамъ, но эта же жизнь чувства привела ея въ то постыдное и горестное положеніе, въ которомъ она себя теперь чувствовала, и руководства у ней не было никакого. Она пробовала многое, чтобы утѣшиться, пробовала трудъ, затѣяла работу изученія музыки, пробовала разсѣяніе, пробовала[906] и религію; но религія была катихизисъ и объясненія литургіи съ Славянскими текстами или обѣдни въ Вдовьемъ домѣ съ дамами въ элегантныхъ шубкахъ и шляпкахъ: it did not answer.[907] Родные ея, мать, утѣшали тѣмъ, что она выйдетъ еще лучше замужъ, но ей отвратительно было думать о замужествѣ, отецъ — тѣмъ, что все это вздоръ бабій; и надо взять на себя и быть веселой,[908] Долли, сестра, тѣмъ, что тутъ она сама не виновата, а что это бываетъ со всѣми; но это все были не утѣшенья. Одно возможное утѣшеніе было то, чтобы найти такой несомнѣнный и возвышенный складъ мысли, вслѣдствіи котораго можно бы имѣть цѣль и понятія о своемъ призваніи въ жизни и чтобы съ высоты этой новой цѣли и новаго призванія, не имѣющаго ничего общаго съ прошедшимъ, смотрѣть на это прошедшее. И все это[909] она нашла въ своемъ новомъ другѣ. Жизнь всякаго человѣка и всякой дѣвушки, по взгляду Миссъ Суливанъ и огромнаго количества людей одномыслящихъ (Кити чувствовала, что Миссъ Суливанъ была представитель огромнаго міра) должна быть опредѣлена закономъ, и законъ этотъ не выдуманъ людьми; а этотъ законъ данный и открытый Богомъ. И только живя по этому закону, человѣкъ отличается отъ животнаго. Прежняя жизнь Кити была жизнь животная, и потому на проступки, несчастія той жизни надо смотрѣть какъ на проступки и несчастія дѣтства, безсознательнаго состоянія. Въ жизни законной и христіанской, если и есть паденія и отступленія отъ закона, то законъ показываетъ мѣру этаго паденія.
Всего этаго не разсказывала Миссъ Суливанъ, но все это видѣла Кити во всемъ существѣ Миссъ Суливанъ. Въ жизни ея не было мѣста инстинктамъ, все было подчинено христіанскому закону, и потому все въ ея жизни было твердо, ясно, возвышенно и внѣ сомнѣній. Все въ жизни Миссъ Суливанъ было стройно и возвышенно. Она выросла въ большой семьѣ нравственнаго строгаго пастора, получила прекрасное образованіе, учила меньшихъ братьевъ и сестеръ и влюбилась въ дѣтствѣ въ сына Джентльмена Фармера уже 18 лѣтъ тому назадъ. Она полюбила его, когда ей было 10 лѣтъ, и ему pledged her troth.[910] Но они оба были бѣдны, и она ждала. Онъ работалъ въ Лондонѣ адвокатомъ, и рѣшено было, что онъ женится, когда у него будетъ 800 фунтовъ дохода. Она сама между тѣмъ не жила ожиданіемъ будущаго счастья, а жила полной жизнью, исполняя отъ всей души свой христіанскій долгъ.[911] Она жила у отца и завѣдывала бѣдными и школами прихода съ Леди Гербертъ. Но она не завѣдывала ими такъ, какъ это дѣлается въ Англіи, изъ приличія: она всю себя отдавала этому дѣлу. Она ходила по котеджамъ воспитывать дѣтей, мирить супруговъ, уговаривать пьяницъ, утѣшать больныхъ, старыхъ и несчастныхъ. Какъ натура очень энергичная, ей мало было и этой дѣятельности; она была участницей еще общества помощи преступникамъ.[912] Труды эти разстроили ея здоровье, но она не могла оставить своего поста и работала до тѣхъ поръ, пока будетъ угодно ея Творцу[913] призвать ее къ себѣ или призвать ее къ обязанности жены и матери. Но она далеко была не педантка. Она была охотница читать, имѣла обо всемъ понятіе, умѣла и любила рисовать цвѣты и была мастерица шить, хозяйничать и вести разговоръ въ гостиной.
—————
Припадокъ Николая Левина прошелъ, и онъ скоро появился опять на водахъ. Миссъ Суливанъ подходила къ нему спрашивать о его здоровьи; но онъ особенно сердито и неохотно отвѣчалъ ей и, видимо, избѣгалъ ее. Князь, не любившій Миссъ Суливанъ, по этому случаю разсказывалъ своимъ знакомымъ, что будто, когда она пришла къ нему съ предложеніемъ почитать ему божественную книгу, онъ отвѣчалъ ей: «дура», а что она по свойствамъ Англійскаго произношенія, при которомъ р не выговаривается, приняла слово «дура», за «да» и стала читать. И что вся ихъ дружба основана была на томъ, что Левинъ говорилъ ей дура, а она разумѣла подъ этимъ да, т. е. «да, пожалуйста».
— Папа, полно, ты не вѣришь этому, и, право, нельзя такъ шутить надъ Миссъ Суливанъ, — укоризненно говорила Кити.
И Князь самъ чувствовалъ, что совѣстно было смѣяться надъ Миссъ Суливанъ, но всетаки не могъ удержаться отъ смѣшной исторіи. Скоро однако послѣ этаго случая Левинъ исчезъ, не окончивъ курса водъ, и Кити была совершенно довольна, оставшись одна съ своимъ новымъ другомъ.
* № 50 (рук. № 33).
[914]Какъ и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ собираются люди, и на всѣхъ водахъ, такъ и на водахъ, на которыя пріѣхали Щербацкіе, совершалась по мѣрѣ появленія новыхъ лицъ какъ бы кристаллизацiя общества, опредѣляющая каждому его члену свое неизмѣнное мѣсто. Также опредѣленно и неизмѣнно, какъ частица воды на холодѣ получаетъ извѣстную форму снѣжнаго кристалла, такъ точно это общество разобралось и постоянно разбиралось по своимъ составнымъ частямъ: высшаго, средняго и низшаго и придатковъ того, другаго и третьяго. Фюрстъ Чербацкі замтъ гемалинъ ундъ тохтеръ[915] и по отелю, въ которомъ онѣ стали, и по имени, и по знакомымъ, которыхъ онѣ нашли,[916] тотчасъ же кристаллизировались въ высшее общество водъ.
<Княгиня, несмотря на свою заботу о дочери, несмотря на свое твердое положеніе въ русскомъ обществѣ, была не равнодушна къ тому положенію, которое она, а въ особенности ея дочь займутъ на водахъ.
Княгиня всегда за границей притворялась Европейской grande dame, тогда какъ она была русская барыня совсѣмъ съ другими вкусами, и это притворство тяготило ее, хотя она ни за что въ этомъ бы не призналась. Князь, въ противоположность княгинѣ, нетолько не притворявшійся Европейцемъ за границей, а, напротивъ, отрекавшійся за границей отъ всего Европейскаго и потому старался всегда разсѣиваться за границей, тяготился всегда заграничной жизнью, самъ уѣхалъ въ Карлсбадъ, гдѣ ему совѣтовали пить воды. Но, не допивъ водъ, онъ поѣхалъ въ Баденъ, Висбаденъ, Киссингенъ, вездѣ, гдѣ онъ надѣялся найти побольше русскихъ знакомыхъ и развлеченія отъ давившей его за границей скуки.
Кити, освѣженная уже самымъ переѣздомъ и удаленіемъ отъ привычныхъ условій жизни и въ особенности отъ знакомыхъ, вмѣстѣ съ матерью была увлечена первое время тѣмъ процессомъ кристаллизаціи, которому, дѣлая одно знакомство и избѣгая другихъ, она подчинялась въ первую недѣлю послѣ пріѣзда на воды.
Была свечера пересмотрена «курлисте», сдѣланы соображенія о томъ, кто знакомые: тѣ ли это или другіе, распрошена прислуга, обдуманъ туалетъ, не слишкомъ элегантный и не слишкомъ простой, и на другое утро, не безъ волненія, вступлено въ зданіе и сады водъ съ видомъ совершеннаго равнодушія и заботы только о своемъ здоровьѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ съ страстнымъ любопытствомъ догадаться — кто кто и желаніемъ познакомиться съ этими и избавиться отъ знакомства съ тѣми.>
На водахъ въ этотъ годъ была нѣмецкая принцесса, вслѣдствіе чего кристаллизація общества совершалась еще энергичнѣе.
Княгиня непремѣнно пожелала представить ей свою дочь и на второй же день совершила этотъ обрядъ. Кити очень низко и граціозно присѣла въ своемъ выписанномъ изъ Парижа очень простомъ лѣтнемъ платьѣ. Принцесса сказала, что она надѣется, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико и что докторъ, вѣрно, не лишитъ ея вечеровъ такой танцующей...
И для Щербацкихъ тотчасъ же въ средѣ этой массы людей изобрались тѣ, съ которыми надо и надо и съ которыми не надо знакомиться, и твердо установились одни опредѣленные пути жизни,[917] изъ которыхъ нельзя уже было выдти. Сдѣлалось то, что бываетъ во всѣхъ обществахъ, что, приходя съ гулянья, на которомъ княгиня насилу могла проходить между народомъ, — такъ его было много, — она говорила: «никого не было!» И про кружокъ десятка людей, собравшихся у принцессы, она говорила: «всѣ были». Княгиня была довольна, когда все это такъ твердо установилось.[918] Князь тоже былъ спокоенъ, когда онъ устроилъ своихъ и увидалъ, изъ кого состоитъ ихъ общество.[919] Кити же, напротивъ, въ первое утро появленія ея на водахъ и въ первые дни, когда они, зная по курлисте, кто и кто были на водахъ, угадывали кто? кто? и дѣлали соображенія о томъ, съ кѣмъ надо и съ кѣмъ не надо быть знакомыми и какой окажется этотъ и эта.[920] Она была оживлена только это первое время, но когда заколдованный кругъ, въ которомъ она кристаллизовалась, замкнулся и она узнала всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ надо было знакомиться, ей стало скучно[921] и уныло, какъ и въ Москвѣ. Всѣ знакомыя лица были точно такія же, какъ всѣ ея Московскіе знакомые, только съ той непріятной разницей, что здѣсь всѣ они и даже сама она (Кити чувствовала это) болѣе притворялись, чѣмъ въ Москвѣ. И потому Кити не интересовалась знакомыми, а занята была только тѣми, которыхъ она не знала, наблюдала ихъ, и старалась угадывать, кто кто и какія между ними отношенія.
Изъ такихъ лицъ въ особенности занимала ее одна Русская дѣвушка, пріѣхавшая на воды съ[922] русскимъ семействомъ, кристаллизовавшимся въ среднее общество. Семейство это состояло изъ мужа, молодого человѣка въ послѣдней степени чахотки, Профессора однаго изъ русскихъ университетовъ,[923] какъ узнала Кити по курлисте, и жены его съ тремя дѣтьми. Русская дѣвушка эта, по наблюденіямъ Кити, не была родня ни Профессора, ни его жены и вмѣстѣ съ тѣмъ не была наемная помощница.
Не говоря уже о томъ, что Кити интересовало, какъ романъ, отношенія этой дѣвушки къ[924] семейству Профессора, ее особенно, какъ это часто бываетъ, привлекало къ ней необъяснимое чувство, и она чувствовала по встрѣчающимся взглядамъ взаимную симпатію.
* № 51 (рук. № 31).
Общество Профессора Княгиня тоже не очень одобряла, но въ сущности въ немъ не было ничего дурнаго, и Княгиня разрѣшила это знакомство. Для Кити же оно было необходимо потому, что большую часть времени Варенька проводила съ Московскими (это была фамилія Профессора).
Сближеніе настоящее, душевное совершилось очень скоро между Кити и Варенькой въ особенности потому, что, чего никакъ не ожидала Кити, Варенька, несмотря на свою неумную наружность, была необыкновенно чутка и проницательна во всемъ томъ, что касалось Кити, какъ и всѣхъ тѣхъ, кого она любила. У нее была проницательность сердца болѣе глубокая, чѣмъ проницательность ума. Съ первыхъ словъ Кити о томъ, что грустно, Варенька, какъ казалось Кити, вполнѣ поняла причину ея грусти. И сама почти безъ вызова на то со стороны Кити просто и мило разсказала ей свой грустный романъ, котораго главный смыслъ былъ тотъ же, какъ и романа Кити.
* № 52 (рук. № 33).
Былъ ненастный день, дождь шелъ все утро, и больные съ зонтиками толпились въ галлереѣ. Николай Левинъ казался особенно сердитъ въ этотъ день. Онъ сидѣлъ и нѣсколько разъ принимался кашлять и что то сердито кричать на бывшую съ нимъ женщину.
Кити ходила съ матерью по галлереѣ,[925] встрѣчаясь и разговаривая съ знакомыми. Моя прелесть въ своемъ темномъ, простомъ туалетѣ, въ черной, съ отогнутыми внизъ полями шляпѣ ходила съ профессоромъ во всю длину галлереи, и всякій разъ, какъ онѣ встрѣчались, они перекидывались дружелюбнымъ, даже нѣжнымъ взглядомъ.
— Мама! можно мнѣ заговорить съ ней? — сказала Кити.[926]
— Да если тебѣ такъ хочется, я узнаю и сама подойду къ ней. Что ты въ ней нашла особеннаго? Кампаньонка, должно быть. Если хочешь, я познакомлюсь съ М-me Миртовъ. Я знала ея мать.
— Чудо какая милая! — сказала Кити, глядя на нее, какъ она подавала стаканъ профессору. — Посмотрите, какъ все просто, мило.
— Уморительны мнѣ твои engouements, — сказала княгиня. — Нѣтъ, пойдемъ лучше назадъ.
Ей не хотѣлось подходить къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ Левинъ. Онѣ уже поворачивались, чтобы идти назадъ, когда вдругъ увидѣли, что тамъ что то случилось около кресла Левина.[927] Тамъ что то толпился народъ и громко говорили. Княгиня поспѣшно отошла прочь. Черезъ нѣсколько минутъ знакомый имъ Русскій подошелъ къ нимъ.
— Что это тамъ было? — спросила Княгиня.
— Позоръ и срамъ, — отвѣчалъ Русскій. — Однаго боишься — это встрѣтиться съ Русскимъ за границей. Этотъ больной, этотъ высокій Левинъ за что то разсердился на женщину, которая съ нимъ, бросилъ въ нее стаканъ. Тутъ вступился посторонній Англичанинъ за женщину,[928] и шумъ сдѣлался.
— Ахъ, какъ непріятно, — сказала Княгиня.
— Но вы не знаете, Княгиня, кто эта барышня въ шляпѣ грибомъ?
— Ее зовутъ M-lle Варинька.
— А вы не знаете, кто она? — спросила Кити.
Слѣдующая по порядку глава.
На другой день Кити видѣла, что Варинька, уже и съ Левинымъ и его женщиной находилась почти въ тѣхъже отношеніяхъ, какъ и съ профессоромъ, и что Николай Левинъ дѣтски наивно и немного испуганно улыбался, когда она подходила къ нему.
— Вотъ, мама, — сказала Кити матери, — вы удивляетесь, что я восхищаюсь.[929] Ничего такъ не желала бы, какъ познакомиться съ ней.
Съ слѣдующаго дня, наблюдая на водахъ своего неизвѣстнаго друга, Кити замѣтила, что M-lle Варинька съ Левинымъ и его женщиной уже находилась въ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ и съ Профессоромъ и его женой.
Она подходила къ нимъ, разговаривала, услуживала, служила переводчицей для женщины, не знавшей ни на какомъ языкѣ, кромѣ какъ по русски. И Николай Левинъ стыдливо и вмѣстѣ радостно улыбался, когда она подходила къ нему.
* № 53 (рук. № 34).
Но пока еще наступить время въ большихъ размѣрахъ исполнять свои планы, Кити и теперь на водахъ уже искала случая прилагать свои новыя правила жизни и подражать Варенькѣ. Она бы рада была теперь сойтись съ отвратительнымъ для нея Николаемъ Левинымъ и помогать ему; но и княгиня не позволила бы этаго, да и Николай Левинъ скоро уѣхалъ.[930] Была одна умирающая дама, у которой часто бывала Варенька, но опять Княгиня не позволила ходить къ ней. Кити нашла себѣ однако дѣло. Дѣло это было семейство живописца Кронова, съ которымъ она познакомилась и противъ котораго Княгиня ничего не имѣла. Семейство состояло изъ беременной, слабой и больной матери, трехъ маленькихъ дѣтей и самого[931] живописца, находившагося на послѣдней ступени чахотки.[932]
Вся исторія этаго семейства была очень трогательна. Дѣвушка изъ Петербургскаго общества Анна Павловна Весельская влюбилась въ своего учителя живописи и извѣстнаго живописца Кронова. Противъ воли своихъ родителей она вышла за него замужъ. Родители, считавшіеся очень богатыми, скоро разорились, и у Кроновыхъ остались однѣ средства — работа мужа. Онъ заболѣлъ, и жена безъ средствъ, ожидая смерти мужа, вела самую трудную жизнь за границей.
Кити пріучила къ себѣ дѣтей, сошлась съ женою и стала бывать у нихъ, стараясь[933] утѣшать больнаго, занимать дѣтей и помогать матери.[934]
Княгиня въ первое время не охотно смотрѣла на ея сближенiе съ семействомъ[935] Кроновыхъ, но дѣлать было нечего, тѣмъ болѣе что, несмотря на бѣдность, Анна Павловна была вполнѣ порядочная женщина, и самъ Кроновъ былъ знакомъ со всѣмъ лучшимъ обществомъ Петербурга. Притомъ принцесса и другіе любовались добротой Кити, и это утѣшало Княгиню.[936]
* № 54 (рук. № 31).
Вся жизнь Вареньки была проста, ясна и возвышенна. Ей не нужно было искать, бороться. Она полюбила человѣка и готовилась къ обязанностямъ семьи, но Богу неугодно было, она подчинилась его волѣ, и жизнь всетаки была полна. Была ея благодѣтельница, счастью которой и спокойствію она старалась содѣйствовать всѣми силами, были и тамъ, въ Ментонѣ, гдѣ она жила, и здѣсь, куда бы она ни пріѣзжала, люди, нуждавшіеся въ ней, которьмъ она приносила пользу. Стоило только забыть себя и дѣла, и счастливаго дѣла, въ которомъ чувствуешь себя полезной, найдется безъ конца. Такъ думала и жила Варенька. И влюбленная въ нее Кити, видѣвшая въ ней образецъ всѣхъ совершенствъ, понявъ ясно то, что было самое важное, не удовольствовалась тѣмъ, чтобы восхищаться этимъ, но тотчасъ всей душой отдалась этой новой открывшейся ей жизни. И, несмотря на насмѣшки матери надъ этимъ engouement, Кити нетолько подражала своему другу въ манерѣ ходить, говорить, мигать глазами, но и во всемъ образѣ жизни. Черезъ Вареньку она познакомилась съ покровительствуемыми ею съ М-me Berte и съ семействомъ Професора.[937] На семействѣ Професора она сдѣлала свое обученіе благотворительности и испытала огромное, никогда еще не испытанное ею наслажденіе. Въ сближеніи этомъ она, по избѣжаніе противодѣйствія матери, старалась быть мудрою, какъ змѣя, и кроткой, какъ голубь. Она не высказывала матери цѣли своего сближенія, зная впередъ, что мать скажетъ то, что она говорила про Вареньку. «Быть доброй и помогать ближнему очень хорошо, — говорила Княгиня, — Но il ne faut rien outrer».[938] «Какъ будто можно было быть христіанкой не утрируя», думала Кити, вспоминая ученіе о щекѣ и рубашкѣ.
Кити въ это лѣто въ первый разъ читала Евангеліе, которое ей дала Варенька. Итакъ, Кити искусно вела дѣло, она говорила, что подружилась съ женой Професора, которая очень мила, что дѣти прелестны и она полюбила ихъ, и между прочимъ только упоминала о жалкомъ положеніи Професора. А въ сущности все ее наслажденіе состояло въ томъ, чтобы облегчить Професору его тяжелое положеніе.[939]
Для Кити незамѣтно прошли первыя 4 недѣли пребыванія ея на водахъ. Она замѣтно поправилась и чувствовала себя спокойной и даже счастливой совсѣмъ другимъ счастьемъ.[940] Главное счастье было ожиданіе жизни, какъ разсказывала ей Варенька, про одну дѣвушку, по острогамъ, Еван[геліе], школы.[941] Княгиня не охотно смотрѣла на ея сближеніе съ семьей Професора, но дѣлать было нечего, притомъ Принцесса и другія любовались добротой Кити, и это утѣшало Княгиню.
Одно, что въ этой счастливой для Кити жизни стѣсняло ее, это было отношеніе къ ней Професора. Професоръ былъ молодой человѣкъ, безвкусно одѣтый, съ голубыми, большими, какъ у всѣхъ чахоточныхъ, блестящими и вопросительными глазами. Глаза эти постоянно смотрѣли на Кити, такъ что ей становилось неловко. Разговоровъ между ними никогда не было серьезныхъ и продолжительныхъ, такъ какъ мало было общаго. Однажды, уже передъ концомъ курса Кити, она зашла съ Варенькой къ Мимозовымъ [?], и Варенька тотчасъ же ушла къ дѣтямъ въ заднія комнаты. Кити осталась одна съ Професоромъ.
— Какъ вы себя чувствуете нынче?
— Было дурно ночь, но теперь лучше. И всегда лучше, когда я васъ вижу.
Кити посмотрѣла на него и улыбнулась.
— Если бы это была правда, я бы желала всегда быть съ вами.
— Мнѣ довольно этаго, правда ли это? — вскрикнулъ Професоръ.
Кити покраснѣла, увидавъ, что это не то, и тотчасъ же, перемѣнивъ тонъ, — Можно пройти къ Марьѣ Ивановнѣ? — сказала она вставая.
Съ этаго разговора Кити объяснила себѣ холодность Марьи Ивановны къ себѣ, которую она и прежде замѣчала. И Варенька противодѣйствовала иногда тому, чтобы Кити видѣлась часто съ Професоромъ. Кити не позволяла себѣ еще вѣрить въ это, но это мучало ее и отравляло ей счастье этой жизни.
* № 55 (рук. № 31).
<Она потеряла любимаго мужа, потеряла ребенка, была недвижима уже 8-й годъ, и она говорила, и Кити чувствовала, что она говоритъ искренно, что она каждый день благодаритъ зa это Бога.
— Какъ, за то даже, что вы потеряли мужа? — робко спросила Кити.
— Да, за это. Онъ сдѣлалъ это для моего блага, оно было не видно мнѣ. Но теперь оно ясно. Я не говорю вамъ, милый другъ, — сказала она съ своимъ неземнымъ выраженіемъ и улыбкой, — чтобы вамъ радоваться вашимъ печалямъ, но я бы желала, чтобы вы понимали это, вѣрили, что это такъ.
И Кити вѣрила этому, и она торопилась скорѣе испытать, повѣрить это. Черезъ Вареньку Кити сошлась съ семействомъ Професора и, также какъ и Варенька, хотѣла помогать имъ. Но тутъ съ ней случилось совсѣмъ другое. Професоръ влюбился въ нее. Между мужемъ и женой произошли сцены ревности, и Кити перестала бывать у нихъ.
Такъ прошли счастливыя 5 недѣль. Раза два въ недѣлю Кити видѣла г-жу Сталь и говорила съ ней и цѣлый день проводила съ Варенькой и часто бывала у Професора, стараясь также быть полезной. И, къ радости своей, она видѣла, что Професоръ любитъ ее и радуется всегда ея приходу.>
* № 56 (рук. № 36).
Сначала Княгиня замѣчала только, что Кити находится подъ сильнымъ вліяніемъ своего engou[e]ment, какъ она называла, къ Г-жѣ Шталь и въ особенности къ Варенькѣ. Она видѣла, что Кити нетолько подражаетъ Варенькѣ въ ея дѣятельности, но невольно подражаетъ ей въ ея манерѣ ходить, говорить и мигать глазами.[942] Но потомъ Княгиня замѣтила, что въ дочери, независимо отъ этаго очарованія, совершается какой-то болѣе серьезный душевный переворотъ.
Княгиня видѣла, что Кити читаетъ по вечерамъ французское Евангеліе, которое ей подарила Г-жа Шталь, чего она прежде не дѣлала,[943] что она избѣгаетъ свѣтскихъ знакомыхъ и сходится съ больными, покровительствуемыми Варенькой, и въ особенности съ однимъ бѣднымъ[944] семействомъ больнаго живописца Петрова, въ которомъ Кити, очевидно, гордилась тѣмъ, что занимала мѣсто сестры милосердія. Все это было хорошо, и Княгиня ничего не имѣла противъ этаго,[945] тѣмъ болѣе что жена Петрова была вполнѣ порядочная женщина и что принцесса, замѣтившая дѣятельность Кити, хвалила ее, называя Ангеломъ утѣшителемъ. Все это было бы хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видѣла, что дочь ея впадаетъ въ крайность, что она и говорила ей.
— Il ne faut jamais rien outrer,[946] — сказала она ей.
Но дочь ничего не отвѣчала ей. Она только подумала въ душѣ, что нельзя говорить объ излишествѣ въ дѣлѣ христіанства. Какое же можетъ быть излишество, слѣдуя ученію, въ которомъ велѣно подставить другую щеку, когда ударятъ по одной, и отдать рубашку, когда снимаютъ верхнее платье. Но княгинѣ не нравилось это излишество и еще болѣе не нравилось то, что она чувствовала, что Кити не хотѣла открыть ей всю свою душу. Дѣйствительно, Кити таила отъ матери свои новые взгляды и чувства, не потому, чтобы она не уважала, не любила свою мать; но только потому, что это была ея мать. Она всякому открыла бы ихъ скорѣе, чѣмъ матери.[947] Княгиня чувствовала это и старалась вызвать дочь, старалась участвовать въ ея дѣятельности.
— Что это давно Анна Павловна не была у насъ вечеромъ, — сказала разъ Княгиня дочери про Петрову. — Я звала ее! А она что то какъ будто не довольна.
— Нѣтъ, я не замѣтила, — вспыхнувъ отвѣчала Кити.
— Ты давно не была у нихъ?
— Мы завтра собираемся сдѣлать прогулку въ горы, — отвѣчала Кити.
— Что жъ, поѣзжайте, — отвѣчала княгиня, вглядываясь въ смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ея смущенія.
Въ этотъ же день Варенька пришла обѣдать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ѣхать завтра въ горы.
Княгиня замѣтила, что Кити опять покраснѣла.
— Кити, не было ли у тебя чего нибудь непріятнаго съ Петровыми? — сказала она ей, когда онѣ остались однѣ. — Отчего она перестала посылать дѣтей и ходить къ намъ?
Кити отвѣтила, что ничего не было между нею и что она рѣшительно не понимаетъ, почему[948] Анна Павловна какъ будто недовольна ими.
Кити отвѣтила совершенную правду. Она не знала причину перемѣны къ себѣ Анны Павловны, но она догадывалась. Она догадывалась въ такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себѣ. Это была одна изъ тѣхъ вещей, которыя знаешь, но которыя нельзя сказать даже самой себѣ: такъ страшно и постыдно ошибаться.[949]
Опять и опять она перебирала въ своемъ воспоминаніи всѣ отношенія свои съ этимъ семействомъ.[950]
Она вспоминала добродушное, круглое[951] лицо Анны Павловны, наивную радость ея первое время при сближеніи съ Кити, ихъ переговоры тайные о больномъ, заговоры о томъ, чтобы отговорить его отъ работы, которая была ему запрещена, и увести гулять, привязанность меньшаго мальчика, называвшего ее «моя Кити» и не хотѣвшаго безъ нея ложиться спать. Какъ все было хорошо! Но потомъ она вспомнила[952] худую, худую фигуру Петрова съ его длинной шеей, въ щеголеватомъ чистомъ сюртучкѣ, его рѣдкіе вьющіеся волосы и вопросительные, страшные первое время для Кити[953] голубые глаза и его болѣзненное стараніе казаться бодрымъ и оживленнымъ въ ея присутствіи. Она вспоминала то усиліе, которое она въ первое время дѣлала надъ собой, чтобъ преодолѣть отвращеніе, которое она испытывала ко всѣмъ чахоточнымъ, и стараніе, съ которымъ она придумывала, что сказать ему. И она съ ужасомъ вспоминала этотъ робкій, умиленный взглядъ, которымъ онъ смотрѣлъ, и странное чувство состраданія и неловкости и потомъ нѣжности, которое она испытывала при этомъ. «Неужели эта трогательная радость его при ея приближеніи была причиной охлажденія Анны Павловны. Да, — вспоминала она, — что то было не натуральное и совсѣмъ не похожее на доброту Анны Павловны, какъ она третьяго дня съ досадой сказала: «вотъ все дожидался васъ: не хотѣлъ безъ васъ пить кофе, хотя ослабѣлъ ужасно». Да, можетъ быть и это непріятно ей было,[954] когда я подала ему пледъ. Все это такъ просто. Но онъ такъ неловко это принялъ, такъ долго благодарилъ, что и мнѣ стало неловко. И потомъ этотъ портретъ мой, который онъ такъ хорошо сдѣлалъ. А главное, этотъ вглядъ[955] смущенный и нѣжный. Да, да это такъ, — съ ужасомъ говорила себѣ Кити. — Нѣтъ, это не можетъ быть.[956] Онъ такъ жалокъ», говорила она себѣ вслѣдъ за этимъ. Это сомнѣніе отравляло прелесть ея новой жизни.
* № 57 (рук. № 31).
Уже передъ концомъ курса Князь, тяготившійся жизнью за границей и ѣздившій въ Баденъ и Кисингенъ къ своимъ знакомымъ набраться, какъ онъ говорилъ, русскаго духа, вернулся къ своимъ.
День былъ прекрасный; Князь въ легонькомъ, модномъ, короткомъ пиджакѣ, особенно странномъ, сидѣвшемъ на его толстомъ, крупномъ тѣлѣ съ своими русскими морщинами, одутловатыми щеками на крахмаленныхъ воротничкахъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа вышелъ рано утромъ вмѣстѣ съ Кити, провелъ ея на воды, свелъ съ ея другомъ и самъ пошелъ гулять по городку. Ужъ который разъ онъ обходилъ этотъ несносный ему городокъ съ его чистыми улицами.
Онъ подошелъ къ лавочкамъ и накупилъ талеровъ на десять: разрѣзной ножикъ, рѣзной сундучекъ; бирюльки и пошелъ опять на воды за Кити, чтобы отвести ее домой. Она все еще ходила подъ руку съ другомъ и оживленно разговаривала.
— Ну, пора, я перерываю вашъ интересный разговоръ, — сказалъ онъ[957] Варенькѣ.
— Нашъ интересный разговоръ никогда не кончится, — сказала Варенька улыбаясь.
— Вы бы сдѣлали намъ удовольствіе пить съ нами кофе.
— Благодарю васъ, я только[958] зайду къ Madame[?]. До свиданья, Кити.
Разговоръ, дѣйствптельно, былъ очень интересный. Онѣ говорили о Профессорѣ и о томъ, что Варенька не совѣтовала Кити больше ходить къ нимъ. Какъ ни старалась Варенька скрыть причину, Кити догадалась. Она сама видѣла послѣднее время, что въ отношеніи къ ней Профессора было что то больше, чѣмъ обыкновенная симпатія. Кити замѣчала смущеніе его, когда она оставалась съ нимъ одна, и смущеніе это передавалось ей. Морщинка на лбу Кити вспухла, и она замолчала, отвѣчая только «да» и «нѣтъ» на вопросы Вареньки.
Варенька ушла, обѣщавъ придти къ кофе.
Она ушла, а Князь, взявъ подъ руку дочь, пошелъ съ нею прежде къ стойкѣ съ печеньями, накупилъ мѣшокъ сухарей и пошелъ дальше, показывая дорогой свои покупки. И прежде Кити боялась взгляда своего отца на Вареньку и теперь и боялась и желала узнать, что онъ думалъ, но Князь еще ничего не говорилъ про нее, и Кити боялась, что онъ посмѣется надъ нею. Но отецъ ни смѣялся и не хвалилъ, какъ будто не находя въ ней ничего особеннаго, и это огорчало Кити.
— Папа, какъ тебѣ нравится Варенька?
— Очень, очень, — сказалъ онъ, но Кити видѣла огонекъ насмѣшки въ глазахъ Князя.
— Нѣтъ, папа, ты не смѣйся надъ ней, она такая прелесть.
— Я и не думаю смѣяться, я только одно знаю, что если ты поступишь въ ихъ секту, то онѣ тебя выгонятъ.
— Отчего?
— Оттого что, первое, надо быть старой и некрасивой.
— Варенька очень хороша. Но, папа, ну ради Бога безъ шутокъ. Развѣ это дурно, что она помогаетъ ближнему, читаетъ Евангеліе, учитъ...
— Прекрасно. Но я одно знаю, что если бы не было несчастныхъ, чтобы они дѣлали? Въ Англіи нарочно дѣлают poors,[959] чтобъ было для кого собирать жертвы. Не люблю я, не люблю всю эту Европу.
— Да вѣдь это не Европа, это христіа[нство].
— Нѣтъ, это Европа. У насъ, хочешь душу спасать, иди въ монастырь, a здѣсь — нѣтъ, здѣсь одной рукой отнимать, а другой подавать.
— Да Варенька Русская.
— Тѣмъ она и мила, что Русская, a тѣмъ непріятна, что набралась духа здѣшняго.
Кити замолчала; подъ вліяніемъ неудовольствія, вызваннаго разговоромъ съ Варенькой, многое изъ словъ отца запало ей въ голову.
— Ну, купили булокъ и пойдемъ, мама ждетъ, — сказалъ Князь.
— A тебѣ ужасно скучно, папа, — сказала Кити улыбаясь.
— Есть грѣшокъ. Не скучно, a тѣсно, некого побранить. Поворчать нельзя. А, Марья Евгеньевна, — обратился онъ къ Русской знакомой дамѣ, — пойдемте съ нами. Вотъ распрашиваетъ меня, скучно ли мнѣ. Я говорю: поворчать не на кого. Вѣдь я люблю, она знаетъ, поутру посидѣть за чаемъ съ сигарой въ своемъ соку, какъ говядина, знаете, въ своемъ соку.
— Ну ужъ Князь скажетъ, — разразившись смѣхомъ, сказала Марья Евгеньевна. — Ну что, вы въ Кисингенѣ много Русскихъ нашли?
— Пропасть. Петровы, Мягкіе, Назоновы, Тали, Каренинъ.
— Да что-то, говорятъ, онъ очень боленъ.
— Нѣтъ, все такой же. Онъ никогда особеннымъ весельчакомъ не былъ, ну а теперь еще мрачнѣе. Тамъ уморительно: какъ кто пріѣдетъ, Staendchen[960] даютъ.
— Что такое?
— Соберутся музыканты и играютъ подъ окнами. Ну, про него какъ узнали, ему такой Staendchen задали, что меня разбудили. Вы понимаете какъ ему весело.
Въ такихъ разговорахъ они пришли къ дому. Княгиня уже ждала своихъ въ саду въ тѣни каштана, гдѣ они обыкновенно пили кофе въ хорошую погоду.
— Что, нашъ Herr[961] нынче не сердитъ? — спросилъ Князь жену.
— Нѣтъ, онъ очень милъ, и сливки отличны.
Скоро Herr этотъ, здоровенный мужикъ, хозяинъ, въ фартукѣ съ засученными рукавами явился съ подносомъ. И скоро пришла[962] Варенька. Князь взялъ газету и прочелъ вслухъ: «желаютъ мужа съ среднимъ состояніемъ среднихъ лѣтъ» и т. д.
— Молодцы нѣмцы, все у нихъ акуратно. Какъ вы на это смотрите? Вотъ, Кити, ты хвалишь Европейское. Я говорю, что у насъ все по сердцу, а у нихъ по акуратности.
* № 58 (рук. № 34).
Пріѣхавъ къ своимъ, князь распросилъ про ихъ житье бытье и, узнавъ про знакомство Кити съ М-ме Шталь, Варенькой и съ Кроновыми, увидавъ ее оживленною и здоровою, онъ по своему объяснилъ себѣ ея душевное состояніе, и Кити видѣла, по зажегшейся въ его маленькихъ глазахъ искрѣ, что онъ не осуждалъ, но и не одобрялъ всего этаго. Она чувствовала, что онъ скажетъ что нибудь мѣткое и насмѣшливое и что слово его будетъ имѣть на нее сильное вліяніе, и боялась, что она въ своемъ настроеніи не устоитъ противъ этого слова. Но онъ ничего не сказалъ въ первый вечеръ, а разсказывалъ много про русскихъ знакомыхъ и дѣлалъ планы отъѣзда и жизни въ деревнѣ до зимы. На другой день Князь съ Кити пошелъ на воды.
* № 59 (рук. 34).
Слѣдующая по порядку глава.
За кофеемъ, къ которому Князь пригласилъ и Вареньку, Марью Евгеньевну Ртищеву, московскую знакомую, онъ былъ[963] очень веселъ и говорливъ. Кити радовалась на отца,[964] но была задумчива и озабочена. Она не могла разрѣшить задачу, которую ей невольно задалъ отецъ съ своимъ веселымъ, полнымъ жизни взглядомъ на ея друзей и на ту жизнь, которую она такъ полюбила. Къ задачѣ этой присоединилась еще задача перемѣны ея отношеній съ Кроновымъ, и ей смутно казалось, что разрѣшеніе обѣихъ задачъ должно быть одно и тоже.
Князь велѣлъ Кити принести свои покупки, гостинцы и показывалъ ихъ всѣмъ. Тутъ были разные сундучки, бирюльки, рѣзныя деревянныя собачки, охотники, разрѣзные ножики всѣхъ сортовъ, которыхъ онъ накупилъ кучу на всѣхъ водахъ.
— Ну на что ты накупилъ эту бездну, — говорила Княгиня улыбаясь.
— Пойдешь ходить, ну зайдешь, купишь. Пристаютъ: у меня купите, у меня.
— Вотъ этого я не понимаю, — сказала Княгиня. — Это только отъ скуки.
— Я не отрекаюсь. Такая скука, что не знаешь, куда дѣваться.
— Помилуйте, Князь, такъ интересно!
— Да что же интересно? Все тѣже нѣмцы, и всѣ они совершенство. Все у нихъ акуратно. И газеты то, и тѣ читать нельзя. Все ребусы: ging, а потомъ и догадывайся, что aus или ab auf.
— Да смѣяться надо всѣмъ можно.
— Молодцы нѣмцы. Вотъ мы, по глупости, жениться или выдти замужъ ждемъ, чтобы полюбить человѣка, сойтись; а у нихъ просто: молодой человѣкъ красивой наружности ищетъ жену съ красивымъ лицомъ, съ 5000 талеровъ, hochst discretion,[965] и отлично. A я варваръ, — перебилъ Князь, — что дѣлать! Признаюсь, мочи нѣтъ. Все акуратно, все затянуто, подтянуто. Сапоги снимай самъ — да еще за дверь выставляй. Какъ это покойно. Утромъ вставай, одѣвайся, иди въ salon чай скверный пить. То ли дѣло дома. Проснешься, не торопясь посердишься на что нибудь, поворчишь. Принесутъ чай, возьмешь газету или книгу, сигару. Вотъ она бранитъ, а я это то люблю. Извините, — обратился онъ къ дамамъ. — Въ своемъ соку, это называется, чай пить. Какъ говядинка въ своемъ соку. Все обдумаешь, опомнишься, не торопишься.
— Ну ужъ Князь скажетъ, — покатившись со смѣху, подхватила Марья Евгеніевна.
— A Time is Money.[966] Вотъ ужъ глупѣе ничего не слышалъ. Время — это вся жизнь, счастье и все, а не деньги. А то въ Киссингенѣ, только я пріѣхалъ ночью, утромъ сладко заснулъ — Драмъ да дамъ. Эти штендхенъ Каренину. Разбудили, разбойники.[967]
— Ну что жъ, и очень хорошо. Принцесса разсказывала мнѣ, что у нихъ [?]
— Алексѣй Александровичъ? А онъ тамъ былъ. Говорятъ онъ очень былъ...
Кити, собиравшаяся уходить съ Варенькой, остановилась послушать о Каренинѣ.
— Какъ же, узнали его важные чины, ему каждый день штендхенъ. Боленъ не особенно, но убитъ.
— А что?
— Да не ладно, говорятъ, съ женой. Мнѣ говорили...
Кити остановилась, чтобы послушать о Каренинѣ, а Князь оглянулся на нее, чтобы узнать, ушла ли она, для того чтобы разсказать про Каренина. Она поняла это и ушла съ Варенькой на свою обычную, бывшую самымъ любимымъ ея временемъ, прогулку по саду. Во время этой прогулки были ихъ самые задушевные разговоры.
* № 60 (рук. № 37).
Въ разногласіяхъ между братьями Сергѣй Левинъ всегда приводилъ брата къ сознанію несостоятельности своихъ мнѣній. Но Константинъ Левинъ и не любилъ спорить съ братомъ, во первыхъ, потому, что онъ чувствовалъ, что братъ умнѣе его, больше думалъ, и, во вторыхъ, потому, что онъ чувствовалъ, что они находились на двухъ различныхъ высотахъ, и, очевидно, для каждаго перспектива была особенная: то, что было заслонено для однаго, было открыто для другаго; то, что для однаго казалось маленькимъ, для другаго казалось большимъ и наоборотъ. Для Сергѣя Левина меньшой братъ его былъ славный малый съ сердцемъ, поставленнымъ хорошо (какъ онъ говорилъ по французски), но съ умомъ не глубокимъ и не анализирующимъ. Онъ, съ снисходительностью старшаго брата, иногда объяснялъ ему значеніе вещей, но спорить не могъ, потому что всегда разбивалъ его. Константинъ Левинъ смотрѣлъ на брата какъ на человѣка огромнаго ума, самаго умнаго въ Россіи и одареннаго лучшимъ даромъ, котораго недостатокъ болѣзненно чувствовалъ въ себѣ Константинъ Левинъ, — даромъ самоотверженія и любви къ отвлеченной истинѣ и добру и способности дѣятельности для общаго блага. И потому при всѣхъ разногласіяхъ съ нимъ онъ находилъ, что источникъ разногласія ихъ въ его, Константина Левина, неспособности принимать къ сердцу отвлеченное общее благо. Онъ уже давно и нѣсколько разъ встрѣчалъ это стремленіе къ общему благу въ другихъ и отсутствіе этого стремленія въ себѣ, старался воспитать въ себѣ это чувство, но всякій разъ онъ не могъ преодолѣть фальши и бросалъ и теперь уже не пытался, а съ стыдомъ признавалъ себя неполнымъ человѣкомъ, лишеннымъ человѣческаго качества — самоотверженія, которое онъ встрѣчалъ въ столь многихъ, и смирялся. Одно, что утѣшало его, было то, что, не смотря на это, онъ твердо зналъ въ глубинѣ души, что онъ все таки любитъ на свѣтѣ только хорошее и никогда не солгалъ ни себѣ, ни другимъ.
Кромѣ того, Константину Левину было въ деревнѣ неловко съ братомъ еще оттого, что Константинъ Левинъ въ деревнѣ бывалъ всегда, особенно лѣтомъ, въ дѣятельности, a Сергѣй Левинъ отдыхалъ, и Константину бывало неловко его оставить.[968] Не смотря на всю любовь и уваженіе къ брату, Константинъ Левинъ замѣтилъ[969] въ немъ маленькую слабость, которая для него не портила, но украшала величественную фигуру брата. Онъ любилъ галлерею. Хотя онъ и отдыхалъ теперь въ деревнѣ, т. е. не работалъ надъ своей печатающейся книгой, только правилъ присылаемыя корректуры, Сергѣй Левинъ такъ привыкъ къ умственной дѣятельности, что онъ часто высказывалъ въ красивой сжатой формѣ свои мысли и любилъ, чтобы было кому слушать. Онъ даже любилъ гостей, и Константинъ Левинъ часто удивлялся, какъ онъ иногда небрежно металъ свой бисеръ передъ свиньями. Самый же обыкновенный и естественный слушатель его былъ его братъ. Сергѣй Левинъ любилъ[970] лечь въ траву на солнцѣ и лежать такъ, жарясь, и лѣниво болтать.
— Ты не повѣришь, — говорилъ онъ брату, — какое для меня наслажденіе эта хохлацкая лѣнь. Ни одной мысли въ головѣ, хоть шаромъ покати.
Или любилъ удить рыбу и даже, какъ замѣтилъ Константинъ Левинъ, какъ будто и гордился тѣмъ, что можетъ любить такое глупое занятіе. Но Константину Левину скучно было сидѣть, слушая его, особенно потому, что онъ зналъ — безъ него возятъ навозъ на нелѣшеную десятину и навалятъ Богъ знаетъ какъ, если не посмотрѣть, и рѣзцы въ плугахъ не завинтятъ, а поснимаютъ и скажутъ, что соха матушка.
— Да будетъ тебѣ ходить по жарѣ, — говорилъ ему Сергѣй, когда онъ уходилъ.
Кромѣ того, братъ не переставалъ ему выговаривать за то, что онъ бросилъ земство. Одинъ разъ у нихъ былъ длинный разговоръ объ этомъ и почти споръ, въ которомъ Константинъ Левинъ чувствовалъ, что онъ совершенно осрамился и все таки не могъ согласиться съ братомъ.[971]
Въ первыхъ числахъ Іюня случилось, что старуха тетушка, сходя съ крыльца, поскользнулась, упала и свихнула руку въ кисти. Послали за земскимъ докторомъ. Пріѣхалъ молодой, болтливый, только что кончившій курсъ студентъ. Онъ осмотрѣлъ руку, сказалъ, что не вывихнута, и, оставшись обѣдать, видимо наслаждался бесѣдой съ знаменитымъ Левинымъ и разсказывалъ всѣ уѣздныя сплетни, жалуясь на дурное положеніе земскаго дѣла. Когда докторъ уѣхалъ, Сергѣй Левинъ съ удочкой собрался на рѣку, и Константинъ Левинъ, которому нужно было на пахоту и посмотрѣть луга, вызвался довести брата въ кабріолетѣ.
Было то время года — перевала весны въ лѣто, то время, когда урожай уже опредѣлился, рожь уже вся выколосилась и, сѣро зеленая, неналитымъ еще легкимъ колосомъ, волнуется по вѣтру; когда желтозеленые овсы выбиваются кое гдѣ въ метелку и по нимъ сидятъ еще не выполоные старые, развѣтлившіеся кусты желтой травы; когда гречихи у хорошихъ хозяевъ посѣяны и лопушатся, скрывая землю, и только старовѣры сѣютъ, поминая Акулину гречишницу; когда убитые скотиной пары съ трудомъ до половины вспаханы съ оставленными дорогами, которыхъ не беретъ соха; когда накатаны жесткія дороги на поля возкой навоза и присохшія кучи все таки пахнутъ на заряхъ навозомъ, сливающимся съ запахомъ меда отъ пчелиныхъ травъ; когда не паханные пары и залежи ярко жолтые отъ свергибуса, а береженые луга на буграхъ нѣжно синѣютъ расходящимися фигурами незабудокъ, а въ низахъ стоятъ, ожидая косы, сѣрыми метелками въ верху и сочнымъ подростомъ снизу луга съ чернѣющимися кучами стеблей выполоннаго щавельника и кое гдѣ примятыми лежками съ крутой стѣной травы вокругъ; когда въ лѣсахъ глухо, поспѣла ягода и грибы; когда соловей допѣваетъ послѣднюю пѣсню и вывелась уже ранняя птица и на молодыхъ деревьяхъ на зарѣ видны изумрудные побѣги нынѣшняго года; когда липа уже приготовилась къ цвѣту и вся запестрѣла желтыми прилистками; когда на пчельникахъ старики не спятъ въ обѣденное время и пчела волнуется и роится. Было то время, когда въ сельской работѣ приходитъ короткое время передышки передъ началомъ всякій годъ повторяющейся, но всякій годъ вызывающей всѣ силы, всю энергію народа, — время уборки. Урожай былъ прекрасный, весна была прекрасная, и теперь стояли очень жаркіе дни съ росистыми короткими ночами. Братья должны были проѣхать и черезъ поля и черезъ лѣсъ и подъѣхать къ лугамъ. Сергѣй Левинъ, очень чуткой къ красотамъ природы, любовался все время. Константинъ Левинъ, оглядывавшій поля, пары, кучи навоза и луга, задавалъ себѣ вопросъ: косить или подождать?
Во время сѣнной уборки Левинъ, какъ и всѣ почти хозяева, несмотря на то что уборка сѣна есть одна изъ неважныхъ статей хозяйства, Левинъ приходилъ всегда въ особенно сильное волненіе. Косить, не косить ли? Трясти, не трясти? Будетъ ли погода? Сгребутъ ли въ валы, въ копны, смечутъ ли въ стога до дождя? Готово ли сѣно, что барометръ, что у другихъ, убрано ли? Есть что то забирающее за живо въ уборкѣ сѣна, и Левинъ, страстно любящій хозяйство, всегда испытывалъ этотъ азартъ и волненіе. Разъ, проѣхавши на покосъ, онъ попробовалъ самъ косить и почувствовалъ такое успокоеніе отъ волненія и работа ему эта такъ понравилась, что съ тѣхъ поръ онъ ужъ два года косилъ съ мужиками, когда ему было время.[972] Нынѣшній годъ онъ былъ въ раздумьѣ — косить или нѣтъ. Ему совѣстно было оставлять брата по цѣлымъ днямъ и совѣстно было, что онъ посмѣется, увидитъ въ этомъ оригинальничаніе, но[973] онъ чувствовалъ, что ему слишкомъ неловко съ братомъ и необходимо то сильное физическое движеніе, которое ему давалъ покосъ, и онъ рѣшилъ, что будетъ косить. Но болѣе всего убѣдилъ его въ этомъ видъ большаго луга, когда онъ прямо въѣхалъ въ него на кабріолетѣ, подвозя брата къ тому ракитовому кусту, у котораго брались окуни, и когда онъ увидалъ, какъ сѣрый пухъ луга махался до колѣнъ лошади, моча ея ноги и копыты, и когда, оглянувшись на слѣды колесъ, по[974] густому ковру подсѣда въ четверть, «нѣтъ, поспѣли луга, — подумалъ онъ, — и заря красно догораетъ».
Братъ сѣлъ подъ кустомъ, разобралъ удочки, а Константинъ Левинъ отвелъ лошадь, привязалъ ее и пошелъ пройтись по самой серединѣ луга. Трава была по поясъ на заливномъ мѣстѣ и шелковистая, мягкая сверху, густая внизу. На лугу никого не было. Какъ сѣрое море, стояла трава, не шелохаясь отъ вѣтра. Перепела и коростели перекликались, и одна перепелка вылетѣла.
* № 61 (рук. № 37).
Работа такъ и кипѣла, подрѣзываемая съ сочнымъ звукомъ трава наклонялась и ложилась со всѣхъ сторонъ, кое гдѣ попадались грибы, которые срѣзали и за которые сердился старикъ и собиралъ. Старикъ въ курткѣ полѣзъ на гору и поскользнулся потомъ въ своихъ лаптяхъ, трясясь всѣмъ тѣломъ и висѣвшимъ низко шагомъ клѣтчатыхъ портокъ, которые тряслись на немъ, но все таки лѣзъ, шутилъ и срѣзалъ траву. Левинъ чувствовалъ, что безъ косы даже онъ другой разъ спотыкнулся бы, и не легко влѣзъ на эту гору. Теперь въ артели шелъ въ ряду, махая косой, чувствуя, что какая то внѣшняя сила двигала имъ. Лѣсная трава пахла пряно и сочно и придавала бодрость и веселье.
Додѣлали послѣдніе ряды, и весело всѣ пошли къ дому. Левинъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ домой. Съ горы онъ оглянулся: въ туманѣ, поднимавшемся изъ низу, слышны были веселые грубые голоса, хохотъ и звукъ сталкиваемыхъ косъ.
Онъ пріѣхалъ домой, умылся и вошелъ въ гостиную. Братъ съ сигарой пилъ чай, тетушка была не въ духѣ отъ больнаго пальца и самовара, который пахъ.
— Чтоже ты это цѣлый день былъ? — спросилъ братъ. — А въ дождь то ты гдѣ былъ?
— Когда дождь?
— Да утромъ ливень.
— Развѣ былъ? Ну, право, я не замѣтилъ.
— Съ почты пріѣхали, — сказалъ братъ.
Константинъ Левинъ замѣтилъ, что братъ не въ духѣ.
— Что, непріятное что нибудь?
— Не непріятное, потому что я другаго не ждалъ, они послѣдовательны, — и братъ началъ разсказывать про высшее распоряженіе, которое было сдѣлано въ Петербургѣ и которое онъ считалъ вреднымъ и глупымъ.
— Вѣдь это нельзя такъ, Василій, мы задохнулись отъ твоего самовара, — сердито говорила тетушка.
Всѣ были не въ духѣ. А Левинъ былъ необыкновенно веселъ.
— Да что вы не на балконѣ?
— Помилуй, я распухъ весь, — сказалъ братъ, — отъ комаровъ. Да, тебѣ письмо.
Константинъ Левинъ взялъ письмо. Оно было отъ Облонскаго. Облонскій писалъ изъ Петербурга: «Я получилъ письмо отъ Долли. Она въ Покровскомъ, и у ней что то все не ладится. Съѣзди, пожалуйста, къ ней и помоги совѣтомъ. Ты все знаешь. И она такъ рада будетъ тебя видѣть. Она совсѣмъ одна, бѣдная. Теща со всѣми еще за границей».
Левинъ разсказалъ содержаніе письма, и тетушка совѣтовала ему непремѣнно ѣхать. Братъ же былъ не въ духѣ, по этому случаю разговорился объ Аннѣ Аркадьевнѣ.
— До чего распущенность нравовъ дошла, это не имѣетъ границъ, — сказалъ онъ. — Говорятъ, Каренина открыто живетъ на дачѣ съ любовникомъ, а мужъ видитъ все и молчитъ.
— Какой Вронской? — спросилъ Левинъ.
— Алексѣй Вронской. Онъ малый хорошій, говорятъ, но эти юноши невольно подъ вліяніемъ окружающаго тона.
Левинъ поѣлъ[975] то, что ему принесли къ чаю, и ушелъ[976] въ контору, распорядившись завтрашнимъ покосомъ.[977]
Получивъ это письмо, Левинъ[978] пришелъ въ волненіе. Рѣшительно это дѣло, столь мучавшее его, не хотѣло оставить въ покоѣ. Какъ только онъ сталъ по немногу успокоиваться и[979] теперь весной, благодаря овсянаго посѣва, возки навоза и теперь покосовъ, забывать, это письмо пришло и опять растравило его рану. — «Ѣхать — не ѣхать? — долго колебался онъ, — но чтоже, развѣ я запертъ? Развѣ я сдѣлалъ что-нибудь такое, что мнѣ стыдно и я боюсь кого нибудь? Разумѣется, ѣхать. Я люблю Дарью Александровну. Встрѣчать Кити я не буду стараться. Скорѣе буду избѣгать ее. Въ письмѣ Степана Аркадьича сказано, что Кити за границей. Отчего же мнѣ не ѣхать?» И онъ велѣлъ приготовить коляску.
* № 62 (рук. № 37).
— Но ее, бѣдняжку, мнѣ ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.
— Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, — сказалъ онъ вставая. — Но я васъ поздравляю, что вамъ жалко вашу сестру. Это все очень мило, но до меня это совершенно не касается. Прощайте, Дарья Александровна, до свиданья.
— Нѣтъ, постойте, — сказала она, схвативъ его костлявой рукой за рукавъ, — постойте, садитесь. Это васъ касается и очень.
— Какъ это можетъ?
— А такъ, что она васъ любитъ, — вдругъ, какъ выстрѣлила, сказала Дарья Александровна, — да, любитъ. Вы понимаете, что это значитъ, когда я это говорю про лучшаго своего друга — сестру, которую я люблю больше всего послѣ своихъ дѣтей.
* № 63 (рук. № 37).
— Я только одно еще скажу. Понимаете ли вы положеніе дѣвушки, которая отказала въ такую минуту и все таки любитъ. И ея положеніе, le ridicule de sa position[980] относительно всѣхъ, что она обманута и сама виновата.
— Ничего не могу понять, кромѣ своего чувства.
* № 64 (рук. № 37).
<Дѣти были милы, онъ не спорилъ, но онъ не совсѣмъ одобрялъ теперь пріемы съ ними Дарьи Александровны.
— Зачѣмъ вы говорите съ ними по французски? — сказалъ онъ ей послѣ того, какъ она спросила у дѣвочки, гдѣ они были, и заставила дѣвочку, поправивъ ее, съ трудомъ выговорить по французски. — Это ненатурально, и они чувствуютъ это.
— Да, но погодите. Когда у васъ будутъ свои дѣти и не будетъ средствъ взять Француженку въ домъ. А это все я знаю.
«Нѣтъ, — думалъ Левинъ, — ея дѣти милы, но когда у меня будутъ дѣти, будетъ совсѣмъ не то». Его будущіе дѣти представлялись ему всегда идеально прекрасными, и чтобы сдѣлать ихъ такими, не нужно было никакого труда, не нужно было только дѣлать тѣхъ ошибокъ, которые дѣлали другіе.>
* № 65 (рук. № 50).
Огромный лугъ былъ полонъ народа, гребущихъ вереницей пестрыхъ бабъ, гремящихъ, подъѣзжающихъ къ копнамъ, телѣгъ и копенъ, огромными навилинами переходящихъ съ земли на телѣжные ящики.
Левинъ, окончивъ дѣло, присѣлъ на копнѣ съ тычинкой ракитника на макушкѣ, отмѣченной мужиками на ихъ долю, старикъ присѣлъ подлѣ него. <Парменычъ былъ одинъ изъ тѣхъ старинныхъ мужиковъ, которыхъ ужъ мало остается, которые гордятся своимъ мужичествомъ и не видятъ ничего дальше мужика. У него остался живой одинъ сынъ изъ 8 дѣтей.>
Пустая телѣга на сытой подласой лошадкѣ съ красивой бабой въ ящикѣ и съ молодымъ веселымъ мужикомъ, стоя размахивающимъ концомъ веревочной возжи, простучала мимо по чуть накатанному лугу. Старикъ всталъ и поманилъ мужика. Это былъ его сынъ.
— Послѣднюю, батюшка, — прокричалъ онъ, остановивъ лошадь и улыбаясь, оглянулся на веселую, неподвижно сидящую бабу, погналъ дальше.
— Это твой сынъ? — сказалъ Левинъ вернувшемуся старику.
— Ванька мой, — съ гордой улыбкой сказалъ старикъ.
— Ничего малый! Давно женатъ?
— Да 3-й годъ въ Филиповки.
— A дѣти есть?
— Нѣ, — улыбаясь беззубымъ ртомъ отвѣчалъ старикъ. — Младенецъ былъ.[981]
— А что?
— Да такой онъ у меня стыдливый, два года, почитай, какъ братъ съ сестрой, съ женой жилъ.
— Отчего?
Да, говорятъ, испортили.
— Какой вздоръ!
— Я тоже думаю. Такъ, отъ стыда. Ахъ, хорошо сѣно — чай настоящій, — сказалъ старикъ, желая перемѣнить разговоръ и вмѣстѣ съ тѣмъ тяготясь бездѣйствіемъ.
Левинъ внимательно присмотрѣлся къ Ванькѣ Парменову и его женѣ.
Ванька ловко стоялъ на возу, принимая и отаптывая навилины сѣна, которое сначала охабками, потомъ вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка. Съ вилами она налегала упругимъ и быстрымъ движеніемъ на копну, стараясь захватить больше, выпрямлялась, перегибая спину, перетянутую краснымъ кушакомъ, и, выставляя полные груди изъ-подъ бѣлой занавѣски и съ ловкой ухваткой перехватывая вилами, вскидывала ихъ высоко на возъ и отряхивала засыпавшуюся ей за потную загорѣлую шею труху, оправляла платокъ и опять набирала на вилы сѣно. Чему то она смѣялась, особенно какъ онъ увязывалъ возъ позади [?] подъ колесами. Левинъ смотрѣлъ, любовался и не могъ оторваться. Онъ не только любовался, но что то для него, для его жизни важное, казалось ему, происходило передъ его глазами. Возъ былъ увязанъ. Съ скрипомъ тронулась телѣга. Мужъ съ женой шли сзади, разговаривая и вытягиваясь въ обозъ съ другими возами.
Возы вытянулись, и бабы запѣли своими мощными голосами, подвигая[сь] къ [нему], какъ будто туча съ громомъ веселья надвигалась на него. Онѣ прошли и скрылись. Солнце сѣло, взошелъ мѣсяцъ. Онъ все лежалъ на копнѣ. У рѣки стояли станомъ мужики дальней [деревни]. Они поужинали, и у нихъ шла игра, пѣсни, крики, и шутки. Всю ночь проиграли мужики и бабы, и всю ночь пролежалъ Левинъ на копнѣ. Онъ не думалъ ни о чемъ, онъ слушалъ звуки и чувствовалъ новое, сильное чувство. Онъ отрекался отъ всей своей жизни, которая ему вся казалась уродлива, и новая жизнь открывалась ему. Не барышня съ музыкой, съ муфточкой и бѣлыми пальчиками, не трюфели, устрицы, не фраки и кресла качающіяся, не исканія новыхъ планетъ и путей кометъ и рѣшенія шахматныхъ задачъ, не развратъ съ сотнями женщинъ и не барышни, захватанныя на балахъ и визитахъ [?], а Ванька, отъ стыда не спящій съ женой и просыпающійся къ чувству плоти, какъ къ воздуху, въ законѣ и покорности, и трудъ, трудъ счастливый, плодотворный, съ природой, въ артели. Вотъ жизнь, и я могу, и я люблю ее. <И кончено. Мало ли ихъ, этихъ женщинъ.> Уйду туда, уйду отъ всѣхъ. Буду жить, какъ велѣлъ Богъ, съ женщиной въ законѣ, въ трудѣ.
Все затихло передъ зарей. Только два бабьихъ голоса смѣющіеся слышны были. Куликъ засвисталъ, утки перелетѣли. «Кончено. Теперь я усталъ, не спалъ, но эта ночь рѣшила мою судьбу. Отдѣлюсь отъ брата. Возьму и Парменыча дочь. Или нѣтъ, я не имѣю права. Я старъ. Возьму бабу, какъ вдовцы. Заведу хуторъ и буду...»
Онъ вышелъ изъ луга и шелъ по большой дорогѣ, подходя къ деревнѣ. Онъ такъ былъ занятъ своими мыслями, что и не замѣтилъ или не далъ себѣ отчета о томъ, что онъ видитъ впереди себя. Впереди его, ему навстрѣчу, побрякивая бубенцами, въ сторонѣ-муравкѣ, по которой онъ шелъ, ѣхала, оставляя колеи между колесъ, четверней карета съ важами и сзади телѣга парой. Когда она поравнялась съ нимъ, онъ разсѣянно взглянулъ въ карету. Что то бѣлое, сѣрое лежало въ одномъ углу съ его стороны: подавшись впередъ на сидѣньи, видимо только что проснувшись, въ бѣломъ чепчикѣ, держась руками за обѣ ленточки и глядя веселыми и нѣжными глазами на него, но не узнавая его, сидѣла Кити. Мгновенно онъ узналъ эти правдивые глаза, эти плечи, этотъ благородный постановъ головы, это изящество всего, что была она и около нея, и весь міръ, весь интересъ жизни уѣхали туда, прочь отъ него, въ этой каретѣ на бойко бѣгущей четверкѣ. Остались вокругъ него мертвыя, пустыя поля, деревья и онъ самъ, одинокій и чужой всему, что было вокругъ него. Онъ не могъ сомнѣваться, что это была она. Онъ узналъ и ихъ лакея сзади важъ, долго оглядывавшагося на него, и понялъ, что она ѣхала къ Долли съ желѣзной дороги.
«Нѣтъ, нѣтъ, — сказалъ онъ себѣ, — нельзя обмануть себя, нельзя починить разбитое сердце. Я бы обманулъ себя. Я могъ быть счастливъ только съ ней, только, только съ ней, а ея нѣтъ для меня».
Онъ сталъ вспоминать свой разговоръ съ Долли. «Все это вздоръ, и я сказалъ, что не пріѣду и не могу пріѣхать, и потомъ она скажетъ ей все. И что же, я какъ будто простилъ ее. Нѣтъ, кончено. Надо жить, какъ прежде, той ни то ни сё жизнью, которой я жилъ и живу. Всегда во всемъ видѣть, какъ можно разумно жить, и жить глупо. Это было бы ужасно, если бы не всѣ такъ жили».
* № 66 (рук. № 38).
<III> <Двѣ четы.>
<3-я часть.>
I.
Послѣ объясненія на дачѣ Алексѣй Александровичъ[982] не видѣлся съ женой все лѣто. Тотчасъ же по возвращеніи съ дачи онъ устроилъ себѣ поѣздку для ревизіи по губерніямъ и тотчасъ же уѣхалъ. Какъ и всегда онъ дѣлывалъ, при поѣздкѣ этой всѣми силами души погрузился въ предстоящее ему дѣло. Передъ отъѣздомъ его и вскорѣ послѣ его отъѣзда въ высшемъ обществѣ Петербурга говорили и спорили о поступкѣ Алексѣя Александровича передъ отъѣздомъ, и Анна часто должна была слышать про этотъ поступокъ, поднявшій нѣкоторый шумъ. Алексѣй Александровичъ, въ противность того, что было общепринятымъ обычаемъ для людей въ его положеніи, Алексѣй Александровичъ сдѣлалъ выговоръ и велѣлъ выйти въ отставку тому чиновнику, который вытребовалъ изъ Министерства Финансовъ прогоны на 9 лошадей для поѣздки Алексѣй Александровича, и велѣлъ возвратить эти деньги и требовать только на одинъ билетъ 1-го класса пароходовъ и поѣздовъ. Алексѣй Александровичъ былъ небогатый человѣкъ, обычай этотъ брать прогоны на число лошадей по чину, что составляло рублей 1500, былъ общепринятый,[983] и потому много было толковъ за и противъ, и большинство было противъ Алексѣй Александровича.
Въ концѣ Сентября онъ получилъ записку отъ жены: «Я намѣрена переѣхать въ Петербургъ въ среду, поэтому распорядитесь въ домѣ, какъ[984] вы найдете нужнымъ». Алексѣй Александровичъ передалъ приказаніе дворецкому, и въ среду Настасья Аркадьевна съ сыномъ и Англичанкой переѣхали. Мужъ и жена встрѣчались[985] при постороннихъ въ столовой, въ дѣтской, говорили другъ другу «ты», но старались избѣгать другъ друга. Они не выѣзжали вмѣстѣ и не принимали. Алексѣй Александровичъ старался обѣдать внѣ дома или опаздывать, такъ что ему подавали обѣдъ въ кабинетъ. Когда онъ бывалъ въ дѣтской, что случалось часто, она, услыхавъ его голосъ въ дѣтской, дожидалась пока онъ уйдетъ. Всѣ — и знакомые и прислуга — могли догадываться и догадывались объ отношеніяхъ между супругами, но не имѣли права знать. Алексѣй Гагинъ часто обѣдалъ и всѣ вечера до поздней ночи проводилъ у Настасьи Аркадьевны. Встрѣчаясь въ свѣтѣ и на крыльцѣ, Алексѣй Александровичъ и Гагинъ кланялись другъ другу не глядя въ глаза, но никогда не произносили ни однаго слова. Жизнь эта была мучительна для обоихъ. Настасья Аркадьевна одна, казалось, не чувствовала всего ужаса этаго положенія, никогда не тяготилась или не жаловалась и, казалось, не видѣла необходимости предпринять что нибудь. Гагинъ видѣлъ, что она перемѣнилась для него, тоже испытывалъ чувство подобное тому, которое испытываетъ человѣкъ, глядя на измѣнившійся, завядшій цвѣтокъ въ рукѣ, съ тѣхъ поръ какъ онъ сорвалъ его, тотъ самый цвѣтокъ, который былъ такъ хорошъ, пока онъ былъ въ рукѣ. Онъ чуялъ, что она была несчастлива; но не имѣлъ права сказать ей это. Она казалась, вполнѣ счастлива однимъ настоящимъ, безъ прошедшаго и будущаго.
Однажды въ серединѣ зимы онъ запоздалъ больше обыкновеннаго. Онъ былъ на обѣдѣ проводовъ выходившаго изъ полка товарища.>[986]
* № 67 (рук. № 38).
Послѣ объясненія съ женой на дачѣ Алексѣй Александровичъ, вернувшись въ Петербургъ, тотчасъ же устроилъ для себя ту поѣздку по губерніямъ, которую онъ и прежде считалъ необходимою для дѣла, и, не видавшись съ женою, уѣхалъ на ревизію, которая должна была занять нѣсколько мѣсяцевъ.
На третій день послѣ дня скачекъ Анна получила отъ него деньги и письмо. Письмо не имѣло обращенія къ лицу и было написано по французски. Анна поняла, какъ онъ долго долженъ былъ обдумывать и какъ хорошо онъ придумалъ такое письмо, которое не выражало отношенія его къ ней. Такъ какъ не было сказано ни милый другъ, Анна, ни Милостивая Государыня, и такъ какъ по французски онъ обращался къ ней «вы», тонъ письма былъ таковъ, что отъ нея еще зависѣло остаться съ нимъ въ прежнихъ отношеніяхъ.[987] Онъ писалъ: «Послѣ нашего послѣдняго разговора, не приведшаго ни васъ, ни меня ни къ какому рѣшенію, я полагаю, что намъ лучше не видаться нѣкоторое время. Вы и я будемъ имѣть время обдумать свое положеніе и свои дальнѣйшіе шаги въ жизни. Я остаюсь при своемъ убѣжденіи, что каковы бы ни были наши внутреннія несогласія («несогласія! — подумала она. — Я сказала ему, что я любовница другаго, онъ называетъ это несогласіемъ») семья не должна быть разрушена, и мы должны продолжать нашу жизнь, какъ она шла, по крайней мѣрѣ по внѣшности. Это необходимо для меня, для васъ, для нашего сына. Такъ какъ поѣздка моя можетъ продолжаться[988] неопредѣленное время, я посылаю деньги на ваши расходы на дачѣ и сдѣлалъ распоряженія о приготовленіи всего къ вашему переѣзду въ городъ, который можетъ послѣдовать раньше моего пріѣзда.
Прошу васъ помнить, что судьба нашего сына, моего имени и ваша собственная находится въ вашихъ рукахъ.
А. Каренинъ».
— Онъ всегда правъ, онъ во всемъ правъ,[989] — вскрикнула Анна, прочтя это безукоризненное письмо, написанное столь знакомымъ ей растянутымъ и размашистымъ почеркомъ, — но кромѣ меня никто не знаетъ,[990] откуда вытекаетъ эта справедливость. Онъ справедливъ. Всѣ осудятъ меня, но я не могу быть виновата противъ этаго человѣка.
Но, несмотря на это разсужденіе, деньги, 3000 рублей, присланные Алексѣемъ Александровичемъ, жгли ей руки, и она не убрала ихъ въ столъ, и Аннушка уже, найдя акуратную въ бандеролькѣ пачку несогнутыхъ радужныхъ бумажекъ, напомнила ей.
Вскорѣ послѣ этаго Анна должна была слушать отъ всѣхъ своихъ знакомыхъ толки объ отъѣздѣ Алексѣя Александровича и объ одномъ связанномъ съ его отъѣздомъ обстоятельствѣ, надѣлавшемъ нѣкоторый шумъ въ высшемъ чиновничьемъ классѣ Петербурга.
— Вы слышали, что вашъ Катонъ надѣлалъ? — смѣясь сказала (бѣлая безъ бровей) Аннѣ, встрѣтивъ ее у Бетси, — всѣ спутались, не знаютъ, хвалить его или бранить.
— Что онъ сдѣлалъ? Я увѣрена, что что-нибудь справедливое, — сказала Анна съ для одной себя понятной ироніей.
— Какже, ему, какъ Тайному Совѣтнику и, ну знаете, что онъ тамъ такое, на ревизію отчислили прогоны на 9 или на 12 лошадей. Мой мужъ всегда даже нарочно выдумываетъ, куда бы съѣздить. Даже я ему придумываю. Это очень выгодно. Я прошлого года прогонами всѣ балы справила. Разумѣется, онъ можетъ ѣхать въ желѣзной дорогѣ, такъ зачѣмъ же они не перемѣнили? Ну-съ, вашъ Катонъ выгналъ чиновника, который написалъ ему это требованіе, и послалъ деньги назадъ, а взялъ только на 1-ый классъ. C’est beau.[991] Не правда ли?
— Да что же, это очень хорошо, — сказала Бетси, у которой было 120 тысячъ доходу.
«Разумѣется, это было очень хорошо», думала Анна, но это вытекало изъ того самаго, что она ненавидѣла въ немъ. Онъ прислалъ послѣднія 3000, онъ не взялъ этихъ денегъ; онъ былъ всегда, всегда холодно правъ, и она за это то бросила его и полюбила другаго и теперь ненавидѣла его.
Въ началѣ зимы Алексѣй Александровичъ вернулся въ Петербургъ и засталъ жену уже давно въ Петербургскомъ домѣ. Одна изъ главныхъ причинъ успѣха Алексѣя Александровича въ жизни состояла въ томъ, что онъ никогда не ожидалъ лучшаго отъ обстоятельствъ и отъ людей, которые ихъ дѣлаютъ, и потому рѣдко ошибался. Онъ ждалъ того самого, что онъ нашелъ въ своемъ домѣ. To-есть тѣже отношенія между его женой и Вронскимъ въ внѣшнихъ формахъ приличія. Разница состояла только въ томъ, что то, что прежде было новымъ, не уложившимся, полнымъ угрозъ событіемъ, теперь стало совершившимся фактомъ.
Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ рано утромъ; за нимъ выѣзжала карета по его телеграммѣ, и потому Анна Аркадьевна могла знать о его пріѣздѣ; но когда онъ пріѣхалъ, Анна Аркадьевна еще не выходила.[992] Онъ спросилъ о ней, поздоровался съ Сережей и сѣлъ за кофе.
Онъ ждалъ, что она выйдетъ къ нему въ столовую, но она не вышла, хотя онъ слышалъ, что она встала. Ему нужно было ѣхать въ тоже утро по службѣ, и до этаго хотѣлось видѣть ее, чтобы отношенія ихъ были опредѣлены, и потому онъ прошелъ къ ней. Она была одѣта и сидѣла въ длинномъ креслѣ, читая.[993] Она увидала его, хотѣла встать, раздумала, встала, и лицо ея вспыхнуло. Она не смотрѣла на него, но взглядывала и опускала глаза, какъ загнанный звѣрь, который не имѣетъ силы бѣжать и видитъ приближеніе ужаснаго. Это было всетаки лучше того, что онъ ждалъ, судя по послѣднему разговору, гдѣ она отчаянно и смѣло высказала ему свою любовь.
Лицо его было спокойно и строго.
— Вы нездоровы, — сказалъ онъ, глядя на ея похудѣвшее и опустившееся лицо съ горящими глазами. Онъ взялъ ея руку и поцѣловалъ. Она поняла, что онъ это дѣлалъ потому, что онъ долженъ будетъ это дѣлать при другихъ. — Очень жаль, — прибавилъ онъ, не дожидаясь отвѣта. И сѣлъ подлѣ нея.
— Да, я нездорова... Но нѣтъ...
Она замолчала, чувствуя, что не можетъ говорить съ нимъ ни о чемъ, прежде чѣмъ не пойметъ, что будетъ и чего онъ отъ нея потребуетъ.
— Алексѣй Александровичъ, — сказала она, взглядывая на него и не опуская глазъ подъ его стекляннымъ, какъ ей казалось, взглядомъ. — Я преступная женщина, я дурная женщина; но я тоже, что я была, что я сказала вамъ въ Красномъ, и я не могу ничего перемѣнить....
— Я васъ не спрашивалъ объ этомъ, — сказалъ онъ спокойно, но только сопнувъ носомъ, — я такъ и предполагал, но, какъ я вамъ говорилъ тогда и писалъ, я теперь повторяю, что я не обязанъ этаго знать. Я игнорирую это. Не всѣ жены такъ добры, какъ вы, чтобы такъ спѣшить сообщать это пріятное извѣстіе мужьямъ. Я игнорирую это до тѣхъ поръ, пока свѣтъ не знаетъ этаго, пока имя мое не опозорено. И потому я только предупреждаю васъ, что наши отношенія должны быть такія, какія они всегда были, и что только въ томъ случаѣ, если вы компрометируете себя, я долженъ буду принять мѣры, чтобы оградить свою честь.
— Но отношенія наши не могутъ быть такими, какъ всегда, — заговорила она, теперь уже не стыдясь смотрѣть на него. Отвращеніе къ нему преодолѣло въ ней стыдъ, когда она увидала это пергаментовое лицо, эти спокойные жесты, услыхала трескъ суставовъ и этотъ пронзительный дѣтскій голосъ[994] sneering.[995] — Я не могу быть вашей женой, когда я....
— Почему же? я не вижу, — отвѣчалъ онъ. — Это малѣйшая уступка за ту, которую я дѣлаю.
Она вскрикнула и вскочила, какъ будто дотронулась до лейденской банки.
— Вы не понимаете этаго униженія, этой...
— Не понимаю, какъ, имѣя столько независимости, какъ вы, объявляя мужу о своей невѣрности и не находя въ этомъ ничего унизительнаго, вы находите унизительнымъ то, чтобы исполнять въ отношеніи мужа обязанности жены.
— Да вы... Нѣтъ, я не могу говорить съ вами. Вы не поймете...
— Извольте, я уступаю и это. Я прошу объ одномъ и требую того, чтобы я не встрѣчалъ здѣсь этаго человѣка и чтобы вы вели такъ, чтобы ни свѣтъ, ни прислуга не могли обвинить васъ. Кажется, это немного. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ея обязанностей.
Такъ кончилось первое[996] объясненіе между супругами. Они жили въ одномъ домѣ, встрѣчались каждый день. Алексѣй Александровичъ за правило поставилъ каждый день видѣть жену, но избѣгалъ обѣдовъ дома. Вронской никогда не встрѣчался Алексѣю Александровичу въ его домѣ, Анна видала его у Бетси и въ свѣтѣ и изрѣдка назначала ему свиданія внѣ дома. Къ себѣ она никогда не звала его.
Положеніе было мучительное для всѣхъ троихъ,[997] и ни одинъ изъ нихъ не въ силахъ бы былъ прожить и одного дня въ этомъ положеніи, если бы не ожидалъ, что оно измѣнится, а что это временное, горестное затрудненіе, которое пройдетъ. Вронской ждалъ того, что она рѣшится наконецъ оставить мужа и соединиться съ нимъ. Алексѣй Александровичъ ждалъ, что она опомнится и что это пройдетъ, какъ и все проходитъ: тѣ, которые говорили про это, забудутъ, и семейная жизнь его по прежнему будетъ благообразная и приличная. Анна, отъ которой зависѣло это положеніе, тоже переносила это положеніе, которое болѣе всего было мучительно для нея только потому, что она не только ждала, но твердо была увѣрена, что очень скоро все это развяжется и уяснится. Она рѣшительно не знала, что развяжетъ это положеніе, но твердо была увѣрена, что это что то придетъ очень скоро, каждый день она ждала, что это случится.
Въ концѣ зимы Вронской былъ у Бетси, ожидая встрѣтить у нея Анну, но ее не было, и на другой день онъ получилъ черезъ Бетси отъ нея записку: «Я больна и несчастлива, я не могу болѣе выѣзжать, но и не могу болѣе не видать васъ. Пріѣзжайте вечеромъ въ 7 часовъ. Алексѣй Александровичъ ѣдетъ на совѣтъ въ 7 часовъ». Въ этотъ самый день Вронской долженъ былъ присутствовать на прощальномъ обѣдѣ, который товарищи давали выходившему изъ полка офицеру.
* № 68 (рук. № 38).
Медленно, стуча калошами, спускалась[998] худая, немного больше обыкновеннаго сгорбленная фигура Алексѣя Александровича. Рожокъ газа прямо освѣщалъ его блѣдное пухлое лицо съ нахмуренными бѣлыми бровями подъ черной шляпой и отвисшимъ носомъ и отвисшими щеками надъ бобровымъ воротникомъ. Ясные[999] каріе глаза его устремились съ недоумѣніемъ на лицо[1000] Вронскаго и[1001] насильно улыбнулся и поднялъ пухлую руку къ шляпѣ. Этимъ движеніемъ онъ уронилъ черную перчатку.[1002] Вронской тоже приложилъ руку къ козырьку, двинулся невольно къ перчаткѣ, вспыхнулъ и отшатнулся. Алексѣй Александровичъ заторопился, нагнулся къ перчаткѣ, споткнулся и справился, загремѣвъ калошами. Когда[1003] Вронской вышелъ въ переднюю, онъ не могъ удержаться отъ хрипѣнія, вызваннаго въ немъ душевной болью. «Боже мой! если бы онъ потребовалъ удовлетворенія, если бы я могъ чѣмъ нибудь заплатить. Но еще хуже, если бы онъ потребовалъ удовлетворенія. Ужасно бъ было хоть не стрѣлять, но поставить подъ выстрѣлъ и съ пистолетомъ въ рукахъ человѣка съ этими глазами. Нѣтъ, это не можетъ такъ продолжаться. Это должно кончиться».[1004]
* № 69 (рук. № 38).
— Ты встрѣтилъ его? — спросила она, когда они сѣли у стола подъ лампой. — Вотъ тебѣ наказанье за то, что опоздалъ.
— Да, но какже. Онъ долженъ былъ быть въ Совѣтѣ.
— Онъ былъ и вернулся и опять поѣхалъ куда то. Гдѣ ты былъ? Неужели все на этомъ обѣдѣ?
Она знала, гдѣ онъ былъ,[1005] какъ она знала всѣ подробности его жизни. Онъ сказалъ, что былъ на обѣдѣ. Хотѣлъ сказать, что онъ слишкомъ много выпилъ, но, глядя на ея взволнованное и счастливое лицо, чувствовалъ, что говорить про это было бы что то въ родѣ святотатства.
— Одно нехорошо, что вы пьете много. Развѣ нельзя не пить? Чтожъ, онъ былъ тронутъ, когда вы поднесли ему[1006] вазу? — сказала она улыбаясь.
— Да, мнѣ это тяжело, и я избѣгалъ, но это какой то долгъ, — сказалъ онъ. — Но чтожъ съ тобой? Что ты?
Она держала въ рукахъ[1007] одѣяло, которое она вязала и не вязала, а не спуская глазъ смотрѣла на него сіяющимъ грустнымъ и счастливымъ взглядомъ.[1008]
— Что я? Было грустно. Не отъ того, чтобы грустно что нибудь.[1009] Но я тебя не видала, а теперь мнѣ ничего не нужно.
Сколько разъ онъ говорилъ себѣ, что ея любовь было счастье. И вотъ она любила его такъ, какъ любятъ женщины, для которыхъ любовь перевѣшивала всѣ блага міра, и онъ былъ гораздо дальше отъ счастія, чѣмъ тогда, когда онъ ѣхалъ за ней изъ Москвы. Тогда онъ считалъ себя несчастливымъ, но счастье было впереди, теперь онъ чувствовалъ, что счастье было назади.
Она была совсѣмъ не та, какою онъ видѣлъ ее въ первое время. И нравственно и физически она измѣнилась къ худшему, и все только вслѣдствіи любви. Онъ смотрѣлъ на нее, какъ смотритъ человѣкъ на сорванный имъ и завядшій цвѣтокъ, въ которомъ онъ съ трудомъ узнаетъ[1010] ту красоту, за которую онъ полюбилъ, и сорвалъ его. Онъ самъ не признавалъ это, но думалъ, что если онъ сейчасъ несчастливъ, то только отъ того, что положеніе ихъ такъ тяжело.
Онъ посмотрѣлъ на ея глаза,[1011] на всю ея расширѣвшую фигуру.
— Я часто удивляюсь, какъ ты можешь меня такъ любить, — сказалъ онъ.
— Если бы только мы смѣло могли любить, — сказала она улыбаясь, посмотрѣвъ на него и оставивъ вязанье,[1012] — скоро, скоро. Ты не можешь себѣ представить, какъ я жду этаго, съ какимъ чувствомъ.
— Анна, ты мнѣ обѣщала поговорить о будущемъ. Ты обѣщала мнѣ.[1013] Отчего намъ не рѣшить, не обдумать.
Она[1014] отстранилась отъ него, руки ея взялись опять за крючекъ и вязанье, и быстро накидывались указательнымъ пальцемъ петли бѣлой блестѣвшей подъ[1015] свѣтомъ лампы бумаги, и быстро нервически стала подворачиваться тонкая,[1016] нѣжная кисть въ шитомъ рукавчикѣ.[1017]
— Что ты хочешь говорить? Объ чемъ ты хочешь говорить?[1018] Что рѣшить? — зазвенѣлъ ея голосъ. — Я знаю, отчего ты это говоришь. Ты встрѣтилъ Алексѣя Александровича, и онъ[1019] поклонился тебѣ вотъ такъ.[1020]
И она, вытянувъ лицо и полузакрывъ глаза, быстро измѣнила свое выраженіе, сложила руки, и непостижимо для[1021] Вронскаго онъ въ ея прелестномъ личикѣ увидалъ вдругъ то самое выраженіе лица, съ которымъ поклонился ему на лѣстницѣ Алексѣй Александровичъ.
[1022]Вронский невольно, хоть и кольнуло въ душѣ, улыбнулся. Она весело засмѣялась тѣмъ милымъ груднымъ смѣхомъ, который былъ одной изъ ея главныхъ прелестей.
Этотъ смѣхъ ободрилъ Гагина. Онъ рѣшилъ, несмотря на то что встрѣчалъ всегда этотъ отпоръ, это странное въ ней отношеніе къ мужу, онъ рѣшился высказать нынче все.
— Всетаки,[1023] Анна, позволь мнѣ все сказать, что я давно думаю и нынче думалъ. Я не знаю, какъ ты переносишь свое положеніе.
Замѣтивъ, какъ мрачная черта при этихъ словахъ сморщила ея чистый[1024] лобъ, онъ поспѣшилъ прибавить:
— То есть я знаю въ душѣ. Когда любишь, какъ я, чувствуешь за того, кого любишь; но мое положеніе, право, тяжело, ужасно.
— Что ты упалъ въ обществѣ. Ты карьеру испортилъ. Тебѣ мать сказала, что ты...
— Ахъ, Нана, зачѣмъ нарочно не понимать. Ты знаешь, также какъ я, что я, твоя и моя жизнь, наша любовь есть одно, о чемъ я думаю,[1025] для чего я живу.
— Ну хорошо, я знаю; — но тотъ же веселый, холодный блескъ былъ въ ея глазахъ.
— Такъ я говорю, что мое положеніе ужасно тѣмъ, что я чувствую себя виноватымъ,[1026] чѣмъ я никогда себя не чувствовалъ. Совѣсть — не слова. Она мучаетъ меня. Я ее чувствую здѣсь. Очень чувствую.[1027] Если бы это былъ другой мужъ. Если бы послѣ твоего объясненія на дачѣ онъ разорвалъ съ тобой, если бъ онъ придрался ко мнѣ, вызвалъ на дуэль, — но этаго не можетъ быть.[1028]
— Такъ чего же тебѣ нужно, — вскрикнула она.[1029]
[1030]— Анна полно. Что ты говоришь...
— Ничего. Говори. Если ты хочешь говорить.
— Я только хочу сказать то, что я мучаюсь и страдаю, ты тоже, онъ тоже.
— Онъ! — съ злобной усмѣшкой сказала она. — Нѣтъ, онъ доволенъ.
— Да мы всѣ мучаемся, и за что? Развѣ нельзя разорвать эти неестественныя отношенія? Я только прошу о томъ, чтобы уничтожить эту недостойную ложь, въ которой мы живемъ.
Она, задерживая дыханіе, слушала то, что онъ говорилъ, и ей сдѣлалось больно въ груди, когда она начала говорить.
— Да, это непріятно, — сказала она басистымъ[1031] голосомъ, — это тяжело, но.....
Нижняя челюсть ея задрожала, и она замолчала. Она хотѣла сказать: «ты думаешь о томъ, что тяжело и непріятно. Развѣ въ нашемъ положеніи, гдѣ мы играемъ не жизнью, а больше чѣмъ жизнью,[1032] развѣ въ такомъ положеніи можетъ быть что нибудь тяжело и непріятно? Все равно какъ въ минуту родовъ, — думала она, — думать о томъ, что снять чепчикъ. Для него можетъ быть рѣчь о непріятномъ, потому что онъ не поставилъ всю жизнь на эту игру. А для меня моя жизнь, моя честь, мой сынъ, мой будущій ребенокъ — все погибло. И погибло уже давно, и давно я это знаю, а онъ говоритъ о тяжеломъ и непріятномъ».
Она сама себѣ показалась слишкомъ жалка, и слезы надорвали ея голосъ. Она помолчала и, положивъ руку на его рукавъ, не давала ему говорить, дожидаясь пока будетъ въ силахъ говорить.
Онъ смотрѣлъ на нее, сдерживая дыханье. Ей стало жалко его, она успокоилась и сказала не то, что хотѣла сказать. Она сказала одно то, о чемъ она могла говорить, — о мужѣ.
* № 70 (рук. № 50).
Послѣ объясненія съ женой на дачѣ Алексѣй Александровичъ почувствовалъ вполнѣ все значеніе совершившагося съ нимъ несчастія. Онъ понялъ, что его и ея жизнь окончательно разбиты, и ясно, по своей умственной привычкѣ, самъ себѣ изложилъ дѣло и поставилъ вопросы, что дѣлать? Какой путь избрать изъ всѣхъ тѣхъ, которые представлялись: 1) Вызвать на дуэль Вронскаго и убить его или быть убитымъ, 2) Бросить ее и требовать развода. 3) Оставаться въ настоящемъ положеніи, соблюдая приличія. Больше этихъ 3-хъ выходовъ онъ не видѣлъ, такъ какъ не могъ серьезно остановиться на 4-мъ выходѣ, который, какъ ни безсмысленъ онъ былъ, часто представлялся ему съ большой заманчивостью:[1033] сдѣлать какъ будто ничего не было. Первый выходъ, состоящій въ томъ, чтобы вызвать Вронскаго на дуэль, не особенно занималъ Алексѣя Александровича потому, что нервы его были слабы и онъ безъ ужаса не могъ подумать о пистолетѣ, на него направленномъ и никогда въ жизни не употреблялъ никакого оружія, и поэтому ему казалось, что должно это сдѣлать. Но онъ видѣлъ, что если дѣло это могло быть поправлено чьей нибудь смертью, то чувство говорило Алексѣю Александровичу, что не смерть Вронскаго, а его смерть или смерть его жены могла поправить дѣло, и потомъ это неприлично было. Второй выходъ — разводъ — Алексѣй Александровичъ не могъ выбрать потому, что онъ этимъ позорилъ свое имя и портилъ будущность сына. Оставался одинъ выходъ — соблюденіе приличій и statu quo.[1034] Какъ ни мучительно было это положеніе, оно спасало честь имени, будущность сына, и страдалъ одинъ онъ, Алексѣй Александровичъ.
Алексѣй Александровичъ остановился на этомъ рѣшеніи.
Доктора уже давно посылали его въ Карлсбадъ. Въ послѣднее время здоровье его еще болѣе разстроилось, и Алексѣй Александровичъ рѣшился уѣхать на 3 мѣсяца за границу.
* № 71 (рук. № 51).
Оставшись одинъ, Алексѣй Александровичъ сталъ уже спокойно обдумывать свое положеніе и въ первый разъ вполнѣ понялъ, что нельзя уже скрывать отъ самаго себя свое положеніе: фактъ какъ бы офиціяльно былъ заявленъ ему — поступило заявленіе въ правильной, опредѣленной формѣ и требовало, какъ входящее, своего соотвѣтственнаго исходящаго. Алексѣй Александровичъ рекапитюлировалъ ходъ дѣла и задумался о томъ рѣшеніи, которое нужно принять.[1035] Ему представлялись слѣдующія рѣшенія: первое — вызвать его на дуэль и убить его или быть убитымъ. Второе: взять ее властью мужа — прекратить ее отношенія съ этимъ человѣкомъ и дѣйствовать на нее властью и увѣщаніемъ и третье: разводъ. Отряхнуться отъ грязи, въ которую наступилъ, и идти своей дорогой.[1036] Но кромѣ этихъ 3-хъ выходовъ, представлявшихся ему, — пресѣченія и исправленія и развода, ему въ первыя же минуты наравнѣ съ этими тремя выходами представлялся и четвертый, на который онъ въ первыя минуты не обратилъ вниманія. Выходъ этотъ состоялъ въ томъ, чтобы поступить такъ, какъ поступаютъ съ входящими бумагами, которымъ не желаютъ дать хода, — т. е. отвѣтить исходящей, но такою, которая не измѣнила бы положенія вещей, а заставила бы входящую, исходящую дѣлать вѣчно ложный кругъ.[1037] Первый выходъ — вызовъ на дуэль Вронскаго[1038] — долго занималъ Алексѣя Александровича въ особенности потому, что нервы его были слабы и онъ безъ ужаса не могъ подумать о пистолетѣ, на него направленномъ, и никогда въ жизни не употреблялъ никакого оружія. Онъ давно и съ молоду боялся, не трусъ ли онъ, но, обдумавъ вопросъ со всѣхъ сторонъ, Алексѣй Александровичъ пришелъ къ заключенію, что онъ не можетъ это сдѣлать[1039] во первыхъ потому, что это было невозможно по средѣ, въ которой онъ жилъ, по своему прошедшему, по тому взгляду, который существовалъ на него.
«Дикій человѣкъ, тотъ, который можетъ драться на дуэли, подобенъ кометѣ, блуждающему тѣлу. Но я — я движусь не одинъ, я движусь въ связи съ цѣлой системой, я влеку и я увлекаемъ. Кого я возьму въ секунданты?»
Онъ перебралъ своихъ друзей. Странно было представить кого нибудь изъ нихъ участвующаго въ дуэли.
[1040]Вовторыхъ, это было невозможно потому, что Алексѣй Александровичъ зналъ себя. Ежели бы сейчасъ, сію минуту Вронской былъ бы тутъ, онъ смѣло бы вышелъ съ нимъ на барьеръ. Если бы даже послѣ,[1041] въ подобную минуту раздраженія (Алексѣй Александровичъ чувствовалъ, что онъ будетъ испытывать такія минуты), если бы сейчасъ, въ эту минуту раздраженія, Вронской былъ тутъ на лицо съ пистолетомъ, онъ бы выдержалъ и выстрѣлилъ. Но вызвать и ждать день, ночь (Алексѣй Александровичъ зналъ тотъ ходъ мыслей, который придетъ ему) — онъ чувствовалъ, что не могь этаго. Второй выходъ — пресѣченія и исправленія — былъ лучше по принципу, былъ болѣе схожъ съ тѣмъ складомъ характера, котораго онъ не имѣлъ, но который Графиня Лидія Ивановна и всѣ уважающiе его люди думали, что онъ имѣетъ, но привести его въ исполненіе онъ не видѣлъ никакой возможности. Для приведенія его въ исполненіе нужно было имѣть на нее нравственное вліяніе, а онъ чувствовалъ, что всегда не онъ, а она имѣла на него нравственное вліяніе, не онъ своимъ чувствомъ и умомъ обнималъ ее всю, со всѣми ее свойствами сердца и ума — она всегда была для него тайной, — а она, казалось, безъ малѣйшаго труда понимала его всего, съ его самыми тайными задушевными мыслями и внѣшними мельчайшими привычками характера. И теперь онъ, добродѣтельный, высокопоставленный, главное, совершенно правый человѣкъ, чувствовалъ, что она, преступная женщина, всетаки задавитъ его своимъ нравственнымъ вліяніемъ и что борьбы быть не можетъ. «Съ другой женщиной, менѣе испорченной, менѣе распущенной по породѣ, я бы долженъ былъ поступить такъ, — сказалъ онъ себѣ, — но съ ней не можетъ быть и рѣчи объ исправленіи».
Оставался послѣдній выходъ — развода. Но, несмотря на то что большинство дѣйствій Алексѣя Александровича имѣло своимъ источникомъ разсужденіе, что выходъ этотъ былъ самый разумный, Алексѣй Александровичъ, находясь въ серединѣ этаго вопроса, чувствуя всѣ его стороны, съ ужасомъ обдумывалъ подробности этаго выхода и не находилъ возможности привести его въ исполненіе. Для развода нужно признаніе вины однаго изъ супруговъ. О принятіи на себя вины не могло быть рѣчи, ибо это былъ бы обманъ передъ закономъ Божескимъ и человѣческимъ. Признаніе въ винѣ ея добровольное едва ли могло быть достигнуто: уличеніе ея въ винѣ было дѣйствіемъ низкимъ, неблагороднымъ и нехристіанскимъ. Въ обоихъ случаяхъ разводъ клалъ позоръ на имя и губилъ будущность сына, сына, котораго онъ ненавидѣлъ теперь, но котораго онъ долженъ былъ любить въ глазахъ людей, уважающихъ его. При томъ въ вопросѣ, поднятомъ въ обществѣ о разводѣ, Алексѣй Александровичъ и офиціально и частно всегда былъ противъ.
Оставался одинъ послѣдній выходъ, такъ скромно заявившій себя, но такъ настоятельно требовавшій къ себѣ вниманія, — сдѣлать какъ будто ничего не было — замереть. «Этаго я не могу сдѣлать, — съ чувствомъ оскорбленной гордости сказалъ себѣ Алексѣй Александровичъ. — Я долженъ заявить свою волю, опредѣлить свое положеніе».
И, вновь перебравъ систематически всѣ прежнія выходы и отвергнувъ ихъ, онъ остановился на слѣдующемъ рѣшеніи. «Я долженъ объявить имъ. Нѣтъ, ей, — поправилъ онъ себя. — Я его не знаю и не хочу знать. Я долженъ объявить свое рѣшеніе о томъ, что внутренно я разрываю съ ней всякія отношенія, но что, обдумавъ то тяжелое положеніе, въ которое она поставила семью, всѣ другіе выходы будутъ хуже для обоихъ сторонъ, чѣмъ внѣшнее statu quo, и что таковое я согласенъ соблюдать, но подъ строгимъ условіемъ исполненія съ ея стороны моей воли. Хотя рѣшеніе это было ничто другое, какъ исходящая бумага, дающая ложный кругъ дѣлу, по которому внесена входящая бумага, Алексѣй Александровичъ остановился на этомъ, какъ на нѣкоторомъ открытіи и наилучшемъ и единственномъ компромиссѣ. Рѣшеніе было взято, но успокоенія Алексѣй Александровичъ не испыталъ до тѣхъ поръ, пока онъ не привелъ его въ исполненіе письмомъ, которое онъ послалъ женѣ.
<Главное же успокоеніе въ эти тяжелые дни дала Алексѣю Александровичу та дѣятельность служебная, которой была посвящена вся его жизнь. На другой день послѣ скачекъ, когда явились просители, докладчики и онъ сѣлъ за кипу бумагъ, бойко дѣлая на поляхъ своимъ большимъ карандашомъ привычныя отмѣтки, и потомъ отчетливо передалъ нужныя замѣчанія правителю дѣлъ и почувствовалъ, что все мучительное пережитое имъ и переживаемое всѣми людьми не имѣетъ ничего общаго съ той сферой дѣятельности, къ которой относятся всѣ эти сдѣланныя имъ распоряженія, онъ вздохнулъ свободно. Эта витающая въ отвлеченныхъ высотахъ административная жизнь, правильная, отчетливая, не подверженная случайностямъ жизни, страстямъ, желаніямъ, оставалась и всегда будетъ оставаться его неизмѣнной утѣшительницею.
Въ этомъ мірѣ не было и не могло быть сомнѣній, что нужно и не нужно, что дѣйствительно такъ или не такъ, что хорошо и что дурно... Все было ясно, просто, отчетливо, элегантно въ своемъ отвлеченномъ родѣ и несомнѣнно. Сомнѣваться въ необходимости дѣйствія нельзя было, какъ нельзя сомнѣваться въ необходимости колебаній волнъ воды или воздуха. Данъ толчекъ, дано высшее распоряженіе, и, безконечно дробясь, расходятся повелѣнія, предписанія и волны. И чѣмъ ближе къ началамъ толчковъ, тѣмъ восторженнѣе чувство колебанія. Сомнѣваться въ дѣйствительности фактовъ также мало можно, какъ сомнѣваться въ дѣйствительности ощущеній того, что доходитъ до глаза или уха волна свѣта или воздуха. Спорятъ о теоріяхъ, о способности воспринимать; но волна поражаетъ органы, и явленіе есть. Донесенія, отчеты являются въ условной, непоколебимой формѣ, и есть то, что производить ихъ. Сомнѣваться въ томъ, что хорошо или дурно, тоже нельзя, какъ сомнѣваться въ явленіяхъ высшихъ силъ. Идетъ свыше, и вопросъ о томъ, хорошо или дурно, не существуетъ. Для дѣйствій же, исходящихъ не свыше, для тѣхъ, гдѣ самъ долженъ быть первымъ толчкомъ, для Алексѣя Александровича тоже не могло быть сомнѣній, ибо есть теорія, приложимая ко всѣмъ случаямъ, изложенная въ книгахъ, и стоитъ только держаться разъ навсегда, и не будетъ сомнѣній.
Притомъ же въ этомъ мірѣ три вопроса: что, каково, знаніе, что нужно, необходимо и что хорошо, добра — неразрывно связаны и всегда проходятъ одинъ общій кругъ. Чтобы узнать, въ какомъ положеніи находится дѣло или обстоятельство, дается толчекъ, дѣлается вопросъ. Отражаясь по волнамъ, толчекъ доходитъ, развѣтвляясь, до послѣднихъ предѣловъ и тѣмъ же путемъ передаетъ обратно, и получается несомнѣнный отвѣтъ на какой бы то ни было сложный или и кажущійся неразрѣшимымъ даже всѣми мудрецами міра вопросъ. Получается отвѣтъ точный, опредѣленный за №, подписомъ компетентныхъ лицъ и изложенный однимъ опредѣленнымъ, пригоднымъ для своей цѣли языкомъ. Становится извѣстнымъ то положеніе, въ которомъ находится дѣло, о которомъ нужно знать. Является вопросъ — что нужно? Опять, если нѣтъ рѣшенія свыше, исключающего вопроса, дѣлает[ся] запросъ. Получается опредѣленный отвѣтъ. И также рѣшается вопросъ — хорошо ли? Но опредѣленность, ясность, несомнѣнность, возвышенность этаго міра не заключала еще всего того, что видѣлъ и чѣмъ жилъ въ немъ Алексѣй Александровичъ. Кромѣ этаго вѣчнаго, возвышеннаго круга дѣятельности, среди этаго круга, переплетаясь въ немъ въ самыхъ причудливыхъ сочетаніяхъ, находится еще другой сложный міръ, живущій въ 1-мъ, составляющій его двойной интересъ, какъ сочетаніе мелодіи въ фугѣ или канонѣ. Это міръ личныхъ интересовъ, характеровъ, связей людей, живущихъ и дѣйствующихъ въ этомъ кругу. Кромѣ того, дѣлать такъ или не такъ, или нужно и не нужно, хорошо и дурно для извѣстныхъ лицъ этаго міра вообще, въ этомъ мірѣ есть еще то, что такъ или не такъ, нужно и не нужно, хорошо и дурно для извѣстныхъ лицъ этаго міра. Такъ что не вообще такъ, или нужно, или хорошо для однаго лица этаго міра, чтобы ему было хорошо, должно быть не такъ или не хорошо, и вслѣдствіи этаго безпрестанный переходъ хорошаго въ дурное, нужнаго въ ненужное, смотря по интересамъ лицъ, и вслѣдствіи этаго двойной интересъ, тѣмъ болѣе что каждое движеніе нужнаго, ненужнаго, хорошаго, дурнаго проходятъ полный кругъ и составляютъ сложнѣйшее сочетаніе круговъ въ родѣ видимыхъ путей планетъ, но въ которыхъ человѣкъ, искушенный въ тайнахъ этой жизни и стоящій на извѣстной высотѣ, какъ Алексѣй Александровичъ, видитъ согласіе, смыслъ, стройную гармонію и глубокій, поглощающій всю жизнь интересъ. Для Алексѣя Александровича эта вторая жизнь этихъ усложненныхъ круговъ представляла особенно завлекающій интересъ особенно потому, что онъ, какъ то умѣютъ рѣдкіе, умѣлъ въ кругу этихъ личныхъ интересовъ свой личный интересъ ставить всегда подъ одно, казавшееся другимъ опредѣленнымъ знамя и скрывать его за общимъ и всегда, какъ называли другіе и онъ самъ, либеральнымъ направленіемъ.
Послѣ объявившагося несчастія съ женой Алексѣй Александровичъ испыталъ удесятеренную прелесть этаго непоколебимаго и возвышеннаго міра, въ которомъ онъ жилъ, и съ большею, чѣмъ прежде, энергіей и смѣлостью отдался ему.
Въ то самое время въ серединѣ лѣта въ этомъ мірѣ разсматривался вопросъ объ устройствѣ одной изъ окраинъ Россіи, о которомъ были самыя разнородныя мнѣнія.[1042] Одни говорили, что тамъ все дурно и нужно все перемѣнить. Другіе находили, что все хорошо, и у Алексѣя Александровича его направленіе совпадало съ тѣмъ, чтобы было все хорошо, но партія сильныхъ людей дѣйствовала въ томъ кругу, гдѣ надо было, чтобы это было дурно, и данъ былъ толчокъ, давшій полный кругъ. Были сдѣланы распоряженія, распоряженія дали донесенія. При разсмотрѣніи донесеній были споры, и Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что тактика его враговъ состояла въ томъ, чтобы, принявъ его мысль, преувеличивъ ее, этимъ самымъ ихъ компрометтировать. Понявъ эту тактику, Алексѣй Александровичъ тотчасъ же рѣшилъ составить повѣрочный комитетъ, принялъ предсѣдателя и съ энергіей, удивившей его противниковъ, вызвался лично ѣхать на мѣсто.>
* № 72 (рук. № 51).
Слѣдующая по порядку глава.
Въ первую минуту послѣ объясненія съ женой, въ то самое время какъ лицо его показалось страшнымъ по своей мертвенности для Анны, Алексѣй Александровичъ испытывалъ странное для него самого животное чувство: жилистыя руки его невольно сжимались, зубы стискивались, и у него было одно страстное желаніе — бить ее — ее, такъ унизившую его, такъ жестоко оскорбившую, бить ее по лицу, по щекамъ, выдрать своими руками эти вьющіяся вездѣ наглые черные волосы. Отъ этаго онъ не смотрѣлъ на нее и не шевелился.
Онъ всѣ силы души напрягалъ на то, чтобы остановить въ себѣ жизнь; ибо онъ зналъ, что всякое выраженіе жизни будетъ животное и гадкое.
Но когда онъ, высаживая ее изъ кареты, произнесъ тѣ слова, которыми онъ выражалъ ей свое намѣреніе опредѣлить въ послѣдствіи будущія отношенія, слова эти безсознательно вылились въ приличной формѣ. И онъ, одинъ сѣвъ въ карету, почувствовалъ успокоеніе.
* № 73 (рук. № 54).
[Письмо мужа не вызвало въ ней того злого чувства, которое она прежде испытывала къ нему. Ей жалко стало мужа. Подъ офиціально административнымъ][1043] тономъ, которымъ было написано письмо, она почувствовала всю внутреннюю[1044] мучительную работу, которая вызвала письмо. Она поняла все то, что онъ хотѣлъ скрыть отъ нея, и ей стало жалко его. Но ей жалко было его, какъ бываетъ жалко страдающаго человѣка, которому помочь не въ нашей власти.
«Онъ правъ во всемъ, всемъ, — сказала она сама себѣ, — я во всемъ виновата. Но онъ несчастливъ, а я счастлива, и мнѣ жалко его. Но я не могу помочь ему».
Одно только было для нея важно въ этомъ письмѣ: это было то, что надо было ѣхать въ Петербургъ и измѣнить то полное счастье, которое она испытывала это послѣднее время.[1045]
Требованіе возвращенія ея къ мужу[1046] не навело ее на естественные вопросы о томъ, какъ она устроитъ теперь свою новую жизнь, не представило ей всю безвыходность своего положенія; оно представлялось ей только какъ[1047] непріятная помѣха ея теперешнему счастью.
«Ахъ какъ скучно, — подумала она. — Впрочемъ, нынче я увижу Алексѣя (подумала она о Вронскомъ) у Танищевой и скажу ему. Онъ скажетъ, что надо дѣлать». И тотчасъ же мысль ея обратилась къ ожиданію свиданія съ нимъ.[1048] И всѣ сомнѣнія, вопросы, все потонуло въ ожиданіи этаго, всегда какъ бы нового для нея счастья. Притомъ и некогда было думать: надо было одѣваться и ѣхать къ Танищевой.
Анна и всегда была одна изъ тѣхъ счастливыхъ женщинъ, которыя[1049] умѣютъ одѣваться; но теперь, въ послѣднее время,[1050] она сама чувствовала, что даръ этотъ еще увеличился. Чтобы она не надѣвала, все было ей къ лицу, все возбуждало[1051] въ другихъ желаніе надѣть тоже самое. Бетси говорила ей, что она необыкновенно похорошѣла, и Анна знала, что это было правда. Она знала это лучше всего потому, что, кромѣ чувства восхищенія, она видѣла въ Алексѣѣ чувство гордости зa нее. Она знала и по тому усилившемуся ухаживанію того стараго дипломата, который, со времени еще перваго появленія ея въ свѣтѣ, принялъ на себя роль влюбленнаго въ нее, и по той новой страсти, которую она знала, что возбудила въ молодомъ Танищевѣ, племянникѣ того, къ кому она ѣхала.
Когда она, одѣтая и довольная собой, сошла внизъ, М-еlle Cordon, гувернантка ея сына, встрѣтила ее съ просьбой опредѣлить время переѣзда съ дачи.
— Мнѣ необходимо сдѣлать распоряженія объ осеннемъ туалетѣ; а такъ [какъ] время переѣзда нашего становится неизвѣстнымъ...
«Что же это, не намекъ ли?» подумала Анна, и, прищуривъ глаза и гордо поднявъ голову...
— Почему вамъ кажется, что время переѣзда на дачу нынешній годъ болѣе неопредѣленно, чѣмъ прежде? Мы переѣдемъ какъ обыкновенно.[1052] Ахъ да, можетъ быть, вамъ нужны деньги? Мужъ прислалъ мнѣ нынче. — Она быстро сняла перчатки и достала деньги. — Сколько вамъ? Довольно? — прибавила она, замѣтивъ что M-elle Cordon покраснѣла. — Я не хотѣла васъ оскорбить, — прибавила она, улыбаясь, взявъ ее за руку и цѣлуя.
Француженка улыбалась и готова была плакать.
— Нѣтъ, мнѣ сказали.
— Не вѣрьте тому, что вамъ про меня говорятъ, и спрашивайте у меня все, что будете хотѣть знать.
Сережа,[1053] присутствуя при размолвкѣ его матери съ гувернанткой, стоялъ молча и хмурясь.
— Ну вотъ! — сказала Анна, запирая ящикъ и оставивъ въ рукѣ 10 рублевую бумажку. — А ты не смотри букой. Мы съ M-elle Cordon все помнимъ. Ты учился хорошо. И вотъ мы разбогатѣли. Завтра у тебя будетъ велосипедъ, какъ у Граковыхъ. Вы пошлете купить, неправда-ли? А теперь вы подите къ[1054] Танищевымъ и играй въ солдаты.[1055]
— Я это хотѣл[ъ] просить...
Анна поцѣловала улыбающагося сына,[1056] подошла къ столу.
— Нѣтъ, я не буду обѣдать [1 неразобр.] Вамъ оставить къ ужину.
— А вы не видали букетъ отъ князя? — сказала гувернантка.
— А! — сказала Анна улыбаясь, — нѣтъ, некогда. Ну такъ веселитесь хорошенько.
Она ужъ вышла садиться, ощупывая руку.
— Ахъ! — вскрикнула она покраснѣвъ.
— Что вы забыли? Я схожу, — сказала гувернантка.
— Я забыла, да, я забыла письмо и еще... Нѣтъ я сама, — и быстрымъ, быстрымъ шагомъ, наперегонку съ сыномъ, она побѣжала наверхъ.
И точно: письмо ея мужа лежало на окнѣ. Она взяла его, чтобы показать Алексѣю. Она довезла Сережу до поворота и[1057] улыбающаяся, красивая, веселая, какою онъ всегда помнилъ ее, разцѣловала, ссадила его и улыба[ясь] изчезла за поворотомъ.
* № 74 (рук. № 55).
[То, что] съ первыхъ же минутъ казалось ей несомнѣннымъ, — это то, что[1058] теперь положеніе ея навсегда опредѣлится. Оно, можетъ быть, дурно, это новое положеніе, но оно будетъ опредѣленно, въ немъ не будетъ неясности и лжи: тѣ усилія, которыя она сдѣлала, чтобы сказать все мужу, та боль, которую она причинила себѣ и ему, будетъ вознаграждена. Теперь все опредѣлится; такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ей.[1059] Но[1060] когда въ этотъ же вечеръ она увидалась съ Вронскимъ, она не сказала ему о томъ, что произошло между ею и мужемъ. Нѣсколько разъ она хотѣла сказать, нѣсколько разъ она начинала даже, но ни раза не договорила. Непонятное для нея самой чувство удерживало ее. Вронскій уѣхалъ, она осталась одна, и чѣмъ больше проходило времени, тѣмъ сомнительнѣе ей казалась эта определѣнность,[1061] которую она ожидала отъ объясненія съ мужемъ; и тѣмъ ужаснѣе ей казалось то, что она сдѣлала.
Она была слишкомъ взволнована тѣмъ, что произошло между ею и мужемъ, чтобы впечатлѣнія свиданія съ Вронскимъ изгладили это воспоминаніе. Вернувшись домой, она не могла лечь спокойно и сѣла къ окну. Была одна изъ тѣхъ лунныхъ ночей, которыя бываютъ только въ Августѣ. Вокругъ дачи все затихло уже давно, а она все сидѣла, вспоминая каждое слово, каждое движеніе Алексѣя Александровича, въ особенности то мертвенное выраженіе, которое установилось на его лицѣ. Ей было жалко его. Она всей душой чувствовала ту боль, которую она причинила ему, но она старалась заглушить въ себѣ это чувство, говоря себѣ: «Нѣтъ, онъ ничего не чувствуетъ, ничего не понимаетъ, ему все равно», но она видѣла передъ собой его лицо съ мертвеннымъ выраженіемъ, и оно говорило другое. «Что онъ сдѣлаетъ, что онъ рѣшитъ?» спрашивала она себя и не могла придумать, что я сдѣлаю.
«Зачѣмъ я не сказала Вронскому? Все равно, я скажу. Я скажу тогда, когда узнаю рѣшеніе мужа, но зачѣмъ я не сказала? Я напишу. Да, и опять мертвенное, блѣдное лицо. Нѣтъ, онъ ничего не чувствуетъ. Все таки лучше, что все это кончилось, — говорила она себѣ. — Мы уѣдемъ куда нибудь и будемъ жить одни. Я возьму Сережу съ собой. Что онъ сдѣлаетъ? Что значитъ это мертвенное лицо? Бывали ли прежде женщины такъ несчастны, какъ я, и что они дѣлали?»[1062]
Когда она проснулась на другое утро и снова повторила свои чувства и мысли, она вдругъ поняла, что положеніе ея не только не опредѣлилось, но, напротивъ, стало неопредѣленнѣе, чѣмъ когда бы то ни было. Вспоминая свои попытки сказать Вронскому и то, что ея удерживало отъ этаго, она поняла, что ей было стыдно, что она не могла сама предложить себя, и ей стало еще стыднѣе. Она видѣла, что ей надо ждать его требованія, и проклинала[1063] тѣ слова, которыя она говорила ему, когда онъ въ первый разъ просилъ ее оставить мужа.[1064]
Теперь все зависѣло отъ того рѣшенія, которое приметъ мужъ, и ей надо было ждать этого рѣшенія.
«Но отчего же мнѣ не написать Вронскому? — Она подошла къ столу, открыла бюваръ. — Но что же я буду писать, когда я не знаю рѣшенія мужа? Писать, что я оставила мужа? — сказала она себѣ, чувствуя, какъ краска покрывала ея лицо. — Нѣтъ, я не могу».
Положеніе ея было мучительно. Вслѣдствіи тѣхъ словъ, которыя она сказала мужу и въ которыхъ она теперь раскаивалась, и въ особенности вслѣдствіи того, что она не сказала про это Вронскому, она потеряла теперь всякую державу и не знала, что она и въ какомъ она находится положеніи. Она не знала, имѣетъ ли она право жить въ домѣ, въ которомъ она живетъ, и не пріѣдетъ ли завтра управляющій выгонять ее. Она не знала, останется ли съ ней сынъ или нѣтъ, не знала, куда она пойдетъ, когда ее выгонятъ. Ей казалось, что тѣ слова, которыя она сказала мужу и которыя она беспрестанно повторяла въ своемъ воображеніи, она сказала всѣмъ и что всѣ ихъ слышали; она не могла смѣло смотрѣть въ глаза ни сыну, ни гувернанткѣ, ни даже прислугѣ.[1065] Она подъ предлогомъ мигрени заперлась въ свою комнату и провела мучительный день,[1066] постоянно задавая себѣ одни и тѣже вопросы: что дѣлать? что будетъ? и не находя на эти вопросы никакихъ отвѣтовъ. Перебирая свои поступки и слова, она вспоминала только то, что было послѣднее время, раскаивалась въ томъ, что она не послѣдовала совѣту Вронского, не разорвала прежде сношеній съ мужемъ, еще болѣе раскаивалась въ томъ, что не сказала Вронскому.
Но то, что привело ее въ это положеніе, самую связь съ Вронскимъ, она не вспоминала: это, ей казалось, должно было быть и не могло быть иначе. Ей было мучительно тяжело, но она не плакала. Ей казалось, что она ошиблась въ чемъ то и что надо только придумать, какъ поправить эту ошибку, но кромѣ того ей было стыдно и страшно. Когда кто нибудь подъѣзжалъ къ дому, ей казалось, что это ѣдутъ за нею и что ее повезутъ куда-то,[1067] и ей становилось страшно и стыдно.
Чѣмъ дольше продолжалось это положеніе, тѣмъ ей становилось мучительнѣе.[1068] Страхъ и стыдъ сковали ее. Она бы все отдала теперь, чтобы воротить сказанное.
Прежнее положеніе, какъ ни ложно оно было, казалось eй счастьемъ и спокойствіемъ въ сравненіи съ теперешнимъ стыдомъ и неизвѣстностью. Она бы почувствовала себя счастливой, если бы это положеніе могло воротиться.[1069] Вечеромъ, отказавшись отъ обѣда, она сидѣла одна въ своей комнатѣ, когда услышала, какъ [къ] крыльцу подъѣхалъ кто то. Выглянувъ, она увидала курьера мужа. Онъ вошелъ на крыльцо.
«Все кончено теперь», подумала она, когда лакей на подносѣ принесъ ей толстый пакетъ, на которомъ она узнала почеркъ мужа. Толщина конверта, которая происходила только отъ вложенныхъ въ него денегъ, повергла ее въ ужасъ. Руки ея тряслись, какъ въ лихорадкѣ, и, чтобы не выдать свое волненіе (она чувствовала, что краснѣла и блѣднѣла), она не взяла письмо, а, отвернувшись, велѣла положить его на столъ. Когда человѣкъ, любопытно, искоса взглянувъ на нее, вышелъ изъ комнаты, она подошла къ столу, взялась за грудь[1070] и, взявъ письмо, быстрыми пальцами разорвала его.[1071] Но, разорвавъ, она не имѣла силы читать. Она взялась за голову и невольно прошептала: «Боже мой! Боже мой! что[1072] будетъ!»
Она взяла письмо и, сдерживая дыханіе, начала читать съ конца: «Я сдѣлалъ приготовленія для переѣзда, я приписываю значеніе исполненію моей просьбы». Она пробѣжала дальше, назадъ, поняла,[1073] сѣла, съ трудомъ вздохнула полной грудью.[1074] Она еще разъ прочла письмо сначала. «Такъ только то! — сказала она. — Ну, что же будетъ теперь?» спрашивала она себя. Письмо это давало ей то, чего она минуту назадъ такъ желала.[1075] И все страхи ея мгновенно исчезли.
«Низкій, гадкій человѣкъ!» — сказала она.[1076] — Онъ чувствуетъ и знаетъ,[1077] что я ненавижу его, что я одного желаю — освободиться отъ него. Онъ знаетъ, что[1078] безъ него, безъ его постоянного присутствія, безъ страшныхъ, постыдныхъ воспоминанiй, которыя соединяются съ нимъ, я буду счастлива. И этаго онъ не хочетъ допустить. Онъ знаетъ очень хорошо, что я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться; онъ знаетъ, что изъ этаго положенія ничего не выйдетъ, кромѣ обмана, что обманъ мучителенъ мнѣ и Алексѣю (Вронскому); но этого то ему и нужно. Ему нужно продолжать мучать меня. И вмѣстѣ съ тѣмъ я знаю, что такое будетъ этотъ личный разговоръ![1079] О, я знаю его. Онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ и наслаждается во лжи. Но нѣтъ, я не доставлю ему этаго утѣшенія, я разорву эту его паутину лжи, въ которой онъ меня хочетъ опутать. Я не виновата, что я его не люблю и что я полюбила другаго».[1080] Она живо представила себѣ Вронскаго, съ его твердымъ и нѣжнымъ лицомъ, этими покорными и нѣжными глазами, просящими любви и возбуждающими любовь.[1081]
«Я поѣду къ нему, я должна видѣть его. Я должна сказать ему. Теперь или никогда рѣшается моя судьба. И надо дѣйствовать, дѣйствовать и, главное, видѣть его».[1082]
Она встала, быстро подошла къ письменному столу, убрала деньги и написала мужу:
«Я получила ваше письмо.[1083]
А. К.»
Запечатавъ письмо, она[1084] взяла другой листъ и написала: «Я все объявила мужу, вотъ что онъ пишетъ. Мнѣ необходимо видѣть васъ.
А.»
И, вложивъ письмо мужа въ конвертъ, она позвонила.
Вошедшая дѣвушка была поражена видомъ своей барыни. Она оставила ее въ креслѣ съ блѣднымъ, убитымъ лицомъ, сжавшеюся, какъ будто просящей только о томъ, чтобы ее оставили одну. Теперь она нашла ее бодрой, оживленною съ яркимъ[1085] блескомъ въ глазахъ, и съ обычною дружелюбною и гордою осанкой.
— Отдай это письмо курьеру и приготовь мнѣ одѣваться, а это... Нѣтъ, вели заложить карету.[1086] Да, мнѣ совсѣмъ хорошо. Пожалуйста, поскорѣе. Нѣтъ, я не буду обѣдать. А впрочемъ... Нѣтъ, вели подать мнѣ въ балконную. Я, можетъ быть, съѣмъ что-нибудь.
«Стыдиться! Чего мне стыдиться?» невольно думала она, оправляя безъимяннымъ пальцемъ крахмальный рукавъ.
Черезъ полчаса Анна быстрыми шагами, высоко неся голову и слегка щуря глаза, входила въ балконную. Всякую минуту она вспоминала то чувство стыда, которымъ она мучилась все утро, и съ удивленьемъ надъ самой собой пожимала плечами: «Стыдиться! Чего мнѣ стыдиться?!»
М-llе Cordon въ шляпкѣ и съ зонтикомъ съ особенно грустнымъ и достойнымъ лицомъ стояла въ столовой, держа за руку Сережу.[1087] Сережа въ своей шитой курточкѣ и голыми колѣнями съ матроской шляпой въ рукахъ, готовый къ гулянью, тоже холодно и чуждо смотрѣлъ на мать.
Лакей Корней въ бѣломъ галстукѣ и фракѣ, съ своими расчесанными бакенбардами, стоялъ за стуломъ приготовленнаго обѣда и въ его лицѣ Аннѣ показалось, что она прочла радость скандала и сдержанное только лакейскимъ приличіемъ любопытство. «Что мнѣ за дѣло, что они думаютъ, — подумала она, — но они не должны смѣть думать».
— Я не буду обѣдать, — сказала она Корнею, — послѣ уберешь. Уйди.
Анна гордымъ взглядомъ оглянула свое царство и слегка улыбнулась — все надъ тою же мыслью, что они всѣ думаютъ и она сама думала, что ей надо стыдиться чего то.
— Поди, пожалуйста, скажи, чтобы Аннушка подала мнѣ мѣшочекъ съ платками.
— Я съ радостью слышу, что ваша мигрень прошла, — сказала М-llе Cordon. — Сирёшъ! скажите добрый утро или, скорѣе, добрый вечеръ вашей мама.[1088]
— Что? — сказала Анна,[1089] сощуривъ длинные рѣсницы, обращаясь къ гувернанткѣ. — Поди, поди сюда, Сережа. Да шевелись! Что ты такой? — Она взбуровила его волосы, потрясла его и поцѣловала.[1090]
* № 75 (рук. № 47).
Слѣдующая по порядку глава.
<Послѣ объясненія съ мужемъ для Анны наступила страшная по своему безумію пора страсти. — Она была влюблена.>
Все безконечное разнообразіе людскихъ характеровъ и жизни людской, слагающейся изъ такихъ одинакихъ и простыхъ основных свойствъ человѣческой природы, происходитъ только отъ того, что различныя свойства въ различной степени силы проявляются на различныхъ ступеняхъ жизни. Какъ изъ 7 нотъ гаммы при условіяхъ времени и силы можетъ быть слагаемо безконечное количество новыхъ мелодій, такъ изъ не болѣе многочисленныхъ, чѣмъ ноты гаммы, главныхъ двигателей человѣческихъ страстей при условіяхъ времени и силы слагается безконечное количество характеровъ и положеній.
Анна развилась очень поздно. Она вышла замужъ 20 лѣтъ, не зная любви, и тетка выдала ее за Алексѣя Александровича въ губернскомъ городѣ, гдѣ Каренинъ былъ губернаторомъ, и то тщеславное удовольствіе сдѣлать лучшую партію, которое она испытывала тогда въ соединеніи съ новизною сближенія съ чужимъ мущиной, казалось ей любовью. Теперь она находила, что то, что она испытывала тогда, не имѣло ничего общога съ любовью? Теперь 30-лѣтняя женщина, мать 8-лѣтняго сына, жена сановника, Анна расцвѣла въ первый разъ полнымъ женскимъ цвѣтомъ, она переживала время восторга любви,[1091] переживаемаго обыкновенно въ первой молодости. И чувство это удесятерялось прелестью запрещеннаго плода и возрастнаго развитія силы страстей.[1092] Послѣ отчаяннаго ея поступка въ день скачекъ, когда она чувствовала, что сожгла корабли, чувство ее еще усилилось. Вставая и ложась, первая и послѣдняя ея мысль была о немъ. И думая о немъ, улыбка счастія морщила ея губы и свѣтилась въ осѣненыхъ густыми рѣсницами глазахъ. Она была добра, нѣжна ко всѣмъ. Всѣ, кромѣ ея мужа (о которомъ она не думала), казались ей новыми добрыми, любящими существами. На всемъ былъ праздникъ; все, ей казалось, ликовало ея счастьемъ. Прошедшее былъ[1093] тяжелый, длинный, безсмысленный сонъ, будущаго не было. Было одно настоящее, и настоящее это было счастіе.[1094] Она видѣла его каждый день, и чувство счастія и забвенія себя охватывало ее съ той же силой при каждой встрѣчѣ съ нимъ. Вскорѣ послѣ полученія письма мужа, въ одинъ изъ прелестныхъ наступившихъ августовскихъ дней, Анна обѣдала у Барона Илена.[1095] Баронъ былъ финансовый новый человѣкъ. Баронъ былъ безъукоризненъ, онъ и его жена, его домъ, его лошади, его обѣды, даже его общество. Все было безъукоризненно во внѣшности; все было превосходно; но отъ того ли, что все было слишкомъ хорошо, слишкомъ обдуманно, слишкомъ полно, оттого ли, что во всемъ этомъ видна была цѣль[1096] и стараніе, всѣ ѣздили къ нему только чтобы видѣть другъ друга, ѣсть его обѣды, смотрѣть его картины, но его знали только настолько, насколько онъ скрывалъ себя какъ человѣка и держался на этой высотѣ внѣшней жизни. Стоило ему спустить роскошь своей обстановки, пригласить къ обѣду своихъ друзей и родны[хъ], высказать свои вкусы и убѣжденія, т. е. перестать на мгновеніе съ усиліемъ держаться на той высотѣ, на которой онъ хотѣлъ держаться, и онъ бы потонулъ, и никто бы не спросилъ, гдѣ онъ и его жена.
Анна встрѣтила его жену у Бетси и получила приглашеніе.[1097] При прежнихъ условіяхъ жизни Анна непремѣнно отказалась бы отъ этаго приглашенія, во-первыхъ, потому, что у Анны было то тонкое свѣтское чутье, которое указывало ей, что при ея высокомъ положеніи въ свѣтѣ сближеніе съ Иленами отчасти роняло ее, снимало съ нея пушокъ — duvet — исключительности того круга, къ которому она принадлежала, и, вовторыхъ, потому, что Баронъ Иленъ нуждался въ содѣйствіи Алексѣя Александровича, и Алексѣй Александровичъ и потому и Анна должны были избѣгать его. Но теперь, при ея новомъ взглядѣ на вещи, ей, напротивъ, пріятно было подумать, что нѣтъ болѣе пустыхъ свѣтскихъ условій, которыя стѣсняли бы ее въ ея удовольствіяхъ. Вечеръ въ ночной толпѣ въ саду съ Вронскимъ[1098] представлялся большимъ удовольствіемъ, и она поѣхала. Общество было небольшое и избранное; Анна встрѣтила почти всѣхъ знакомыхъ, но Вронскаго не было, и Анна не могла удержаться оттого, чтобы не выказать[1099] свое разочарованье.[1100] Послѣ обѣда, гуляя по саду, хозяйка, обращаясь къ Бетси, сказала, что она надѣется нынче на хорошую партію крокета.
— Мой мужъ страстно любитъ играть. И я люблю, когда онъ играетъ противъ вашего cousin.[1101]
Опять сердце Анны болѣзненно забилось, она почувствовала и оскорбленіе за то, что, очевидно, ея отношенія къ Вронскому были извѣстны всѣмъ и это было сказано для нея, и радость. Начало вечера прошло для Анны въ разговорахъ съ извѣстнымъ негодяемъ Корнаковымъ, который, несмотря на свою всѣмъ извѣстную развратность, подлость даже, былъ князь Корнаковъ, сынъ Михайла Ивановича и, главное, былъ очень уменъ. Истощенный развратомъ и слабый физически, онъ для Анны былъ не мущиной, но забавнымъ болтуномъ, и она бы провела съ нимъ весело время, если бы[1102] она не была развлечена ожиданіемъ. Странное дѣло: Баронъ Иленъ, свѣжій, красивый мущина, прекрасно говорящій на всѣхъ языкахъ, элегантный и учтивый до малѣйшихъ подробностей, несомнѣнно умный, дѣятельный, преклонявшійся передъ ней вмѣстѣ съ своей женой, былъ ей противенъ, и она рада была всегда, когда кончалась необходимость говорить съ нимъ и смотрѣть на его лицо; а измозженный, вѣчно праздный, съ отвратительнѣйшей репутаціей слабый Корнаковъ, небрежно относящійся къ ней, былъ ей, какъ старая перчатка на рукѣ, пріятенъ и ловокъ. Онъ ей вралъ всякій вздоръ, бранилъ хозяевъ, увѣряя, что ноги у него такъ прямы и крѣпки оттого что сдѣланы изъ англійскихъ стальныхъ рельсовъ и что туалетъ ее напоминаетъ букетъ разноцвѣтныхъ акцій и куафюра серій, что онъ всегда испытываетъ желаніе украсть у нихъ все, что попадется.
Къ 7 часамъ Анна возвращалась къ дому по большой аллеѣ, когда на встрѣчу ей съ большаго крыльца вышла хозяйка съ Вронскимъ. Она, очевидно, вела его къ ней.[1103]
— А! Я радъ, что Вронскій пріѣхалъ, — сказалъ Корнаковъ. — Онъ хоть и изъ молодыхъ, но онъ одинъ изъ рѣдкихъ, понимающихъ нашихъ великолѣпныхъ хозяевъ. А то меня огорчаетъ, что молодежь рѣшительно взаправду принимаетъ этихъ Бароновъ, не понимаетъ, что можно и должно дѣлать имъ честь ѣсть ихъ трюфели, но не далѣе. Тутъ есть одинъ qui fait la cour à M-er,[1104] ему нужно что то украсть. Но это я прощаю. Но Михайловъ — тотъ il fait la cour à М-m[е],[1105] ужъ это никуда не годится.
— Отчего же, она хороша, — сказала Анна, просіявъ лицомъ при видѣ Вронскаго.
— Да, но въ этомъ то и дѣло. Актриса Berthe хороша, можно дѣлать для нее глупости. И вы хороши, я понимаю, что можно ужъ не глупости, а преступленья дѣлать изъ за васъ, но эти — это étalage[1106] женщины. Это ни желѣзо, ни серебро, это композиція.
— Вотъ наша партія крокета, — сказала хозяйка, оправляя свой телье,[1107] измѣнившій, какъ ей казалось, ее формы при сходѣ съ лѣстницы. — Я пойду соберу игроковъ. Вы играете, князь?
И Анна увидала подходившаго Вронскаго. Странно невысокая, широкая фигура, смуглое лицо его, простое, обыкновенное, показалось ей царскимъ, осѣняющимъ все. Ей удивительно было, какъ всѣ не удивлялись, не преклонялись передъ [нимъ], такъ онъ былъ выше, благороднѣе всѣхъ.
— Ich mache alles mit,[1108] — отвѣчалъ Корнаковъ съ своей дерзкой манерой.
Хозяйка стала собирать игроковъ, и группа около Анны стала увеличиваться. Вронский говорилъ съ Корнаковымъ, объясняя ему, почему онъ не пріѣхалъ обѣдать. Анна говорила съ подошедшими гостями, и оба они говорили только другъ для друга; оба только думали о томъ, когда и какъ они успѣютъ остаться одни. И онъ хорошо зналъ по ея взгляду, что она недовольна имъ, и она знала, что онъ не считаетъ себя виноватымъ.
Крокетъ-граундъ былъ единственный въ Петербургѣ настоящій англійскій на стриженомъ газонѣ, съ фонтаномъ по серединѣ. Общество собралось большое и раздѣлилось на 3 партіи: въ одной партіи другъ противъ друга играли Баронъ съ Бетси и Вронской съ Анной. Человѣкъ 20 мущинъ и женщинъ, сильныхъ, здоровыхъ, перепитанныхъ хорошей ѣдой и винами, одѣтыя въ самыя неудобныя для всякаго рода движеній платья — мущины съ узкими, угрожающими лопнуть панталонами, съ голыми уродливыми мужскими шеями, съ лентами на шляпахъ и браслетами на рукахъ, женщины въ прическахъ, по вышинѣ и объему своему равняющимися бюсту и съ колеблющимися, какъ у овецъ, курдюками на задахъ и обтянутыми животами и ногами, лишенны[ми] свободнаго движенія впередъ, толпились и медленно среди неоживленнаго говора двигались по площадкѣ и кругомъ ея. Въ игрѣ этой, какъ и всегда, происходила борьба между большинствомъ, которые прямо выказывали, что имъ скучно, и другими (хозяева въ томъ числѣ), которые съ нѣкоторымъ усиліемъ надъ собой старались увѣрить себя и другихъ, что имъ близко къ сердцу вопросъ о томъ, какъ бы прежде прогнать шары черезъ воротки. Къ таковымъ принадлежалъ Вронской. И хозяинъ и хозяйка были благодарны ему. Ибо противуположные, изъ которыхъ главой былъ Корнаковъ, лѣниво разваливаясь на желѣзныхъ лавкахъ и стульяхъ съ стальными пружинами, забывали свой чередъ и говорили, что это невыносимо глупо и скучно. Вронскому было весело и потому, что онъ съ своимъ спокойнымъ, добродушнымъ отношеніемъ ко всему и въ крокетѣ видѣлъ только крокетъ, и, главное, потому, что то дѣтское чувство влюбленности, которое было въ Аннѣ, сообщалось и ему. Ему весело было, что они на одной сторонѣ, что она спрашиваетъ его, какъ играть, что онъ говоритъ съ ней, глядя ей въ глаза. Въ критическую минуту партіи, когда ей пришлось играть и шары стояли рядомъ, она взяла молотокъ, поставила свою сильную маленькую ногу въ туфлѣ на шаръ и оглянулась на него.
— Ну какъ? научите, — сказала она улыбаясь.
И имъ обоимъ казалось, такъ много, такъ много таинственно значительнаго и запрещеннаго и поэтическаго было сказано въ этихъ трехъ словахъ, что никакое объясненіе того, что значили для нихъ двухъ эти 3 слова, не удовлетворило бы ихъ. Только встрѣтившійся взглядъ и чуть замѣтная улыбка сказала, что все это — это невыразимое — понято обоими.
— Не мучайте, Анна Аркадьевна, — притворяясь сказалъ хозяинъ, — судьба рѣшается.
— Стукните такъ, чтобы поскорѣе кончилось, — сказалъ Корнаковъ, какъ будто изнемогая отъ труда игры и принимая мороженое отъ обходившаго слуги, и какъ будто послѣ игры у него будетъ такое занятіе, отъ котораго онъ также не будетъ умирать со скуки.
— Крокетовскій мефистофель, — сказалъ кто-то.
Но Вронской не замѣчалъ этаго.
— Постойте, постойте, ради Бога постойте, Анна Аркадьевна, — сказалъ онъ ей.
Не смотря на то, взглядъ сказалъ другое. Онъ, продолжая свою роль живаго участія къ крокету, взялъ изъ ея рукъ молотокъ и показалъ, съ какой силой долженъ быть сдѣланъ ударъ.
— Вотъ такъ.
— Таакъ?
— Да, да.
Она смотрела прямо въ глаза ему и невольно улыбалась.
Онъ улыбнулся тоже глазами.
— Нусъ, наша судьба въ вашихъ рукахъ.
Она ударила и сдѣлала то, что нужно было.
— Браво, браво!
И эта близость, и это пониманіе другъ друга, этотъ нѣмой говоръ взглядовъ, эта радость и благодарность его — все это, имѣвшее такое счастливое глубокое значеніе для нея, все это дѣлало счастливою, даже болѣе счастливою, чѣмъ когда она была съ нимъ съ глазу на глазъ.[1109]
Въ этотъ же вечеръ они были одни съ глазу на глазъ, и имъ было невыносимо тяжело. Это произошло отъ того, что въ этотъ вечеръ въ первый разъ Аннѣ запала мысль о томъ, что ея чувство любви ростетъ съ каждымъ днемъ и часомъ, а что въ немъ оно ослабѣваетъ. Ей показалось это потому, что онъ ничего не сказалъ по случаю извѣстія о требованіи ея мужа вернуться въ Петербургъ. Онъ ничего не сказалъ потому, что рѣшилъ самъ съ собой не начинать нынче всегда волновавшаго ее разговора о совершенномъ разрывѣ съ мужемъ, но то, что онъ ничего не сказалъ, оскорбило ее. Ей пришла мысль о томъ, что онъ испытываетъ пре[сыщеніе].[1110]
* № 76 (рук. № 47).
<Анна была въ этотъ вечеръ въ особенно хорошемъ расположеніи духа — въ томъ mischievous[1111] шутливомъ духѣ, въ которомъ Вронской еще никогда не видалъ ее. Если у Анны былъ талантъ, то это былъ талантъ актрисы и который проявлялся въ ней только тогда, когда она была въ особенно хорошемъ, какъ нынче, расположеніи духа.>
Домъ Илена посѣщался особенно охотно потому, что Илены знали, что они никому не нужны сами по себѣ, а нужны ихъ обѣды, стѣны; но что и этаго мало: нужно потворствовать вкусамъ, и они дѣлали это. У нихъ было 3 изъ 7 merveilles.[1112] Каждая съ своимъ любовникомъ. Не было ни однаго лица, которое бы косилось на это. Было все по новому. Кругъ этотъ былъ новымъ. Анна не знала его и чувствовала, что ее радушно принимали въ это масонство. Тутъ была ей знак[омая].[1113] Она встрѣчала ее и въ своемъ свѣтѣ, но здѣсь она встрѣтила ее новою. Она лѣниво признавалась въ томъ, что ей все надоѣло и что надо же что нибудь дѣлать, только бы было весело.
— Что вы вчера всѣ дѣлали? — спросила ее.
— Валялись всѣ по диванамъ по парно. Только одна Кити оста[лась] dépareillée.[1114] Ну, мы ее утѣшали.
Анну удивило это, но пріятно. Притомъ думать ей некогда было. Къ обѣду ее повелъ Вронской. За обѣдомъ былъ разгов[оръ] общій; она только успѣла сказать ему, что ей нужно переговорить съ нимъ. Послѣ обѣда всѣ пары разошлись по саду и терасамъ. Хозяйка сама отвела Анну съ Вронскимъ на терассу за цвѣты и оставила ихъ тамъ.
Разговоръ о Корнаковѣ, о крокетѣ, пока уходила хозяйка, потомъ взглядъ любви молчаливый, говорившій: «Ну, теперь мы одни, мы можемъ все сказать». «Но это все уже сказано. И зачѣмъ въ эти эмпиреи входить?» сказалъ его ласковый, спокойный взглядъ.
— Нѣтъ, они очень милы, — сказалъ Вронской. — Я хотѣлъ быть у васъ, но ждалъ видѣться, и нигдѣ не можетъ [быть] удобнѣе, чѣмъ здѣсь.
— Зачѣмъ ты хотѣлъ меня видѣть?
— Зачѣмъ? зачѣмъ? — сказалъ онъ улыбаясь.
Она не отвѣтила ему улыбкой. Она не смотрѣ[ла] на него.
— Да, но я должна ѣхать въ Петербургѣ. Вотъ читайте. — Она подала письмо.
— Письмо ничего не значитъ, значитъ ваше рѣшенье.[1115]
Онъ сказалъ это. Она понимала, что онъ хотѣлъ, чтобы она поняла подъ этимъ; но въ его тонѣ, въ его покойной позѣ послѣ обѣда было что то оскорбившее ее своей холодностью.
— Я понимаю, — началъ онъ, испуганный ее волненіемъ, — я все понимаю и потому...
— Тутъ нечего понимать, — сказала она съ грустной улыбкой. — Мнѣ нечѣмъ гордиться, я погибшая женщина и больше ничего. И дѣлай со мной что хочешь.
— Такъ надо оставить...
— Нѣтъ, только не это. Я завтра поѣду въ Петербурга и увижу его и завтра вечеромъ приходи.
Не смотря на попытки его вернуться къ разговору, она настояла на своемъ и совершенно успокоилась, вечеръ проведенъ былъ счастливо и спокойно.
* № 77 (рук. № 57).
Она бы все въ мірѣ отдала теперь, чтобы быть опять въ томъ неопредѣленномъ положеніи, въ которомъ она была до скачекъ и которое она называла мучительнымъ. «Была ли когда нибудь женщина въ такомъ ужасномъ положеніи?» спрашивала она себя. Письмо было отъ Бетси. Она звала ее на большую партію крокета къ Ильменамъ: «Это все конечно для меня, — подумала Анна. — И тѣмъ лучше».
— Кофей готовъ, и Мамзель Кордонъ съ Сережей пришли, — сказала Аннушка, удивляясь на медленность, съ которой нынче одѣвалась ея барыня.
Анна быстро одѣлась, но ей надо было сдѣлать усиліе надъ собой, чтобы войти въ столовую, гдѣ обыкновенно ожидали ее кофей и сынъ съ гувернанткой. Сережа въ своей бѣленькой курточкѣ возился у стола подъ зеркаломъ съ цвѣтами, которые онъ принесъ. M-lle Cordon имѣла особенно строгій видъ, и опять кровь прилила къ лицу и къ шеѣ Анны. «Она все знаетъ, она сейчасъ скажетъ», подумала она. И дѣйствительно, M-lle Cordon объявила, что она не можетъ оставаться въ домѣ...... если Сережа будетъ также indiscipliné.[1116] Съ трудомъ понявъ, что дѣло въ томъ, что Сережа былъ не послушенъ и impertinent, il raisonne, il vient de manger,[1117] съѣлъ тайно два персика, Анна постаралась успокоить M-lle Cordon и подозвала сына. Она сдѣлала ему выговоръ, успокоила M-lle Cordon, подтвердила положенное ею наказаніе и сѣла за кофе, испытывая успокоеніе. Какъ эта самая привычка сына прежде мучила ее! Теперь же она и не думала о немъ.
«Что же, неужели я равнодушна стала къ Сережѣ?» Она взглянула на него, провѣряя свое чувство; курчавые, рыжеватые волоса, холодный, хотя и дѣтскій, но холодный взглядъ маленькихъ глазъ, толстыя, большія, костлявыя, голыя колѣни, улыбка робкая и притворная.[1118] «Нетолько равнодушна, но онъ непріятенъ мнѣ — это маленькій Алексѣй Александровичъ.[1119] Боже мой, что я буду дѣлать? Я не могу оставаться съ этими мыслями, съ этой неизвѣстностью».[1120]
— Нѣтъ, я нынче не пойду гулять, — сказала она Сережѣ (это было обычное время гулянья ея съ сыномъ, во время котораго она отпускала гувернантку), — за то, что ты дурно велъ себя. Мнѣ надо написать письма.
Она подошла къ столу, открыла бюваръ. «Но что же я напишу Вронскому, пока не имѣю отвѣта мужа? Если бы я видѣла его. Зачѣмъ я не сказала вчера?» И опять, опять краска стыда покрывала ея щеки. Она встала отъ стола и вышла на терассу и стала по привычкѣ оглядывать цвѣты.
Шумъ колесъ мимо ограды заставилъ ея оглянуться. Между дравий[?] изгородью и оградой промелькнулъ кузовъ кареты. Карета остановилась у подъѣзда. «Это отъ него, — подумала она. — Это Иванъ Викентьичъ, это карета за мной».
Она прислушалась. Какіе то голоса говорили въ передней, женскій и мужской, она не могла разобрать. Послышались шаги съ скрипомъ толстых подошвъ. Хотя она знала этотъ скрипъ сапогъ лакея Корнея, за которые она даже выговаривала ему, она не узнала ихъ. Чтобы скрыть свое волненіе, она поспѣшно обернулась къ цвѣтамъ и стала перевязывать ихъ. Это былъ Корней, она узнала его голосъ.
— Княгиня Марья Ивановна съ сыномъ, изъ Москвы, — доложилъ онъ.[1121]
«Ахъ, я забыла», подумала Анна. Это была тетка ея Княгиня Марья Ивановна и та самая, у которой она жила въ К., гдѣ вышла замужъ за Алексѣя Александровича, бывшаго тамъ губернаторомъ, и обѣщавшая пріѣхать на этихъ дняхъ въ Петербургъ для опредѣленія старшаго неудавшагося сына въ какое нибудь военное училище или въ юнкера.
Первое чувство Анны было радость. Хотя вульгарная губернская большая барыня, Княгиня Марья Ивановна была добродушное, простое существо, которому многимъ обязана была Анна и которая всегда любила ее. Съ терассы ей слышенъ былъ то басистый, то визгливый голосъ Княгини Марьи Ивановны, имѣвшей даръ говорить такъ, какъ будто говорило вдругъ много обрадованныхъ и взволнованныхъ, тогда какъ говорила она одна, и всегда по французски, хотя и дурно, и всегда не для того, чтобы выражать свои мысли и чувства, а только для того, что въ обществѣ надо говорить.
Анна, отдавшись своему чувству, радостно побѣжала почти своей легкой походкой ей на встрѣчу, но въ гостиной она вдругъ остановилась и, невольно сморщивъ лобъ отъ внутренней боли, вскрикнула и покрыла лицо руками. «Что если она была у него и она знаетъ?»
Но думать объ этомъ было некогда. Княгиня Марья Ивановна ужъ увидала ее изъ передней и улыбаясь манила ее къ себѣ и кричала ей:
— Покажите же мнѣ ее! Вотъ она наконецъ! — и кричала сыну и извощику: — Петя, Петя! ахъ, какой ты непонятливый! Если скажетъ — мало... ну, дай рубль, но больше не давай. Довольно, голубчикъ, довольно. Ну вотъ и она. Какъ я рада! Я въ Петербургѣ и не остановилась. Я думала, что Алексѣй Александровичъ здѣсь. Ну, все равно. Что, не узнала бы моего Петю? Да вотъ привезла сюда, въ гвардію. Онъ у меня и дѣвушка, и курьеръ, и все. Вѣдь мы не столичные, не высшаго. Ну, какъ ты похорошѣла, моя радость. Петя! цѣлуй руку. Когда выйдешь изъ подъ моей опеки, обращайся какъ знаешь, по новому, а у кузины старшей и той, которая тебя устроитъ, цѣлуй руку. Ну, пойдемъ, пойдемъ, и ничего не хочу. Я на станціи выпила гадость какую то.
Но Княгиню Марью Ивановну долго нельзя было довести до гостиной, куда Анна хотѣла посадить ее. Княгиня Марья Ивановна останавливалась въ каждой комнатѣ, всѣмъ любовалась, все распрашивала и на все высказывала свои замѣчанія. Она и всегда, но особенно теперь, въ Петербургѣ, была озабочена тѣмъ, чтобы показать, что она цѣнитъ ту высоту положенія, въ которомъ находится та Анна, которую она же выдала замужъ, но что она, съ одной стороны, нисколько не завидуетъ, не поражена этимъ величіемъ и, съ другой стороны, цѣнитъ это, радуется этому и никогда не позволитъ себѣ быть indiscrète[1122] и пользоваться своими правами. Во всякомъ словѣ ея, въ манерѣ, въ отставшемъ по модѣ, но претенціозномъ дорожномъ туалетѣ было замѣтно напряженіе не уронитъ себя въ Петербургѣ, сдѣлать свое дѣло, но не осрамиться и не быть Каренинымъ въ тягость.
— Какая прелесть дача. Вотъ, говорятъ, въ Петербургѣ нѣтъ деревни. И деревня, и элегантно, и вода. Какъ мило. И все казенное, charmant![1123] И цвѣты, и букеты... Я до страсти люблю цвѣты. Ты не думай, что я тебя стѣсню. Я на нѣсколько часовъ.
— Ахъ, тетушка, я такъ рада.
— А Петю не узнала бы, а? — говорила мать, съ скрываемой гордостью указывая на молодого человѣка съ потнымъ, налитымъ густой кровью лицомъ, въ голубомъ галстукѣ и короткомъ пиджакѣ, который, улыбаясь и краснѣя, смотрѣлъ на Анну такимъ взглядомъ, который щекоталъ ее и производилъ на нее впечатлѣніе, что онъ смотритъ на нее не туда, куда нужно. Анна никакъ не узнала бы его. Она помнила 9-лѣтняго Петю, забавлявшаго всѣхъ своимъ апетитомъ, потомъ слышала, что наука не задалась ему и онъ побывалъ, какъ всѣ подобные ему молодые люди, въ гимназіи, въ пансіонѣ, въ какихъ то технотопографическихъ училищахъ, въ которыхъ оказывалось, что гораздо лучше, чѣмъ въ гимназіяхъ, и что его везутъ въ юнкера. Но никакъ не могла себѣ представить, что этотъ краснѣющій и упорно нечисто глядящій на нее красивый юноша — тотъ самый Петя.
— Онъ славный малый и не думай, чтобы неспособный, напротивъ; но ты знаешь, эти требованія, эти интриги.
Не смотря на отказы тетушки, Анна, хотя и знала, что это очень стѣснитъ ее, уговорила тетушку остаться ночевать у нее и пошла велѣть приготовить ей комнату.
— Нѣтъ, все это величіе (les grandeurs) не испортили ее, — сказала мать сыну, когда она вышла. — Такая же добрая, милая. И найти такое радушіе въ Петербургѣ!
— Какъ она хороша, мама! Я никогда не видалъ такой красавицы. Какія руки!
— Да, она еще похорошѣла. И вотъ говорили, что это бракъ не по любви, а они такъ счастливы, что... Ахъ, батюшки, красный мѣшечекъ! — вскрикнула она, всплеснувъ руками. — Бѣги, въ каретѣ. — Но мѣшечекъ былъ въ передней. — И какъ хорошо у нихъ. И садовникъ, и оранжереи — все казенное.
Анна была рада теперь пріѣзду тетки. Это ее отвлекало отъ неразрѣшимаго вопроса. Она съ веселымъ лицомъ вернулась къ ней.
— Вы какъ хотите, тетушка, а я приготовила вамъ и Петѣ.
— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, Петя въ Петербургъ, у Милюковскихъ, ему готова. Да и я поѣду. Я благодарю, я тронута. Ну, давайте, коли хотите, я выпью кофею, — сказала она, оглядывая въ подробностяхъ и Петербургскаго Корнея — лакея съ его разчесанными бакенбардами и бѣлымъ галстукомъ, и подносъ-столикъ, и всю эту элегантность службы.
— Ну, давайте. Какъ это практично. Ну чтожъ, покажи же мнѣ Сережу, твоего кумира. Петя, поди, будь услужливъ, поди поищи въ саду и приведи сюда.
— Нѣтъ, вы, пожалуйста, тетушка не уѣзжайте и будьте какъ дома. Если вы хотите ѣхать въ Петербургъ, моя карета къ вашимъ услугамъ. Я никуда не поѣду.
Княгиня Марья Ивановна улыбнулась и пожала руку Аннѣ.
— Признаюсь тебѣ, мой дружокъ, я не ждала отъ тебя дурнаго пріема, но я знаю, что въ вашемъ положеніи есть обязанности. Но ты такъ мила. Все тоже, все тоже золотое сердце. Я тебѣ правду скажу, я на одно разчитывала, это — что ты и Алексѣй Александровичъ не откажетесь сказать словечко Милютину. Ты знаешь, это такъ важно. A Pierre славный, славный малый. Это у него есть что то. Я мать, но не заблуждаюсь. Алексѣй Александровичъ, я знаю, въ такой силѣ теперь, что одно слово. И ты тоже. Ты знаешь, женщина...
— Я скажу графинѣ Лидіи Ивановнѣ, да и самому... — сказала Анна.
— Я очень, очень рада, — продолжала Княгиня, оглядывая искоса платье Анны.
— Аглицкое шитье. А мы считали, что это старо. А это самый grand genre.[1124] Лизѣ сдѣлаю. Вотъ помнишь наши толки, когда ты выходила замужъ. Я говорила, что все будетъ прекрасно. Онъ человѣкъ, котораго нельзя не уважать глубоко. А это главное. Если бы не было дѣтей, ну такъ. Но я такъ рада была, когда родился Сережа. И у женщины, у которой есть сынъ, есть цѣль жизни, есть существо, на которомъ можно сосредоточить всю нѣжность женскаго сердца. И я такъ понимаю, какъ мнѣ про тебя разсказывали, что ты живешь для сына. Разумѣется, les devoirs[1125] общества.
Анна покраснѣла отъ стыда и боли, когда ей напомнили такъ живо ту роль матери, которую она взяла на себя и которую она не выдержала.
— Вотъ и онъ. А поди сюда, мой красавецъ. — «Вотъ я говорила Тюньковой, — подумала она, — что для мальчика самое лучшее бѣлое пике». — Какъ выросъ! И какъ онъ соединилъ красоту матери и серьезность отца. Взглядъ. Ну, craché![1126]
Княгиня Марья Ивановна была притворна во всемъ равно, какими бываютъ всѣ добродушные люди; но притворство относительно всего другаго не оскорбляло Анну, притворство же къ сыну больно укололо ее именно потому, что она чувствовала, что она одинаково притворно сама относилась къ сыну. Ей такъ тяжело это было, что, чтобы отвлечь Княгиню Марью Ивановну отъ сына, она предложила выдти на терассу. На терассѣ Княгиня Марья Ивановна любовалась и видомъ, и трельяжемъ, и стальными скамейками съ пружинными стисками. И Аннѣ странно и мучительно было чувствовать эту добродушную зависть ея положенію. Какъ бы ей хотѣлось быть хоть въ сотой долѣ столь счастливой тѣмъ, что въ глазахъ ея тетки было такъ прекрасно, такъ твердо, такъ стройно, такъ важно.
Въ это же утро къ дачѣ подъѣхала пара въ шорахъ, запряженная въ dogcart,[1127] принадлежащая Бетси, на которой ѣхалъ Тушкевичъ съ грумомъ. Онъ привезъ Аннѣ обѣщанныя книги и приглашеніе пріѣхать непремѣнно вечеромъ. Княгиня Марья Ивановна съ торжественной улыбкой слушала, чуть замѣтно поднимая и опуская голову, слова Тушкевича и не могла не улыбаться радостно, когда Петя сдѣлалъ свое вступленіе въ большой свѣтъ рукопожатіемъ съ Тушкевичемъ. Княгиня Марья Ивановна хотѣла непремѣнно видѣть упряжку и вышла посмотрѣть на крыльцо.
— Это очень покойно, — говорила она, — очень, очень.
Онѣ возвращались назадъ, когда еще экипажъ — это былъ извощикъ и на извощикѣ курьеръ — подъѣхалъ къ крыльцу. Анна узнала курьера мужа и, боясь выказать свое волненіе, вернулась въ домъ. Карета Анны уже была заложена для Княгини Марьи Ивановны, и Княгиня ушла къ себѣ одѣваться. Анна была одна, когда ея лакей на подносѣ принесъ ей толстый пакетъ, на которомъ она узнала почеркъ мужа. Толщина конверта, которая происходила только отъ вложенныхъ въ него денегъ, повергла ее въ ужасъ. Рука ея тряслась, какъ въ лихорадкѣ, и, чтобы не выдать свое волненіе (она чувствовала, какъ она краснѣла и блѣднѣла), она не взяла письма, а отвернувшись велѣла положить его на столъ.
Когда человѣкъ, любопытно искоса взглянувъ на нее, вышелъ изъ комнаты, она подошла къ столу, взялась за грудь и, взявъ письмо, быстрыми пальцами разорвала его. Но, разорвавъ, она не имѣла силы читать. Она взялась за голову и невольно прошептала: «Боже мой! Боже мой! Что будетъ?!»
Она взяла письмо и, сдерживая дыханіе, начала читать съ конца. «Я сдѣлалъ приготовленіе для переѣзда, я приписываю значеніе исполненію моей просьбы».
Она пробѣжала дальше назадъ, поняла съ трудомъ, вздохнула полной грудью и еще разъ прочла письмо все съ начала.
«Такъ только то, — сказала она. — Ну что же будетъ теперь?» спросила она себя.
Письмо это давало ей то, чего она[1128] утромъ, думая о своемъ положеніи, болѣе всего желала.[1129]
«Низкій, гадкій человѣкъ, — сказала она. — Онъ чувствуетъ и знаетъ,[1130] что я одного желаю — освободиться отъ него.[1131] И этаго то онъ не хочетъ допустить. Онъ знаетъ очень хорошо, что я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться; онъ знаетъ, что изъ этаго положенія ничего не выйдетъ, кромѣ обмана, что обманъ мучителенъ мнѣ.[1132] И ему нужно продолжать мучать меня.[1133] А онъ? О, я знаю его! Онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ и наслаждается во лжи. Но нѣтъ, я не доставлю ему этаго наслажденія; я разорву эту его паутину лжи, въ которой онъ меня хочетъ опутать. Я не виновата, что я его не люблю и что полюбила другаго».
Она живо представила Вронскаго съ его твердымъ и нѣжнымъ лицомъ, этими покорными и твердыми глазами, просящими любви и возбуждающіе любовь.
«Я поѣду къ нему. Пусть будетъ, что будетъ. Все лучше лжи и обмана. Я должна видѣть его, я должна сказать ему. Теперь или никогда рѣшается моя судьба. И надо дѣйствовать, дѣйствовать и, главное, видѣть его».
Она встала, быстро подошла къ письменному столу[1134] и написала мужу.
«Я получила ваше письмо.
Анна Каренина».
Запечатавъ это письмо, она взяла другой листъ и написала:
«Я все объявила мужу, вотъ что онъ пишетъ мнѣ. Необходимо видѣться».[1135]
Она сидѣла съ письмомъ мужа въ рукахъ, когда чьи то шаги послышались въ комнатѣ. Она оглянулась. Это былъ Петя. Увидавъ ея удивленный и, какъ ему показалось, строгій взглядъ, онъ такъ сконфузился, что не могъ выговорить того, что хотѣлъ, т. е. что онъ думалъ, что мама здѣсь. Ему показалось, что онъ чѣмъ то оскорбилъ кузину, и такъ испугался, что чуть не заплакалъ.
— Вино... виноватъ.
Она довольно долго смотрѣла на него, пока поняла, кто онъ и зачѣмъ онъ.
— Нѣтъ, ея нѣтъ, Петя, — сказала она ему, — а ты позвони мнѣ въ той комнатѣ.[1136]
— Ну, ты получила вѣсточку отъ мужа? — сказала Княгиня, входя въ платьѣ, еще болѣе отставшемъ отъ моды и претенціозномъ, чѣмъ дорожное. — Курьеръ это его, я видѣла, — сказала она, съ видимымъ удовольствіемъ произнося слово курьеръ.
— Да, тетинька, ничего, онъ здоровъ, и вы увидите его. Прощайте.
Что то странное, быстрое, порывистое было теперь въ движеніяхъ и словахъ Анны.[1137]
— Прощай, мой дружокъ, благодарю тебя еще разъ, — умышленно сказала Княгиня, считавшая неприличнымъ показать, что она замѣчаетъ что нибудь. — Что же это ты такъ деньги бросаешь, — прибавила она, указывая на перевязанную бандеролькой пачку неперегнутыхъ бумажекъ.
— Ахъ да, — сказала Анна хмурясь и бросила деньги въ столъ.
— До вечера, моя прелесть, — еще нѣжнѣе улыбаясь, сказала тетушка, любуясь и добродушно завидуя этой небрежности, съ которой Анна получила, забыла и бросила въ столъ эту пачку, очевидно казенныхъ, не за пшеницу и шерсть, а просто прямо за службу изъ казначейства полученныхъ новенькихъ ассигнацій тысячи на три, какъ она сообразила.
— Прощайте, тетушка, — отвѣчала Анна.
Оставшись одна, Анна вспомнила то чувство страха и стыда, которымъ она мучалась все утро, и съ удивленіемъ надъ самой собою пожала плечами.[1138]
Утро, проведенное съ тетушкой, восторгъ тетушки передъ ея положеніемъ и это письмо, — все вмѣстѣ совершенно вывело изъ того положенія отчаянія, въ которомъ она была утромъ. Она достала письмо къ мужу, прочла его еще разъ и запечатала; потомъ прочла записку Вронскому и задумалась. «Я все объявила мужу — это грубо. Ему я все могу писать, мнѣ все равно, чтобы онъ ни думалъ; но что я напишу Алексѣю (Вронскому)? Нѣтъ, я не могу писать ему, я должна видѣть его. Я увижу его лицо, я прочту всѣ его тайныя мысли и буду знать, какъ сказать. Какъ увидать его?»[1139] Онъ будетъ на этомъ крокетѣ.[1140] Стало быть, я ѣду». Она позвонила и велѣла привести извощичью карету.
— «Все кончится, я брошу мужа», говорила она.
Но она не могла убѣдить себя, что[1141] это будетъ.
То самое положеніе ея, которое такъ восхищало ея тетушку и которымъ она не дорожила, ей казалось, было для нея, особенно теперь, когда письмо мужа давало ей увѣренность, что это внѣшнее положеніе останется, было такъ дорого, что, какъ она ни убѣждала себя, она не могла рѣшиться ѣхать и сказать Вронскому и отослала карету. Но, отославъ карету, она ничего не могла придумать и, сложивъ руки на столѣ, положила на нихъ голову и стала плакать. Она плакала о томъ, что мечта ея уясненія, опредѣленія положенія разрушилась. Она знала впередъ, что все останется по старому. Объ этомъ она плакала. Гувернантка пришла съ гулянья и заглянула на Анну. Анна увидѣла ее и ушла плакать въ свою комнату. Аннушка взошла, посмотрѣла на нее и вышла, но немного погодя вошла опять.
— Анна Аркадьевна, — сказала она, — извощикъ ждетъ.
— Вѣдь я велѣла уѣхать.
— Извольте ѣхать, что вамъ скучать. Я сейчасъ подамъ одѣться.
Барыня и служанка взглянули въ глаза другъ другу, и Анна поняла, что Аннушка любитъ, прощаетъ ее и все знаетъ, не желая пользоваться своимъ знаніемъ.
— Я приготовила синюю на чехлѣ.
— А баска? — сказала Анна.
— Я пришила.
— Ну такъ давай одѣваться.
* № 78 (рук. № 59).
«Нѣтъ, я должна видѣть Алексѣя (такъ она мысленно называла Вронскаго). Онъ одинъ можетъ сказать мнѣ. И я ничего, ничего не знаю. Отвѣтъ?» Она быстро написала мужу: «Я получила ваше письмо. А.» и, позвонивъ, отдала лакею.
«Да, я должна видѣть Алексѣя, онъ одинъ можетъ сказать, что я должна дѣлать». И опять, когда она вспомнила о Вронскомъ, чувство враждебности, досады, неопредѣленнаго упрека поднялись въ ея душѣ. «Онъ счастливь, онъ доволенъ, онъ не чувствуетъ одной тысячной тѣхъ страданій, которыя я переживаю. И пускай не чувствуетъ. Онъ далъ мнѣ счастье и любовь, и я не попрекну его. Онъ одинъ остается у меня. — И женская материнская нѣжность къ нему наполнила ея душу. — Пусть будетъ онъ счастливъ безъ страданій. Да, мнѣ надо видѣть его».
* № 79 (рук. № 48).
<Теперь, послѣ полученія письма, оно напомнило ей то, что есть будущее, что положеніе, въ которомъ она находилась, не можетъ продолжаться, что необходимо предпринять что нибудь. Но въ томъ положеніи, въ которомъ она находилась, она не могла ничего обдумывать одна. Она не жила своей жизнью. «Надо видѣть его, надо показать ему письмо мужа. Онъ рѣшитъ, что надо дѣлать», сказала она себѣ. И ей вспомнилось его предложение, требование даже оставить мужа и соединиться съ нимъ, и, не отдавая себѣ отчета въ своемъ желаніи, въ томъ, что она желаетъ этаго, что она будетъ вызывать Вронскаго на повтореніе предложенія оставить мужа, она съ письмомъ мужа въ карманѣ поѣхала въ тотъ же день[1142] на свиданіе съ Вронскимъ.
Свиданіе это должно было происходить на знаменитой своей роскошью вновь купленной отъ князей Прозоровскихъ дачѣ, у новаго финансоваго человѣка барона Илена. Баронъ Иленъ былъ новый финансовый человѣкъ, вступившій вслѣдствіи только своего богатства въ высшій Петербургскій кругъ. Всѣ, т. е. большинство, ѣздили къ нему и принимали его и его жену.>
Анна встрѣтила Баронессу Иленъ у Бетси и получила приглашенiе. При прежнихъ условіяхъ жизни Анна отказалась бы, во первыхъ, потому, что у Анны было тонкое свѣтское чутье, которое указывало ей, что при ея высокомъ положеніи въ свѣтѣ сближеніе съ Иленами отчасти роняло ее и снимало съ нея пушокъ исключительности того круга, къ которому она принадлежала, и, во вторыхъ, потому, что по какимъ то дѣламъ, которыя онъ имѣлъ съ правительствомъ, Иленъ нуждался въ содѣйствіи Алексѣя Александровича, и потому Анна должна была избѣгать его. Но теперь, при ея новомъ взглядѣ на вещи, ей тотчасъ же пришли въ голову никогда прежде не приходившiе либеральныя разсужденія о томъ, что нѣтъ никакой причины ставить Барона Илена ниже другихъ людей, не имѣющихъ той энергіи и дарованій, и что баронъ Иленъ во всякомъ случаѣ лучше Князя Корнакова, извѣстнаго негодяя, къ которому всѣ ѣздятъ и котораго всѣ принимаютъ. Анна пріѣхала[1143] съ Бетси раньше обѣда, какъ онѣ и были званы на партію крокета.
Довольно большое общество уже было собрано въ саду, когда Бетси и Анна, пройдя черезъ дачу, сходили по широкой съ отлогими ступенями, уставленной цвѣтами лѣстницѣ, ведущей къ фонтану и устроенному вокругъ крокетъ граунду.
Хозяинъ съ молоткомъ крокета въ рукахъ, рыжеватый, тонколицый, сильный мущина, съ тѣмъ особеннымъ лоскомъ на лицѣ и одеждѣ, который бываетъ только у очень богатыхъ людей, скорымъ шагомъ съ покорно радостной, притворной улыбкой поспѣшно встрѣтилъ ихъ.
Хозяйка — красивая overdressed[1144] женщина — съ такой же улыбкой шла за нимъ. Анна съ трудомъ могла видѣть хозяевъ и отвѣчать на ихъ привѣтствія. Она всегда въ ожиданіи встрѣчи съ Вронскимъ испытывала волненіе, заставлявшее часто и крѣпко биться ея сердце. Въ нынѣшній разъ это волненіе особенно усилилось тѣмъ сознаніемъ, что онъ особенно нуженъ ей для переговоровъ о полученномъ письмѣ. Механически отвѣчая хозяйкѣ на ея приглашеніе принять участіе въ игрѣ, она отъискивала глазами Вронскаго и чувствовала, что ея взглядъ замѣченъ, но не могла воздержаться. Его не было. Анна [по]чувствовала[1145] вдругъ тоску и отвращеніе ко всему и всѣмъ. И ей стало уныло, и нервы опустились.
* № 80 (рук. № 49).
Слѣдующая по порядку глава.
Анна ѣхала съ Княгиней Бетси Тверской къ Роландаки, и во время этаго переѣзда между ними шелъ оживленный и очень интересный для Анны разговоръ. Княгиня Тверская была натура совершенно противуположная Аннѣ, и Анна любила быть съ нею.
Разговоръ по обычному порядку вещей начался осужденіемъ тѣхъ, къ кому онѣ ѣхали.
— Я не понимаю, — сказала Анна, — для чего вы ѣздите къ нимъ. Вѣдь вы сами говорите, что они чуждые вамъ.[1146]
— Для чего я ѣзжу? Точно для того же, для чего я ѣзжу къ Б., Ч., ко всѣмъ. Они члены общества, это свершившійся фактъ.
— Но вѣдь вы и Б. и Ч. сдѣлали то, что это сверш[ившійся] фактъ. Если бы вы не ѣздили?..
— Ну а для чего вы ѣдете?
— Вы меня везете.
— Ну и меня также повезли. Все это дѣлается само собой. Ну и потомъ есть манера. И поѣсть ихъ обѣдъ такъ, чтобы они всякую минуту чувствовали за это благодарность.
— Поучусь этому нынче подъ вашимъ руководствомъ. Вы знаете, у меня была еще причина, т. е. есть причина, — поправилась Анна, — по которой мнѣ непріятно ѣздить къ нимъ. У этаго Роландаки есть какія то дѣла, зависящія отъ мужа. И потому Алексѣй Александровичъ избѣгаетъ его.
— Я не понимаю, зачѣмъ вашему мужу, имѣя такую репутацію неподкупности, на каждомъ шагу бояться. Кто слишкомъ много говоритъ, тотъ ничего не говоритъ. И потомъ мы, женщины, не обязаны ничего этаго знать.
— Вотъ это самое и я думаю. Говорятъ, очень хорошій домъ.
— Непозволительная роскошь, такъ что гадко.
Анна, перемучавшись все утро теперь съ той минуты, какъ она одѣлась и сѣла въ карету, чувствовала себя не то что спокойной, но способной, какъ бы отложивъ и заперевъ все горе и сомнѣніе въ какое то особое отдѣленіе души, ни на секунду не переставая чувствовать всю тяжесть горя, отдаваться вполнѣ привычнымъ интересамъ свѣтской жизни.
— Нѣтъ, ужъ если вы хотите учиться, то вы учитесь у Лизы Меркаловой. Надо видѣть, какъ она третируетъ ихъ. Но она за собой привела высочество, и потому ей все позволено. Она прямо сказала, что она пріѣдетъ, если при ней будетъ ея Мишка. И Мишку, т. е. молодого Графа[1147] Коншина, позвали.
— А Денкопфъ будетъ? — спросила Анна.
Лиза Меркалова была одна и едвали не главная изъ небольшаго кружка крайнихъ петербургскихъ модницъ, которыя въ подражаніе чему то называли себя les sept merveilles.[1148] Денкопфъ была другая изъ этихъ дамъ, и поэтому то Анна спросила про нее.
— И Маслова и Княгиня Астрахова. Такъ что это собраніе почти всѣхъ семи чудесъ. Двухъ недостанетъ. Мы съ вами будемъ исполнять должность, если намъ сдѣлаютъ эту честь, — насмѣшливо сказала Бетси.
Княгиня Тверская сама не принадлежала къ кружку 7 чудесъ. Она для этаго не была не то что достаточно хороша, такъ какъ въ числѣ 7 чудесъ были и некрасивыя женщины; но она не имѣла той распущенной, отчасти грубой, отчасти утонченной[1149] нечистой женской возбудительности, которая составляла общую черту[1150] 7-ми чудесъ. Княгиня Тверская была настолько умна, что она и не пыталась подражать этимъ дамамъ, усвоившимъ себѣ вполнѣ тонъ родственный имъ по природѣ — тонъ распутныхъ женщинъ. Княгиня Тверская понимала маневръ этихъ дамъ. Онѣ, съ одной стороны, имѣли такую высоту положенія, что никто никогда не могъ смѣшать ихъ съ распутными женщинами,[1151] были увѣрены, что въ этой модѣ уже никто, не имѣя ихъ высоты положенія, не рѣшится подражать имъ, и онѣ останутся единственными и неподражаемыми и будутъ жить легко и весело, и знала, что она не можетъ подражать имъ. Маневръ этихъ дамъ состоялъ въ слѣдующемъ: положеніе этихъ дамъ было такъ высоко и прочно,[1152] что онѣ смѣло могли, удерживая своихъ поклонниковъ, усвоить самый пріятный и естественный для нихъ тонъ распутныхъ женщинъ. Это не могло ихъ уронить. Напротивъ, это достигало главной цѣли — совершеннаго рѣзкаго отличія отъ всѣхъ другихъ женщинъ, которыя не могли подражать имъ въ этомъ. Это была такая мода, которую нельзя было купить у модистки и въ которой онѣ оставались единственными и становились на нѣкоторый общественный пьедесталъ.[1153] И такъ какъ поклонники требовали именно распутной привлекательности и женщины и имѣли ее, то они и держали своихъ поклонниковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пользовались самой для себя пріятной, отличающей ихъ отъ всѣхъ другихъ женщинъ, но не роняющею ихъ распущенной[1154] жизнью. Почти всѣ эти дамы курили, пили вино, для того чтобы оно возбуждало ихъ, и позволяли внѣ семьи [?] обнимать себя и многое другое. Бетси въ глубинѣ души завидовала имъ, но была настолько умна, что,[1155] случайно избравъ себѣ не достаточно важнаго поклонника и зная свою непривлекательную натуру, и не пыталась подражать имъ; но, чтобы не выказать своей зависти, никогда и не осуждала этихъ дамъ, составившихъ въ томъ великосвѣтскомъ кругу, въ которомъ жила Бетси, отдѣльную и высшую по тону секцію.
— Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять, — сказала Анна, помолчавъ нѣсколько времени и такимъ тономъ, который ясно показывалъ, что она дѣлала не праздный вопросъ, но что то, что она спрашивала, было для нея важнѣе, чѣмъ бы слѣдовало. — Скажите, пожалуйста, что такое эти отношенія между хоть[1156] Сафо Денгофъ и этимъ такъ называемымъ Мишкой, т. е. Княземъ Вяземскимъ? Такъ какъ я избѣгала ихъ общества и мало встрѣчала ихъ. Что это такое?
Бетси улыбнулась глазами, поглядѣвъ на Анну.
— Новая манера, — сказала она.
Бетси[1157] непринужденно весело и неудержимо засмѣялась, что рѣдко случалось съ ней.
— Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопросъ ужаснаго ребенка. — И Бетси, видимо, хотѣла, но не могла удержаться и опять весело засмѣялась. — Надо у нихъ спросить, — проговорила она сквозь усиливающейся такой искренній смехъ, что онъ невольно сообщился и Аннѣ.
— Нѣтъ, вы смѣетесь, — сказала Анна,[1158] — но я никогда не могла понять. Я не понимаю роли мужа.
И сказавъ это, Анна ощупала въ карманѣ письмо мужа, которое она взяла съ собой, съ тѣмъ чтобы показать его Вронскому. Ей нетолько не хотѣлось ужъ смѣяться, но досадно стало на смѣющуюся Бетси.
— Мужъ? Мужъ[1159] Сафо носитъ за ней плэды и всегда готовъ къ услугамъ. А что тамъ дальше въ самомъ дѣлѣ, никто не хочетъ знать. Знаете, въ хорошемъ обществѣ не говорятъ и не думаютъ даже о нѣкоторыхъ подробностяхъ туалета. Такъ и это.
Анна задумчиво смотрѣла передъ собой и ничего не отвѣчала.
— Я въ счастливомъ положеніи, — уже безъ смѣха продолжала Бетси, отвѣчая, — я понимаю Лизу и понимаю васъ. Я понимаю, что для васъ интересно...
Анна не отвѣчала. Она знала, что Бетси все знаетъ, но до сихъ поръ ничего не было сказано и надѣялась, что и не будетъ сказано.
— Я знаю только то, — продолжала Бетси, — что на одну и ту же вещь можно смотрѣть трагически и сдѣлать изъ нея мученье и смотрѣть просто и даже весело. Можетъ быть, вы склонны смотрѣть слишкомъ трагически.
— Я думаю, теперь не далеко. Это, кажется, Юсуповская дача, — сказала Анна.
— Да, и вы сейчасъ увидите нашего гостепріимнаго хозяина и хозяйку. Вѣдь странное дѣло. Онъ, Роландаки, — продолжала Бетси, чтобы перемѣнить разговоръ, — онъ безъукоризненный человѣкъ — красивъ, уменъ, прекрасно образованъ. Какъ онъ говоритъ по французски, по англійски. Съ такимъ совершенствомъ, что даже гадко. Но что то въ немъ слишкомъ старательное. Видишь, что онъ хочетъ сказать что то умное и такъ послѣдовательно. И это такъ тяжело, когда отвѣчаешь. Мнѣ все кажется, что онъ что то со мной хочетъ сдѣлать. И она такая же. Послѣдній разъ онъ со мной сидѣлъ за обѣдомъ, и я измучалась, такъ что когда послѣ обѣда ко мнѣ подсѣлъ Корнаковъ — ужъ какъ онъ противенъ и глупъ, но такъ мнѣ было натурально и пріятно.
[1160]Въ такихъ разговорахъ они подъѣхали къ обновленному дворцу Роландаки. Новое, полное и не лишенное вкуса великолѣпіе дворца Роландаки[1161] не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія на обѣихъ дамъ. Все это было только такъ, какъ должно было быть. Если и было что нибудь новое, поражающее, какъ хоть бы драгоцѣнный мраморный фонтанъ въ серединѣ двора, то нетолько обѣ свѣтскія дамы, какъ и всѣ свѣтскіе люди, давно уже усвоившіе привычку на все великолѣпное смотрѣть какъ только на самое обыкновенное, но и лакей, соскочившій съ козелъ подъ крытымъ подъѣздомъ, не замѣтилъ ничего особеннаго[1162] ни въ большихъ стеклянныхъ дверяхъ, ни въ шитомъ швейцарѣ, ни въ звонкахъ, давшихъ знать о пріѣздѣ, и появившихся лакеяхъ. Анна еще менѣе могла замѣтить что нибудь, потому что чѣмъ ближе она подъѣзжала къ <дому> Роландаки, тѣмъ она безпокойнѣе становилась. Въѣзжая во дворъ, она выглянула въ окно не для того, чтобы разглядѣть фонтанъ и изъ нетесанных камней (такъ наз. рустикъ) сдѣланныя ограды, но для того, чтобы въ числѣ десятка экипажей разглядѣть знакомую ей тройку въ коляскѣ съ желтой коренной лошадью, которую она знала. Коляска, запряженная потными лошадьми, стояла въ углѣ двора.[1163]
Хозяева оба приняли гостей въ средней залѣ, и хозяйка Г-жа Роландаки пригласила дамъ въ садъ, гдѣ все общество играло въ крокетъ.[1164] Хозяева оба выразили особенное восхищеніе тому, что Анна пріѣхала къ нимъ. И когда Бетси на минутку отстала, она успѣла ей сказать:
— Теперь они хотятъ что то сдѣлать.
Анна слегка улыбнулась, оглядываясь на общество, пестрѣвшее впереди на просторномъ стриженномъ и прикатанномъ крокетъ-граундѣ. Она видѣла уже черную голову и всю сбитую фигуру Вронскаго, который, видимо серьезно увлеченный игрой въ крокетъ (какъ онъ всегда серьезно увлекался тѣмъ, что онъ дѣлалъ), разставивъ ноги и, нагнувшись надъ шаромъ, дѣлая жесты молоткомъ, говорилъ что-то дамѣ въ смѣло элегантномъ туалетѣ, стоявшей подлѣ него. Дама эта была[1165] Баронесса Денкопфъ, одно изъ 7 чудесъ.[1166] Анна, несмотря на волненіе, съ которымъ она подходила,[1167] быстрымъ женскимъ взглядомъ окинула ея туалетъ и туалеты другихъ дамъ и[1168] поняла, какъ обдуманно умны были эти туалеты, исключая слишкомъ ужъ смѣлаго зеленаго платья Астраховой.
Оглянувъ всѣхъ мущинъ, найдя и высочество и знаменитаго сановника, спареннаго съ Лизой Меркаловой, она быстро сообразила[1169] состав и характеръ всего этаго общества, въ которомъ не было ни однаго лишняго случайнаго лица, а были подобраны пары изъ однаго круга, сообразила и свой туалетъ и свое положеніе въ этомъ кругу и рѣшила (все это инстинктивно въ первое мгновеніе появленія своего въ это общество) ту роль, которую она будетъ играть въ этомъ кругу. Она не будетъ (само собой разумѣется) также, какъ эта Фильденкопфъ, подымать ноги [на] скамейку, такъ что видны икры, она не будетъ курить сигару, какъ Лиза Меркалова, не будетъ поминутно бить молоткомъ Костилова [?], <какъ Мальцова>. Весь этотъ genre нейдетъ къ ней, и по характеру ея красоты, и по ея antécédents,[1170] и по ея простому и изящному туалету, но она и не будетъ trouble fête[1171] в этомъ обществѣ.
* № 81 (рук. № 62).
Если она ужъ разъ пріѣхала, она не будетъ нетолько избѣгать Вронскаго, который спаренъ съ нею хозяевами, не будетъ скрывать, что ей пріятно быть съ нимъ, напротивъ, воспользуется случаемъ видѣть и переговорить съ нимъ и ко всѣмъ вольностямъ и новостямъ тона этихъ дамъ будетъ относиться съ добродушнымъ, веселымъ и наивнымъ удивленіемъ. Все это она не столько обдумала, сколько непосредственно почувствовала при первыхъ привѣтствіяхъ кружка, въ который она вступила, и при первомъ обращеніи къ ней Лизы Меркаловой, и это нисколько не мѣшало ей наблюдать то, что одно интересовало ее, — Вронскаго. Увидавъ ее, онъ въ мгновеніе вникалъ въ выраженіе ея лица и тотчасъ же — она видѣла — онъ понялъ, что что-то есть болѣе важное, чѣмъ обыкновенное. Въ лицѣ его выразился только ей одной замѣтный испугъ и та рабская покорность, которая всегда трогала ее. Онъ вмѣстѣ съ другими дамами и мущинами, оставивъ игру, подошелъ къ вновь пріѣхавшей, но долженъ былъ до тѣхъ поръ ждать, пока съ ней говорили дамы и потомъ Высочество съ сановникомъ.
— Прекрасно, вотъ еще двѣ игрицы. Будемъ продолжать, выбирайте, какую вы берете партію.
— К намъ, Анна, — сказала Лиза Меркалова, взявъ ее за руку и увлекая.
— Нѣтъ, къ намъ, — сказалъ Высочество, подавая ей молотокъ.
Анна взяла молотокъ и, улыбаясь, въ нерѣшительности посмотрѣла на Лизу Меркалову.
— Нѣтъ, вотъ что, — сказала Лиза Меркалова, быстрымъ движеніемъ отбросивъ черныя длинныя локоны, перепавшія напередъ шеи. — Мы прогонимъ Мишку — она засмѣялась, — т. e. князя Мокшина, и вы на мѣсто его. Вы не знакомы? — прибавила она, представляя Аннѣ высокаго, бѣлокураго, усталого юношу — Мишку или Князя Мокшина.
Анна и Бетси были приняты въ начатыя партіи, и игра продолжалась еще минутъ 10, во время которыхъ оказалось, что даже и притворяться въ игру болѣе нѣтъ никакой возможности. И въ тоже время какъ игра сама собой потухла, раздался звукъ страннаго колокола, и хозяева предложили мущинамъ взять каждому предназначенную ему даму идти къ столу.
Съ привычкой свѣтской женщины и врожденнымъ тактомъ Анна вполнѣ исполнила взятую ей на себя роль и также мало замѣтила великолѣпіе громоздкой по вышинѣ рѣзной дубовой столовой и великолѣпія цвѣтовъ и серебра, какъ и особеннаго тона всего этаго новаго для нея общества. Она, нисколько не входя въ этотъ тонъ, нетолько не стѣсняла никого, но и возбуждала, какъ она чувствовала несомнѣнно, общее къ себѣ сочувствіе и радушный пріемъ въ этотъ избранный кружокъ. Лиза Меркалова объявила ей прямо, что она влюблена въ нее и что она никому не прощаетъ, но ей прощаетъ ее отсталость и дозапотопную чопорность.
Когда садились за столъ, Лиза Меркалова на весь столъ объявила, что обычай сажать мущинъ рядомъ съ дамами никуда не годится. Потому что мало быть мущиной, надо быть пріятнымъ, и что она хотѣла бы сидѣть рядомъ съ Анной, а черезъ столъ нельзя бранить присутствующихъ, а это самое веселое.
За обѣдомъ было 10 приборовъ. Анну велъ хозяинъ, но все было такъ обдумано, что хозяйка взяла руку Вронского, и Вронскій былъ посаженъ съ другой стороны, рядомъ съ Анной. Но Анна говорила съ нимъ, только когда шелъ общій разговоръ о вчерашнемъ его паденіи. Она не могла говорить съ нимъ; чувствуя по ее робкому взгляду, онъ, какъ будто она словами сказала ему, зналъ, что ему предстоитъ значительный разговоръ, и не смѣлъ начинать никакого другаго, боясь оскорбить ее. Только одинъ разъ, въ концѣ обѣда, когда лакей предлагалъ мозель и хозяинъ былъ занятъ съ своей сосѣдкой на лѣво, онъ налилъ ея бокалъ, а она отказалась, онъ посмотрѣлъ ей прямо въ глаза и проговорилъ:
— Я сдѣлалъ что-нибудь?
— Нѣтъ, — сказала она. — Я рада, что я пріѣхала сюда.
— А я такъ благодаренъ, — сказалъ онъ.
Хозяинъ большую часть обѣда говорилъ съ Анной, и она невольно вспоминала слова Бетси. Разговоръ этотъ былъ ей мучителенъ, ей все казалось, что онъ съ ней хочетъ сдѣлать что-то. Онъ говорилъ умно, хорошо, но говорилъ все со смысломъ, послѣдовательно. И это то было несносно — точно въ изогнутыхъ арабескахъ грубыя прямыя линіи были его умныя рѣчи. Анна отдыхала, прислушиваясь, и иногда вступала въ тотъ вздорный разговоръ, который шелъ напротивъ между блондинкой съ черными глазами Фен[гофъ?] и Корнаковымъ и высочествомъ, въ которомъ не было никакой послѣдовательности, никакого смысла, но отъ котораго было весело.[1172]
Тотчасъ послѣ жаркаго лакей подалъ пепельницы хозяйкѣ и гостямъ. Хозяйка не курила, но, чтобы показать примѣръ, пыхнула пахитоску. Хозяйка предложила и Аннѣ встать. Она встала, и Лиза Меркалова подошла къ ней.
— Мишка, пойдемъ, — сказала она,[1173] — и вы съ нами, Вронской, — обернулась она къ нему и направилась къ освѣщенной гостиной.
Лиза Меркалова[1174] взяла Анну подъ руку.
— Не правда ли, глупо все это? — сказала она и не заботясь о томъ, что хозяинъ былъ въ 2-хъ шагахъ. — И зачѣмъ мы сюда ѣздимъ?
Анна, мигнувъ, показала на хозяина.
— Ахъ, это его дѣло не слушать, когда его бранятъ. Нѣтъ, вы мнѣ скажите, какъ вы дѣлаете, чтобы вамъ не было скучно? Я умираю отъ скуки вездѣ.
— Какъ, напротивъ. Вы — самое веселое общество въ Петербургѣ.
— Ахъ, это такъ говорятъ. Ну вотъ нынче, ну вчера мы были у меня. Все тѣ же. Ну что мы дѣлали? Валялись по диванамъ. Скука. Нѣтъ, какъ вы дѣлаете?
— Я никакъ не дѣлаю, — отвѣчала Анна.
— Надо не бояться скучать, — сказалъ Вронской. — А то это какъ бояться не заснуть во время безсонницы, ни за что не заснешь.[1175]
— Вотъ это умно, — сказала Лиза Меркалова. — Ну, дайте мнѣ папироску. — Миша подалъ ей.[1176] — Сядемъ тутъ, — прибавила она, указывая на диванъ и двери въ цвѣточную. Они[1177] сѣли, но Лиза Меркалова[1178] вдругъ встала. — Мнѣ нужно сказать два слова Мари.
Аннѣ показалось, что она подмигнула ей, уходя. Анна,[1179] ничего не отвѣчая, проводила ее глазами[1180] и тогда медленно обратила глаза на Вронскаго.
Неожиданный, но несомнѣнный успѣхъ, который Анна пріобрѣла въ этомъ обществѣ, невольно польстивъ ей, сдѣлалъ то, что ей, чего она никакъ не ожидала, было весело. Но теперь, когда приближалась минута объясненія, ей стало страшно.
— Я не понимаю этихъ женщинъ, — сказалъ она. — Она хорошая натура, но...[1181]
— Что же? Что? — спросилъ Вронской, стоя передъ ней.[1182]
<Анна поняла, что нельзя было больше откладывать. Она взглянула еще разъ на это твердое, простое, честное и покорное лицо, и всѣ сомнѣнія ея — стыдъ о томъ, что она предлагаетъ ему себя, исчезли для нея.> Она чувствовала, что онъ любитъ ее такъ, какъ нельзя любить больше, <и при свѣтѣ этой любви все тяжелое и мрачное въ ея положеніи потеряло свою значительность.> Она сказала себѣ, что любовь, связывающая ихъ, было одно, оставшееся въ жизни, настоящее, и потому ничто изъ того, что не нарушало эту любовь, а, напротивъ, упрочивало ее, не могло быть не хорошо, и она прямо начала говорить то, что не въ силахъ была сказать вчера.
— Я не сказала тебѣ вчера, — начала она.
Но она поблѣднѣла, сказавъ эти слова, и, увидавъ сообщившійся ему испугъ, остановилась.[1183]
— Что, что? — проговорилъ онъ. — Что же?
— Я не сказала тебѣ вчера, что, возвращаясь домой съ Алексѣемъ Александровичемъ, я объявила ему все.... Сказала, что я не могу быть его женой, что я люблю тебя.
Лицо Вронскаго приняло на одно мгновеніе строгое выраженіе, происходившее отъ первой мысли о неизбѣжности дуэли, пришедшей ему при этомъ извѣстіи.
— Я давно желалъ этаго, — сказалъ онъ,[1184] — это лучше, тысячу разъ лучше. Мнѣ жалко тебя за то, какъ тяжело это было тебѣ.
Онъ говорилъ спокойно, но она замѣтила первое выраженіе строгости на его лицѣ и, объяснивъ его себѣ иначе, мучительно покраснѣла. Какъ ни старалась она себя увѣрить въ томъ, что нѣтъ ничего стыднаго въ томъ, что она сказала, мучительный стыдъ, раскаяніе, сомнѣніе въ немъ овладѣли ею.
— Мнѣ нисколько не тяжело было. Это сдѣлалось само собой, — сказала она раздражительно.
— Я понимаю, понимаю, — говорилъ онъ, стараясь успокоить ее. Я однаго желалъ, я однаго просилъ — разорвать это положеніе и посвятить свою жизнь твоему счастію.
Онъ говорилъ, желая успокоить ее, но стыдъ и сомнѣнія, забравшись въ ея душу, возбуждали въ ней подозрѣнія въ его искренности. Ей казалось, что онъ въ глубинѣ души былъ испуганъ отвѣтственностью, которая ложилась на него, но только изъ деликатности, излишне и неумѣстно, увѣрялъ ее въ желаніи посвятить свою жизнь ея счастію.
— Зачѣмъ ты говоришь мнѣ это? — продолжала она раздражительно перегибая въ быстрыхъ пальцахъ письмо мужа. — Зачѣмъ говорить? Развѣ я могу сомнѣваться въ этомъ? Если бъ я сомнѣвалась... — Она не договорила. — Но что будетъ? Вотъ...
Она подала ему письмо мужа и пристально смотрѣла на него въ то время, какъ онъ опять съ тѣмъ же строгимъ выраженіемъ, какъ и въ первую минуту извѣстія, прочитывалъ внимательно письмо Алексѣя Александровича. Онъ не могъ удержать этаго выраженія лица, вызываемаго имъ всякимъ воспоминаніемъ объ оскорбленномъ мужѣ. Теперь, когда онъ держалъ въ рукахъ его письмо, онъ невольно представлялъ себѣ тотъ вызовъ, который, вѣроятно, нынче же или завтра онъ найдетъ у себя, и самую дуэль, во время которой онъ съ этимъ самымъ холоднымъ выраженіемъ, съ нѣкоторымъ чувствомъ гордаго удовлетворенія, выстрѣливъ въ верхъ, будетъ стоять подъ выстрѣломъ оскорбленнаго мужа.[1185]
Анна читала его мысли по выраженію лица, какъ по книгѣ.
— Ахъ, Боже мой! — сдѣлавъ энергическій жестъ нетерпѣнія, вскрикнулъ почти Вронской. Онъ хотѣлъ сказать, что послѣ неизбѣжной, по его мнѣнію, дуэли это не могло продолжаться, но сказалъ другое: — не можетъ продолжаться это мучительное, унизительное положеніе.
— Для кого унизительное положеніе?
— Для всѣхъ и больше всѣхъ для васъ,[1186] — сказалъ Вронской.[1187]
— Ты говоришь, унизительно... Не говори этаго. Эти слова не имѣютъ для меня смысла теперь, — говорила Анна дрожащимъ отъ волненія голосомъ. — Ты пойми, что для меня, съ того дня, какъ я полюбила тебя, все, все перемѣнилось. Если [бы] ты зналъ, до какой степени перемѣнилось, — сказала она, безъ боли теперь вспомнивъ о своемъ охлажденіи къ сыну. — То, что прежде мнѣ представлялось важнымъ, теперь для меня — ничего. Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя такъ высоко, такъ твердо, что ничто не можетъ быть для меня унизительнымъ. Никакое положеніе. Развѣ я люблю такъ, какъ любятъ эти женщины, для забавы, смѣясь любятъ. Я все отдала... зачѣмъ? я не знаю. Но я не могла иначе, и для меня ничто не можетъ быть унизительнымъ. Я счастлива и горда. Развѣ мнѣ не все равно.[1188] Я нынче утромъ уже уложилась, чтобы уѣхать съ сыномъ. Но онъ не хочетъ отдать сына. Мнѣ все равно. Я буду жить съ нимъ, и это положение не можетъ меня унизить, пока у меня есть твоя любовь.>
Вронской видѣлъ, что она неестественно взволнована. Онъ не понималъ, что это волненіе, эти самонадѣянныя слова были тотъ самый стыдъ, который мучалъ ее и который выражался теперь словами гордости. Онъ, стараясь успокоить ее, оглянулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.
— Но зачѣмъ же жить съ нимъ въ одномъ домѣ? Этаго не будетъ, — сказалъ онъ.
Но опять въ выраженіи его лица была нерѣшительность. Она тотчасъ же замѣтила слѣдъ воспоминаній того, что онъ думалъ о ней утромъ.
«Онъ не думаетъ, что будетъ во вторникъ, когда я должна ѣхать въ Петербургъ. Онъ не говоритъ, что именно надо предпринять, чтобы этаго не было, что мнѣ дѣлать сейчасъ — завтра. Онъ ждетъ чего то».
Онъ цѣловалъ ея руку; она молча посмотрѣла на его голову, и слезы вступили ей въ глаза.
— А если бы и было! — продолжала она, прерываясь, чтобы удержать эти слезы.[1189] — Развѣ есть что нибудь унизительнаго въ томъ...[1190]
— Разумѣется, — повторилъ онъ, стараясь только успокоить ее.[1191]
— Разумѣется, разумѣется, что я погибшая женщина, я любовница твоя и прошу тебя оставить меня. Чего же тутъ стыдиться, чему гордиться. — И она зарыдала. — Боже мой, Боже мой! Какъ низко я упала.
Что то поднималось въ его носѣ, защипало ему въ носу. Онъ былъ тронутъ, онъ готовъ былъ плакать и потому не сейчасъ могъ отвѣтить. Она тихо плакала.
— Зачѣмъ медлить, — сказалъ онъ, — оставь его. Завтра я пріѣду и поѣдемъ. Мнѣ все равно.
Нѣтъ, это было не то, чего она желала. Ея предчувствіе, что все останется по старому, не обмануло ее. Она покачала головой.
— Я знаю, что ты все сдѣлаешь, но это нельзя. Я сама поѣду къ нему.[1192] Надо ждать, придетъ время, и тогда я скажу тебѣ.
Вронской довезъ ее до дома, и на этомъ они разсталиcь.
* № 82 (рук. № 50).
И не думая, не спрашивая себя, какъ и что, она, не чувствуя своихъ ногъ, невольно быстро-быстро пошла къ нему. Онъ не слыхалъ ея словъ, она сказала: «Они рады». Онъ даже не видѣлъ ея. Онъ видѣлъ только ея глаза, широко раскрытые, испуганные той радостью любви, которая наполняла ее всю. Глаза эти близились, близились.[1193] Она шла все скорѣе, скорѣе и остановилась только подлѣ самаго его и все такъ поглядѣла на него снизу; руки ея поднялись и опять опустились. Она сдѣлала все, что могла; она подбѣжала къ нему и отдалась вся, робѣя и радуясь. Онъ[1194] обнялъ ее и прижалъ губы къ ея рту, искавшему его поцѣлуя. Они ничего, ни одного слова не сказали другъ другу.
* № 83 (рук. № 61).
Слѣдующая по порядку глава.
Вронской на другой день послѣ скачекъ все утро провелъ дома, занимаясь приведеніемъ въ порядокъ своихъ бумагъ и писемъ. Онъ рвалъ и бросалъ подъ столъ и самъ писалъ. Петрицкій зналъ это его періодически находившее на него разъ въ мѣсяцъ или два настроеніе, которое самъ Вронскій называлъ faire la lessive,[1195] и не мѣшалъ ему, потому что въ этомъ духѣ Вронскій бывалъ[1196] сердитъ.[1197] Но за то послѣ этаго Вронскій бывалъ хотя и мало разговорчивъ, особенно спокоенъ и ясенъ.[1198] «Точно послѣ бани», какъ говорилъ Петрицкій.
Въ такомъ состояніи духа[1199] находился Вронскій въ серединѣ дня послѣ скачекъ.[1200] Онъ съ вечера еще рѣшилъ послѣ сильнаго волненія, произведеннаго неудачей скачекъ, погибелью Фру-Фру и тревожнымъ свиданіемъ съ Анной, что завтра необходимо faire la lessive, или учесться, какъ онъ это называлъ по русски, и потому съ утра только одѣлся въ китель (онъ никогда не носилъ халата) и принялся за работу, расчитывая обриться, облиться по обыкновенію ледяной водой уже по окончаніи стирки. Онъ давно уже не дѣлалъ этой стирки, и потому многое было запущено, и ему предстояло много труда.
Всякій человѣкъ, зная до малѣйшихъ подробностей всю сложность условій, его окружающихъ, невольно предполагаетъ, что сложность этихъ условій и трудность ихъ уясненія есть только его личная случайная особенность, и никакъ не думаетъ, что другіе окружены такою же сложностью своихъ личныхъ условій, какъ и онъ самъ. Не разъ въ серединѣ своихъ занятій Вронскій съ завистью думалъ о томъ, какъ легко было жить Петрицкому или его брату, студенту Петербургского университета, ходившему къ нему. «Ходитъ на лекціи, толкуетъ разный ученый вздоръ, и все такъ ему легко и просто», думалъ онъ, точно также, какъ думали о немъ знавшіе его. «Какія ему трудности и заботы съ 100 тысячами дохода, съ связями въ самомъ высшемъ свѣтѣ и съ полной свободой исполнять всѣ свои прихоти»? Такъ думали о немъ. Онъ же одинъ зналъ, какъ не безъ труда и энергіи доставалась эта жизнь, которая казалась столь легкою.
Усложненіе его жизни казалось бы еще труднѣе для всякаго другого, неимѣющаго такого рѣшительнаго и цѣльнаго характера, какъ онъ. Для него въ томъ мірѣ, въ которомъ онъ жилъ, не было сомнѣній насчетъ того, что хорошо и что дурно, и еще менѣе могло быть сомнѣній насчетъ того, какъ ему поступить, когда онъ зналъ, что хорошо, что дурно. Онъ безъ малѣйшаго колебанія всегда поступалъ такъ, какъ было должно. И потому никогда не колебался и не находился въ нерѣшительности. Хотя тотъ кодексъ правилъ, который несомнѣнно опредѣлялъ, что хорошо и что дурно, и былъ очень ограниченъ, касался только одной маленькой части условій жизни, кодексъ зато былъ несомнѣненъ, и Вронскій никогда почти не выходилъ изъ условій, опредѣляемыхъ имъ.[1201] Въ кодексѣ этомъ въ числѣ нѣкоторыхъ[1202] безсмысленныхъ,[1203] неопровержимыхъ правилъ [были], напримѣръ, правила о томъ, что портному можно не платить долга, а карточный долгъ, хотя бы и выигранный шулеромъ, священенъ и что ни въ какомъ случаѣ непозволительно лгать, кромѣ какъ для того, чтобы обмануть мужа; были и высокія правила — что непростительно льстить высшимъ и быть грубымъ съ низшими.[1204] Главное же было хорошо то въ этихъ правилахъ, что они были несомнѣнны и определяли всѣ условія жизни. Теперь эти правила опредѣляли и его отношенія къ Аннѣ, къ обществу и къ ея мужу.
Отношенія внѣшнія его къ ней были ясны. Она была женщина порядочная, женщина, подарившая свою любовь, и она, какъ такая, была для него священна. Онъ далъ бы отрубить себѣ руку, прежде чѣмъ позволить себѣ словомъ, намекомъ не то что оскорбить, а не выказать, несмотря на то что она его любовница, величайшаго уваженія, на которое только можетъ расчитывать женщина.
Отношенія къ обществу тоже были ясны. Они могли знать, подозрѣвать это, но никто не долженъ былъ смѣть говорить. Въ противномъ случаѣ опять онъ готовъ былъ требовать удовлетворенiя.
Отношенія къ мужу были проще и яснѣе всего. Если мужъ подозрѣвалъ, зналъ, вообще былъ недоволенъ, то отъ него зависѣло объявить это и требовать удовлетворенія; на это Вронскій давно былъ готовъ также, какъ всегда былъ готовъ подставить свой лобъ подъ пулю для огражденія своей чести.
Правда, были новыя, внутреннія отношенія между имъ и ею, обозначавшіяся послѣднее время: вчера только она объявила ему, что она беременна. Но эти новыя отношенія не были опредѣлены въ тѣхъ правилахъ, и онъ чувствовалъ, что[1205] его отношенiя съ ней вводятъ его въ новый міръ, гдѣ окажется недостаточность этихъ правилъ. Но во всю свою жизнь онъ ни разу не поступалъ дурно и былъ увѣренъ, что и въ этомъ случаѣ, когда дѣло придетъ къ рѣшенію, онъ поступитъ какъ должно. Въ первую минуту, когда она объявила ему о своемъ положеніи, сердце его подсказало ему требованіе оставить мужа. Оставить мужа значило соединиться съ нимъ. Онъ сказалъ это, слѣдовательно, онъ долженъ былъ это исполнить, по крайней мѣрѣ быть готовымъ къ исполненію. Съ этою цѣлью онъ рѣшилъ,[1206] что возьметъ отпускъ и если откажутъ, то выдетъ въ отставку, и написалъ въ канцелярію, чтобы ему написали прошеніе. Но кромѣ этаго у него было много денежныхъ и семейныхъ дѣлъ, которыя надо было привести въ порядокъ. Денежныя дѣла занимали Вронского только въ томъ отношеніи, что онъ разъ, еще въ корпусѣ, испытавъ униженіе вслѣдствіи необходимости въ деньгахъ, съ тѣхъ поръ, несмотря на свое полное равнодушіе къ деньгамъ, велъ свои дѣла такъ, чтобы никогда впередъ не быть въ нуждѣ занимать или отказывать въ деньгахъ, которыя онъ долженъ.
У обоихъ братьевъ было большое состояніе по отцу и по матери. Мать не отдала своего состоянія, a имѣнье отца братья не дѣлили, и Алексѣй Вронскій уступалъ все женатому брату, у котораго были долги. Мать высылала Алексѣю 20 тысячъ, и онъ всѣ ихъ проживалъ, не дѣлая долговъ. Теперь вмѣшательство матери[1207] въ его жизнь показало ему, что онъ былъ отъ нея въ зависимости. И этаго онъ не хотѣлъ. Онъ никогда не отдавалъ брату свою долю состоянія отца, но только не бралъ ее. Теперь же ему нужна была.[1208] Онъ зналъ брата, что, несмотря на его распущенную жизнь и ограниченность, ему стоило намекнуть брату, и онъ будетъ дѣлать долги, но не возьметъ рубля брата. Лишить брата ему не хотѣлось, и потому онъ рѣшилъ урѣзать свои расходы и взять у брата не половину 100 тысячъ, но 25 тысячъ, которыя ему были необходимы.[1209] Одинъ изъ главныхъ расходовъ была скаковая конюшня. Онъ рѣшилъ послѣ вчерашней неудачи уничтожить ее. Онъ написалъ письма брату и матери, пересмотрѣлъ счеты, приготовилъ по нимъ деньги, счелъ, что осталось, потомъ собралъ изъ бумажника записки Анны, сжегъ ихъ и, поглаживая усы и неподвижно глядя передъ собой, всталъ съ тѣмъ спокойнымъ и яснымъ выраженіемъ, которое Петрицкій называлъ «изъ бани». Все было, какъ и послѣ прежнихъ счетовъ, чисто и ясно. Онъ побрился, взялъ ледяную ванну и, обрызгавъ рѣдѣющіе волосы и усы брильянтиномъ, крутилъ ихъ, оглядывая себя. Его рука, поросшая волосами, его небольшая нога въ тонкомъ сапогѣ, его мышцы груди, рукъ, ногъ, которыя онъ чувствовалъ, радовали его. Онъ любилъ себя, свое тѣло, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ любимъ.
Слѣдующая по порядку глава.
Послѣ обѣда въ артели онъ почувствовалъ такое желаніе видѣть ее, что велѣлъ осѣдлать лошадь, чтобы ѣхать къ ней, когда ему принесли записку.
* № 84 (рук. № 56).
Послѣ 2-го дня маневровъ полкъ, въ которомъ служилъ Вронской, сталъ на назначенное мѣсто подлѣ деревни Татищевой. 2-ой день маневровъ кончился[1210] благополучно и весело. Весь полкъ получилъ благодарность и награду.[1211] Много было хлопотъ, споровъ[1212] и толковъ о справедливости или несправедливости поступка молодаго блестящаго князя Бѣлевскаго, только что пріѣхавшаго изъ Средней Азіи и отличившагося съ своимъ отрядомъ. Одни говорили, что Бѣлевскій былъ не правъ, пустивъ свою кавалерію по картофелю, который считался неприступной мѣстностью; другіе говорили, что, правъ или неправъ, Бѣлевской обошелъ отрядъ Князя и лихо отразилъ отступленіе. Вронскій также серьезно, какъ онъ игралъ въ крокетъ, скакалъ на скачкахъ, хотя и никогда не сердясь, также серьезно принималъ интересы маневровъ. Онъ былъ въ обойденномъ отрядѣ и былъ на сторонѣ тѣхъ, которые говорили, что Бѣлевской не имѣлъ права обойти по картофелю. Но, разумѣется, онъ не сердился и не досадовалъ, тѣмъ более на Бѣлевскаго, который былъ одинъ изъ самыхъ близкихъ ему людей. Онъ съ нимъ росъ почти и, несмотря на то, что честолюбивый, блестящій Бѣлевской далеко обогналъ его по службѣ и былъ уже генералъ, и не простой, Вронскій любилъ и уважалъ его. Онъ не видалъ Бѣлевскаго съ тѣхъ поръ, какъ онъ вернулся изъ Средней Азіи (2 недѣли тому назадъ), и то обстоятельство, что Бѣлевской не побывалъ еще у него, не прислалъ ему сказать ничего, еще болѣе заставило Вронского въ спорахъ, которые происходили между товарищами о справедливости и несправедливости Бѣлевскаго, становиться на его сторону. Неравенство положенія его — Вронскаго, Ротмистра въ полку и Бѣлевскаго, блестящаго Генерала, про котораго всѣ уже говорили, что это будущая сила въ Россіи, заставляло Вронскаго чувствовать страхъ за то, чтобы не подумали, что онъ завидуетъ своему товарищу, и вслѣдствіи этаго заставляло его быть особенно осторожнымъ всякій разъ, какъ рѣчь заходила о Бѣлевскомъ. И потому ему особенно пріятно было, когда Бѣлевской тотчасъ послѣ маневровъ нашелъ его. Бѣлевской былъ также еще болѣе дружелюбенъ, чѣмъ прежде. И они долго говорили. Бѣлевской уговаривалъ его бросить полкъ и идти къ нему.
— Намъ нужно людей, какъ ты.
— Новое направленіе.
— Не направленіе, а людямъ нужно жалованье.
— Я не честолюбивъ, — отвѣчалъ Вронской. — Моя мечта — спокойствіе.
— Женщины, моя душа, — онѣ губятъ все. И отдавай любовь свою, но не всего себя.
— Я не знаю.
— Ну, вотъ постойте, — вступился полковой командиръ. — Нѣтъ, братъ, ты не правъ.
И пошелъ кутежъ.
Полковой командиръ, и всегда веселый, особенно развеселился въ нынѣшнюю ночь.
У большаго, ярко горѣвшаго, костра съ смоляными бочками стояли, чередуясь, пѣсенники и музыканты. За большимъ столомъ, около котораго сновали лакеи въ бѣлыхъ галстукахъ, фракахъ и большихъ сапогахъ, сидѣли офицеры своего и чужаго, сосѣдняго полка за шампанскимъ, окончивъ обѣдъ.[1213]
— Честуновъ! — крикнулъ полковой командиръ.
Изъ темноты вышелъ молодчина солдатъ съ ложками въ рукахъ съ краснымъ сіяющимъ лицомъ.
— Въ магазинѣ, столики. Веселѣй, да хорошенько!
— Слушаю, ваше сіятельство!
Полковой командиръ и офицеры за нимъ подошли къ кругу пѣсенниковъ. Честуновъ, припѣвая безсмысленно-неприличные слова пѣсни на плясовой голосъ, вертѣлся въ яркомъ свѣтѣ костра.
Одинъ изъ гостей офицеровъ, очень пьяный, пошелъ плясать. Полковой командиръ не утерпѣлъ и, схвативъ фуражку солдата, накинулъ ее на бекрень и, подпершись и потопывая ногой, вошелъ въ кругъ.
Вронскій, какъ и всегда пившій много, но нисколько не пьяный, стоялъ тутъ же, улыбаясь глазами, когда къ нему подошелъ его нѣмецъ лакей съ запиской.
— Извощикъ пріѣхалъ и велѣлъ сейчасъ передать вамъ.
Это была записка Анны:
«Мнѣ необходимо васъ видѣть сейчасъ же.
А.»
— Гдѣ извощикъ? — спросилъ Вронскій.
— За коновязью.
— Куда ты, Вронскій? Постой. Ты долженъ плясать. Держите его.
— Нѣтъ, мнѣ надо. Вахмистръ, — крикнулъ уходя.
Съ запотѣвшей головой извощикъ въ своей сборчатой юбкѣ объяснилъ, что барыня ждетъ за выѣздомъ у шоссейной заставы.
— Одна?
— Одна, она вошла въ домъ.
Вронскій облился водой, переодѣлся и вскочилъ въ карету.
Первую минуту ему было непріятно полученіе ея письма. Но это было только въ первую минуту. Его жизнь раздѣлялась на двѣ рѣзко противоположныя части. Одна была жизнь съ нею, жизнь любви, нѣжности и вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь, угрожавшая постоянно тревогой и волненіями. Въ первое время своей связи съ нею онъ надѣялся избавиться отъ этихъ тревогъ и волненій, столь непривычныхъ ему и несвойственныхъ его характеру. Но попытки его и рѣшеніе бросить службу и увести ее остались тщетными. И онъ убѣдился, что это нельзя. Тревожиться же онъ не любилъ и не умѣлъ: это было противно его характеру, и онъ успокоился на томъ, что есть, только стараясь устраиваться такъ, чтобы брать изъ этой половины жизни какъ можно больше любви и счастья и какъ можно меньше тревогъ. Онъ рѣшилъ не возвращаться больше къ предложенію оставить мужа и пользоваться тѣмъ, что есть. И онъ чувствовалъ полное счастье и удовлетвореніе въ этой половинѣ жизни.
Другая часть его жизни, совершенно отдѣльная, была его жизнь въ полку, въ свѣтѣ, въ конюшняхъ — жизнь простыхъ, здоровыхъ физическихъ удовольствій и упражненій. Облиться холодной водой, съѣсть съ апетитомъ бифштексъ, проѣхаться, проголодаться и съѣсть отличный обѣдъ съ отличнымъ виномъ, поболтать съ товарищами,[1214] полежать, взять ванну, поужинать и заснуть здоровымъ сномъ — была другая жизнь, особенно пріятная тѣмъ, что она не имѣла ничего общаго съ первой.
Теперь письмо ее и ея мужа вызывало вновь всѣ тревоги, которыя было улеглись на время. Но въ головѣ Вронскаго всегда все укладывалось ясно и просто. «Она объявила мужу — прекрасно. Это давно пора было сдѣлать. Мужъ чувствуетъ себя оскорбленнымъ и, вѣроятно, вызоветъ меня. И это прекрасно. Il est le bien venu.[1215] Я сдѣлаю то, что должно, — думалъ Вронскій, — а будетъ, что будетъ. Это одна сторона вопроса. Другая — какія теперь будутъ наши отношенія. Если она согласится оставить мужа и этаго мальчика съ голубыми глазами, въ которомъ не понимаю, что она можетъ видѣть, то, разумѣется, я брошу службу, которая и такъ мнѣ надоѣла, и мы уѣдемъ за границу. Она одна изъ тѣхъ женщинъ, съ которыми не можетъ наскучить. Да и что бы не было, я долженъ не оставить ее. Если же нѣтъ, то она останется съ мужемъ, и наши отношенія останутся прежнія, и тѣмъ лучше. Бѣльскій правъ, есть что то страшное, безповоротное въ сожительствѣ съ женщиной.[1216] Fais ce que dois, advienne ce que pourra».[1217]
И то, что долженъ былъ дѣлать въ этомъ случаѣ Вронскій, было ему такъ ясно и просто, что ему нисколько не страшно было, и онъ ѣхалъ въ самомъ веселомъ и спокойномъ расположеніи духа. Сидя въ просторной каретѣ и поднявъ ноги съ шпорами къ окнамъ, онъ улыбался самъ съ собою. Ему радостно было чувствовать свѣжій ночной воздухъ, ласкавшій его разгоряченное лицо, чуять здоровье и энергію всего своего сильнаго тѣла и спокойствіе души. Онъ закинулъ одну ногу на колѣно другой, взялъ[1218]
* № 85 (рук. № 56).
Что то во всемъ тонѣ его сказало ей о спокойномъ его, удовлетворенномъ счастіи.[1219]
— Къ лучшему, — повторила она, — если бы ты зналъ, какъ я страдала, а ты спокоенъ....
— Я? я жду что ты рѣшишь? Ты мнѣ не велѣла говорить, но ты знаешь мои желанья — одни.
— Неправда, ты не желаешь, ты не чувствуешь за меня, — вдругъ съ слезами въ голосѣ вскрикнула она.
Вронскій чувствовалъ, что она хотѣла, чтобы онъ былъ взволнованъ, а онъ на бѣду чувствовалъ себя спокойнымъ. Но[1220] онъ притворился взволнованнымъ.
— Я умоляю и умоляю тебя оставить его. Мы такъ будемъ счастливы, — сказалъ онъ, обнимая ее и пригибая къ себѣ.
Хотя онъ искренно думалъ и желалъ то, что говорилъ, тонъ его рѣчи былъ притворно взволнованъ, и она весь смыслъ его рѣчи обвинила въ притворствѣ.
— Ахъ, ради Бога не говори неправды. Я за искренность люблю тебя. Мнѣ дороже всего искренность. Лжи мнѣ и тамъ довольно. Ты не хотѣлъ этого сказать. Ты думалъ, что я вызываю тебя на это.
— Анна, за что ты оскорбляешь меня.....
— Нѣтъ, нѣтъ! Я не хотѣла и не хочу этаго. Пойми и знай... Я однаго хочу — твоего счастія....
[1221]Кучеръ обернулся, спросивъ куда ѣхать.
— Все прямо, все прямо, — сказалъ Вронскій.
Но рѣчь ея была прервана, и потому ходъ мысли прервался тоже — не прервался ходъ чувства. Чувство ея было оскорбленіе за то, что она хотѣла вызвать его на предложеніе оставить мужа, любовь къ нему, для выраженія которой она рада была найти случай жертвы и желаніе обмануть свою гордость и доказать себѣ, что она не въ унизительномъ положеніи, а въ такомъ, которымъ она гордится.
— Да, я говорила.... — продолжала она, — что я не хочу отъ тебя жертвъ.
— Да не жертвы.
— Измѣнить положенья нельзя и не нужно. Теперь, я вижу, я должна ѣхать къ нему.
— Да, но развѣ можно... развѣ тебѣ не уни...
— Оставь мнѣ знать, что для меня унизительно и не унизительно. Ты пойми, что моя любовь къ тебѣ не можетъ уронить меня никакъ, что я выше, чище стала, что я не то, что эти. Я не любовница твоя. Я не могу стыдиться. Я... горжусь собой и тобой, — сказала она, и слезы стыда въ противность ея рѣчи наполнили ей глаза — голосъ дрогнулъ, и она замолчала.
* № 86 (рук. № 62).
Слѣдующая по порядку глава.
Вернувшись домой, Вронской нашелъ каретнаго извощика въ юбкѣ со сборками, который объяснилъ, что барыня сѣла къ нему на перекресткѣ у версты и, доѣхавъ до Юсовскаго сада, велѣла ѣхать сюда, передать записку и привезти барина.
Въ письмѣ было 6 словъ: «Мнѣ необходимо васъ видѣть сейчасъ. А.»
Вронской сѣлъ въ карету и велѣлъ ѣхать какъ можно скорѣе.
Онъ спрашивалъ себя о причинѣ, по которой ей нужно было его сейчасъ видѣть и вслѣдствіи которой она такъ неосторожно вызвала его на свиданье, но мысли его не могли останавливаться на этомъ. Обычная причина свиданій представлялась его воображенію, и ожиданіе всегда новаго счастія охватывало его все съ большей и большей силой, чѣмъ ближе онъ подъѣзжалъ къ Юсовскому саду. Смутное сознаніе той ясности, въ которую были приведены его дѣла, смутное воспоминаніе о дружбѣ и лести Серпуховского-Машкина, считавшаго его нужнымъ человѣкомъ, чувство физическаго возбужденія и силы и ожиданіе свиданья — все соединялось въ одно общее впечатлѣніе радостнаго чувства жизни. Тотъ самый ясный, холодный августовскій день, который такъ безнадежно дѣйствовалъ на Анну, казался ему прелестнымъ. Онъ безсознательно любовался рѣзкими очертаніями обмытой зелени, построекъ и длинныхъ, косыхъ тѣней отъ заходящаго солнца.
Издалека еще онъ увидалъ у калитки сада стройную фигуру женщины, одѣтой въ черное, и по тому чувству радости, которое охватило его сердце, онъ не могъ не узнать ее. Но когда онъ подъѣхалъ, фигуры не было. Онъ выскочилъ изъ кареты, подошелъ къ калиткѣ и увидалъ ее. Она шла ему на встрѣчу по дорожкѣ сада. На ней была знакомая ему черная шляпа съ вуалемъ, покрывавшимъ лицо. Онъ обхватилъ радостнымъ взглядомъ линіи плечъ, полныхъ и стройныхъ, обрисовывавшихся изъ подъ тонкаго ватерпруфа, и упругую походку сильныхъ и стройныхъ ногъ; и тотчасъ же какъ электрическій токъ пробѣжалъ по его тѣлу: онъ радостно почувствовалъ всего себя отъ движенія ногъ легкихъ то положеніе губъ, которыя, какъ бы щекочимыя чѣмъ то, складывались какъ то иначе.
Она быстро подошла къ нему, пожала его руку и откинула вуаль. Она оглядѣла его. И на минуту остановилась въ нерѣшительности, куда идти: къ каретѣ или въ садъ. Вдругъ она улыбнулась и двинулась назадъ, въ садъ.
Она сѣла на скамейку и молча смотрѣла на него. Чѣмъ больше она смотрѣла на него, тѣмъ больше проходили ея сомнѣнія и страхъ. Она не понимала ужъ теперь, чего она могла стыдиться.
* № 87 (рук. № 65).
Проѣхавъ 100 верстъ въ тарантасѣ, Левинъ радъ былъ отдохнуть у пріятеля и на охотѣ отъ неопредѣленности своего душевнаго состоянія. Но всѣ впечатлѣнія его путешествія и пребыванія у его пріятеля съ особенной силой отражались на немъ, какъ бы нарочно больше и больше поддерживая то недовольство своимъ дѣломъ, отъ котораго онъ уѣхалъ.
На половинѣ дороги у богатаго дворника, у котораго онъ кормилъ, онъ былъ пораженъ благоустройствомъ довольно большаго хозяйства, которое велось дворникомъ. Дворникъ мужикъ снималъ 300 десятинъ помѣщичьей земли, сѣялъ 40 десятинъ картофеля и 50 десятинъ огорода, завелъ вѣтряную мельницу, торговалъ скотиной и въ 7 лѣтъ, во время которыхъ Левинъ не былъ у него, сдѣлался богатымъ человѣкомъ. Но не богатство, а благоустройство его хозяйства въ сравненіи съ своимъ поразило Левина. И картофель былъ уже 3 раза пропаханъ и цвѣлъ, хлѣба были лучше, чѣмъ у Левина, пахота паровая начата и отлично сработана. Гумно, садъ (все это обходилъ Левинъ) — все было акуратно, хозяйственно прибрано. При немъ на крупныхъ лошадяхъ пріѣхали въ ситцевыхъ рубахахъ 2 сына, племянники и работники къ обѣду. Левинъ за чаемъ сталъ жаловаться хозяину на неурядицу и невыгоду своего хозяйства.
— Съ работниками гдѣ же вести дѣла, — сказалъ старикъ. — Мы сами все. Ну, и идетъ кое-какъ.
— А работники вѣдь тоже есть.
— Да что работники. Вѣдь наше дѣло мужицкое. Вотъ того малаго выкупили изъ солдатства. Такъ безъ расчету живетъ. Ну, a тѣ тоже глаза да глаза. Плохъ — и вонъ. Мы и своими управимся.
«Возможно, стало быть, но не какъ у насъ», думалъ Левинъ.
Еще сильнѣе подѣйствовалъ на Левина послѣдній разговоръ, который онъ имѣлъ съ своимъ пріятелемъ, при которомъ чуть не поссорился съ нимъ.
* № 88 (рук. № 67).
Свентищевъ былъ умный и хорошій человѣкъ, однихъ лѣтъ съ Левинымъ, но женатый и вполнѣ твердый и опредѣлившійся человѣкъ. Онъ жилъ то за границей, то въ деревнѣ, гдѣ у него шло большое и на усовершенствованную ногу заведенное хозяйство, которое онъ любилъ, но на которое постоянно жаловался.
Левинъ заговорилъ съ нимъ послѣ охоты о хозяйствѣ дворника и своемъ. Свентищевъ изложилъ ему свой смѣлый взглядъ.
— Хозяйство у насъ разрушено, — сказалъ онъ, — освобожденіемъ. Вы понимаете, что когда я былъ маленькій и боялся говорить свое мнѣніе, я тоже кричалъ, какъ и всѣ: «Свободный трудъ, свободный трудъ!» Но теперь я вижу, что это. Свободный трудъ бываетъ только на самой низшей ступени образованности, у самоѣдовъ, или, можетъ быть, будетъ на самой высшей, у коммунистовъ, но у насъ онъ не мыслимъ. Самоѣдъ больше ничѣмъ не умѣетъ жить, какъ кормить олѣней и бить чекушкой тюленей. Тамъ можетъ быть свободный трудъ. Но у насъ въ хозяйствѣ каждая ступень усовершенствованія требуетъ новыхъ орудій, къ которымъ онъ имѣетъ отвращеніе, и я долженъ принуждать его. Прежде я принуждалъ его палкой, и было прекрасно, а теперь хитростью, ростовщичествомъ [1 неразобр.], это труднѣе, и мы всѣ должны спускать уровень хозяйства или страшными усиліями поддерживать его, что я и дѣлаю. Мужикъ дикій, онъ ненавидитъ все образованное. Онъ нарочно все переломаетъ. — И Свентищевъ съ желчью и злобой разсказалъ случай порчи умышленно и вреда. — Одно средство, что ихъ порютъ въ Волостномъ Правленіи. Я этимъ держусь.[1222]
— Но отчего же у дворника идетъ?
— Оттого что онъ плутъ.
— Но, стало быть, у насъ не можетъ идти безъ поротья, ростовщичества?
— Не можетъ.
— Такъ лучше бросить.
— Нѣтъ, надо биться. Онъ сломаетъ, я починю и заставлю. Отвратительный народъ!
— Но развѣ вы не думаете, что такое дѣло, которое каждый день идетъ дурно, что такое дѣло само въ себѣ дурно?
— Не дурно, а благо. Картофель, соху — все ихъ выучили. А чтобы учить, надо власть.
Споръ этотъ особенно сильно подѣйствовалъ на Левина. Когда онъ подумалъ, что онъ самъ въ томъ самомъ положеніи, которое такъ противно ему показалось въ Свентищевѣ, онъ рѣшилъ, что ни за что не станетъ вновь въ это положеніе.
Вернувшись въ свою комнату и перебирая вновь въ головѣ весь споръ, ему пришли[1223] аргументы, которые онъ долженъ бы былъ сказать ему. Онъ долженъ былъ сказать ему, что для того, чтобы поднять богатство края, надо устроить рабочую силу такъ, чтобы она имѣла интересъ въ работѣ, какъ племянники у дворника, именно ту силу, которую во всѣхъ руководствахъ сельскаго хозяйства забываютъ. И эта сила можетъ быть удесятеряна, когда вѣрно направлена. «Разумѣется, это не комунизмъ, — сказалъ себѣ Левинъ, давно ужъ обдумавшій его и отвергшій, — но только такое направленіе силъ въ сельскомъ хозяйствѣ, въ земледѣліи. Оно возможно, потому что безъ него нейдетъ. Это я опытомъ знаю. Но какъ? Да, я долженъ былъ сказать ему: сочтите все, что вы получаете. Сочтите, что вы платите рабочимъ силамъ, вычтите. И потомъ представьте, что силы направлены, какъ у дворника. Вы получите вдвое и, раздѣливъ пополамъ, половину рабочей силѣ, разность эта будетъ больше, и рабочимъ больше».
Мысль эта привела Левина въ такой восторгъ. Всѣ неясности изчезли. Хозяйство получило для него удесятеренную прелесть и смыслъ жизни. Онъ не поѣхалъ въ [1 неразобр.] болото на другой день, a рѣшилъ ѣхать домой скорѣе, пока не не посѣяно озимое. У него былъ планъ, который онъ предложитъ мужикамъ. Опять онъ съ новыми мечтаніями, опредѣлившимися во время поѣздки, подъѣзжалъ къ Покровскому.
* № 89 (рук. № 68).
Левинъ заговорилъ съ нимъ послѣ охоты о хозяйствѣ дворника и о своемъ.
— Вѣдь я въ своемъ хозяйствѣ не невозможнаго искалъ. Я только желалъ того, что видѣлъ у этаго дворника мужика. Онъ снимаетъ и пашетъ 300 десятинъ, и надо видѣть, до чего всѣ поля хорошо, во время и разумно обработаны. У меня еще картофель ни разу не паханъ, а у него уже три раза пропаханъ и цвѣтетъ. У меня скотина худа и падаетъ — у него крупныя, превосходныя лошади, и сбруя и телѣги, и все крѣпко, ново, какъ у меня никогда не бываетъ.
— Да, но вы теперь живете въ деревнѣ и все завели, купили, устроили. А потомъ черезъ три мѣсяца все это вамъ надоѣстъ, и вы уѣдете за границу и все бросите. А безъ васъ телѣги изрубятъ на дрова, сбрую порвутъ и свяжутъ веревками, скотину заморятъ и все разрушатъ. А дворникъ вашъ всю жизнь изо дня въ день сидитъ въ своей благоустроенной избѣ и смотритъ за своимъ хозяйствомъ. А кто его работники? Не тѣ, которые нанимаются у насъ и только думаютъ, какъ бы поменьше сдѣлать, а работники его все тѣ же хозяева-сыновья, племянники, которые вмѣстѣ съ народомъ на работѣ и дома за столомъ. Да и при мнѣ вернулись съ поля его два сына и племянникъ и, какъ только отпрягли лошадей, всѣ вмѣстѣ сѣли обѣдать, и сама хозяйка имъ собрала обѣдъ. И я самъ одно время готовъ былъ вести жизнь этаго дворника, но все шло не такъ, и ни мнѣ не было выгоды отъ этаго сближенія съ рабочими, ни они не были довольны.
Свентищевъ изложилъ Левину свой смѣлый взглядъ на хозяйство.
* № 90 (рук. № 68).
Свентищевъ осадилъ его указаніемъ на огромную литературу по этому вопросу, но только поверхностное знаніе этой литературы не смущало его — онъ былъ увѣренъ, что тамъ, въ этой литературѣ, нѣтъ того, чего онъ ищетъ. Если бы было, онъ еще тогда, читая статью объ этомъ, углубился бы въ нее. Но его интересовалъ опять таки самъ Свентищевъ: какъ онъ, знающій всю эту литературу, смотритъ на все это, связываетъ свою жизнь съ этими вопросами.
Какъ только онъ остался съ нимъ одинъ въ огромномъ [кабинетѣ], обставленномъ шкапами съ книгами и съ столомъ и стойками, подраздѣленными ярлыками различнаго рода дѣлъ, онъ опять возобновилъ интересовавшій eго разговоръ.
Свентищевъ сидѣлъ въ качающемся креслѣ и съ большимъ знаніемъ дѣла разсказывалъ про новую школу художниковъ въ Россіи, которая очень была интересна, по его словамъ.
* № 91 (рук. № 69).
— Да вотъ ведемъ же мы свое хозяйство безъ этихъ мѣръ, — сказалъ[1224] Свіяжскій, — я, Левинъ, они.
— Ведемъ, это правда, — сказалъ Левинъ, не знаю, выгодно ли. Я признаюсь, что точно также не вижу никакого выхода. Вести усовершенствованное, простое и разумное, не хищническое хозяйство нѣтъ возможности, я также пришелъ къ этому.
— Вотъ что истинно, отдать въ аренду — это можно, но погубить землю, богатство государства уменьшить. И такъ ужъ большую долю урѣзали.
Свентищевъ все также[1225] равнодушно смотрѣлъ на помѣщика, какъ будто онъ зналъ все, что онъ скажетъ, и не считалъ нужнымъ его оспаривать. Но Левина все болѣе и болѣе интересовалъ помѣщикъ, и хотѣлось его вызвать на разъясненіе.
— Чѣмъ же? — спросилъ онъ.
— Эмансипаціей; вы, Николай Ивановичъ, сердитесь, не сердитесь, погубила Россію эмансипація.
Но Свіяжскій, къ сожалѣнію Левина, которому хотѣлось послушать, какъ погубила Россію эмансипація, перебилъ помѣщика.
— Можетъ быть, и не всегда выгодно. И всякое интересное предпріятіе бываетъ выгодно и невыгодно, но у васъ идетъ, у меня идетъ, у нихъ тоже, — сказалъ онъ, указывая на другаго помѣщика.
* № 92 (рук. № 70).
Въ концѣ Сентября была начата постройка двора на отданной артели землѣ, и было продано масло отъ коровъ и раздѣленъ барышъ. Дѣло шло. И теперь присутствіе его не нужно было, и Левинъ ждалъ поставки мельницы, чтобы получить деньги и ѣхать за границу. Онъ былъ занятъ съ утра до вечера въ полѣ. Вечеромъ онъ дописалъ послѣднія главы 1-й части своей книги.[1226]
Въ 4-мъ часу, только что Левинъ вернулся домой съ постройки, ему сказали, что Парфенъ Денисычъ очень плохъ и присылалъ за нимъ. У Левина была полна дворня старыхъ слугъ обоихъ мужей его матери. Такъ какъ онъ, одинъ изъ братьевъ, жилъ домомъ въ деревнѣ, всѣ пріючивались у него. Эта старая гвардія — тутъ были жены старыхъ управляющихъ, нѣмецъ старикъ, старуха, бывшая шутиха — очень тяготила его; но дѣвать ихъ было некуда, и они жили. Парфенъ Денисычъ былъ старый дядька старшаго брата. Онъ былъ почтенный человѣкъ и ужъ 15 лѣтъ жилъ на пенсіи. Левинъ давно не заходилъ къ нему. Ему было 90 лѣтъ, онъ почти ничего не понималъ, и отъ него была страшная вонь.
— Чтожъ, онъ плохъ очень? — спросилъ Левинъ.
— Соборовали. Катерина говорила, наврядъ до вечера доживетъ. Все васъ звалъ.
Левинъ пошелъ на дворню. На крыльцѣ Семенъ охотникъ встрѣтилъ его. Семенъ былъ совсѣмъ пьянъ и шатался.
— Что ты?
— Да что, сударь! у насъ все собака неладно. Помчишка вчера и нынче корму не ѣла. Вотъ ищу, не стечка ли.
— Чтожъ, запереть, — сказалъ Левинъ проходя.
— Ушла, сударь, не дается. Не пристрѣлить ли?
— Жалко. Ну, да я посмотрю.[1227]
Досадуя и жалѣя собаку и впередъ ужасаясь мысли видѣть умирающаго старика, Левинъ, осклизаясь по грязи, дошелъ до дворни. Дверь старика была отперта. Ужасный запахъ въ соединеніи съ туманомъ выходилъ изъ комнаты. Двѣ женщины лили воду на что то бѣ[л]ое, лежавшее на полу.
— Кончился, — сказала раскраснѣвшаяся Катерина, съ засученными рукавами вышедшая ему на встрѣчу.
Левинъ перекрестился и пошелъ домой. Тотъ самый туманный день, который ему казался такъ хорошъ, когда онъ верхомъ возвращался съ постройки, теперь новымъ ужасомъ обхватилъ его. «Какъ онъ умеръ? Что онъ думалъ? Зачѣмъ звалъ меня?» думалъ онъ, глядя себѣ подъ ноги, шагая по привычной тропинкѣ мимо конюшни.
Подлѣ конюшни что то бѣлое мелькнуло ему на навозной кучѣ. Онъ взглянулъ. Это была Помчишка, она лежала на кучѣ, положивъ желтую съ проточиной на носу голову на лапы.
«И все одно къ одному, — подумалъ онъ. — Неужели она бѣшенная?» Онъ, не останавливаясь, вглядѣлся въ нее. Въ туманѣ онъ не могъ разобрать выраженіе ея лица.
— Помчишка, фертъ — Ha! — свиснулъ онъ.
Собака поднялась шатаясь и двинулась къ нему. Движенія ея показались ему странны, и морозъ ужаса пробѣжалъ по спинѣ. Онъ прибавилъ шагу, чтобы уйти отъ нея, и взглянулъ впередъ, гдѣ ему можно укрыться. Въ 40 шагахъ впереди былъ домъ Управляющаго, въ 20 шагахъ сзади была собака; но она подвигалась къ нему медленно рысью. На ходу онъ разглядѣлъ ее всю. Ротъ былъ открытъ и полонъ слюны, хвостъ поджатъ. И вся эта ласковая, милая собака имѣла волшебно страшный видъ, и чѣмъ болѣе она приближалась, тѣмъ страшнѣе она становилась.
Ужасъ, какого никогда не испытывалъ Левинъ, обхватилъ его. Онъ бросился бѣжать своими сильными, быстрыми ногами что было духа. Онъ испытывалъ страшный ужасъ, но въ ту минуту, какъ онъ побѣжалъ, ужасъ еще усилился. Какъ съумашедшій, онъ влетѣлъ въ дверь сѣней управляющаго и захлопнулъ ихъ за собой. Долго онъ не могъ отдышаться и отвѣтить на вопросы управляющаго и его жены, выбѣжавшихъ къ нему въ сѣни. Опомнившись, онъ осторожно отворилъ дверь. У угла шатаясь стоялъ пьяный Семенъ.
— Въ подвалъ ушла, батюшка, — сказалъ онъ. — Ну, легки вы, сударь, бѣгать. Чего ее бояться то.
И, возбужденный присутствіемъ барина и управляющаго, Семенъ, чтобы показать свою храбрость, кинулъ арапникъ, опустился на колѣни, и никто не успѣлъ остановить его, какъ онъ уже полѣзъ головой впередъ въ подвальное окно, которое только могло пропустить его тѣло.
Левинъ всплеснулъ руками и побѣжалъ съ управляющимъ[?] тащить Семена назадъ за ноги.
— Брось! Ты! ухватился. Виш[ь], испугались. Гавно! — мурчалъ Семенъ, вытащенный оттуда.
— Убирайся, когда ты пьянъ, не суйся; — крикнулъ на него Левинъ.
— Я пьянъ, трезвѣе тебя. Самъ его ѣшь. Такъ то. Расчетъ подай. Это развѣ охотники? Горе вы охотники. Меня какъ Князь звалъ.
Вытащивъ измазаннаго и кричавшаго Семена и велѣвъ убрать его, Левинъ ушелъ къ себѣ въ невеселомъ расположеніи духа.
Безъ него были получены съ почты газеты, книги и одно письмо незнакомаго, безграмотнаго почерка. Письмо начиналось съ словъ: «Милостивый Государь благодѣтель» и кончалось «Извѣстная вамъ Марья Синевская». Разобравъ безграмотное письмо, Левинъ понялъ, отъ кого оно было и его содержаніе. Оно было отъ Марьи Николавны, жившей съ его братомъ, и смыслъ его содержанія былъ одинъ. Братъ Николай прогналъ ее отъ себя, и она боится за него и просить Константина найти брата. Одна фраза во всемъ казенномъ, очевидно нанятымъ безграмотнымъ писцомъ написанномъ письмѣ была ее и имѣла для Константина Левина трогательный смыслъ. Она писала:[1228] «Онъ оскорбилъ и обидѣлъ меня хуже послѣдней твари; но Богъ съ нимъ. Я его добродѣтель никогда не забуду и всегда готова служить ему какъ раба, хоть онъ избей меня до смерти; а безъ меня онъ, какъ малое дитя, пропадетъ. Того мнѣ жалко. Адресъ мой тотъ то. И гдѣ онъ теперь, я и не знаю. Онъ меня съ глазъ согналъ, и я о томъ убиваюсь. А изъ вашихъ 500 рублей у него теперь и 70 не осталось. И что съ нимъ будетъ, не знаю».
«Все одно къ одному, — подумалъ Левинъ. — Чтоже я могу сдѣлать. Поѣду черезъ Москву, найду его, вотъ одно».
— Ну, Агафья Михайловна, обѣдать давайте. А вы видѣли Парфена Денисыча?
— Чтожъ мнѣ его смотрѣть. Онъ пожилъ, по милости вашей, въ покоѣ. А вамъ скучать нечего. Поѣзжайте вы съ Богомъ.
— Да я и не скучаю.
Послѣ обѣда Левинъ попробовалъ взяться за свою работу, но[1229] не могъ. Ему было жутко. Смерть, смерть, смерть одно представлялось ему. Женись, не женись я на Кити — умру. Сдѣлай, не сдѣлай я начатое дѣло — умру... И онъ сталъ ходить по комнатамъ.
— Да нечего скучать, — говорила Агафья Михайловна, усѣвшаяся съ чулкомъ на дорогѣ. — [1230]Ну что вы сидите дома.
— Дѣло дѣлаю, Агафья Михайловна, — сказалъ онъ, подсаживаясь къ ней.
— Ну какое ваше дѣло. Мало вы развѣ и такъ мужиковъ наградили, и то, говорятъ, вашъ баринъ отъ Царя за то милость получитъ.[1231] И чудно: что вамъ о мужи[кахъ] заботиться.
— Я вовсе не для мужиковъ дѣлаю, а для себя.
— Какую же вы себѣ радость нашли?
— Вы послушайте, Агафья Михайловна. Вѣдь вы поймете, что если мы хоть съ вами живали хорошо, то это отъ того, что вы мнѣ чай дѣлаете, чулки штопаете, а я вамъ даю комнату и на табакъ, намъ обоимъ выгодно. Ну а съ мужиками, если я найму работниковъ? Ихъ выгода меньше сработать, отдохнуть, а моя — чтобы они больше сдѣлали.
— Да ужъ вы какъ ни дѣлайте, онъ коли лѣнтяй, такъ черезъ пень колоду и будетъ валить.
— Ну вотъ я и хочу такъ устроить, чтобы ему была выгода работать хорошо.
— Если совѣсть есть, будетъ, a нѣтъ — ничего не сдѣлаетъ. Вотъ хоть бы Пименъ....
— Нѣтъ, вы слушайте, я вамъ растолкую. Если заставить васъ пахать, а Пимена чулки штопать, вѣдь не хорошо будетъ, — пропадетъ время, — надо, чтобы каждый дѣлалъ съ охотой.
— Да,[1232] это извѣстно, что кто къ чему охоту имѣетъ, то и дѣлать надо.
— Нѣтъ, Агафья Михайловна, это Фурьеризмъ, — сказалъ, онъ улыбаясь. — Этаго нельзя устроить. Это хотѣли устроить, но надѣлали глупости. А надо только сдѣлать такъ, чтобы расчетъ былъ каждому хорошо работать.
Можетъ быть, Левинъ изложилъ бы Агафьѣ Михайловнѣ все содержаніе своей книги, въ которомъ онъ хотѣлъ особенно убѣдить кого нибудь именно потому, что нынче усумнился въ немъ, если бы въ это время не послышался колокольчикъ и стукъ колесъ.
— Ну вотъ вамъ и гости пріѣхали, не скучно будетъ, — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь къ двери, но Левинъ перегналъ ее. Никогда, какъ нынче, онъ не былъ радъ гостю, какому бы то ни было, хоть Становому.
* № 93 (рук. № 71).
Слѣдующая по порядку глава.
Въ концѣ Сентября была начата постройка двора на отданной артели землѣ, и было продано масло отъ коровъ и раздѣленъ барышъ. Дѣло шло. Левинъ ждалъ только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ѣхать за границу. Уже съ недѣлю лили дожди, не давая убрать оставшiеся въ полѣ хлѣба и картофель. Мокрая скотина съ ревомъ толпилась на выгонахъ; въ полѣ на жнивахъ была топь. Дороги были изрыты полными водой колевинами. Осина ужъ[1233] оголилась; береза устилала вокругъ себя круги желтаго мелкаго листа. Еще сочный и мясистый листъ клена и липы валился густыми слоями на землю. Соломенныя крыши и стѣны построекъ чернѣли и прѣли подъ непрестанной мокротой, бабы подъ кафтанами на головахъ бѣгали отъискивать телятъ. Мужики бросали пахать и брались за постройки или домашнія работы.
Въ 4-мъ часу Левинъ вернулся домой, несмотря на кожанъ, промокшій отъ ручьевъ, стекающихъ то за шею, то за голенища воды. Онъ былъ на дальнемъ полѣ, на постройкѣ, и тамъ у него была непріятность съ дворникомъ, не пускавшимъ мужиковъ провозить лѣсъ по дорогѣ. Дворникъ былъ и правъ и не правъ, потому что дорога была на планѣ, но по дорогѣ нельзя было ѣхать, а въ объѣздъ захватывали поле дворника. Но дѣло въ томъ, что вышла непріятность, на которую нельзя жаловаться. Левинъ въ непріятномъ расположенiи духа вернулся домой и хотѣлъ обѣдать; но ему сказали, что старикъ, дядька его брата, жившій съ многими другими старухами и стариками на пенсіи у Левина, умираетъ и присылалъ за Левинымъ. Левинъ давно не заходилъ къ нему. Ему было подъ 80 лѣтъ, и онъ былъ еще очень свѣжъ умомъ, но старческая немощь дѣлала его нечистоплотнымъ, и потому онъ самъ избѣгалъ ходить къ Левину, и Левинъ по той же причинѣ не заходилъ къ нему.
— Что, онъ плохъ? — спросилъ Левинъ, знавшій, что онъ съ недѣлю былъ боленъ.
— Соборовали. Катерина говорила — наврядъ до вечера доживетъ. Все васъ звалъ.
Левинъ, не входя въ домъ, отдалъ лошадь и пошелъ пѣшкомъ къ старику. Былъ 4-й часъ, но уже смеркалось, такъ густо нависли тучи, непереставая поливая то мелкимъ, то вдругъ крупнымъ дождемъ, который сильный вѣтеръ не переставая гналъ въ одну сторону.
— Что ты? — спросилъ Левинъ охотника, съ которымъ онъ столкнулся за угломъ дома.
— Собаку ищу. Взбѣсилась,[1234] — грубо отвѣчалъ охотникъ.
Левинъ понялъ, что онъ былъ пьянъ.
[1235]— Какая собака?
— Я говорю Помчишка, — отвѣчалъ Семенъ, всегда дѣлавшійся грубымъ, когда онъ бывалъ пьянъ. — Ушла, подлая, не дается. Должно, стечка. Застрѣлить надо.
— Не стрѣляй безъ меня. Я посмотрю, — сказалъ Левинъ и, осклизаясь, по грязи пошелъ къ большому дому, въ которомъ жилъ старикъ.
Невольно стараясь думать о непріятномъ зрѣлищѣ, ожидающемъ его, Левинъ, по привычкѣ, не оглядываясь вошелъ въ сѣни дома. <Тяжелый запахъ охватилъ Левина въ темныхъ, грязныхъ сѣняхъ. Дверь къ старику была отворена. Двѣ женщины были тамъ, и Катерина съ засученными рукавами и ведромъ съ водой передъ нимъ вошла въ комнату.
— Да ты говори, — сказала одна женщина, — заколенѣетъ, тогда не одѣнешь.
— Кончился, Константинъ Дмитричъ, — сказала Катерина, замѣтивъ Левина. — Не прибрали еще.
Но Левинъ все таки заглянулъ въ комнату. Конторщикъ, исполнявшій должность прикащика, запыхавшись, прошелъ въ сѣни и въ комнату убрать вещи покойника. Левинъ стоялъ дожидаясь, самъ не зная чего. Онъ испытывалъ то чувство недоумѣнія, которое онъ всегда испытывалъ при близости къ смерти. Онъ чувствовалъ, что совершилось что то торжественное и что необходимо сдѣлать что нибудь соотвѣтствующее, но онъ не зналъ что. Онъ перекрестился, когда ему сказали, что кончился. И ему совѣстно было уйти; казалось, что еще что то надо сдѣлать, но онъ не зналъ что. Конторщикъ вышелъ въ сѣни и объявилъ, что онъ переписалъ вещи и запечаталъ, что шубы давно нѣтъ. Потомъ вышла старуха, ходившая за нимъ, и разсказывала, какъ онъ тихо умиралъ, только все обиралъ на себѣ, и тутъ рѣже, рѣже дыхать сталъ и кончился. Такъ дай Богъ всякому. Катерина съ женщинами вышли изъ горницы. Левинъ понялъ, что старикъ прибранъ, и вошелъ къ нему опять.> Постоявъ нѣсколько секундъ въ раздумьи, что сдѣлать, и не сдѣлавъ ничего, только поглядѣвъ на этотъ лысый выпуклый лобъ, на глубоко ушедшіе глаза, Левинъ вздохнулъ и вышелъ, унося съ собой впечатлѣніе лба изъ подъ повязки и прямо положенныхъ, нѣсколько вывернутыхъ ступней въ новыхъ сапогахъ, на которые онъ и не смотрѣлъ, ему казалось, и чувство недоумѣнія и совершеннаго непониманія того, что онъ видѣлъ. Онъ шелъ опустивъ голову, и вдругъ что то бѣлое показалось ему направо отъ него. Онъ взглянулъ — это была Помчишка, которую охотникъ искалъ и считалъ бѣшенною. Она лежала на навозной кучѣ у конюшни, положивъ свою бѣлую съ проточиною голову на лапы, и смотрѣла на Левина, какъ ему показалось.
* № 94 (рук. № 71).
Агафья Михайловна твердо знала всѣ признаки расположенія духа своего барина. Она знала, когда онъ можетъ обойтись безъ нея и когда она нужна ему. Въ нынѣшній вечеръ, не смотря что Левинъ тотчасъ послѣ обѣда сѣлъ за свою работу, она, подъ предлогомъ скуки, съ чулкомъ усѣлась тутъ же. И, дѣйствительно, работа не пошла, и между ними завязался разговоръ о томъ, что занимало ихъ обоихъ, о смерти старика.
— Что жъ, вы видѣли его? — спросилъ Левинъ.
— Я утромъ ходила безъ васъ. Все обиралъ на себѣ. Я тутъ и сказала послать за попомъ. Только успѣли особоровать.
— Что такое — обирался? — спросилъ Левинъ.
— А вотъ такъ вотъ. — И Агафья Михайловна обдергивала и ощупывала на себѣ складки ситцеваго платья. — Какъ начнетъ себя обирать, значитъ, конецъ близко.
— А чтожъ, онъ все въ памяти былъ?
— Только крестился. Слава Богу, хорошо умиралъ. Такъ дай Богъ всякому — причастили, особоровали.
— А вотъ какъ я умру, да столько лѣтъ не говѣлъ, — сказалъ Левинъ.
— Что говорить пустое.
— Нѣтъ, какъ же вы про меня думаете?[1236]
— Вы добра много дѣлаете, — недовольно и притворно отвѣчала Агафья Михайловна. — Вы книгами отчитаете свои грѣхи.
Агафья Михайловна была того мнѣнія, что господа вообще могутъ себѣ позволять многія вольности — не ѣсть постнаго и даже не говѣть, что они книгами отчитываютъ свои грѣхи.
— Экая погода, погода, — сказала она, прислушиваясь къ завывающему въ трубѣ вѣтру. Что собака воетъ.[1237]
— Ну, а что, вы помните, какъ маменька умирала? — спросилъ Левинъ.
— Какъ не помнить. Хорошо умирала. Всѣхъ васъ позвала, благословила. Сергѣй Дмитричъ тогда ужъ большой мальчикъ былъ, онъ ее, чай, помнитъ. Потомъ васъ кормилица принесла. Она поцѣловала. Потомъ легла такъ, взяла вашего папашу за руку и говоритъ: «читайте отходную». И сама всѣ слова выговаривала. Охъ, кабы намъ туда же за ней попасть въ то же мѣсто, гдѣ она теперь, хорошо бы.
— А вы не боитесь смерти, Агафья Михайловна?
— Грѣховъ много, какъ же не бояться.
Левинъ всталъ и сталъ ходить по комнатѣ.
* № 95 (рук. № 39).
Бѣда одна не ходитъ. Въ это же время въ высшихъ сферахъ произошла одна изъ обычныхъ періодическихъ перетасовокъ, и Алексѣй Александровичъ былъ обойденъ въ назначеніи на то высшее мѣсто, на которое онъ расчитывалъ. Сошлось ли это съ его семейнымъ несчастіемъ, или семейное несчастіе имѣло вліяніе на эту slight,[1238] но Алексѣй Александровичъ соединилъ вмѣстѣ оба несчастія. Онъ выражалъ свое оскорбленіе, подалъ въ отпускъ и уѣхалъ въ Москву. Онъ не могъ болѣе оставаться въ одномъ домѣ съ нею и рѣшилъ самъ съ собою, что онъ не возвратится иначе въ Петербургъ, какъ уже[1239] начавъ дѣло о разводѣ и огласивъ всю исторію, и поселится отдѣльно.
Уѣзжая въ Москву, онъ не исполнилъ однако угрозы относительно сына. Онъ забылъ про это. Одно изъ необыкновенныхъ для Алексѣя Александровича психологическихъ, происшедшихъ съ нимъ, явленій было то, что онъ если не имѣлъ ненависти и отвращенія къ сыну, такія же, какъ онъ имѣлъ къ ней, то онъ сталъ къ нему совершенно равнодушенъ, какъ будто онъ никогда не былъ его сыномъ и онъ никогда не любилъ его.
* № 96 (рук. № 40).
4-я часть.
II гл. 2-й части.
<Алексѣй Александровичъ устроилъ себѣ въ министерствѣ дѣло ревизіи по губерніямъ и уѣхалъ, расчитывая вернуться въ Петербургъ ужъ послѣ родовъ Анны Аркадьевны. Онъ называлъ ее самъ для себя ужъ не женою, а Анной Аркадьевной. Онъ, какъ будто слышавъ ея послѣдній разговоръ съ Гагинымъ, самъ съ собою рѣшилъ, что до родовъ не нужно предпринимать ничего. Но онъ, хотя и внѣшне спокойный, тихій и кроткій, твердо рѣшилъ самъ съ собою, что оставаться въ этомъ положеніи онъ не можетъ и что необходимо[1240] разорвать эти отношенія. Онъ говорилъ себѣ, что одно, что занимаетъ и мучаетъ его въ этомъ дѣлѣ, былъ его сынъ. Необходимо надо было разорвать сношенія и взять сына. Только сынъ, только позоръ, долженствующій лечь на сына, ему казалось, только одинъ этотъ сынъ и его будущее мучало Алексѣя Александровича.>
Алексѣй Александровичъ былъ слишкомъ умный и опытный въ жизни человѣкъ, чтобы не знать, что рѣшенія, какъ бы твердо они ни были взяты въ душѣ, ничего еще не доказываютъ въ пользу того, что рѣшеніе будетъ исполнено, до тѣхъ поръ, пока рѣшившій человѣкъ не перейдетъ отъ отвлеченно взятаго рѣшенія къ практическому его исполненію, до тѣхъ поръ, пока онъ не убѣдится, что мелочность самаго дѣла, пошлость, смѣшная и оскорбительная сторона его, безчисленность ничтожныхъ препятствій не въ состояніи поколебать это рѣшеніе. И потому Алексѣй Александровичъ торопился приступить къ исполненію самаго дѣла. <Прежде всего онъ обратился къ Евангелію и, прочтя гл... ст... «Скажи одинъ разъ...», онъ сказалъ себѣ: «Это я сдѣлалъ, теперь обраща[юсь] къ церкви».[1241] Онъ написалъ передъ отъѣздомъ, чувствуя себя не въ силахъ изустно говорить спокойно, два письма, одно Гагину, другое Аннѣ Аркадьевнѣ слѣдующаго, одинакового содержанія:
«Вы оскорбляете меня и дѣлаете мнѣ и моему сыну величайшее зло. Руководствуясь Евангельскимъ поученіемъ, я, прежде чѣмъ обратиться къ суду, обращаюсь къ вамъ и прошу васъ прекратить посѣщенія въ моемъ домѣ. Я не дѣлаю никакихъ утрозъ. Я[1242] только говорю, что если вы послушаете меня, Богъ наградитъ васъ; если вы преступите мою просьбу и законъ,[1243] я, по Евангелію, предамъ судъ надъ вами Церкви.
А. Каренинъ».
Въ этотъ же день Алексѣй Александровичъ встрѣтилъ Гагина на своемъ крыльцѣ.
Получивъ это подтвержденіе того, что предостереженiе его оставлено безъ вниманія, Алексѣй Александровичъ обратился къ Церкви. Въ Евангеліи Марка сказано, что если мужъ разведется съ женой не по прелюбодѣянію и женится на другой, то онъ прелюбодѣйствуетъ. Стало быть, разводъ допущенъ. Жениться онъ самъ не хотѣлъ, но ему нуженъ былъ разводъ для своего достоинства и для сына. Но чтобы знать, какъ сдѣлать это, Алексѣй Александровдчъ видѣлъ необходимость обратиться къ законамъ. Онъ взялъ Сводъ законовъ, прочелъ все, относящееся до этого, и изучилъ процесы развода. Какъ ни возмущали его чистоту ужасныя, унизительныя подробности, онъ рѣшилъ пройти черезъ все это. Одно послабленіе, которое онъ позволилъ себѣ, состояло въ томъ, что онъ рѣшилъ обратиться не къ Петербургскому, а къ Московскому адвокату, тамъ, гдѣ ея не было и гдѣ его мало знали.[1244] Алексѣй Александровичъ остановился у Дюссо. На другой день своего пріѣзда, [1245] съ тѣмъ, чтобы не встрѣтить никого знакомаго, Алексѣй Александровичъ поѣхалъ къ адвокату, извѣстному ему по слухамъ, какъ спеціалиста разводныхъ дѣлъ.
Прямо отъ обѣдни, съ еще звучащими въ ушахъ пѣніемъ и голосомъ священника, чтенія Евангелія, Алексѣй Александровичъ направился по Тверской и Газетному переулку къ Кисловкѣ.>
* № 97 (рук. № 40).
<Какъ ни страшны были эти подробности, Алексѣй Александровичъ зналъ, что надо было пройти черезъ нихъ. На одну помощь еще онъ надѣялся: это былъ совѣтъ духовника его, священника, высоко уважаемаго въ одномъ изъ московскихъ приходовъ. Все, что сказалъ ему духовникъ, не успокоило его. Смыслъ рѣчей духовника былъ тотъ, что религія можетъ указать то, что долженъ человѣкъ дѣлать для себя, для своей души, но не можетъ сказать, что онъ долженъ дѣлать въ отношеніи другихъ. Смыслъ совѣтовъ духовника былъ тотъ, что надо нести крестъ. Но какъ нести его, было неизвѣстно. И Алексѣй Александровичъ, всегда спокойный, рѣшительный, находился въ самомъ тяжеломъ для себя состояніи нерѣшительности. Подробности, высказанныя адвокатомъ, ужаснули его. Совѣты духовника не дали никакого рѣшенія.>
* № 98 (рук. № 41).
III.
<Алексѣй Александровичъ былъ въ такомъ уныломъ и убитомъ расположеніи духа, такъ ему необходимо было [быть] одному съ самимъ собою, что предстоящій обѣдъ у Алабина былъ ему въ высшей степени непріятенъ. Чтобы избавиться отъ этаго обѣда, онъ рѣшилъ поѣхать утромъ и извиниться подъ какимъ нибудь предлогомъ. Онъ отпустилъ извощика.> Алексѣй Александровичъ пошелъ пѣшкомъ. Алабины жили далеко у Прѣсни. Погода была прекрасная, и не прерывающійся рядъ извощиковъ съ сѣдоками и господъ и дамъ въ своихъ, особенно купеческихъ въ щегольскихъ экипажахъ, весело гремѣли по Поварской. Видъ всякой нарядной молодой женщины и особенно мущины — мужа или знакомаго — больно поражалъ его. Въ одной послѣдней моды съ иголочки новой 4-мѣстной коляскѣ на парѣ кровныхъ вороныхъ проѣхалъ толстый красный мужъ въ бобрахъ, разнарядная въ соболяхъ и бархатѣ красавица барыня. На переднемъ мѣстѣ сидѣлъ офицеръ и мальчикъ.[1246] «О несчастные, — подумалъ Алексѣй Александровичъ, — какъ они не видятъ, не понимаютъ этаго. Все одно и все одинъ конецъ». Повернувъ въ пустынный переулокъ, Алексѣй Александровичъ скоро нашелъ квартиру на дворѣ, занимаемую Алабинымъ. Видъ одного звонка и грязной не плотной, давно некрашенной двери ужъ говорилъ о несогласіи общаго вида свѣжести здоровья и элегантности хозяина съ своимъ помѣщеніемъ. Онъ позвонилъ. Лакей во фракѣ вышелъ отворить ему, и входъ съ ковровымъ старымъ половикомъ и бѣдная чистота передней — все подтверждало одно, что зналъ Алексѣй Александровичъ: беззаботность, мотовство мужа и[1247] рабочая, напряженная жизнь матери. Лакей узналъ Алексѣя Александровича и просилъ взойти.
— Дарья Александровна дома, пожалуйте. Васъ къ столу ждали....[1248]
Алексѣй Александровичъ вошелъ и остановился въ гостиной. Въ зеркало ему видно было, какъ въ сосѣдней комнатѣ Дарья Александровна сидѣла за столомъ и шила, слушая сына, читающего что то. <Алексѣй Александровичъ прислушался.> Сынъ былъ маленькій Степанъ Аркадьичъ. Его красивое лицо, умные веселые глаза и развязность движеній. Онъ сидѣлъ за книгой, напряженно сдвинувъ брови, и маленькой правой ручкой всовывалъ на ниточкѣ оторвавшуюся пуговицу себѣ подъ рубашку за курточку и пожимался отъ холода пуговицы и опять вынималъ и все читалъ: «amatur»....
Алексѣй Александровичъ кашлянулъ. Дарья Александровна встала, вынула пуговицу изъ нѣжной ручки, спрятала въ карманъ и, показавъ ему до куда, вышла въ гостиную. Лицо ея было строго и печально. Увидавъ Алексѣя Александровича, она хотѣла измѣнить выраженіе своего лица, но очевидно не могла. Улыбка открыла ея ужъ не цѣлыя зубы, но строгость и печаль еще яснѣе виднѣлись на ея лицѣ.[1249]
[1250]— Ахъ, Алексѣй Александровичъ, какъ я рада, что вы пріѣхали.
— Я боюсь, что помѣшалъ вамъ; но простите меня, я заѣхалъ извиниться, что не могу обѣдать, потому что....
Алексѣй Александровичъ говорилъ и смотрѣлъ на ея лицо. Онъ 5 лѣтъ не видалъ ее. «Можно ли было такъ перемѣниться! Какъ могло изъ этой круглой маленькой кокетливой головки, съ выраженіемъ розы, сдѣлаться это усталое, измученное жизнью, съ рѣдѣющими волосами, ввалившимися щеками блѣдно желтое лицо, — думалъ онъ. — И откуда взялся этотъ тихій[1251] страдальческій свѣтъ, говорящій о неустанномъ терпѣніи, который замѣнилъ общее безразличное выраженіе дѣвической веселости и жизнерадостности? Одно осталось — улыбка. Только тогда улыбка это былъ свѣтъ солнца, теперь таже улыбка былъ свѣтъ мѣсяца». Она смотрѣла и, несмотря на то что она недовольна была тѣмъ, что ее оторвали отъ необходимаго занятія повторенія латинскихъ глаголовъ съ сыномъ, она увидала на лицѣ Алексѣя Александровича черту страданія, и вдругъ ея досада прошла и замѣнилась состраданіемъ.
— Нѣтъ, не отказывайтесь, пожалуйста. Но я всетаки очень рада, что вы пріѣхали, мы успѣемъ поговорить. — Она вскочила. — Сію минуту. Въ сосѣдней комнатѣ поднялся шумъ дѣтей. Она вышла и привела дѣвочку и мальчика.
Дѣвочка вошла[1252] и покраснѣвъ присѣла. Мать съ гордостью смотрѣла.
— Это моя старшая. Ну, будетъ, къ Мисъ Теборъ, а ты кончи урокъ и тоже поди, намъ не мѣшайте, затвори дверь.
— Ужъ вашъ тоже его лѣтъ долженъ быть.
— Да, ему 7 лѣтъ. Какіе милые и какъ мальчикъ похожъ на Степана.
— Да, очень похожъ, — сказала мать радостно и грустно.
— Такъ я васъ хотѣлъ просить отпустить меня, а теперь посидимте. Я увижу васъ, дѣтей, все, что мнѣ нужно.
— Алексѣй Александровичъ, я вчера спросила васъ про Анну; вы мнѣ не отвѣтили.
Алексѣй Александровичъ самъ не ожидалъ того, чтобы упоминаніе о его женѣ произвело бы на него такое дѣйствіе. Видъ ли этой женщины, такой матери, несмотря на распущенность мужа, видъ ли этой хорошей семьи и сравненіе съ своей судьбой, только онъ поблѣднѣлъ и губы его затряслись. Онъ отвѣтилъ на тотъ вопросъ, который дѣлали ему ея глаза.
— Она здорова. Но какъ я любуюсь вами, Дарья Александровна. Какъ вы счастливы.
— Я?!
— Да, вы. Женщины счастливы, если они хорошіе.
— Отчего же мущины не тоже?
— Отчего? Да, я радъ, что засталъ васъ одну. Можетъ быть, некстати, но мнѣ хочется разсказать вамъ одну исторію и послушать ваше мнѣніе объ этой исторіи.
— Я слушаю.
И лицо ея выразило готовность понять всякое горе, какое бы ни было оно, и попытаться помочь ему.
— Такъ вотъ какая исторія. Былъ человѣкъ лѣтъ за 30. Онъ былъ хорошій человѣкъ, по крайней мѣрѣ всей душой желавшій быть хорошимъ: онъ влюбился въ 18 лѣтнюю дѣвушку, не красавица, но прелестное, доброе, честное, энергическое существо. Онъ боялся, что его не полюбятъ. Тѣмъ болѣе, что бракъ былъ выгоденъ для дѣвушки по общественному положенію. Онъ боялся бы съ другой дѣвушкой, чтобы выгода положенія не faussait son jugement;[1253] но она была хорошая, энергическая натура. Онъ ей сказалъ, что любитъ и проситъ сказать, нѣтъ ли у нее другой привязанности, чувствуетъ ли она возможность быть ему женой. Она сказала «да» передъ нимъ, передъ людьми и передъ Богомъ и сказала правду.[1254]
Они женились, и она была счастлива, или себѣ говорила, что она счастлива, или себя увѣряла или другихъ только увѣряла въ этомъ, но —
— Нѣтъ, она была счастлива, вполнѣ счастлива, — перебила Дарья Александровна, вспоминая ея пріѣздъ.
— Ну, хорошо, и они были счастливы. Богъ далъ имъ сына; но потомъ,[1255] черезъ 5 лѣтъ, мужъ узналъ, что она измѣнила ему.
— Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть. Нѣтъ, ради Бога...
— Да, узналъ, что она измѣнила...
— Но какъ? Алексѣй Александровичъ, простите меня, — она взяла его за локоть. — Это не можетъ быть. Почемъ вы знаете, почемъ онъ узналъ?
— Ахъ, это разсказать нельзя. Нельзя разсказать то, что чувствуетъ мужъ, когда у него сомнѣнія, когда кажется, что лучше все знать, чѣмъ сомнѣваться, и когда потомъ увидишь, что все таки лучше сомнѣваться.
— Нѣтъ, я знаю, знаю все это. Но какже могъ онъ узнать?
— Она сама сказала ему — сказала, что она не любитъ его, что все прежнее, всѣ 6 лѣтъ и сынъ, что все это была шутка, ошибка, что она хочетъ жить сначала.
— Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, я не вѣрю.
— И я не вѣрю, и я не вѣрю минутами, — онъ рыднулъ. — Только то, что онъ не вѣритъ, всегда даетъ ему силу жить. Но она сказала все это, и всѣ подозрѣнія освѣтились свѣтомъ несомнѣнности, все стало ясно. Все прошедшее, казавшееся счастьемъ, стало ужасно. Сынъ сталъ отвратителенъ.
— Этаго я не понимаю.
— Теперь скажите, что дѣлать мужу. Не для себя, не для своего счастья. Своего счастья уже нѣтъ. (Алексѣй Александровичъ говорилъ, а самъ удивлялся, какъ для него самаго уяснялось въ первый разъ его положеніе), но что ему дѣлать для нее, для сына, для того чтобы поступить справедливо.
— Что дѣлать? Что дѣлать? — Она открыла ротъ въ болѣзненную улыбку, и слезы выступили у ней на глаза. Она знала, что дѣлать — то, что она дѣлала — нести крестъ. Она и сказала: «нести», но остановилась.
— То то и ужасно въ этомъ родѣ горя, что нельзя, какъ во всякомъ другомъ, въ потерѣ, смерти, нести крестъ, а тутъ нужно дѣйствовать. Нужно выдти изъ того унизительнаго положенія, въ которое вы поставлены. Нельзя жить втроемъ.[1256]
— Я не понимаю этаго; но я думаю, что отъ такого увлеченія однаго можно удержать, спасти. Знаю, не будетъ уже счастія, но не будетъ погибели, но я по себѣ сужу, не удивляйтесь: если бы я разъ пала и меня не остановили бы, я бы погибла совсѣмъ, совсѣмъ — ея, ея спасти нужно.
— Вотъ этаго я никогда не думалъ, — сказалъ задумавшись Алексѣй Александровичъ. — Я не могу вдругъ понять нѣкоторыхъ вещей, мнѣ надо подумать. Да. Но мужъ не думалъ этаго. Онъ думалъ одно — что дѣлать. Выходы извѣстные. Дуэль, убить или быть убитымъ. Этаго онъ не могъ сдѣлать, вопервыхъ, потому, что онъ Христіанинъ, вовторыхъ, потому, что это губило совсѣмъ ее, ея репутацію и сына. Остается другое — увѣщаніе Христіанское. Мужъ сдѣлалъ это, и ему посмѣялись, остается послѣднее — разводъ. И на это онъ рѣшился.
— Все, только не разводъ, — рѣшительно вскрикнула Дарья Александровна.
— Отчего?
— Я не знаю отчего, но только это ужасно. Она будетъ ничьей женой, она погибнетъ.
— Но что же дѣлать?
— Не знаю, но неужели это правда?
— Да, правда, и одно есть спасенье. Это смерть. Смерть.
— Нѣтъ, постойте. Я знаю, это ужасно, но у васъ есть цѣль. Вы не должны погубить ее. Постойте, я вамъ скажу другую исторію. Дѣвушка выходитъ замужъ. Мужъ обманываетъ ее. Жена въ злобѣ ревности хочетъ все бросить сама, но она опоминается и благодарна другу. Вы знаете, Анна спасла меня. И несетъ крестъ. И дѣти растутъ, мужъ возвращается въ семью и чувствуетъ свою неправду, не всегда, но чувствуетъ, дѣлается чище, лучше, и крестъ становится легче и легче. Мужъ обязанъ спасти жену. Я простила и вы должны простить.
Алексѣй Александровичъ до сихъ поръ думалъ, что его мучаетъ, главное, сынъ, но тутъ онъ увидалъ, что въ глубинѣ души у него было другое. Вдругъ вскипѣла въ немъ злоба, которой онъ и не зналъ за собой. Можетъ быть, видъ этой женщины и сравненіе съ ней своей жены произвели въ немъ эти чувства.
— Простить, я знаю, — сказалъ онъ, — но есть всему предѣлъ, и простить эту женщину, погубившую все мое прошедшее, мою вѣру, всего меня, простить я не могу. Одно, что я могу, съ усиліемъ, не мстить ей. Его я не ненавижу даже, я равнодушенъ къ нему. Онъ не злой, нo заблудшій человѣкъ. Но спасти сына изъ грязи, отбросить ее отъ себя, забыть, зарыться въ трудѣ — это одно желаніе. Это жажда неудержимая души.
Дарья Александровна закрыла лицо платкомъ и плакала, но онъ, добрый человѣкъ, не жалѣлъ ее. Только приличія заставили его опомниться.
— Извините меня, я разстроилъ васъ своимъ горемъ, у каждаго своего довольно.
— Да это мое, мое горе. Я не могу, не умѣю сказать вамъ, что надо. Вы жалкій, вы добрый человѣкъ, но вы не правы. Пожалуйста, оставайтесь у насъ. Я хочу васъ видѣть, мы еще поговоримъ, пожалуйста. Мнѣ хочется сказать вамъ, да я не умѣю.
Алексѣй Александровичъ остался обѣдать и до обѣда провелъ два часа съ дѣтьми, которые полюбили его.[1257]
IV.
Гости собрались всѣ прежде хозяина. Степанъ Аркадьичъ опоздалъ на полчаса, но ничто не могло противустоять его bonne humeur,[1258] и всѣмъ показалось естественнымъ, что онъ опоздалъ, задержанный Прокуроромъ Синода, до котораго у него было дѣло. Онъ оживилъ и соединилъ всѣхъ гостей въ одну минуту. Разсказалъ кучу приключеній, которыя съ нимъ были въ этотъ день, кучу анекдотовъ и послѣднихъ новостей о ссорѣ предводителей, о здоровьѣ старухи Нарышкиной. Онъ всѣхъ видѣлъ, все зналъ. Кромѣ того, онъ успѣлъ распорядиться послать за дорогимъ виномъ (Онъ остался недоволенъ тѣмъ, которое приготовила жена) и задержалъ обѣдъ. Обѣдали въ этотъ день у Алабиныхъ четверо гостей: ея сестра съ прелестными волосами и шеей, красавица Китти, или Катерина, та самая, которая, какъ онъ слышалъ, должна была когда-то вытти за[1259] Ордина и которая поэтому интересовала его, племянникъ Алабина, сосредоточенный, мудреный студентъ, окончившій курсъ и[1260] черный молодой сельскій житель Равиновъ, появлявшійся иногда въ Петербургскомъ свѣтѣ, извѣстный ему своими хотя умными, но рѣзкими сужденіями обо всемъ, и еще товарищъ Алабина, толстый гастрономъ и весельчакъ Туровцинъ. Дѣти не обѣдали за столомъ, и Долли, очевидно, была неспокойна и не въ своей тарелкѣ.
Лакей въ бѣломъ галстукѣ объявилъ, что кушанье готово, тогда, когда принесли бургонское и ликеръ, и Степанъ Аркадьичъ пригласилъ къ водкѣ. Разговоръ, какъ всегда, невяжущійся при ожиданіи обѣда, оживился, тоже какъ всегда, передъ столомъ, уставленнымъ красивыми графинами 6-ти разнообразныхъ водокъ и десятка сыровъ съ серебряными лопаточками и безъ лопаточекъ, жестянокъ консервовъ, грыбковъ и крошечныхъ ломтиковъ французскаго хлѣба съ parmez[аномъ] паутиной вмѣсто мякиша[1261]
Съ полными ртами и мокрыми губами отъ пахучихъ водокъ, разговоръ оживился между мущинами у закуски.
— Неужели ты опять былъ на гимнастикѣ? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ съ полнымъ ртомъ, подсовывая красный сыръ шаромъ Алексѣю Александровичу и обращаясь къ Равскому и лѣвой рукой ощупывая его стальную мышцу, какъ и красный сыръ, выставляющуюся подъ тонкимъ чернымъ сукномъ сюртука. Ровскій напружилъ по привычкѣ мышцу и улыбнулся, блеснувъ своими агатово черными глазами и бѣлыми зубами.
— Не могу, я бы умеръ въ городѣ, если бъ не гимнастика. На искуственную жизнь нужны искуственные поправки. Въ деревнѣ, когда я сдѣлаю почти каждый день верстъ 30 верхомъ или пѣшкомъ, — говорилъ онъ, сторонясь съ мягкимъ поклономъ извиненія передъ дамами, которыхъ хозяйка подводила къ закускѣ.
— Да, это Самсонъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, обращаясь къ Алексѣю Александровичу, который своими тихими, добрыми глазами смотрѣлъ любопытно на Ровскаго.
— Куда же вы ѣздите такъ далеко, — сказала красавица, ловя своей вилкой, которую она держала своими розовыми пальчиками, грибъ непокорный и встряхивая кружевами на рукавѣ. — Куда же вы такъ далеко ѣздите? — сказала она, въ полуоборота оглядываясь на него, такъ что завитокъ волосъ легъ ей по щекѣ, и улыбаясь.
Онъ тоже улыбнулся.
— Если бы спросить у Сухотина (это былъ новый Репетиловъ), куда онъ цѣлый день ѣздитъ, онъ не могъ бы сразу отвѣтить — нужно. Такъ мнѣ кажется, что ему не нужно, а вамъ можетъ показаться, что мнѣ не нужно.
«Онъ говоритъ хорошо, хоть и длинно немного, и онъ лучше, чѣмъ я прежде полагалъ, — подумалъ Алексѣй Александровичъ, глядя на него. — Вѣрно тутъ есть между ними что-нибудь. Кто изъ нихъ будетъ несчастный?» подумалъ онъ, такъ какъ съ мыслью о бракѣ для него необходимо соединялось понятіе о несчастьи однаго изъ супруговъ. Когда садились, все перекрестились, кромѣ студента, который, стараясь не быть замѣченнымъ, метнулъ на всѣхъ глазами. Долли и Степанъ Аркадьичъ перекрестились чуть чуть, Алексѣй Александровичъ просто, Равскій съ афектаціей. Все было хорошо за столомъ, но чувствовалось опытному въ свѣтѣ, какъ Алексѣй Александровичъ, человѣку, что въ обѣдѣ этомъ было усиліе. Еслибы не добродушная верва[1262] Степана Аркадьича, усиліе это было[бы] еще замѣтнѣе. Степанъ Аркадьичъ былъ такъ милъ, разговорчивъ, веселъ, натураленъ, хозяйка такъ мила и граціозна, несмотря на то, что она дѣлала надъ собой очевидное усиліе, что Алексѣй Александровичъ здѣсь, въ Москвѣ, въ сферѣ незнакомыхъ ему людей и увѣренный въ томъ, что никто не знаетъ про его отношеніе къ женѣ, на время забылся и увлекся общимъ разговоромъ, который переходилъ незамѣтно отъ однаго интереснаго разговора къ другому, привлекая всѣхъ къ участію, даже и студента, котораго, если онъ молчалъ, Долли задирала и вводила въ разговоръ.[1263] Ровскій особенно интересенъ былъ Алексѣю Александровичу. Онъ измѣнилъ о немъ прежнее мнѣніе, что онъ былъ несоотвѣтственно съ своими способностями гордый человѣкъ; теперь Алексѣй Александровичъ видѣлъ — отъ того ли, что онъ выказывалъ больше истиннаго ума и обширное образованіе, или отъ того, что онъ сбавилъ гордости, — все это отъ присутствія красавицы, за которой онъ, очевидно, ухаживалъ, но онъ былъ очень и очень замѣчательный человѣкъ, и Алексѣй Александровичъ интересовался имъ. Но вдругъ разговоръ, переходившій съ общественнаго, ученаго, музыкальнаго предмета на музыку и ея критик[овъ], онъ долго остановился, вдругъ разговоръ перешелъ въ концѣ обѣда на послѣднюю французскую полемику между Dumas и E. Girardin и l'homme femme. Разговоръ при дамахъ велся такъ, какъ онъ ведется въ хорошемъ обществѣ, т. е. искусно обходя все слишком сырое, и разговоръ занялъ всѣхъ сильно, несмотря на то, что Долли, понявъ всю тяжесть этаго разговора для Алексѣя Александровича, хотѣла замять его. Студентъ и Ровскій стали спорить. Ровскій, очевидно, говорилъ для красавицы, такъ что, когда она ушла, онъ косился на нее, оставшись въ залѣ, когда она ушла. Алексѣй Александровичъ молчалъ и слушалъ. Степанъ Аркадьичъ сталъ на сторону студента и поддерживалъ его противъ сильной и немного многословной полемики Ровскаго. Студентъ, разумѣется, защтцалъ права женщины, Ровскій развивалъ и подкрѣплялъ мысль Дюма. Онъ говорилъ, что ее надо убить. И это мнѣніе такъ шло къ его атлетической фигурѣ, чернымъ глазамъ и зловѣщему ихъ блеску, что невольно вѣрилось, что онъ говорилъ то, что думалъ. Алексѣй Александровичъ не раздѣлялъ ни мнѣніе студента, ни мнѣніе Ровскаго. Онъ даже не понималъ ихъ.
— Невѣрность жены, — говорилъ Юрьевъ, — есть ничто иное, какъ заявленье своего права, равнаго праву мущины.
— Но мущина, ошибившійся и поправляющійся, всетаки имѣетъ привлекательность для женщины, а женщина ужъ не то.
— Это предразсудокъ.
— Хорошъ предразсудокъ. Предразсудокъ не любить ягоды съ лотка, захватанные разнощикомъ, а любить съ куста.
— Кромѣ того, женщина развитая не ошибется, не запирайте ее, дайте ей высшее образованіе.
— Да мущины ошибаются же молодые, и женщины будутъ ошибаться.
— Ну и будутъ.[1264]
Алексѣй Александровичъ слушалъ внимательно, ничего не говоря. Ему чувствовалось, что они говорятъ о томъ, чего не знаютъ, не испытали. Ему напоминалъ этотъ споръ то, какъ бы спорили люди на сушѣ, да и никогда не плававшіе, о томъ, какъ надо управлять кораблемъ, когда половина снасти поломана и корабль на боку заливается водой и бьетъ вѣтромъ. Но онъ слушалъ какъ прикованный, и, призвавъ на свое спасенье свое[1265] непроницаемое выраженіе, приличное сановитому и пожилому, умному человѣку, слушалъ ихъ рѣчи <и тяжело страдалъ внутренно>.
Алексѣй Александровичъ ждалъ, что кто нибудь скажетъ о дѣтяхъ, и обрадовался когда Ровскій сказалъ:
— A дѣти? Кто ихъ воепитаетъ?
Но Юрьевъ откинулъ шутя это возраженіе:
— Дѣти есть открытая обязанность того, кто хочетъ ими заняться, имѣетъ способность къ этому. Правительство, общество, отецъ, мать, кто хотятъ.
«Ну а если никто не захочетъ», подумалъ Алексѣй Александровичъ, но Ровскій не сказалъ этаго. Онъ, видимо, соглашался, что это вопросъ пустой. Онъ только замѣтилъ, что могутъ возникнуть споры между отцомъ и матерью. Но Юрьевъ, не считая нужнымъ возражать на это, повелъ дальше вопросъ (пониманіе вопроса). Онъ сказалъ, что съ общей точки зрѣнія человѣчество только выиграетъ отъ этаго, и не будетъ монашествующихъ по ложнымъ понятіямъ супруговъ, каковыхъ много, и больше будетъ населенія.
Алексѣй Александровичъ тяжело вздохнулъ, чувствуя, что онъ не найдетъ здѣсь не только рѣшенія занимавшаго его дѣла, но что они даже и не знаютъ того, что его занимаетъ. Они говорили, какъ бы говорили дѣти и женщины о томъ, что глупо и брить бороду и носить бороду, потому что у нихъ не выросла еще борода.
— Позвольте, нѣтъ, позвольте, — заговорилъ Ровскій.
Алексѣй Александровичъ думалъ, что хотя вопросъ о увеличеніи народонаселенія и нейдетъ къ дѣлу, но онъ думалъ, что онъ скажетъ, что семья до сихъ поръ есть единственное гнѣздо, въ которомъ выводятся люди. Но Ровскій на то закричалъ:
— Позвольте.
Онъ началъ приводить статистическія данныя о томъ, что въ Магометанствѣ и въ другихъ многоженственныхъ народахъ населеніе увеличивается больше, чѣмъ у Христіанъ. Однако въ серединѣ своего разговора онъ вдругъ остановился. Жаръ спора его простылъ, и, несмотря на то, что ему легко было теперь опровергнуть своего спорщика, онъ улыбнулся и, что то пробормотавъ, вышелъ изъ комнаты. Онъ услыхалъ въ гостиной звуки прелюдіи любимаго его романса и зналъ, что это заиграла она, и зналъ, что это значило, что она зоветъ его. Когда онъ подошелъ къ фортепьяно, она встала и улыбнулась.
— Отчего же вы встаете?
— Я не хотѣла пѣть, я хотѣла только позвать васъ. Благодарствуйте, что пришли. Что вамъ за охота спорить.
— Да, это правда, — сказалъ онъ. — Но когда сердце не удовлетворено, голова работаетъ тѣмъ больше. Еслибъ сердце было удовлетворено, я бы со всѣми соглашался и никогда не спорилъ.
— Такъ не спорьте.
И испугавшись, что она слишкомъ много сказала, она приняла свое царское холодное выраженіе и направилась къ двери, но онъ удержалъ ее, заступивъ ей дорогу, онъ былъ счастливъ. Она сѣла опять къ фортепьяно и слушала его до тѣхъ поръ, пока вернулся изъ кабинета Юрьевъ и тотчасъ же началъ споръ о новой музыкѣ, Вагнерѣ, оперѣ, драмѣ; но такъ какъ никто не спорилъ, онъ спорилъ съ мнимыми противурѣчителями.
Алексѣй Александровичъ остался въ кабинетѣ, и когда Ровскій вышелъ, Степанъ Аркадьичъ, отряхнувъ длинный пепелъ, заключилъ бывшій споръ по своему:
— Какъ, что будетъ я не знаю, и все это вздоръ. Вопервыхъ, женщинамъ очень хорошо, онѣ всѣмъ очень довольны и очень милы и ничего не хотятъ, а ихъ ни учить, ни наказывать нельзя и ненужно.
— Но мы говоримъ, — сказалъ Юрьевъ, видимо спускаясь до Степана Аркадьича, — когда бываетъ, что они не очень милы и находятъ себя несчастливы[ми] и разрываютъ условія брака.
— Да, я очень хорошо понимаю, и на это съ тѣхъ поръ, какъ міръ существуетъ, одно средство. Парисъ увезъ, приставилъ рога, и Менелай хочетъ побить Париса и весь его народъ, и разсуждайте какъ хотите, а какъ сдѣлается съ кѣмъ изъ насъ такое горе, всякій броситъ разсужденье, вызоветъ на дуэль и убьетъ или его убьютъ, а не сдѣлаетъ этаго, то измучается совѣстью и станетъ посмѣшищемъ — вотъ и все.
— Ну, это слишкомъ по барски и пожентельменски.
— Да какже мнѣ, коли я баринъ и джентельменъ, прикажете разсуждать по мужицки.
— Нѣтъ, но вѣдъ основана на однихъ предразсудкахъ. Вѣдь убить человѣка, приставившаго рога, не имѣетъ смысла — онъ не виноватъ.
— Да я ужъ не знаю, только такъ надо.
— Да ну согласитесь.[1266]
Алексѣй Александровичъ слушалъ безъ интереса всѣ рѣчи: онъ чувствовалъ, что онѣ не захватывали его задушевныхъ вопросовъ и страданій; еще съ большимъ, если возможно, пренебреженіемъ онъ прослушалъ неожиданную выходку Степана Аркадьича. Онъ, Степанъ Аркадьичъ, самъ дурной мужъ, не стоящій мизинца своей прелестной жены, тоже разсуждаетъ о томъ, какъ долженъ поступить честный человѣкъ! Алексѣй Александровичъ не обратилъ никакого вниманія на эти слова, но — странное дѣло — возвращаясь домой, слова эти вспоминались ему безпрерывно, и онъ думалъ о томъ, какъ бы онъ написалъ вызовъ, и злобу, потребность мщенія къ нему онъ начиналъ чувствовать.
«Нѣтъ, — сказалъ онъ самъ себѣ, остановившись у выходной двери гостинницы, — нѣтъ истолкованія, нѣтъ средства. Ни церковь, ни умники, ни свѣтъ, ни эта добрая жена — никто мнѣ не далъ отвѣта и успокоенія. Да, какъ и во всякомъ горѣ, надо дѣйствовать и нести одному». И опять вдругъ какъ стрѣльнула его въ сердце мысль о томъ, кто виною тому, что онъ одинъ, и опять слова Степана Аркадьича, и Алексѣй Александровичъ испытывалъ то всѣми испытываемое чувство, что воспоминаніе о преступленіи, о дурномъ дѣлѣ не столько насъ мучаетъ, сколько несоблюденное условное приличіе. Ему вдругъ, несмотря на то, что онъ разумомъ 1000 разъ обдумывалъ, что нельзя драться, ему стыдно, до краски стыдно стало, что онъ безнаказанно позволилъ отнять у себя жену. «Нѣтъ, вздоръ. Надо дѣйствовать для развода и написать адвокату требуемыя подробности».
* № 99 (рук. № 42).
Алексѣй Александровичъ, оставшись одинъ, почувствовалъ, что онъ совершенно растроенъ и выбитъ изъ своей колеи. Утромъ, занимаясь разводнымъ дѣломъ по бумагамъ, все это понемногу укладывалось, укладывалось и улеглось наконецъ, какъ дѣло возможное и опредѣленное, но Степанъ Аркадьичъ спуталъ его совершенно: съ одной стороны, самое дѣло казалось не такъ страшно, съ другой стороны, казалось еще страшнѣе. Съ одной стороны, если думать, что Степанъ Аркадьичъ выразилъ свое искреннее мнѣніе, то, судя по его словамъ, въ дѣлѣ развода нѣтъ ничего необыкновеннаго, и всѣ очень просто посмотрятъ на это, но, съ другой стороны, можно было предполагать, что Степанъ Аркадьичъ смотрѣлъ на дѣло развода какъ на такое ужасное дѣло, что не могъ вѣрить въ его возможность. Алексѣй Александровичъ былъ въ нерѣшительности и недоумѣніи. Обѣдать онъ рѣшилъ не ѣхать. Ему непріятно было видѣть людей, находясь въ этомъ переходномъ состояніи. Когда онъ нынче вечеромъ дастъ рѣшительный отвѣтъ адвокату, тогда онъ ужъ, какъ это ни трудно будетъ, огласитъ все дѣло, но теперь, когда никто ничего не знаетъ и всѣ могутъ догадываться, ему непріятно было встрѣчаться съ знакомыми и незнакомыми.[1267]
По отъѣздѣ Степана Аркадьича Алексѣй Александровичъ сѣлъ опять за столъ и хотѣлъ продолжать заниматься, но не могъ. И что съ нимъ никогда не бывало, не прошло часа, какъ онъ измѣнилъ свое рѣшеніе. Трудность дѣла заключалась, главное, во взглядѣ общества на это дѣло. «Почему же мнѣ избѣгать общества. И мнѣ, правому, не должно избѣгать и бояться». И онъ рѣшилъ ѣхать обѣдать.
* № 100 (рук. № 42).
Въ это время Юркинъ и Алексѣй Александровичъ замолкли, и Дарья Александровна нашла ту минуту для вопроса, который она хотѣла сдѣлать.
— Но скажите, Алексѣй Александровичъ, отчего же это такъ трудно классическіе языки, — сказала она краснѣя. — У Марьи Шипачевой съ тѣхъ поръ, какъ старшій мальчикъ сталъ ходить въ гимназію, онъ изчахъ, онъ не высыпаетъ.
— О, это недостатки въ системѣ, которую исправятъ, — спокойно отвѣчалъ Алексѣй Александровичъ.
Тутъ князь сказалъ свое мнѣніе:
— Но если бы мы вздумали учить дѣтей по[1268] китайски, вѣдь намъ бы надо прежде учителей, знающихъ по китайски, а потомъ уже учить.
— О, разумѣется, недостатокъ въ учителяхъ очень чувствуется, и мѣры употреблены такія, чтобы пріобрѣсти учителей, и лѣтъ черезъ 10 у насъ ихъ будетъ достаточно.
— A покамѣстъ будутъ учить тѣ, которые не знаютъ, — сказалъ Князь.
Туровцинъ былъ на сторонѣ князя, потому что это было смѣшно, и громко разсмѣялся. Но Алексѣй Александровичъ также спокойно отвѣтилъ, обращаясь болѣе къ Константину Левину, который сидѣлъ подлѣ Князя.
— Согласитесь, что если вы нашли, что, положимъ, сѣмена того[1269] хлѣба, который вы сѣяли, нехороши, то вы выписываете эти сѣмена и выращиваете, и[1270] всѣ усилія употребляете, чтобы ихъ вырастить.
Константинъ Левинъ, какъ и обо всѣхъ вопросахъ, занимавшихъ общество, думалъ и объ этомъ вопросѣ и имѣлъ свое особенное твердое убѣжденіе. И, воспользовавшись обращеніемъ къ себѣ Алексѣя Александровича и его сравненіемъ, высказалъ свое мнѣніе.
— Но, — сказалъ онъ, — трудно предположить, чтобы въ хозяйствѣ, существующемъ 1000 лѣтъ, какъ Россія, производились бы всѣ тѣ сѣмена, которыя не годятся, и чтобы не нашлось тѣхъ сѣмянъ, которыя нужны.
Онъ остановился, но никто не отвѣчалъ ему. Его слова, выражающія, по его понятію, самую сущность дѣла, какъ всегда, оказывались некстати и совсѣмъ не то, о чемъ говорятъ. Но нынче ему было все равно, что думаютъ другіе. Онъ видѣлъ, что Кити, и потому весь міръ, одобряетъ его слова и улыбается, вполнѣ понимая ихъ. И онъ продолжалъ:
— Съ нашими хозяйствами всегда это самое бываетъ: посмотришь, сѣмена,[1271] дурны, надо купить новыя; купишь, они переродятся хуже прежнихъ, и видишь, что не такъ глупы, какъ казались прежде тѣ, которые вели хозяйство.
Весь міръ улыбался и одобрялъ, и потому Левинъ продолжалъ, не заботясь о томъ, что подумаютъ. Онъ въ первый разъ испытывалъ эту радость увѣренности въ себѣ. И потому онъ хотѣлъ сказать: «мнѣ кажется», но поправился:
— Я думаю, что если бы Россіи нужны были классическія знанія, какъ ихъ понимаютъ, они бы вырасли сами въ 1000 лѣтъ и были бы учителя, а то, что ихъ нѣтъ, доказываетъ, что ихъ не нужно. А быть въ Россіи классиками — это самое страшное насиліе, которое можно сдѣлать народу; это все равно, что велѣть всѣмъ ходить на ципочкахъ.
Только одинъ Туровцинъ и Князь были на сторонѣ Левина, братъ же его перебилъ его съ недовольнымъ видомъ.
— Совсѣмъ не о томъ рѣчь, — сказалъ онъ, — но о томъ, насколько мы можемъ быть убѣждены въ пользѣ древнихъ языковъ.
* № 101 (рук. № 42).
Разговоръ тотчасъ же перескочилъ на новую тему — образованіе женщинъ. Старый Князь[1272] даже совсѣмъ перемѣнилъ направленіе разговора, это была его любимая тема насмѣшекъ надъ новыми идеями.
— Ну, ужъ этаго я своимъ глупымъ умомъ никогда понять не могъ, — сказалъ онъ, соединяя, какъ и всегда дѣлаютъ люди, не привыкшіе разсуждать, словесно соединяя въ одномъ понятіи образованія женщинъ весь женскій вопросъ.
— Чего имъ хочется и о чемъ они толкуютъ, какое равенство и какія права? Растолкуйте мнѣ кто-нибудь, умные люди, какихъ у насъ у женщинъ правъ нѣтъ. Крѣпостныхъ сѣкли, продавали, имѣньемъ владѣютъ, мужей разоряютъ, однѣ барыни на извощикахъ ѣздятъ, чего имъ еще нужно?
— Въ этомъ вопросѣ — если рѣчь зашла о свободѣ женщинъ, — сказалъ Алексѣй Александровичъ, — я совершенно согласенъ съ вами, Князь, и полагаю, что это одно изъ заблужденій нашего времени.
Юркинъ, не удостоившій бы Князя серьезнаго возраженія, ворвался въ разговоръ.
— Мнѣніе это весьма обыкновенно, но я полагаю, что оно основывается на слишкомъ поверхностномъ взглядѣ на вопросъ. Если вопросъ въ томъ, чтобы дать женщинамъ имущественныя права, то, безъ сомнѣнія, у насъ, въ Россіи, вопросъ этотъ поставленъ весьма либерально, но есть другія права, общественныя, и самое дорогое право — право высшаго образованія. Мы видимъ въ Америкѣ... — и Юркинъ изложилъ всю теорію женскаго вопроса.[1273]
Разговоръ совершенно перемѣнился, но отношенія всѣхъ разговаривающихъ не перемѣнились. Тѣ самые, которые были за реальное воспитаніе, тѣ стали за свободу женщинъ; тѣ, которые были за классическое, стали противъ. Какъ ни поверните компасъ и пускай одинъ конецъ будетъ указывать на 0, а другой на 360 или насколько хотите 0, но одинъ конецъ указываетъ въ сторону противуположную другой, и одна сторона югъ, другая сѣверъ. Юркинъ былъ на сторонѣ свободы, потому что это была новая красивая идея, обѣщающая много чего то впереди. Степанъ Аркадьичъ былъ на той же сторонѣ, потому что Чибисова нуждалась въ свободѣ женщинъ. Долли была на ихъ сторонѣ, потому что она одна должна была заниматься воспитаніемъ дѣтей, и она чувствовала, что теперешній порядокъ не обезпечиваетъ семью, что ей надо бы было быть болѣе образованной, чтобы самой готовить дѣтей, и быть самостоятельной, чтобы самой продавать лѣсъ. Кити была на той же сторонѣ, потому что она не разъ думывала, что съ ней будетъ, если она не выйдетъ замужъ. И ей пріятна была мысль, что если она не выйдетъ замужъ, то она устроитъ всетаки хорошо в независимо свою жизнь. Старый Князь былъ на противной сторонѣ, потому что онъ прожилъ счастливо жизнь съ Княгиней въ старыхъ условіяхъ и не могъ переносить спокойно толковъ о томъ, что онъ прожилъ счастливо жизнь, потому что былъ неразвитъ онъ и она. Алексѣй Александровичъ былъ на противной сторонѣ, потому что онъ былъ несчастливъ только отъ этихъ въ воздухѣ распространенныхъ, какъ онъ думалъ, и сообщившихся его женѣ толковъ о свободѣ женщины. Константинъ Левинъ былъ на той же сторонѣ, потому что у него не было другаго идеала счастья, какъ семья въ старомъ видѣ. Сергѣй Левинъ какъ въ томъ вопросѣ, такъ и въ этомъ, былъ à cheval[1274] на обѣихъ сторонахъ. Онъ, думая быть всегда необыкновенно широкъ въ своихъ возрѣніяхъ, былъ какъ колѣно на магнитной стрѣлкѣ: если стрѣлка показывала на 0, онъ показывалъ на 90°, если на 10, онъ на сто. Сочувствіе его, какъ человѣка, воспитаннаго въ хорошей семьѣ, было на сторонѣ statu quo,[1275] но онъ, стараясь обнять весь вопросъ, указывалъ на половину круга.
— Позвольте, какія же права, которыхъ онѣ не имѣютъ, требуютъ женщины, — сказалъ Сергѣй Левинъ.
— Права высшаго образованія.
— Но они даны, и сомнительно, чтобы женщины могли ими воспользоваться.
— Это другой вопросъ. Но потомъ права заниманія должности, службы, гражданской дѣятельности, — сказалъ Юркинъ; — надо не забывать того, что порабощеніе женщинъ такъ велико и старо, что мы часто не хотимъ понимать той пучины, которая отдѣляетъ ихъ отъ насъ.
— Но вы сказали — права, — сказалъ Сергѣй Левинъ, дождавшись молчанія Юркина, — права заниманія должности присяжнаго, гласнаго, предсѣдателя управы,[1276] права служащаго, члена парламента.
— Безъ сомнѣнія.
— Я согласенъ съ вами, что женщины, хотя и какъ рѣдкое исключеніе, могутъ занимать эти мѣста, но, мнѣ кажется, вы неправильно употребили выраженіе: права. Вѣрнѣе бы было сказать: обязанности. Всякій согласится, исключая людей презрѣнныхъ, что, исполняя какую нибудь должность присяжнаго, гласнаго, телеграфнаго чиновника, Министра, мы чувствуемъ, что исполняемъ обязанность. И потому вѣрнѣе выразиться, что женщины ищутъ обязанностей, и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому ихъ желанію помочь общему мужскому труду.
— Совершенно справедливо, — подтвердилъ Алексѣй Александровичъ,[1277] — но вопросъ состоитъ въ томъ, способны ли они къ этимъ обязанностямъ, — сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Я думаю, что нѣтъ.
— Этаго мы не можемъ утверждать, — сказалъ Сергѣй Левинъ.
— Разумѣется, — вставилъ Степанъ Аркадьичъ, — когда образованіе будетъ распространено между женщинами...
— А пословица, — сказалъ князь, — при дочеряхъ можно: волосъ...
— Точно также думали о неграхъ до их освобожденія, — сказалъ Юркинъ.
— Я не отрицаю того, что это можетъ быть, — продолжалъ Алексѣй Александровичъ, — но я нахожу только, что странно людямъ искать обязанностей, когда мы видимъ, что обыкновенно убѣгаютъ ихъ.
— Обязанности сопряжены съ правами: власть, деньги, почести; ихъ то ищутъ женщины, — сказалъ Юркинъ.
— Все равно, какъ я бы искалъ права быть кормилицей и обижался бы, что женщинамъ платятъ, a мнѣ не хотятъ.
Туровцинъ помиралъ со смѣху, и даже Алексѣй Александровичъ улыбнулся.
— Да, но мущина не можетъ кормить, — смѣясь сказалъ Юркинъ, — а женщина...
— Нѣтъ, Англичанинъ выкормилъ на кораблѣ своего ребенка, — сказалъ Старый Князь. — Позволяю себѣ эту вольность разговора при своихъ дочеряхъ. Сколько такихъ Англичанъ, столько же и женщинъ будетъ чиновниковъ.
Дѣйствительно, вопросъ въ томъ, способны ли женщины. Одни отрицали, указывая на то, что не было великихъ людей, другіе утверждали, называя Сафо, Жоржъ Зандъ, Іоанну Даркъ и Екатерину. Въ этомъ разговорѣ Константинъ Левинъ тоже сдѣлалъ свое замечаніе.[1278]
Онъ сказалъ, что ему вопросъ представляется такъ: бабы умѣютъ лучше жать, мужики лучше косить. Если у меня все скошено, я заставлю мужиковъ жать, если все сжато, я заставлю бабъ косить, но это въ хозяйствѣ никогда не бываетъ, а въ жизни еще меньше. Мужское дѣло никогда не передѣлано и женское еще того меньше.
— Вопросъ женскій я бы понялъ тогда, когда бы женщинамъ дѣлать было нечего, а этаго нѣтъ.
— Какъ нѣтъ? Сколько мы видимъ женщинъ одинокихъ, безъ дѣла и средствъ, кромѣ иголки.[1279] Мы говоримъ въ общемъ. И дѣйствительно, посмотрите на народъ. Никогда нѣтъ женщины безъ дѣла. Болѣ того, нѣтъ семьи безъ помощницъ женщинъ: бабка, дѣвка-нянька. Одна мать не въ силахъ передѣлать все женское дѣло въ семьѣ, и ей нужны помощницы. Въ народѣ онѣ въ видѣ нянекъ, бабокъ, у насъ въ видѣ гувернантокъ — иностранокъ, учительницъ и т. п.
— Да, но что же дѣлать дѣвушкѣ, у которой нѣтъ семьи? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, вспоминая о Чибисовой, которую онъ все время имѣлъ въ виду, ратуя за женщинъ.
— Если разобрать хорошенько исторію этой дѣвушки, то вы найдете, что она бросила семью или свою или сестрину, гдѣ она могла имѣть женское дѣло.
— Да, но быть въ зависимости, — сказала Дарья Александровна, бывшая за свободу женщинъ, потому что она одна вела семью и чувствовала недостатокъ въ себѣ мужскаго элемента, — быть въ зависимости тяжело. Или просто не выйдетъ замужъ.
И около хозяйки начался свой разговоръ.
— Но мы стоимъ за принципъ, за идею, — кричалъ басомъ Юркинъ, — женщина хочетъ имѣть право быть независимой, образованной. Она стѣснена, подавлена сознаніемъ невозможности этаго.
— А я стѣсненъ и подавленъ тѣмъ, что меня не примутъ въ кормилицы Воспитательного Дома, — опять сказалъ Старый Князь, къ великой радости Туровцина и тютька, помиравшаго со смѣха.
— Въ чемъ стѣсненіе? Что въ бракѣ права не равны? Общественное мнѣніе иначе смотритъ на отношенія супруговъ, — говорилъ Юркинъ уже въ то время, какъ доѣдали пирожное.
Отношенія супруговъ — невѣрность — были щекотливый вопросъ при дамахъ только, какъ думали Юркинъ и Левинъ, и потому они прекратили разговоръ на шуткѣ Князя, что онъ жалѣетъ о томъ, что женщины не просятъ права носить закрытые лифы, которое бы онъ охотно далъ имъ. Но какъ только дамы вышли, еще стоя, Юркинъ сталъ продолжать разговоръ, высказывая главную мысль своей стороны, ту мысль, съ которой надо бьло начать разговоръ: условія и жизни супруговъ, казни общественнаго мнѣнія при невѣрности жены и снисхожденіе къ мужу. Кричалъ онъ басомъ, тормоша свои сѣдые волоса, закатывая глаза и не замѣчая каменности выражения, установившаяся при этихъ словахъ на лицѣ Алексѣя Александровича, и сконфуженнаго виду, съ которымъ Степанъ Аркадьичъ взглянулъ въ гостиную, не слышитъ ли жена.
Сергѣй Левинъ, очевидно полагая, что теперь ужъ онъ ничего новаго не услышитъ и что Юркинъ будетъ размазывать давно знакомую ему размазню, пошелъ въ гостиную за дамами, но Константинъ Левинъ продолжалъ споръ, который заинтересовалъ его.
— Эта неровность осужденія, — сказалъ Константинъ Левинъ, тоже незамѣтивши неловкости этаго разговора, — происходитъ только отъ того, что жена невѣрная вводитъ чужихъ дѣтей въ семью.
— Этотъ то общественный законъ ложенъ. Почему дѣти жены его дѣти и почему его дѣти отъ другой не ея дѣти?
— Тогда необходимо измѣнить все учрежденіе брака, — спокойно сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Нѣтъ, я не курю, благодарю, — отвѣтилъ онъ Степану Аркадьичу, который хотѣлъ отвести его.
— И необходимо измѣнить въ этомъ вопросъ, — смѣло сказалъ Юркинъ.[1280]
— Но какъ?
— Очень просто, — кричалъ Юркинъ. — Полная свобода. Измѣна женщины своему мужу есть только заявленіе своего равнаго мущинѣ права.[1281] Женщина сходится съ мужемъ и расходится, когда она хочетъ.
— Но вѣдь это очень не выгодно для женщинъ, — сказалъ Константинъ Левинъ. — Мущина, ошибившійся и оставляющій женщину, можетъ быть счастливъ съ другой, но женщина, дѣвушка...
— Это предразсудокъ.
— Да, предразсудокъ, какъ тотъ, что я люблю есть ягоды съ куста, а не съ лотка, захватанныя разнощикомъ.
Юркинъ засмѣялся.[1282]
— Пойдемъ къ дамамъ, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ Алексѣю Александровичу.[1283]
— Да, сейчасъ.[1284]
— A дѣти? — спросилъ Левинъ.
Но Юркинъ откинулъ шутя это возраженіе.
— Дѣти, по моему мнѣнію, составляютъ обязанность государства.[1285] Съ общей точки зрѣнія, — продолжалъ Юркинъ, человѣчество только выиграетъ отъ этаго, и не будетъ монашествующихъ по ложному понятію супруговъ, каковыхъ много, и больше будетъ населеніе.
Алексѣй Александровичъ тяжело вздохнулъ, чувствуя, что онъ не найдетъ здѣсь не только рѣшенія занимавшаго его дѣла, но что они даже и не знаютъ того, что его занимаетъ. Они говорили, какъ бы говорили дѣти и женщины о томъ, что глупо и брить бороду и носить бороду, потому что у нихъ не выросла еще борода.
— Позвольте, нѣтъ, позвольте, — заговорилъ[1286] Левинъ. — Семья до сихъ поръ была единственное гнѣздо, въ которомъ выводятъ людей;[1287] какимъ же образомъ... — Онъ вдругъ остановился, жаръ спора его простылъ, и, несмотря на то, что ему легко было теперь опровергнуть своего спорщика, онъ улыбнулся и, что то пробормотавъ, подошелъ къ Кити, вышедшей къ двери.
— А я думаю, что если жена измѣнила, — сказалъ Туровцинъ, которому давно хотѣлось вступить въ разговоръ, — надо дать пощечину ему и убить его или чтобъ онъ убилъ — вотъ и все.[1288]
— Съ какой же цѣлью? — сказалъ Юркинъ.
— Ужъ я не знаю, съ какою цѣлью, но больше дѣлать нечего, вотъ и все.[1289]
* № 102 (рук. № 42).
— Я думалъ, вы къ фортепіано идете, — сказалъ Левинъ, подходя къ Кити, — вотъ это, чего мнѣ недостаетъ въ деревнѣ, — музыки.
— Нѣтъ, я шла только, чтобъ васъ вызвать, и благодарю, — сказала она съ своимъ подаркомъ-улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить. Вѣдь никогда одинъ не убѣдитъ другаго.
— Да, правда, сказалъ Левинъ, — никогда или очень рѣдко не найдешь тѣла противника подъ кирасой. Когда найдешь, тогда можно спорить.
Она сморщила лобъ, стараясь понять. Но только что онъ началъ объяснять, она уже поняла. Они стояли у разставленнаго карточнаго стола съ мѣлками. Она сѣла, чертя мѣломъ.
— Я понимаю. Надо узнать, за что онъ споритъ, тогда...
Левинъ радостно улыбнулся. Такъ ему поразителенъ былъ этотъ переходъ отъ длиннаго, многословного спора-разговора, гдѣ съ такимъ трудомъ понимали другъ друга, къ этому лаконическому и ясному, безъ словъ почти, сообщенію самыхъ сложныхъ мыслей. Онъ и не разъ и прежде испытывалъ разочарованье при спорахъ съ самыми умными людьми — именно то чувство, что послѣ огромныхъ усилій, огромнаго количества логическихъ тонкостей и словъ при спорѣ приходили наконецъ къ сознанію, что то, что ты давно бился доказать, онъ знаетъ давнымъ давно, сначала спора, но не хочетъ сказать, но не любитъ это или любитъ другое, совершенно противуположное. Левинъ испытывалъ, что иногда, когда поймешь, что любитъ тотъ человѣкъ, то самъ полюбишь это самое, согласишься или, наоборотъ, выкажешь наконецъ то, что любишь и изъ за чего придумываешь доводъ, и если случится, что разскажешь съ любовью, то вдругъ всѣ разумные доводы отпадаютъ, какъ ненужные, и люди согласны. Убѣдиться можно только любовью. Любовью понять, что любитъ другой. И теперь, говоря съ Кити, онъ чувствовалъ послѣ тяжелаго разговора съ Юрковымъ необъяснимое наслажденіе въ этомъ непосредственномъ пониманіи другъ друга. Они заговорили о томъ же предметѣ — о свободѣ и занятіяхъ женщинъ. Левинъ настаивалъ на томъ, что женщина найдетъ себѣ дѣло женское въ семьѣ.
— Нѣтъ, — сказала Кити, слегка покраснѣвъ, — очень можетъ быть, что она такъ поставлена, что не можетъ безъ униженья войти въ семью, и неужели ей выдти за перваго замужъ?
Онъ понялъ ее съ намека.
— О да, — сказалъ онъ, — чѣмъ самостоятельнее женщина, тѣмъ лучше.
Онъ понялъ все, что ему доказывалъ Юрковъ только тѣмъ, что видѣлъ въ сердцѣ Кити страхъ дѣвства и униженья, и, любя это сердце, онъ почувствовалъ этотъ страхъ и униженье и былъ согласенъ.
Въ это самое послѣобѣда это взаимное пониманіе ихъ другъ друга получило еще странное и поразившее ихъ обоихъ подтвержденіе. Они сидѣли у стола, она все играла мѣлкомъ, глаза ея блестѣли страннымъ и тихимъ блескомъ. Онъ, подчиненный ея настроенію, чувствовалъ во всемъ существѣ своемъ счастливое напряженіе.
— Я давно хотѣла спросить у васъ, — сказала она, — чертя мѣломъ.
— Пожалуйста, спросите.
Она взглянула на него вопросительно и долго.
— Вотъ, — сказала она и написала начальныя буквы французской фразы.
Онъ посмотрѣлъ пристально, съ тѣмъ видомъ, что жизнь его зависитъ отъ того, пойметъ ли онъ эти слова. Изрѣдка онъ взглядывалъ на нее. «То ли это, что я думаю? Если да, то лицо ее должно имѣть серьезное выраженіе». Но лицо ее, прелестное, улыбающееся лицо, говоритъ, что минута эта важная и торжественная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и скрываетъ что-то.
Долли утѣшилась совсѣмъ отъ горя, произведеннаго ея разговоромъ съ Алексѣемъ Александровичемъ, когда она увидала эти двѣ фигуры — Кити съ мелкомъ въ рукахъ и съ улыбкой какой то счастливой до смѣлости, глядящей на него, и его красивую фигуру, нагнувшуюся надъ столомъ, съ[1290] горящими глазами, устремленными то на столъ, то на нее. Онъ вдругъ просіялъ, онъ понялъ. Онъ понялъ, что она спрашивала его: «когда вы послѣдній разъ были у насъ, отчего вы не сказали, что хотѣли?» Онъ взглянулъ на нее вопросительно робко. «Такъ ли?» «Да», отвѣчала ея улыбка. Онъ схватилъ мѣлъ напряженными, дрожащими пальцами и написалъ, сломавъ мѣлъ, начальныя буквы слѣдующаго: «Хорошо ли я сдѣлалъ, что тогда не сказалъ то, что хотѣлъ». Она облокотилась на руку, взглянула на него.
— Хорошо, — сказала она. — Но постойте, — и она написала длинную фразу.
Онъ сталъ читать и долго не могъ понять, но такъ часто взглядывалъ въ ея глаза, что въ глазахъ онъ понялъ все, что ему нужно было знать. И онъ написалъ три буквы. Но это было слишкомъ понятно. Онъ стеръ их и написалъ другую фразу. Но онъ еще не кончилъ писать, какъ она читала за его рукой и сама докончила и написала вопросъ.
— Въ Секретаря играете, — сказалъ Князь, — подходя. — Ну, поѣдемъ однако, если ты хочешь поспѣть въ театръ.
Левинъ всталъ и проводилъ Кити до дверей.[1291]
* № 103 (рук. № 43).
«Дать пощечину и убить, — повторялъ себѣ Алексѣй Александровичъ слова Туровцина, — потому что больше дѣлать нечего». И странно, какъ ни твердо онъ былъ убѣжденъ, что это глупо, эта мысль преслѣдовала, и онъ одинъ, самъ съ собой, краснѣлъ, и ему было стыдно, что онъ не сдѣлалъ того, что было глупо.
Слова же Дарьи Александровны о прощеніи онъ вспоминалъ съ отвращеніемъ и злобой. «Нужно дѣлать что слѣдуетъ», сказалъ онъ себѣ.
Адвоката еще не было, и лакей Алексѣя Александровича, ушедшій со двора, еще не возвращался.
Алексѣй Александровичъ прошелъ къ себѣ и, взявшись за бумаги, приготовилъ все, что нужно было передать адвокату. Когда адвокатъ явился, Алексѣй Александровичъ[1292] сообщилъ ему, что онъ окончательно рѣшился на начатіе дѣла и проситъ его приступить къ исполненію необходимыхъ формальностей. Онъ сѣлъ къ столу и взялъ свои выписки. Но тутъ лакей Алексѣя Александровича вошелъ въ комнату.
— Что ты?
— Двѣ телеграмы. Извините, Ваше Превосходительство, я только вышелъ.
— Извините, — обратился Алексѣй Александровичъ къ адвокату и взялъ телеграмы: одну — это было извѣстіе о назначеніи Е. въ Польшу. Алексѣй Александровичъ открылъ другую. Телеграма карандашемъ синимъ, перевранная, какъ всегда, говорила: «Москва, Дюсо, Алексѣю Алабину».[1293] Подпись была. Анна. «Умираю. Прошу, умоляю пріѣхать. Умру съ прощеніемъ спокойнѣе».[1294]
— Извините меня, — сказалъ онъ адвокату, — я долженъ ѣхать въ Петербургъ.
Адвокатъ вышелъ. Алексѣй Александровичъ взглянулъ въ газету о времени отхода поѣздовъ и сталъ ходить по комнатѣ. «Но правда ли?[1295] Нѣтъ обмана теперь, передъ которымъ она бы остановилась.[1296] Да, она должна родить.[1297] Да, роды.[1298] Отъ него должна родить. Дать пощечину и убить, но надо ѣхать».
— Петръ, я ѣду въ Петербургъ.
На другое утро онъ уже въ раннемъ туманѣ Петербурга съ чувствомъ нечистоты, усталости и раздраженія дороги, уже проѣхавъ пустынный Невскій, подъѣзжалъ къ своему дому на Владимирской. На мостовой лежала солома, у подъѣзда стояла извощичья карета.
Какъ всѣ люди рѣшительные и спокойные, Алексѣй Александровичъ, обдумавъ разъ свое положеніе и предстоящую ему дѣятельность, уже не думалъ о томъ, что будетъ. Во всякомъ случаѣ, онъ рѣшилъ, что увидитъ ее. Если это обманъ, онъ промолчитъ и уѣдетъ навсегда изъ дома. Если она дѣйствительно желаетъ его видѣть передъ смертью, онъ[1299] утѣшитъ ее.
<Но во 2-мъ случаѣ опять могло быть два случая. Она умираетъ и раскаивается и умретъ,[1300] тогда онъ возьметъ ея ребенка и воспитаетъ его съ своимъ и[1301] ему скажетъ и, если нужно, угрозой добьется того, чтобы онъ не попадался ему на глаза. Но если она раскаивается, онъ проститъ ее и она не умретъ? Тогда онъ, простивъ ее, возьметъ ее и постарается, по совѣту Долли, спасти отъ погибели и увезетъ изъ Петербурга. Этаго предложенія онъ не разрѣшилъ, этаго не могло быть.>[1302]
* № 104 (рук. № 43).
<Съ этой поры кротость, спокойствіе, заботливость о больной, о дѣтяхъ и ясность отношеній со всѣми были таковы, что никого не удивляла роль Алексѣя Александровича: ни доктора ни Акушерку, ни людей, ни друзей и знакомыхъ. Съ точки зрѣнія свѣта.
Любовникъ былъ тутъ всегда, и мужъ былъ здѣсь, и мужъ заботился о томъ, чтобы любовнику была постель, когда онъ оставался ночевать.[1303] Видѣвшіе это, удивлялись и ужасались тому положенію, въ которое поставилъ себя Алексѣй Александровичъ, но, видя его, находили это простымъ и естественнымъ.
Анна Аркадьевна стала поправляться. Она тоже какъ бы забыла о томъ положеніи, въ которомъ были мужъ и любовникъ. Она видѣла того и другого порознь и вмѣстѣ у своей постѣли. Разговоровъ не было никакихъ, кромѣ общихъ.
Но за день благополучнаго кризиса она, увидавъ Алексѣя Александровича и Удашева вмѣстѣ, вдругъ,[1304] велѣвъ подать ребенка, покраснѣла и заплакала.
Въ этотъ вечеръ Алексѣй Александровичъ пришелъ къ ней и спросилъ, не хочетъ ли она, чтобы онъ уѣхалъ?
— Нѣтъ, ради Бога не оставляйте меня.
— Такъ я скажу, чтобы Удашевъ уѣхалъ.
— Да, да, какъ ты понялъ меня. Позови, я сама скажу ему.
Алексѣй Александровичъ сказалъ Удашеву, что онъ совѣтуетъ ему не пріѣзжать больше, съ мѣсяцъ, до совершеннаго поправленія.
— Неужели все кончено, — сказалъ онъ прощаясь.
— [1305]Да, лучше. Но пріѣзжай черезъ мѣсяцъ, когда я буду въ силахъ, я тогда скажу все.
Онъ уѣхалъ. Черезъ мѣсяцъ онъ пріѣхалъ. Она поцѣловала его руку, онъ поцѣловалъ ее. Она закричала:
— Уйди! уйди! Нѣтъ, поздно. Ахъ, Боже мой, зачѣмъ я не умерла!
Алексѣй Александровичъ ходилъ по залѣ. Когда онъ вышелъ, онъ пошелъ къ женѣ. По взгляду на ея стыдъ онъ понялъ и ничего не сказалъ. Весь вечеръ Удашевъ пробылъ; пріѣхалъ на другой день. Алексѣй Александровичъ перешелъ въ кабинетъ. Удашевъ цѣлые дни проводилъ у нее. Алексѣй Александровичъ опять сталъ ѣздить на службу. Часто, приходя на ея половину, онъ дѣлалъ распоряженія объ удобствахъ для дѣтей, для нее и любовника.>
* № 105 (рук. № 44).
«Вы можете затоптать въ грязь», слышалъ онъ слова Алексѣя Александровича и видѣлъ его предъ собой и видѣлъ прелестное съ горячечнымъ румянцемъ и блескомъ глазъ лицо Анны, съ нѣжностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексѣя Александровича. Онъ опять вытянулъ ноги и бросился на диванъ въ прежней позѣ. Но и съ закрытыми глазами онъ видѣлъ лицо Анны, такимъ, какое оно было въ одинъ памятный вечеръ до скачекъ. Она была покрыта платкомъ и, сдѣлавъ ширмы съ обѣихъ боковъ лица, смотрѣла на него изъ этой глубины.
И одна за другой вспомнились, съ чрезвычайной быстротой смѣняясь одно другимъ, воспоминанія о счастливѣйшихъ минутахъ, перемѣшиваясь съ воспоминаніемъ своего униженія передъ простотой мужа. Онъ все лежалъ, стараясь заснуть, хотя чувствовалъ, что не было ни малѣйшей надежды. Но онъ боялся встать.[1306]
«Это кончено для меня», оказалъ онъ себѣ и невольно спросилъ: «что же осталось?» Мысль его быстро обѣжала[1307] жизнь внѣ его любви. Честолюбіе — Серпуховской — свѣтъ,[1308] лошади, дворъ. И безъ нея, съ сознаніемъ своего униженія и безъ руководства въ жизни — все это показалось такъ ужасно, что онъ не могъ больше лежать. Онъ вскочилъ,[1309] снялъ сертукъ, помочи, открылъ грудь, чтобы дышать свободнѣе. Испуганно оглянулся, затворилъ дверь и, ни секунду не задумываясь, взялъ револьверъ, лежавшій на столѣ,[1310] оглянулъ его, перевернулъ на разряженный стволъ и выстрѣлилъ себѣ въ лѣвую сторону груди. Онъ почувствовалъ ударъ какъ бы палкой въ бокъ, бросилъ револьверъ и, закрывъ глаза, хотѣлъ упасть, но удержался за край стола и сѣлъ на землю.
— Не попалъ, — проговорилъ онъ, шаря руками, открывая глаза и отъискивая револьверъ. Револьверъ былъ подлѣ него. Онъ искалъ дальше. Ощупавъ его ногой, онъ потянулся къ нему и упалъ. Слуга шелъ по гостиной. Онъ услыхалъ его шаги и, торопливо ухвативъ револьверъ, перекатился на бокъ и выстрѣлилъ въ себя еще разъ.
***
Вронскій не убилъ себя, обѣ раны были не только не смертельны, но легки. Покушеніе его на самоубійство было скрыто настолько, что мать его узнала про это только уже тогда, когда онъ совершенно оправился, и въ Петербургѣ говорили про это, какъ про слухъ, который подтверждался одними и опровергался другими. Во время его болѣзни и выздоровленія его видѣли только Яшвинъ, братъ его и Лиза, жена брата, которая[1311] пріѣзжала каждый день навѣщать его, и Серпуховской. Первые дни онъ ничего не говорилъ и только, напряженно сжавъ свои сильныя скулы, вопросительно и строго смотрѣлъ на тѣхъ, которые перевязывали его.[1312] Ни съ кѣмъ онъ не говорилъ про то, что было причиною его раны, и упорно съ такимъ выраженіемъ молчалъ, когда начинали говорить про это, что скоро перестали его спрашивать, и онъ ни разу никому не высказалъ своихъ чувствъ.
* № 106 (рук. № 45).
<III часть.> I.
— Да, но какимъ же образомъ соединить мое сознаніе вѣчной душисъ уничтоженіемъ ея?
— Все это очень просто: души нѣтъ, а есть жизненная сила, и она имѣетъ конецъ и начало. Все это очень просто.
Разговоръ умныхъ людей.[1313]Ошибка, сдѣланная Алексѣемъ Александровичемъ въ тотъ часъ, когда онъ изъ Москвы подъѣзжалъ къ дому умирающей жены и когда онъ рѣшилъ, что онъ проститъ, если раскаянье умирающей искренно, и навсегда броситъ ее, если раскаянье притворно, — ошибка эта, состоящая въ томъ, что не обдумалъ той случайности, что раскаянье искренно и онъ проститъ, а она не умретъ, эта ошибка черезъ два мѣсяца послѣ его возвращенія въ Москву представилась ему во всей силѣ. Мало того что онъ простилъ ее, онъ простилъ и его въ ту страшную минуту размягченія, и теперь онъ, всегда ясно обдумывавшій свои поступки, чувствовалъ, что сталъ въ невыносимое для себя самаго, для нихъ обоихъ и для свѣта, въ постыдное и невозможное положеніе.[1314] И выхода изъ этаго положенія онъ не видѣлъ. Тщетно призывалъ онъ себѣ на помощь христіанское чувство прощенія: чувство это наполняло его душу, но оно было не достаточно для руководства въ томъ странномъ положеніи, въ которомъ онъ находился. Онъ испытывалъ опять тоже, что онъ испытывалъ тогда, когда ему сказали, что одно, что можетъ сдѣлать обманутый мужъ, — это съ оружіемъ въ рукахъ заступиться за свою честь. Онъ испытывалъ то, что религія не отвѣчала на всѣ вопросы, что какъ тогда, такъ и теперь, кромѣ благой духовной силы, которая руководила имъ,[1315] была какъ бы[1316] другая грубая сила, стольже, еще болѣе властная,[1317] которая требовала отъ него исполненія своей воли. И въ настоящемъ случаѣ[1318] эта сила требовала отъ него какого то поступка.[1319]
Какъ ни странно было его положеніе въ домѣ во время 1-го дня ея болѣзни, когда Вронскій былъ весь день тутъ же, странность этого положенія не замѣчали ни окружающіе, ни онъ самъ: вниманіе всѣхъ было сосредоточено на ней, пока въ ней боролась жизнь съ смертью, но когда докторъ объявилъ, что опасность миновалась и что есть болѣе вѣроятностей жизни, чѣмъ смерти, несмотря на то, что Вронскій не ѣздилъ болѣе, Алексѣй Александровичъ[1320] чувствовалъ себя въ невозможномъ положеніи, когда прошло то размягченіе, произведенное въ ней близостью смерти. Алексѣй Александровичъ замѣтилъ, что Анна боялась его, не могла смотрѣть ему прямо въ глаза. Докторъ и акушерка постоянно высылали его изъ ея комнаты и удивлялись, что она такъ медленно поправляется. Алексѣй Александровичъ же чувствовалъ, что онъ былъ помѣхой ея выздоровленію, что простить — одно дѣло и возможно; а возстановить, склеить разбитую семейную жизнь — другое дѣло и невозможно. Но что дѣлать, что предпринять, онъ не зналъ.
Въ Министерствѣ его сослуживцы и подчиненные, въ свѣтѣ его знакомые, домашніе, прислуга — всѣ замѣчали въ немъ растерянность,[1321] нерѣшительность и стыдливость, возбуждавшія жалость. Онъ забывалъ то, что начиналъ говорить, не слушалъ то, что говорили, и имѣлъ видъ человѣка, который хочетъ что то спросить и не рѣшается. Онъ пріѣхалъ въ 4 часа изъ Министерства.[1322] Входя въ свою переднюю, послѣ душевной тишины, которую давала ему работа въ Министерствѣ, онъ испытывалъ чувство подобное человѣку, который входилъ въ застѣнокъ пытки. Онъ былъ такъ озабоченъ своими мыслями, что, входя на крыльцо, не замѣтилъ двухъ экипажей, изъ которыхъ одинъ — англійская въ шорахъ упряжь княгини Бетси. Только онъ вошелъ в переднюю, онъ увидалъ красавца лакея въ галунахъ и мѣдвежей пелеринкѣ, державшаго бѣлую ротонду американской собаки.
— Кто здѣсь? — уныло спросилъ Алексѣй Александровичъ.
— Княгиня Тверская и Степанъ Аркадьичъ.
Все время болѣзни его жены, все это время отчаянія для него Алексѣй Александровичъ замѣчалъ, что свѣтскіе знакомые его, особенно женщины, принимали какое то особенное участіе въ немъ и его женѣ. Онъ замѣчалъ во всѣхъ или ему казалось, что онъ замѣчалъ во всѣхъ съ трудомъ скрываемую радость чего то, ту самую радость, которую онъ видѣлъ въ глазахъ адвоката. Всѣ какъ будто были въ восторгѣ, какъ будто выдавали кого то замужъ и считали нужнымъ выказывать въ отношеніи ея и его особенное сочувствіе. Когда его встрѣчали, всѣ съ едва скрываемой радостью спрашивали объ ея здоровьѣ; и лакеи, и господа, и дамы безпрестанно пріѣзжали узнавать объ ея здоровьи. И Степанъ Аркадьичъ, пріѣхавшій въ Петербургъ, тоже, казалось Алексѣю Александровичу, чему то радовался.
Алексѣй Александровичъ пошелъ къ спальнѣ жены. Онѣ не слыхали, какъ онъ подходилъ по мягкому ковру, и онъ услыхалъ, что онѣ говорили о томъ, чего бы онѣ не хотѣли, чтобы онъ слышалъ. Бетси говорила:
— Если бы онъ не уѣзжалъ, я бы поняла вашъ отказъ и его тоже. Но вашъ мужъ долженъ быть выше этаго.
— Зачѣмъ искушать себя? Не говорите этаго.
— Да, но вы не можете не желать его видѣть.
— Отъ этого то я не хочу.
Алексѣй Александровичъ тихо повернулся и прошелъ въ боковую дверь, ведущую въ дѣтскую. Онъ имѣлъ привычку, возвращаясь изъ Министерства, обходить жену и сына.
Въ первой дѣтской Сережа съ ногами сидѣлъ на стулѣ и рисовалъ что то, разсказывая, что онъ рисуетъ. Гувернантка съ чулкомъ, который она штопала, сидѣла подлѣ. Алексѣй Александровичъ поздоровался съ сыномъ, отвѣтилъ на учтивый вопросъ гувернантки о здоровьи жены нынче, что, кажется, лучше, и спросилъ, отчего такъ кричитъ беби.
— Я думаю, что кормилица не годится, — сказала гувернантка. — Бѣдняжка голодна, мнѣ кажется.
Алексѣй Александровичъ вошелъ въ другую дверь. Дѣвочка лежала, откидывая головку и корчась на рукахъ кормилицы, и не хотѣла брать грудь и замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшихся надъ ней. Алексѣй Александровичъ отозвалъ няню.
— Мамзель Боль говоритъ, что молока нѣтъ у кормилицы. Я и сама думаю, Алексѣй Александровичъ.
— Такъ чтоже вы не скажете?
— Кому же сказать? Анна Аркадьевна нездоровы все. Да и вы тоже.
Ребенокъ кричалъ еще громче и злобнѣе, закатываясь и хрипя. Няня, махнувъ рукой, подошла къ нему и взяла на руки и, сунувъ соску, стала ходить, качая.
— Надо доктору сказать осмотрѣть кормилицу, — сказалъ Алексѣй Александровичъ.
— Несчастный ребенокъ, — сказала няня, шишикая.
— Давно вы его носили къ Аннѣ Аркадьевнѣ? — спросилъ Алексѣй Александровичъ.
— Да ужъ съ недѣлю будетъ. — Ребенокъ затихъ. — А можетъ, животикъ, — сказала няня.
— Да вѣдъ вамъ видно, есть ли молоко.
— Молока мало, точно.
«То ли было съ первымъ ребенкомъ, — думалъ Алексѣй Александровичъ. — Она и не видитъ его. Я долженъ заботиться объ его ребенкѣ».
Онъ вышелъ торопливо, не отвѣчая на вопросъ Сережи, можно ли[1323] идти въ залу.
«Да, это не можетъ такъ продолжаться», думалъ онъ, но, выйдя въ столовую, онъ позвонилъ и велѣлъ пришедшему слугѣ послать за докторомъ, чтобы осмотрѣть кормилицу и ребенка. Ему не хотѣлось идти къ ней, не хотѣлось видѣть Княгиню Бетси; но онъ, сдѣлавъ усиліе надъ собой, пошелъ въ спальню, которая была для него самымъ труднымъ застѣнкомъ. Чтобы опять не подслушать невольно, онъ кашлянулъ, подходя къ двери, и вошелъ.
Анна въ сѣромъ халатѣ, съ заплетенными косами на головѣ, сидѣла на кушеткѣ. Въ похудѣвшемъ лицѣ ея странные глаза ея горѣли огнемъ, и лихорадочный румянецъ покрывалъ щеки. Какъ и всегда при видѣ мужа, оживленіе лица ея вдругъ изчезло, она опустила голову и безпокойно оглядывалась на Бетси и на Алексѣя Александровича, безпокоясь, очевидно о томъ, какъ они встрѣтятся. Алексѣй Александровичъ не видалъ Бетси послѣ своей поѣздки въ Москву. Бетси въ шляпѣ, гдѣ то на верху парившей надъ ея головой, какъ колпачокъ надъ лампой, и въ сизомъ платьи съ лиловыми, грубыми полосами на лифѣ съ одной стороны, а на юбкѣ съ другой стороны, вообще одѣтая по крайней послѣдней модѣ, сидѣла рядомъ съ Анной, прямо держа свой высокій станъ и, изогнувъ голову, ласковой улыбкой встрѣтила Алексѣя Александровича. Она протянула ему руку и крѣпко сжала ее.
— Я васъ знала всегда за необыкновеннаго человѣка, — сказала она ему по французски, но теперь я знаю васъ какъ человѣка съ великодушнымъ сердцемъ.
И она ласковой улыбкой поблагодарила его за его поступокъ въ отношеніи жены, выражая улыбкой то, что она жалуетъ его отъ себя орденомъ великодушія. Какъ ни обыкновенно то, что[1324] люди, которые сами неблагородны, особенно какъ будто цѣнятъ свое признаніе благородства въ другихъ, считая какъ будто высшей наградой то, что они признаютъ благородство, Алексѣя Александровича непріятно поразило это пожалованіе его въ великодушные отъ женщины, которая, какъ извѣстно всему Петербургу, проживая 120 тысячъ дохода своего мужа, жила съ любовникомъ, но непріятнѣе всего было то, что она позволяетъ себѣ говорить про самое задушевное и больное его мѣсто въ душѣ. Онъ холодно поклонился и, ей ничего не сказавъ, поцѣловалъ руку жены, спросивъ ее о здоровьи.
— Мнѣ, кажется, лучше, — сказала она, избѣгая его взгляда.
— Но у васъ лихорадочный цвѣтъ лица....
— Мы разговорились съ ней слишкомъ, — сказала Бетси. — Я чувствую, что это эгоизмъ съ моей стороны, и я уѣзжаю.
Она встала, но Анна съ стремительностью схватила ее за руку.
— Нѣтъ, побудьте, пожалуйста. Мнѣ нужно сказать вамъ. Нѣтъ, вамъ, — обратилась она къ Алексѣю Александровичу, и румянецъ вспыхнулъ краснѣе на ея щекахъ. — Я не хочу и не могу имѣть отъ васъ ничего скрытаго, — сказала она.
Алексѣй Александровичъ сѣлъ и трещалъ пальцами.
— Бетси говорила, что Графъ Вронскій желалъ быть у насъ передъ отъѣздомъ въ Ташкентъ.
Алексѣй Александровичъ поднялъ на нее свои прозрачные голубые глаза. Она не смотрѣла на него и, очевидно, торопилась высказать все, какъ это ни трудно ей было.
— Я сказала, что я не могу его видѣть.
— Вы сказали, мой другъ, что это будетъ зависѣть отъ Алексѣя Александровича, — поправила ее Бетси.
— Да нѣтъ, я не могу его видѣть, и это ни къ чему не поведетъ... — Она вдругъ остановилась, взглянула вопросительно на мужа (онъ не смотрѣлъ на нее), — однимъ словомъ я не хочу.
Алексѣй Александровичъ былъ блѣденъ; онъ подвинулся и хотѣлъ взять ея руку.
— Успокойтесь, Анна. Я благодарю васъ за ваше довѣріе.
Она хотѣла отдернуть свою руку отъ его влажной, съ большими надутыми жилами, руки, которая[1325] искала ее, но, видимо сдѣлавъ надъ собой усиліе, пожала его руку и съ полными слезъ глазами взглянула на него.
— Это отъ васъ зависитъ, — сказала Бетси, вставая. — Ну, прощайте, моя прелесть.
Она поцѣловала Анну и вышла. Алексѣй Александровичъ провожалъ ее.
— Прощайте, Алексѣй Александровичъ, еще разъ благодарю васъ, — сказала Бетси, остановившись въ маленькой гостиной и крѣпко пожимая ему руку. — Я посторонній человѣкъ, но я такъ люблю Анну и уважаю васъ, что я позволю себѣ совѣтъ. Примите его, Алексѣй есть олицетворенная честь, и онъ уѣзжаетъ.
— Благодарю васъ, Княгиня, за ваше участіе и совѣты; я привыкъ семейныя дѣла обдумывать и рѣшать самъ.
Онъ сказалъ это по привычкѣ съ достоинствомъ и тотчасъ же подумалъ,[1326] что какія бы онъ ни говорилъ слова, достоинства не могло быть въ его положеніи. И это онъ увидалъ по сдержанной, насмѣшливой улыбкѣ, съ которой Бетси взглянула на него послѣ его фразы.
Еще Бетси не успѣла выйти изъ комнаты, какъ Степанъ Аркадьичъ, сіяя свѣжестью, красотою и весельемъ лица, вошелъ въ комнату.
— А, Княгиня, вотъ пріятная встрѣча, — заговорилъ онъ, — а я былъ у васъ.
— Встрѣча на минутку, потому что я ѣду, — сказала Бетси, надѣвая перчатку.
— Что, Аннѣ лучше? Ну, слава Богу, — обратился онъ къ зятю. — Постойте, Княгиня, надѣвать перчатку, дайте поцѣловать вашу ручку. Ни за что я такъ не благодаренъ возвращенію старины въ модахъ, какъ цѣлованію рукъ. — Онъ поцѣловалъ руку Бетси. — Когда же увидимся?
— Вы не стоите, — отвѣчала Бетси улыбаясь.
И Степанъ Аркадьичъ, кокетничая съ Бетси, вышелъ съ нею провожать ее до кареты.
— Подите къ женѣ, не провожайте меня, — сказала Бетси Алексѣю Александровичу.
Алексѣй Александровичъ пошелъ къ женѣ. Она лежала, но, услыхавъ его шаги, поспѣшно встала и, отирая слезы,[1327] сѣла на прежнее мѣсто, испуганно глядя на него.
— Я очень благодаренъ вамъ за ваше довѣріе ко мнѣ, — кротко сказалъ Алексѣй Александровичъ,[1328] садясь подлѣ нея.
— И очень благодаренъ за ваше рѣшеніе; я тоже полагаю, что нѣтъ никакой надобности Графу Вронскому пріѣзжать сюда.
— Да я ужъ сказала, такъ что жъ повторять? — вдругъ съ раздраженіемъ, котораго она не успѣла удержать, сказала Анна.
«Никакой надобности, — подумала она, — пріѣзжать человѣку проститься съ той женщиной, которую онъ любитъ, для которой погубилъ себя, нѣтъ надобности видѣть своего ребенка отъ этой женщины — женщины, которая его одного любила и любитъ и которая не можетъ жить безъ него. Нѣтъ никакой надобности. Боже мой! Боже мой! зачѣмъ я не умерла и должна смотрѣть на ненавистнаго этаго великодушнаго человѣка». Она сжала руки и опустила блестящіе глаза на его руки съ напухшими жилами, которыя медленно потирали одна другую.
— Не будемъ никогда говорить объ этомъ, — прибавила она спокойнѣе.
— Мое одно желаніе состоитъ въ томъ, — треща пальцами, медленно началъ Алексѣй Александровичъ, — чтобы никогда не упоминать объ этомъ, и очень радъ видѣть...
— Что мое желаніе сходится съ вашимъ, — докончила она, звеня голосомъ, раздраженная теперь тѣмъ, что онъ такъ медленно говоритъ и что она знаетъ впередъ все, что онъ скажетъ.[1329]
— Да, — подтвердилъ онъ, — и Княгиня Тверская совершенно неумѣстно вмѣшивается въ самыя трудныя домашнія дѣла. То, что для нея кажется простымъ......
— Я ничему не вѣрю, что про нее говорятъ, — быстро сказала Анна, — я знаю, что она меня искренно любитъ.
Алексѣй Александровичъ вздохнулъ и помолчалъ. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него съ тихой ненавистью и всѣми силами души желая только однаго — быть избавленной отъ его постылаго присутствія.
— А я послалъ сейчасъ за докторомъ, — сказалъ Алексѣй Александровичъ.
— Я здорова, зачѣмъ мнѣ доктора?
— Нѣтъ, маленькая кричитъ и, говорятъ, у кормилицы молока мало.
— Для чего же вы не позволили мнѣ кормить, когда я умоляла объ этомъ? Все равно (Алексѣй Александровичъ понялъ, что значило это все равно) онъ ребенокъ, а его уморятъ. — Она позвонила и велѣла принести ребенка. — Я просила кормить, мнѣ не позволили, а теперь попрекаютъ.
— Я не попрекаю...
— Ужъ одно, что этотъ ребенокъ здѣсь... Боже мой! зачѣмъ мы не умерли. — И она зарыдала. — Простите меня, я раздражена, я несправедлива,[1330] уйдите.
Алексѣй Александровичъ вышелъ и пошелъ въ кабинетъ.
«Нѣтъ, это не можетъ такъ оставаться,[1331] — сказалъ себѣ Алексѣй Александровичъ, — нѣтъ, христіанское чувство прощенія — это одна сторона дѣла; прощеніе успокоило меня, дало мнѣ опору, да. — Онъ старался увѣрить себя, что это такъ было. — Но что дѣлать, какъ продолжать жизнь — это другая сторона дѣла, и я ничего не знаю. Знаю только то, что такъ это оставаться не можетъ. Она ненавидитъ меня, я думаю, съ своимъ духовнымъ величіемъ. — Алексѣй Александровичъ съ грустью чувствовалъ, что это такъ. — Необходимо предоставить ей выборъ, необходимо знать ее всѣ мысли, которыя она, очевидно, не въ силахъ выразить. Необходимо написать ей и вызвать ее на откровенный отвѣтъ».
Алексѣй Александровичъ сѣлъ къ столу, досталъ бумаги и хотѣлъ тотчасъ, такъ какъ оставалось еще два часа до обѣда, писать ей. Но что писать? Онъ всталъ, перекрестился и прочелъ[1332] «Отче нашъ». Опять сѣлъ и началъ: «Бывшій другъ и жена моя Анна», потомъ замаралъ. «Нѣтъ, изложу прямо, на черно дѣло». Онъ началъ:[1333] «Я желалъ и желаю однаго...» «Нѣтъ, не о себѣ. А изложить самую исторію дѣла». «Когда я въ первый разъ услыхалъ отъ васъ, — онъ поправилъ отъ тебя, — что отношенія наши прекращены»... «Да нѣтъ, что же излагать, она знаетъ все. Надо только сказать, что я рѣшилъ». Онъ замаралъ. «Положеніе это невозможно ни для тебя, ни для меня, ни для дѣтей». «Но какое же возможно?» подумалъ онъ. И вставъ, сталъ ходить.
Проводивъ княгиню Бетси до кареты и еще разъ поцѣловавъ ея ручку выше перчатки и навравъ ей такого неприличнаго вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей или смѣяться, Степанъ Аркадьичъ вернулся въ спальню и засталъ Анну въ слезахъ. Но личность Степана Аркадьича, и на всѣхъ дѣйствовавшая, какъ миндальное масло, смягчающе и успокоительно, подѣйствовала успокоительно и на Анну. Она разсказала ему все и призналась въ томъ, что она меньше чѣмъ когда нибудь чувствуетъ себя въ силахъ переносить видъ мужа.
— Я слыхала, что женщины любятъ людей даже за ихъ пороки, но я ненавижу его за его добродѣтели. Я не могу жить съ нимъ. Его видъ физически дѣйствуетъ на меня, я выхожу изъ себя. Кончено, я погубила себя.
— Отчего же? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, — я не вижу. По моему, ваше положеніе очень просто. Не сошлись характерами, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, недавно видѣвшій такое заглавіе гдѣ то на афишѣ; — надо прямо и ясно распутать положеніе. По моему, я вижу, нужно разводъ и больше ничего.
— Не говори, не говори, это ужасно бы было надѣяться.
— Напротивъ, надѣйся.
И, успокоивъ сестру, Степанъ Аркадьичъ пошелъ къ зятю.
Степанъ Аркадьичъ[1334] съ нѣкоторой степенностью, съ тѣмъ лицомъ, съ которымъ онъ садился на свое кресло въ томъ мѣстѣ, гдѣ служилъ, вошелъ въ кабинетъ Алексѣя Александровича. Алексѣй Александровичъ все еще ходилъ по комнатѣ.
— Я не мѣшаю тебѣ, Алексѣй?
Онъ сѣлъ покойно и досталъ папиросу.
— Нѣтъ. Тебѣ нужно что нибудь?
— Да, мнѣ нужно поговорить. Мнѣ или никому. Ты позволишь мнѣ говорить откровенно? И повѣрь, что я ни на той, ни на другой сторонѣ.
Алексѣй Александровичъ остановился.
— Говори.
— Алексѣй, ты согласись, что въ этомъ положенiи оставаться невозможно.
Алексѣй Александровичъ, не отвѣчая, быстрыми шагами подошелъ къ столу, взялъ письмо и показалъ шурину.
— Я хотѣлъ написать ей.
— А, ну такъ я очень радъ, что нахожу тебя подготовленнымъ; мое дѣло облегчается много. Ты согласенъ, что положеніе невозможно, такъ чтоже тебѣ мѣшаетъ разорвать его?[1335]
— Да то, что я не вижу, не вижу, — Алексѣй Александровичъ сдѣлалъ непривычный жестъ руками передъ глазами, — не вижу никакого возможнаго выхода.
— Отчего? — сказалъ, вставая и оживляясь, Степанъ Аркадьичъ. — Напротивъ, если ты хочешь разорвать отношенія съ женой или ты убѣдился въ томъ, что вы не можете сдѣлать взаимное счастье.
— Ну да, нѣтъ; но, положимъ, я на все согласенъ, я ничего не хочу.
— Тогда это очень просто, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ съ улыбкой твердой, спокойной, какъ бы недоумѣвая, что можетъ быть въ такомъ случаѣ непріятнаго. Напротивъ, ничего, кромѣ очень пріятнаго.
И красивая, добрая улыбка была такъ убѣдительна, что невольно Алексѣй Александровичъ, чувствуя свою слабость, подчинился ей и повѣрилъ, что это просто.
— Это очень просто, — повторилъ Степанъ Аркадьичъ и началъ излагать дѣло въ томъ смыслѣ, что по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ супруги, нашедшіе, что жизнь для нихъ невозможна вмѣстѣ, должны развестись. Что при разводѣ есть только одно соображеніе: желаетъ ли одинъ изъ супруговъ вступить въ другой бракъ. Если нѣтъ...
— Ну, такъ чего же, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, когда Алексѣй Александровичъ, сморщившись отъ волненія, проговорилъ, что, само собой разумѣется, онъ никогда не вступитъ и не желаетъ вступить въ другой бракъ.
— Ну, такъ въ чемъ же дѣло? <Какъ ни тяжело мнѣ, брату, говорить это, ты знаешь, что Анна имѣетъ привязанность, и эта привязанность и есть причина вашего разлада. Ну, что же ты хочешь? Чтобы она незаконно жила съ нимъ и дѣти..
Алексѣй Александровичъ перебилъ его, замахавъ отрицательно руками.>
Все то, что для Степана Аркадьича казалось такъ очень просто, тысячи тысячъ разъ обдуманно Алексѣемъ Александровичемъ, казалось ему нетолько не очень просто, нетолько не просто, нетолько не трудно, не очень трудно, а казалось вполнѣ невозможно.[1336] Не говоря о томъ, что разводъ, подробности котораго онъ зналъ, теперь былъ невозможенъ, потому что или она должна была принять на себя сознаніе прелюбодѣянія, что было противно прощенію, которое онъ далъ ей, или онъ самъ долженъ былъ принять на себя уличеніе въ фиктивномъ прелюбодѣяніи, чего онъ не могъ сдѣлать, вопервыхъ, потому, что чувство собственнаго достоинства не позволяло ему этаго, во вторыхъ, потому, что онъ не могъ смѣяться надъ церковнымъ учрежденіемъ брака и развода. Онъ все это обдумывалъ сотни разъ, но, не говоря ужъ объ этомъ, для него разводъ представлялся невозможнымъ по другимъ, еще болѣе важнымъ причинамъ.
Что будетъ съ сыномъ, если онъ разведется? Оставить его съ матерью было невозможно. Разведенная мать не будетъ имѣть семьи или будетъ имѣть незаконную семью, другихъ дѣтей. Что будетъ дѣлать этотъ законный пасынокъ между незаконными дѣтьми? Что онъ скажетъ отцу, когда выростетъ? И потомъ мысль о томъ, что сынъ его будетъ воспитанъ Вронскимъ, ужасала и возмущала его. Оставить сына у себя? Кто воспитаетъ его и замѣнитъ ему мать? И что ему сказать про уѣхавшую изъ дома мать? Допустить ли или прекратить сношенія между сыномъ и матерью? Алексѣй Александровичъ сотни разъ обдумывалъ это. И какъ ни невозможно ему казалось его теперешнее положеніе, будущее, при разводѣ, казалось еще болѣе невозможнымъ. Правда, при разводѣ его личное положеніе становилось легче — онъ не будетъ мучать ея, какъ теперь. Но другіе — сынъ, оба будутъ мучаться еще больше. Онъ чувствовалъ, что, согласившись на разводъ, онъ поступитъ эгоистично, и это больше всего останавливало его, но, кромѣ этаго всего, невозможнѣе всего казался разводъ Алексѣю Александровичу потому, что онъ, согласившись на разводъ, онъ губилъ Анну. Слово, сказанное Дарьей Александровной въ Москвѣ, о томъ, что онъ думаетъ о себѣ, рѣшаясь на разводъ, а не думаетъ о томъ, что этимъ онъ губитъ ее безвозвратно, — это слово запало ему въ душу. И онъ, посвоему связавъ это слово съ своимъ прощеніемъ и съ своимъ религіознымъ взглядомъ на жизнь, по своему понималъ его. Согласиться на разводъ, дать ей свободу — это что значило? Это значило отнять отъ нея послѣднюю опору на пути добра и ввергнуть ее въ погибель. Что будетъ? Она соединится съ нимъ незаконно, ибо преступной женѣ, по смыслу религіи, не можетъ быть законнаго брака, пока мужъ живъ, и она погибла, какъ думалъ Алексѣй Александровичъ. Черезъ годъ, два она сдѣлаетъ новую связь, ибо нѣтъ причины не сдѣлать. «Имѣю ли я, которому свыше поручена она, имѣю ли право бросить ее? Но что же дѣлать, что же дѣлать?» думалъ онъ, и, не вѣря ни одному слову Степана Аркадьича, на каждое слово имѣя тысячи опроверженій, онъ все таки слушалъ его, онъ всетаки ждалъ отъ него спасенія отъ того ужаснаго состоянія нерѣшительности и отъ еще болѣе ужаснаго внѣшняго положенія, которое, противно всѣмъ его разсужденіямъ, давило его стыдомъ.
— Теперь вопросъ только въ томъ, какъ, на какихъ условіяхъ ты согласишься. Она ничего не хочетъ смѣть просить, она все предоставляетъ твоему великодушію.[1337]
— Я ничего не знаю.
— То предоставь мнѣ, я все устрою. Но вопросъ, какъ сдѣлать разводъ. Ты ли возьмешь на себя?
— Это невозможно.
— Отчего же? Это одна формальность.
«Боже мой, Боже мой! За что! — подумалъ Алексѣй Александровичъ и тѣмъ же жестомъ, какимъ закрывалъ Удашевъ, закрылъ отъ стыда лицо руками. — Что дѣлать?»[1338]
— Неужели она хочетъ этаго? — сказалъ онъ.
— Ты взволнованъ, я понимаю. Но ты согласенъ? Да? То предоставь все мнѣ.
«И ударившему правую щеку подставь лѣвую и снимающему кафтанъ отдай рубашку», думалъ Алексѣй Александровичъ.
Въ серединѣ разсужденій онъ перебилъ Степана Аркадьича.
— Да, да, я беру на себя позоръ,[1339] отдаю даже сына.[1340] Но... не лучше ли[1341] оставить? — И онъ закрылъ лицо руками. — Впрочемъ, дѣлай что хочешь.
Алексѣй Александровичъ заплакалъ, и слезы его были не одни слезы горечи и стыда, но и слезы умиленія передъ своей высотой смиренія. Степанъ Аркадьичъ покачалъ головой, и сожалѣніе о немъ боролось съ улыбкой удовольствія успѣха. Онъ сказалъ:
— Алексѣй, повѣрь мнѣ, что и я и она оцѣнили твое великодушіе. Но, видно, это была воля Божія. — Алексѣй Александровичъ замычалъ при словѣ — воля Божія. — Я братъ и первый убилъ бы ея соблазнителя; но тутъ это не то, это несчастіе роковое, и надо признать его, и я, признавъ, стараюсь помочь тебѣ и ей...
—————
[1342]Съ этаго дня Алексѣй Александровичъ не входилъ болѣе въ комнату своей жены и, найдя небольшую квартиру для себя, сына, сестры и гувернантки, собирался переѣзжать.[1343]
Въ тотъ самый день, какъ онъ переѣзжалъ, Вронской пріѣхалъ къ Аннѣ, и Алексѣй Александровичъ имѣлъ огорченіе узнать, что онъ былъ тутъ. Узнавъ отъ Бетси, что Алексѣй Александровичъ соглашается на разводъ, Вронской тотчасъ поѣхалъ отказываться отъ такого назначенія, которое онъ себѣ выхлопоталъ въ Среднюю Азію. Поступокъ такой прежде показался бы ему невозможнымъ; но теперь онъ ни на минуту не задумался и, когда встрѣтилъ затрудненія, тотчасъ подалъ въ отставку, не обращая никакого вниманія на то, какъ на это посмотрятъ и испорчена ли или не испорчена этимъ поступкомъ его карьера. Онъ былъ въ отчаяніи; онъ чувствовалъ себя пристыженнымъ, униженнымъ, виноватымъ и лишеннымъ возможности загладить, искупить свою вину. Но узнавъ, что она оставляетъ мужа и что она не только не потеряна для него, но, вѣроятно, навсегда соединится съ нимъ, онъ отъ отчаянія перешелъ къ восторгу и тотчасъ поѣхалъ къ ней.
Вронской 6 недѣль не видалъ ее, и эти 6 недѣль онъ провелъ такъ, какъ никогда не жилъ: онъ никуда не ѣздилъ, сказавшись больнымъ, никого не принималъ, кромѣ Грабе и брата, и, какъ звѣрь, запертой въ клѣткѣ, сидѣлъ въ своей комнатѣ, то лежа съ книгой романа, то ходя и вспоминая и думая объ одномъ — о ней, о всѣхъ пережитыхъ съ нею счастливыхъ минутахъ и о послѣднихъ минутахъ ея болѣзни, и раскаяніи, и той тяжелой роли, которую онъ долженъ былъ играть въ отношеніи мужа. Что то было недоконченное, мучительное въ этомъ положеніи, и оставаться такъ нельзя было, a дѣлать было нечего. Тутъ братъ придумалъ ему отправку въ Ташкентъ, и онъ согласился. Но чѣмъ ближе подходило время отъѣзда, тѣмъ больше воспоминанія прошедшаго разжигали въ немъ страсть къ ней. «Еще одинъ разъ увидать ее, и тогда я готовъ зарыться и умереть», думалъ онъ. И потомъ онъ вдругъ получилъ извѣстіе, что она оставила мужа и ждетъ его, какъ ему сказала Бетси. Не спрашивая, можно ли, когда, гдѣ мужъ, онъ поѣхалъ къ ней, и ему казалось, что лошадь не двигается, что онъ никогда не доѣдетъ. Онъ вбѣжалъ на лѣстницу, никого и ничего не видя, и почти вбѣжалъ въ ея комнату и не замѣтилъ того, что въ комнатѣ, есть ли кто или нѣтъ. Онъ обнялъ ее, сталъ покрывать поцѣлуями ея лицо, руки, шею и зарыдалъ, какъ дитя. Анна готовилась къ этому свиданью, думала о томъ, что она скажетъ ему, но его страсть охватила ее; она хотѣла утишить его, утишить себя, но глаза ея говорили, что она благодаритъ его за эту страсть и раздѣляетъ ее.
— Да, ты овладѣлъ мною, и я твоя, я слилась съ тобой, но[1344] что то ужасное, что то преступное есть въ этомъ, — говорила [она], блѣдная и дрожащая.
Онъ сталъ на колѣни передъ ней, цѣлуя ея руки.
— Анна,[1345] такъ должно было быть. Покуда мы живы, это должно быть. Если ты не хочешь этаго, вели мнѣ уничтожиться.
Она обняла его голову.[1346]
— Нѣтъ, я знаю, что это должно было быть, я сама хотѣла этаго, но только это ужасно. Сдѣлай только, чтобы я никогда не видала его, — говорила она, прижимаясь къ нему.
— Анна, ты увидишь, все пройдетъ, мы будемъ такъ счастливы! Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тѣмъ преступленіемъ, тѣмъ зломъ, которое мы сдѣлали.
Онъ смотрѣлъ на нее. Она[1347] улыбалась не словамъ его, но глазамъ его. Она взяла его руку и[1348] гладила ею себя по щекамъ и по волосамъ. Глаза ея свѣтились, но не тѣмъ прежнимъ[1349] жестоко веселымъ блескомъ, но[1350] задумчивымъ и страстнымъ.[1351]
— Да, Стива говоритъ, что онъ на все согласенъ. Мнѣ страшно думать о немъ. Но неужели это возможно, чтобы мы были мужъ съ женой, одни своей семьей съ тобой?
— Это будетъ, и мы будемъ такъ счастливы!
— Ахъ, зачѣмъ я не умерла!
И безъ рыданій слезы текли по обѣимъ щекамъ.
—————
<Когда Степанъ Аркадьичъ пришелъ имъ объявить о успѣхѣ своего посольства, Анна ужъ выплакала свои слезы и казалась спокойной. С этаго дня она не видала Алексѣя Александровича. По уговору, онъ оставался въ томъ же домѣ пока шли переговоры о разводѣ, чтобы уменьшить толки, и адвокатъ Московскій велъ переговоры. Черезъ мѣсяцъ они были разведены. И Удашевъ съ Анной поѣхали въ ея имѣнье, 200 верстъ за Москвой, чтобы тамъ вѣнчаться. A Алексѣй Александровичъ, съ воспоминаніемъ всего перенесеннаго позора, продолжалъ свою обычную служебную, общественную жизнь вмѣстѣ съ сыномъ въ Петербургѣ.>
* № 107 (рук. № 46).
4-я часть.
Катерина Александровна, сестра Алексѣя Александровича, жила опять с нимъ, занимаясь воспитаніемъ его сына — прекраснаго 8-милѣтняго мальчика. Обстановка дома — того же самаго дома (Алексѣй Александровичъ считалъ мелочностью убѣгать воспоминаній и остался на той же 17-лѣтней квартирѣ), обстановка дома была таже: была женщина-хозяйка, былъ сынъ, была какъ будто семейная жизнь; но Алексѣй Александровичъ, глядя на свою теперешнюю семейную жизнь и вспоминая прежнюю, испытывалъ чувство подобное тому, которое испытывалъ бы человѣкъ, глядя на тотже фонарь съ потушенной всерединѣ свѣчой, который онъ зналъ и видѣлъ зажженнымъ. Недоставало свѣта, освѣщавшаго все. Въ домашней и воспитательной дѣятельности Катерины Александровны было постоянное выраженіе строгаго выполненія долга, и все дѣло шло хорошо, но усиленно, трудомъ, тогда какъ прежде казалось, что все тоже дѣлалось[1352] только для себя, для удовлетворенія личнаго счастія. Семейный бытъ его былъ восковая фигура, сдѣланная съ любимаго живаго существа. Часто онъ ему отвратителенъ былъ, но, съ всегдашней своей добротой и мягкостью, разумѣется, онъ никогда не позволялъ себѣ даже для себя замѣтить этаго, но недовольство свое онъ переносилъ на себя и становился несчастнѣе и несчастнѣе.
Мы любимъ себѣ представлять несчастіе чѣмъ то сосредоточеннымъ, фактомъ совершившимся, тогда какъ несчастіе никогда не бываетъ событіе, a несчастіе есть жизнь, длинная жизнь несчастная, т. е. такая жизнь, въ которой осталась обстановка счастья, а счастье, смыслъ жизни — потеряны. И чѣмъ искуственнѣе та жизнь, въ которой было счастье, тѣмъ болѣзненнѣе чувствуется его потеря, тѣмъ дальше отъ[1353] лучшаго утѣшителя[1354] — природы, и тѣмъ недоступнѣе переносится несчастіе.
Человѣкъ,[1355] схоронившій утромъ[1356] любимую жену, a послѣ обѣда идущій на пахоту, не оскорбляетъ нашего чувства, но человѣкъ, утромъ потерявшій любимую жену, а вечеромъ идущій на подмостки играть шута, ужасенъ почти также, какъ и тотъ, который черезъ недѣлю послѣ похоронъ идетъ въ Министерство подписывать бумаги и на выходъ. Это испытывалъ Алексѣй Александровичъ. Ему приходило, какъ Р[усскому] человѣку, два выхода, которые оба одинаково соблазняли его, — монашество и пьянство, но сынъ останавливалъ его, а онъ, боясь искушеній, пересталъ читать духовныя книги и не пилъ уже ни капли вина.
Онъ чувствовалъ, что было бы менѣе унизительно ему валяться въ грязи улицы своей сѣдой и лысой головой, чѣмъ развозить эту голову, наклоняя ее по дворцамъ, министерствамъ, гостинымъ, и чувствовать, стараясь не замѣчать, то презрѣніе, которое онъ возбуждалъ во всѣхъ.
Онъ спалъ мало ночью. Не то чтобы онъ думалъ о ней. Онъ мало о ней думалъ, онъ думалъ о пустякахъ, но просто не спалъ. Онъ мало ѣлъ и, какъ старый сильный человѣкъ, мало перемѣнился наружно; но видно было бы для глазъ любящаго человѣка, что онъ внутри весь другой, изъ сильнаго, опредѣленнаго и добраго — слабый и неясный и злой. Съ нимъ сдѣлалось то, что съ простоквашей: наружи тоже, но болтните ложкой, тамъ сыворотка, онъ отсикнулся.
Общій голосъ о немъ въ свѣтѣ былъ тотъ, что онъ смѣшонъ и непонятенъ. Удивлялись, какъ онъ могъ имѣть смѣлость показываться въ свѣтѣ и оставаться такимъ же мягкимъ, чистоплотнымъ и добродушнымъ человѣкомъ. А что же ему было дѣлать? Сутки для него, какъ и для всѣхъ, имѣли 24 часа, изъ которыхъ онъ проводилъ 6 въ постелѣ, а остальные надо было жить, т. е. катиться по тѣмъ рельсамъ, на которыхъ застало его несчастіе. Были друзья Алексѣя Александровича и его сестры, въ особенности дамы того высшаго Петербургскаго Православно-Хомяковсково-добродѣтельно-придворно-Жуковско-Христіянскаго направленія, которые старались защитить его и выставить истиннымъ Христіаниномъ, подставившимъ лѣвую, когда его били по правой; но эти самые друзья скоро должны были положить оружіе передъ здоровой и грубой правдой жизни: онъ смѣшонъ. Отъ него жена ушла. Онъ смѣшонъ и не то что виноватъ, а то, что на его сторонѣ стоять нельзя. Съ этими друзьями Алексѣя Александровича, защищавшими его, случалось то самое, что и съ нимъ, когда мысль о томъ, что онъ долженъ вызвать на дуэль Удашева, противъ здраваго смысла, нравственности Христіанства, всего, овладѣла имъ, и тоже самое, что случается съ каждымъ человѣкомъ и имѣетъ глубокій смыслъ, хотя мы и не хотѣли признавать того, а именно то, что у каждаго хорошаго человѣка есть воспоминанія, мучающія его, и пусть этотъ хорошій человѣкъ переберетъ эти воспоминанія и сдѣлаетъ имъ реестръ по ранжиру, какія больше, какія меньше мучаютъ, и каждый найдетъ, что жестокій, дурной поступокъ часто онъ вспоминаетъ спокойно, а глупое слово, ошибка смѣшная на иностранномъ языкѣ, неловкій жестъ мучаетъ сильнѣе, сильнѣе запоминается. И это не у юноши, а у старика. Онъ смѣшонъ и жалокъ и гадокъ. Это чувствовали всѣ, и онъ самъ, и оттого отсикнулся.
Но когда узнали, что Анна пріѣхала въ Петербургъ и ее стали видать въ свѣтѣ, то это чувство смѣшнаго и гадкаго и жалкаго относительно Алексѣя Александровича удесятерилось во всѣхъ и въ немъ самомъ. Онъ узналъ о пріѣздѣ ея, увидавъ ее самою.
— Ахъ, какъ вы злы, — говорила NN, судорожно сдерживавшая губы, шутнику, описывавшему встрѣчу Алексѣя Александровича съ женой. — Онъ великъ своимъ смиреніемъ.
— Да я не спорю. Смиреніе доходитъ даже то того, что Удашевъ поручилъ ему жену въ Лѣтнемъ Саду, какъ самому близкому знакомому.
И NN весело расхохоталась.
— Можно ли такъ видѣть все смѣшное. Онъ чудесный человѣкъ, — говорила она, но смѣялась и не возражала больше.
Въ серединѣ зимы послѣ праздниковъ Алексѣй Александровичъ особенно дурно спалъ ночь и, напившись кофею, зашелъ къ сыну передъ отъѣздомъ въ Министерство. Было рожденье Саши. Онъ зашелъ потому еще, что вчера сестра совѣтовалась съ Алексѣемъ Александровичемъ, можно ли напоминать о матери и дать Сашѣ подарки, которые Анна прислала сыну къ рожденью.[1357] Онъ засталъ Сашу еще въ постелѣ. Онъ только проснулся и былъ еще въ постелькѣ.
Богданъ Васильичъ, Нѣмецъ, былъ уже одѣтъ и разставлялъ на столѣ подарки.
— Ну-ну, Заша, время, время, ужъ и папа пришелъ, — говорилъ онъ, свѣжій, выбритый, чистый, какъ бываютъ нѣмцы.
Саша жъ поднялся въ одной рубашонкѣ въ спутанной кроваткѣ и, еле глядя заспанными глазами сквозь огромныя материнскія рѣсницы, держась за спинку кровати, гнулся къ отцу, ничего не говоря, но сонно улыбаясь.
Какъ только Алексѣй Александровичъ подошелъ ближе, Саша перехватился пухлыми рученками отъ спинки кровати за его плечи и сталъ прижиматься къ его щекѣ и тереться своимъ нѣжнымъ личикомъ о его щеку, обдавая Алексѣя Александровича тѣмъ милымъ соннымъ запахомъ и теплотой, которые бываютъ только у дѣтей.
— Папа, — сказалъ онъ, — мнѣ не хочется спать. Нынче мое рожденье. Я радъ. Я встану сейчасъ, — и онъ засыпалъ, говоря это. — Я видѣлъ во снѣ мама. Она подарила мнѣ будто бы большу-ую.
«Вотъ и скрывай отъ него», подумалъ Алексѣй Александровичъ.[1358] Но сказать, что она прислала подарки, вызвало бы вопросы, на которые нельзя отвѣчать, и Алексѣй Александровичъ поцѣловалъ сына, сказалъ, что подарки ждутъ его, тетя подаритъ.
— Ахъ, тетя! — Такъ вставать. А ты когда пріѣдешь?
Все было хорошо у сына, чисто, акуратно, обдуманно, но не было той живой атмосферы, которая была при матери, и Алексѣй Александровичъ чувствовалъ это и зналъ, что сынъ чувствуетъ тоже, и ушелъ поскорѣе отъ него.
— Ну что нашъ ангелъ, — сказала сестра встрѣчая его въ столовой. Сестра была нарядна, но все было не то.
«Опять министерство, опять тоже, но безъ прелести, безъ сознанія пользы дѣла, — думалъ Алексѣй Александровичъ, подъѣзжая къ большому дому у моста на каналѣ. — Странно, — думалъ онъ, — прежде тѣже условія дѣятельности казались мнѣ сдѣланными мною, а теперь я себя чувствую закованнымъ въ нихъ». Но несмотря на эти мысли о тщетѣ своихъ трудовъ по министерству, Алексѣй Александровичъ находилъ лучшее утѣшеніе своей жизни тамъ, въ этомъ министерствѣ. Какъ только онъ вступалъ въ него, онъ забывалъ свое горе и любилъ находить прелесть въ работѣ и во всемъ окружающемъ. Онъ чувствовалъ себя на островѣ, на кораблѣ, спасеннымъ отъ жизни, онъ чувствовалъ себя бѣлкой въ привычномъ колесѣ.
Швейцаръ знакомый, 17-лѣтній съ той же отчетливостью отворилъ дверь и мигнулъ другому. Тотъ также ловко снялъ пальто и встряхнулъ на вѣшалкѣ; таже лѣстница, тѣже безъ надобности, только въ знакъ уваженія, сторонящіяся чиновники. Тотъ же кабинетъ и шкапъ съ мундиромъ и тѣже письма и бумаги на столѣ, покрытомъ сукномъ. Секретарь пришелъ докладывать. Доложилъ, что П. И. не будутъ, а остальные члены собрались. Алексѣй Александровичъ, надѣвъ мундиръ, вошелъ въ присутствіе; движенье креселъ, рукопожатія, частный разговоръ, молчаніе и офиціальное выраженье лица, и началось присутствіе. Докладъ, тѣже длинноты, ненужныя и неизбѣжныя, и таже работа, запоминаніе нужнаго и составленiе мнѣнія. Тѣже совѣщанія. Возраженія желчныя, по характеру, возраженія изъ приличія и рѣшеніе предвидѣнное. Тоже приятное ощущение, окончаніе трехъ, 4-хъ нумеровъ, которые не могутъ возвратиться, и сознаніе непрерывности безконечности дѣла, какъ текущей рѣки. И, главное, то сознаніе важности совершаемаго дѣла, которое, несмотря на сомнѣнія, теперь находившія на Алексѣя Александровича внѣ присутствія, сознанія великой важности совершаемаго дѣла, которое по привычкѣ обхватывало Алексѣя Александровича, какъ только онъ вступалъ въ Министерство; куренье другихъ членовъ (Алексѣй Александровичъ не курилъ) во время отдыховъ; разговоры въ тѣхъ особенныхъ границахъ, которыя установились для присутствія, о наградахъ, внутреннихъ политическихъ новостяхъ, о канцелярскихъ чиновникахъ и дальнѣйшее отступленіе; шутки старыя о горячности В., кропотливости С., осторожности Д. и т. д.; опять дѣла, потомъ просители и послѣ 4 часовъ усталость, апетитъ и сознаніе совершеннаго труда — это все испыталъ Алексѣй Александровичъ, и это было лучшее его время жизни, кромѣ вечернихъ засѣданій комиссій, которыхъ онъ былъ членомъ и которыя также возбуждающе дѣйствовали на него.
Въ этотъ день была прекрасная погода, и Алексѣй Александровичъ хотѣлъ зайти въ игрушечную лавку самъ купить что нибудь Сашѣ. Онъ вьшелъ изъ кареты и пошелъ пѣшкомъ по Невскому. Это было дообѣденное бойкое время Невскаго. Онъ себѣ сказалъ, что онъ зайдетъ купить игрушки, но въ глубинѣ души у него была другая причина, по которой онъ сошелъ на тротуаръ Невскаго и шелъ, разглядывая групы. Съ тѣхъ поръ какъ онъ зналъ, что Удашевъ съ женой своей и его здѣсь, его, какъ бабочку къ огню, тянуло къ ней. Ему хотѣлось, нужно было видѣть ее. Онъ зналъ, что встрѣча будетъ мучительна для нея и для него; но его тянуло. Молодой человѣкъ, аристократъ, говорунъ и горячій умственникъ, поступившій недавно на службу къ нему, встрѣтилъ его и шелъ съ нимъ, много говоря, видимо щеголяя своимъ усердіемъ и простотой. Все это давно знакомо было Алексѣю Александровичу. Онъ шелъ, слушая однимъ ухомъ, и осматривался. Издали навстрѣчу шла женщина элегантная въ лиловомъ вуалѣ подъ руку съ низкимъ чернымъ мущиной. Филип[пъ][1359] А[лександровичъ] шелъ [1 неразобр.]. Коляска щегольская ѣхала подлѣ. И походка, и движенье, и видъ мущины заставили Алексѣя Александровича угадать ее. Гораздо прежде чѣмъ онъ увидалъ его и ее, онъ почувствовалъ свою жену. Онъ почувствовалъ ее по тѣмъ лучамъ, которые она распространяла, и эти лучи издалека достали его, какъ свѣтъ достаетъ бабочку, и тревога, томность и боль тупая наполнили его сердце. Ноги его шли, уши слушали, м.[?] ч.[?], глаза смотрѣли, но жизнь его остановилась. Она шла, сіяя глазами изъ подъ рѣсницъ и улыбкой. Она потолстѣла, она блестящѣе была, чѣмъ прежде. Но вотъ она узнала его. Удашевъ узналъ Ф[илиппа] А[лександровича], взглянулъ на него, и произошло волненье во всѣхъ лицахъ, сомнѣнье, кланяться или нѣтъ, попытка поднять руку и отнятіе рукъ, неловкость мучительная съ обѣихъ сторонъ, и оба прошли мимо другъ друга.
Безпокойство бабочки стало еще больше. Въ этотъ вечеръ Алексѣй Александровичъ поѣхалъ на вечеръ къ Голицынымъ. Онъ сказалъ себѣ: «вѣрно, я тамъ не встрѣчу ее», но въ сущности онъ только того и хотѣлъ. На вечерѣ говорили о немъ, когда онъ вошелъ.
— Taisez-vous, mauvaise langue,[1360] — Алексѣй Александровичъ!
Когда онъ ушелъ, тоже онъ чувствовалъ, что онъ прошелъ сквозъ строй насмѣшекъ!
— Ее принять н[ельзя?].[1361] Я не приняла.
Дома Алексѣй Александровичъ нашелъ сестру раздраженною. Анна пріѣзжала, хотѣла видѣть сына. Она не пустила ее. Во время обѣда принесли письмо. «Милостивый государь, Алексѣй Александровичъ. Если вы найдете возможнымъ мнѣ видѣть сына, то устройте такъ, чтобы свидѣться. Я сочту это новымъ благодѣяніемъ».
Алексѣй Александровичъ опять въ нерѣшительности, что дѣлать. Онъ рѣшилъ отказать. Матрена Филимоновна была у барыни.
— Какъ хорошо. Спрашивали, гдѣ гуляютъ. Объ васъ тоже спрашивали.
Связанъ чувствомъ.
Глава[1362]....
Молодые, если можно ихъ назвать такъ, Анна и Удашевъ, ужъ второй мѣсяцъ жили въ Петербургѣ и, не признаваясь въ томъ другъ другу, находились въ тяжеломъ положеніи. Можно сидѣть часы спокойно въ каретѣ или вагонѣ не передвигая ногъ, если знаешь, что ничто не помѣшаетъ мнѣ протянуть ноги, куда я хочу. Но мысль о томъ, что я не могу протянуть ноги, вызоветъ не вымышленныя, но настоящія судороги въ ногахъ. Такъ и можно жить спокойно безъ свѣта, безъ знакомыхъ, если знать, что свѣтъ всегда открытъ для меня, но если знать, что закрытъ свѣтъ, вызоветъ судороги тоски, одиночество. Еще хуже то, что испытывали Удашевъ и Анна, — сомнѣніе въ томъ, закрытъ или незакрытъ свѣтъ и насколько. Для обоихъ — людей, находившихся всегда въ томъ положеніи, что и въ голову имъ никогда не приходилъ вопросъ о томъ, хочетъ или нехочетъ тотъ или другой быть знакомымъ, это положеніе сомнѣнія было мучительно. Мучительно тѣмъ, что оно было унизительнымъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ и устроившись на большую ногу на Литейной, товарищи, пріятели, братъ Удашева сейчасъ же побывали у него и представились его женѣ. Но уже въ мужскомъ обществѣ оба супруга почувствовали тотчасъ оттѣнокъ различныхъ отношеній женатыхъ и неженатыхъ. Женатые не говорили о своихъ женахъ и рѣже ѣздили. Старшій братъ Удашева, женатый, не говорилъ о женѣ. Удашевъ объяснялъ это тѣмъ, что это дѣлалось подъ вліяніемъ матери, съ которой онъ разорвалъ сношенія вслѣдствіи женитьбы. Обычные выбравшіеся посѣтители были тотъ же Марковъ, другой такой же великосвѣтскій [1 не разобр.], и другъ Грабе. Дѣло, повидимому, пустое, только забавное — приготовленіе туалета, шляпы, росписаніе адресовъ, дѣло первое визитовъ для Удашева было такимъ дѣломъ, о которомъ мужъ съ женой боялись говорить, и Анна краснѣла отъ волненія, когда говорила. Когда наступилъ день, Удашевъ мелькомъ спросилъ списокъ, и Анна показала. Ея другъ Голицына Бѣлосѣльская. Его belle soeur.[1363] Онъ невольно покачалъ головой, и сейчасъ же Анна поняла и высказала свою мысль.
— Я поѣду, а ужъ ея дѣло будетъ....
Онъ не далъ договорить.
— Ну да, разумѣется. — И заговорилъ, хваля вкусъ ея новаго туалета.
Случилось то, что они ждали оба, хотя не признавались. Голицына не приняла и отдала не визитъ, а прислала карточку, но на слѣдующій раутъ приглашенія не было. Сестра приняла — желчная, морфиномъ заряженная, и наговорила непріятностей и не отдала. Она хотѣла излить свою злобу. Сестра Грабе отдала визитъ, но она была чудачка и видно, что она совершила геройскій поступокъ. Остальные не приняли и не отдали. Положеніе стало ясно. Ногъ нельзя было вытянуть, и начались судороги. Кромѣ того, Алексѣй Александровичъ встрѣчался, казалось, вездѣ, какъ больной палецъ. Матрена Филимоновна приходила разсказывать о сынѣ, и безпокойство Анны все усиливалось. Хуже всего было то, что Удашевъ ѣздилъ изъ дома не въ свѣтъ, хотя онъ два раза былъ на балѣ, но въ клубъ, къ старымъ знакомымъ, и Анна чувствовала, что, какъ въ кошкѣ-мышкѣ, передъ нимъ поднимались и передъ ней отпускались руки, и онъ ужъ не выходилъ изъ круга и мучался.
О разстройствѣ дѣлъ, здоровья, о недостаткахъ, порокахъ дѣтей, родныхъ — обо всемъ можно говорить, сознать, опредѣлить; но разстройство общественнаго положенія нельзя превуаровать.[1364] Легко сказать, что все это пустяки, но безъ этихъ пустяковъ жить нельзя; жить любовью къ дѣтямъ, къ мужу нельзя, надо жить занятіями, а ихъ не было, не могло быть въ Петербургѣ, да и не могло быть для нея, зная, что ногъ нельзя протянуть. Сознаться она не могла и билась, путаясь больше и больше. Привычка свѣта, нарядовъ, блеска была таже, и она отдавалась ей.
Было первое представленіе Донъ-Жуана съ Патти. Театръ былъ полонъ цвѣтомъ Петербургскаго общества. Она сидѣла во 2-мъ бенуарѣ въ черномъ бархатномъ платьѣ съ красной куафюрой, блестя красотой и весельемъ. Ложа ея была полна народа, и у рампы толпились. Женщины старались незамѣтно лорнировать ее, притворяясь, что разсматриваютъ Персидскаго посланника рядомъ, но не могли оторвать отъ нее биноклей. Прелестное добродушіе съ ея особенной граціей поражало всѣхъ. Удашевъ не могъ налюбоваться своей женой и забывалъ ее положеніе. Онъ принесъ ей букетъ. Посланникъ [?] подошелъ къ ней. Голицына кивнула изъ за вѣера (она была въ духѣ), и, когда онъ вошелъ къ ней въ ложу, она попрекнула, что Анна только разъ была у ней. Казалось, все прекрасно.
Въ антрактѣ онъ вышелъ съ ней подъ руку; первое лицо, носъ съ носомъ, столкнулась съ ней въ желтомъ бархатѣ Карловичъ съ мужемъ. Анна съ своимъ тактомъ кивнула головой и, замѣтивъ, что вытянулъ дурно лицо Карловичъ, заговорила съ Грабе, шедшимъ подлѣ. Мужъ и жена, вытянувъ лица, не кланялись. Кровь вступила въ лицо Удашева. Онъ оставилъ жену съ Грабе. Карловичъ была жируета[1365] свѣтская, онъ былъ термометръ свѣта, показывая его настроеніе.
— Бонюи,[1366] Madame Caren[іne].
— Monsieur, — сказалъ онъ мужу, — ma femme vient de vous saluer.[1367]
— A я думалъ, что это М-ме Каренинъ.
— Вы думали глупость!
Карловичъ заторопился, покраснѣлъ и побѣжалъ къ Аннѣ.
— Какъ давно не имѣлъ удовольствія видѣть, Княгиня, — сказалъ онъ и, краснѣя подъ взглядомъ Удашева, отошелъ назадъ.
Анна все видѣла, все поняла, но это какъ бы возбудило ее, она не положила оружія, и, вернувшись въ ложу, она стала еще веселѣе и блестящѣе. Толпа стояла у рампы. Она смѣялась, бинокли смотрѣли на нее. Удашевъ былъ въ первомъ ряду, говорилъ съ дядей Генераломъ[1368] и, вдругъ оглянувшись, увидавъ бинокли дамъ, блестящее лицо Анны, мущинъ противъ нее, онъ вспомнилъ такіе же ложи дамъ голыхъ съ вѣерами, М-ме Nina, и, когда онъ вернулся, онъ не разжалъ губъ, и Анна видѣла, что онъ думаетъ. Да, это становилось похоже на то, и онъ и она знали это. Она надѣялась, что онъ пощадитъ ее, не скажетъ ей этаго, но онъ сказалъ.
— Ты скученъ отчего? — сказала она.
— Я? Нѣтъ.
— A мнѣ весело было, только... — Она хотѣла сказать, что не поѣдетъ больше въ театръ; но онъ вдругъ выстрѣлилъ.
— Женщины никогда не поймутъ, что есть блескъ неприличный.
— Довольно, довольно, не говори ради Бога.
Губа ея задрожала. Онъ понялъ, но не могъ ее успокоить.
Съ тѣхъ поръ она перестала ѣздить и взялась за дочь, но дочь напоминала сына. Матрена Филимоновна приходила, разсказывала. И она уговорила мужа уѣхать въ Москву. Она рѣшилась прямо высказать, что вездѣ имъ можно жить, только не въ Петербургѣ, тамъ, гдѣ живетъ Алексѣй Александровичъ.
—————
Въ Москвѣ уже она не хотѣла и пытаться знакомиться. Алабинъ ѣздилъ, но рѣдко, и Анненковъ, Юрьевъ. Въ Москвѣ бы было хорошо, но Удашевъ сталъ играть. И другое — Грабе влюбленный перешелъ въ Москву...[1369]
Она сидѣла вечеромъ, разливая чай. Анненковъ, Юрьевъ, студентъ курилъ, говоря о новой теоріи [1 не разобр.]. Не благодарилъ за чай. Но она построила другую высоту либерализма, съ которой бы презирать свое паденіе, и казалось хорошо. Многое коробило, но это было одно,[1370] заставлявшее забывать. Былъ новый писатель комунистъ, читалъ. Удашевъ пріѣхалъ за деньгами. Онъ много проигралъ. Папиросный дымъ, слабый лепетъ [1 не разобр.], звучные фразы, и онъ въ презрѣніи ее за чай не бл[агодаритъ]. Онъ уѣхалъ опять и, вернувшись, заставъ ее съ открытыми глазами, по привычкѣ того времени говоритъ: «ужъ поздно», а думалъ: «это нельзя». Онъ несчастливъ. А дьяволъ надъ ухомъ говоритъ: Грабе любитъ.
Онъ пріѣхалъ, грубо раздѣваться сталъ въ комнатѣ. Она вдругъ заплакала.
— Да, я любовница, отъ которой живутъ особо, а приходятъ въ постель.
— Ну, такъ эти умные научили. Это дряни, какъ ты можешь. Они потерянные, и мы съ ними. Они, какъ вороны, слетаютъ, но не чуютъ добычу.
— Такъ чтожъ дѣлать? Чѣмъ жить? Ты бросаешь — кажется, я всѣмъ пожертвовала.
— Жестокія слова. Довольно, не говори.
Она всю ночь думала, онъ не спалъ, но она молчала и одна въ себѣ. «Да, лучше было не выходить. Я погубила обоихъ, но что дѣлать. Я знаю». Попытка къ мести.
Она все себѣ сознала и ему высказала. Старуха мать часто думала: «желала бы хоть разъ я ее видѣть, эту отвратительную женщину et lui dire son fait»,[1371] и вотъ докладываютъ: она.
— Садитесь, милая. Вы хотите мнѣ высказать, я слушаю.
— Прошедшее мое чисто. Я увидѣла вашего сына, — дрожитъ голосъ, — и[1372] полюбила, я люблю его такъ, что готова отдать жизнь.[1373]
— Или взять его.
— Но я не могу сдѣлать его счастье, онъ несчастливъ. И я не могу помочь, общество отринуло насъ, и это дѣлаетъ мое несчастье. То, что онъ разорвалъ съ вами, мое мученье.
— Я думаю, вамъ радоваться надо. Имѣнье его.
— Оскорбляйте меня, но простите его. Спасите его. Вы можете.
Она на колѣни стала.
— Матушка, нельзя ли безъ сценъ.
— Вы можете, принявъ, признавъ его, сдѣлать его счастье (о себѣ не говорю), счастье дѣтей, внучатъ. Черезъ васъ признаютъ. Иначе онъ погибнетъ.
— Ну, я вамъ скажу. Вы бросили мужа, свертѣли голову жениху и хотѣли женить его, спутать мальчишку; онъ несчастливъ безъ матери, онъ гордъ, и онъ любитъ Кити и теперь. Если вы любите его, бросьте его. Онъ будетъ счастливъ.
— Онъ не пуститъ меня.
— Вы умѣли бросить перваго. Вы сдѣлали несчастье человѣка и убьете его до конца.
Она вернулась домой. Записка отъ Ордынцевой: «Пріѣзжайте нынче вечеромъ. Я надѣюсь, что вы будете довольны». «Да, она права, онъ любитъ ее. Да и меня любитъ Грабе, не такъ. Да, надо бросить все, выдти изъ всего». Пріѣхали Юрьевъ, Анненковъ. «Не принимать». «Но онъ что? Что дѣлать?» Опять прежнее отчаяніе. Она лежала съ открытыми глазами. Онъ пріѣхалъ, и оскорбленіе ее, несознаніе вины вчера, легъ къ кабинетѣ. «Боже мой, что дѣлать? Прежде тотже вопросъ. Тогда я говорила: если бы онъ, Алексѣй Александровичъ, умеръ. Да, а теперь зачѣмъ ему, доброму, хорошему, умереть несчастному. Кому умереть? Да, мнѣ. Да, такъ и она смотрѣла на меня, говоря. Мало ли что дѣлать.[1374] Да и Грабе дьяволъ, и его счастье, и стыдъ и позоръ Алексѣя Александровича — все спасается моей смертью, да, и я не гадка, а жалка и прекрасна, да, жалка и прекрасна дѣлаюсь».
Она зарыдала сухимъ рыданьемъ, вскочила, написала письмо Долли, поручая ей дочь. «Да и дочери лучше, да, прекрасно. Но КАКЪ? Какъ? Все равно. Кончено. Надо уѣхать». Она одѣлась, взяла мѣшокъ и перемѣну бѣлья чистою, кошелекъ и вышла изъ дома. Извощикъ ночной предложилъ себя.
— Давай.
— Куда прикажете?
— На железную дорогу, — сказала при звукѣ свиставшаго локомотива. — На Средній, 50 к. Поѣзжай поскорѣе.
Свѣтало. «Да, я уѣду, и тамъ... Ахъ, если бы онъ догналъ меня». Она вышла на платформу. «Мне жарко». Въ окно вошелъ Грабе. Онъ ѣхалъ въ[1375] купе. «Нельзя. Но какже я умру?» Въ это время сотряслась земля, подходилъ товарный поѣздъ. Звѣзды трепеща выходили надъ горизонтомъ. «Какъ? Какъ?» Она быстрымъ, легкимъ шагомъ спустилась. Прошелъ локомотивъ, машинистъ посмотрѣлъ на нее. Большое колесо ворочало рычагомъ. Она смотрѣла подъ рельсы. «Туда. Да, туда. Кончено навѣкъ». Первый, второй только сталъ подходить. Она перекрестилась, нагнулась и упала на колѣни и поперекъ рельсовъ. Свѣча, при которой она читала книгу, исполненную тревогъ, счастья, горя, свѣча затрещала, стемнѣла, стала меркнуть, вспыхнула, но темно, и потухла.
—————
Ордынцевы жили въ Москвѣ, и Кити взялась устроить примиреніе свѣта съ Анной. Ея радовала эта мысль, это усиліе. Она ждала Удашева, когда Ордынцевъ прибѣжалъ съ разсказомъ о ея тѣлѣ, найденномъ на рельсахъ. Ужасъ, ребенокъ, потребность жизни и успокоеніе.
* № 108 (рук. № 73).
[1376]Обрученіе Левина съ Кити произошло 5 недѣль до поста. Княгиня находила, что сдѣлать свадьбу до конца слишкомъ рано; но не могла не соглашаться, что послѣ поста было бы уже и слишкомъ поздно. И рѣшила, къ великой радости Левина, вѣнчать до поста, тѣмъ болѣе что родная тетка Кити была очень больна и могла скоро умереть. Тогда трауръ задержалъ бы еще сватьбу.
Левинъ предлагалъ невѣстѣ ѣхать послѣ сватьбы за границу, и Кити согласна была съ нимъ въ томъ, чтобы послѣ сватьбы уѣхать изъ Москвы, но она рѣшительно не хотѣла ѣхать за границу, a хотѣла ѣхать туда, гдѣ будетъ ихъ домъ. Она знала, что у Левина есть дѣло, которое онъ любитъ, въ деревнѣ. Она, какъ видѣлъ Левинъ, не только не понимала этаго дѣла, но и не хотѣла понимать. Это не мѣшало ей однако считать это дѣло очень важнымъ. И потому она желала жить въ деревнѣ и туда же желала ѣхать тотчасъ же послѣ сватьбы.[1377]
У Левина продолжалось все то странное сумашествіе, состоящее въ томъ, что онъ чувствовалъ себя несомнѣннымъ центромъ всей вселенной, что всѣ тѣ обычныя явленія и событія, которыя прежде совершались для своихъ независимыхъ цѣлей, теперь имѣли только одну цѣль — его женитьбу. Прежде столь робкій и щекотливый въ отношеніи принятія услугъ, теперь увѣренный, что всѣ заняты только имъ, смѣло требовалъ ото всѣхъ услугъ и содѣйствія. Особенно Степанъ Аркадьичъ казался ему спеціально приставленнымъ отъ Бога для исполненія всего, что нужно было. Степанъ Аркадьичъ ѣздилъ и въ деревню къ Левину устроить домъ для молодыхъ; онъ же выбиралъ подарки, нанималъ духовенство, пѣвчихъ.
— Постой, — сказалъ разъ Степанъ Аркадьичъ, — да у тебя есть ли свидѣтельство, что ты былъ на духу?
— Ахъ! ай, ай, ай! — вскрикнулъ Левинъ, открывая ротъ и глаза, чувствуя себя попавшимся, но въ дѣлѣ, которое навѣрное можно исправить.
— Я не помню, когда я говѣлъ, — сказалъ онъ. — Кажется, лѣтъ 9.
— Хорошъ! — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, — а еще ты на меня нападаешь, что я злорадный атеистъ. У насъ, служащихъ, это акуратно. Однако, знаешь, вѣдь это нельзя. Тебѣ надо скорѣе говѣть.
— Да когда же? Три дня осталось.
— Ничего, я тебѣ устрою.
И дѣйствительно, Степанъ Аркадьичъ устроилъ это, направивши Левина къ знакомому священнику, тому самому, который долженъ былъ вѣнчать ихъ, и Левинъ въ два дня отговѣлъ.
Присутствіе при всякихъ церковныхъ обрядахъ всегда было мучительно для Левина по тому уваженію, которое онъ имѣлъ ко всѣмъ религіознымъ убѣжденіямъ, и по совершенной невозможности для него понимать ихъ и потому по необходимости лгать и притворяться. Вслѣдствіи этаго онъ избѣгалъ присутствія при всякихъ церковныхъ обрядахъ,[1378] что ему, при его холостой и свободной жизни, было совершенно возможно. И потому теперь, въ томъ размягченномъ, особенно чувствительномъ ко всему состояніи духа, въ которомъ онъ находился, эта необходимость притворяться была ему страшно тяжела.
Но это было необходимо, и потому, чтобы во время своей славы и торжества не опозорить, не унизить себя обманомъ и притворствомъ, ему оставалось одно средство[1379] — дѣлать искренно то, что онъ дѣлалъ.[1380] Для этаго былъ одинъ путь — освѣжить свои юношескія воспоминанія того страстнаго религіознаго чувства, которое онъ пережилъ отъ 16 до 17 лѣтъ. Онъ попытался сдѣлать это. Но именно по той силѣ вѣры и умиленія, которыя онъ испытывалъ тогда, онъ почувствовалъ, что чувство это слишкомъ высоко, чтобы было не позорно, не осквернительно подражать ему. Другой путь было исполненіе — онъ зналъ это — іезуитскаго наставленія: производить внѣшнія знаки вѣры и молитвы,[1381] для того чтобы вызвать настоящую вѣру и молитву. Онъ дѣлалъ это, но чувствовалъ, что оставался также холоденъ и равнодушенъ. Одно, что поддерживало его, — было то сознаніе необходимости и важности этаго акта, которое онъ видѣлъ и въ Кити, и въ родныхъ его невѣсты, и въ дьяконѣ, дьячкахъ, и священникѣ.
Онъ отстоялъ обѣдню, всенощную,[1382] правила.[1383] Онъ слушалъ слова молитвъ, стараясь понимать ихъ и придавать имъ такой смыслъ, чтобы они не были противны его взглядамъ, крестился, кланялся и достигъ[1384] того, что ни разу не позволилъ ceбѣ осудить того, что онъ слушалъ, но и не могъ убѣдить себя, что то, что онъ дѣлалъ, было нужно.
Онъ еще не зналъ, что онъ будетъ говорить на духу. Онъ надѣялся, что сумѣетъ и на духу удержаться на этой серединѣ холоднаго, равнодушнаго уваженія къ совершаемому акту, при которомъ ему нужно будетъ прямо лгать и обманывать.
Состояніе тупаго упорства все усиливалось и усиливалось въ немъ. Въ то утро, когда ему надо было исповѣдоваться и причащаться, онъ пришелъ въ церковь, уже твердо увѣренный въ томъ, что мысль его заперта и запечатана и ему не надо будетъ бороться съ ней. Онъ не зналъ, что онъ скажетъ на исповѣди, и не хотѣлъ себя спрашивать. Дилемма о томъ, что если сказать про свое невѣріе, то его не допустятъ къ причастію и нельзя вѣнчаться, если же не сказать, то это будетъ ложь и оскверненіе религіи, которую онъ уважалъ, — эта дилемма уже не мучала его. Онъ не задавалъ себѣ этихъ вопросовъ и надѣялся, что онъ обойдетъ обѣ опасности. Прочтя своимъ быстрымъ басомъ правила, съ гофрированными расчесанными волосами Дьяконъ съ рѣзко выдѣлявшимися двумя половинками спины.[1385] Дьяконъ, получивъ деньги, размахивая руками, прошелъ въ алтарь и поманилъ оттуда Левина къ Священнику.
Басъ дьякона, быстро произносившій «помилосъ, помилосъ» вмѣсто «Господи, помилуй», еще звучалъ въ ушахъ Левина, еще онъ не оправился отъ непріятнаго впечатлѣнія руки дьякона въ бархатномъ обшлагѣ, подхватившаго рублевую бумажку, когда ему надо идти. Онъ шелъ морщась и сжимаясь отъ внутренняго стыда и страха, но какъ только онъ встрѣтился съ усталыми старческими глазами Священника, взглянувшими на него и тотчасъ же опустившимися, страхъ его и стѣсненіе тотчасъ же прошли, и онъ понялъ, что ему не нужно и нельзя лгать.
Священникъ былъ старичокъ въ камилавкѣ съ рѣдкой полусѣдой бородкой, изъ подъ которой точно свѣтился красивый, нѣжно сложенный, точно для поцѣлуя, кроткій ротъ. Глаза были усталые, безжизненные. Онъ взглянулъ и опустилъ глаза. Но по этому взгляду Левинъ прочелъ такую твердость убѣжденія въ значительности предстоящаго акта, не смотря на его привычность, такую внутреннюю торжественность, не смотря на внѣшнюю простоту, что Левинъ почувствовалъ, что лгать нельзя и[1386] ему не нужно. Онъ почувствовалъ, что не можетъ сказать по совѣсти, что онъ убѣжденъ, что все это неправда и что все, что онъ можетъ и долженъ сказать, — это то, что онъ сомнѣвается. Священникъ указалъ ему привычнымъ и простымъ жестомъ на крестъ и евангеліе, накрылъ его[1387] эпатрахилью и прочелъ молитву.
— Понимаете ли вы всю важность таинства, къ которому вы приступаете? — сказалъ онъ, не глядя на него.
— Я сомнѣвался и сомнѣваюсь во всемъ.
— Мы должны молиться, чтобы Господь подкрѣпилъ нашу вѣру; дьяволъ не дремлетъ и ищетъ, кого поглотити.
Эта фраза, столь часто употребляемая комически въ общежитіи, не показалась смѣшной Левину.
— Мы должны бодрствовать. Противъ дьявола есть два оружія — вѣра и молитва. Имѣете что нибудь особенное сказать, какой грѣхъ? — привычнымъ медленнымъ шопотомъ проговорилъ священникъ, желая, видимо, идти впередъ въ дѣлѣ исповѣди.
— Мой грѣхъ главный есть сомнѣніе. Я во всѣмъ сомнѣваюсь и большей частью нахожусь въ сомнѣніи.
— Въ чемъ же преимущественно? — нахмурившись сказалъ священникъ.
— Я сомнѣваюсь въ божественности Христа, даже въ существованіи Бога.
Священникъ поглядѣлъ ему въ лицо и оглянулъ его всего, какъ бы заинтересованный, не удивленный.
— Кто же украсилъ свѣтомъ сводъ небесный, кто облекъ землю въ красоту ея?[1388]
— Я не знаю.
— А потому вы не можете судить. Богъ самъ открылъ намъ тайну творенія. И ложныя ученія не могутъ объяснить ее.
— Я знаю, что это такъ, я не понимаю ничего, — искренно сказалъ Левинъ, — но все таки сомнѣваюсь.
— Молитесь Богу и просите его. Никто не можетъ про себя сказать, чтобы онъ вѣрилъ. А святые отцы просили у Бога вѣры. Дьяволъ имѣетъ большую силу, и мы не должны поддаваться.[1389] Вы, какъ я слышу, собираетесь вступить въ бракъ.
Этотъ вопросъ изъ частной жизни на мгновеніе нарушилъ то чувство уваженія, которое испытывалъ Левинъ; но тотчасъ же онъ увидалъ, что вопросъ не былъ праздный.
— Вы собираетесь вступить въ бракъ, и Богъ можетъ наградить васъ потомствомъ. Что же вы будете внушать дѣтямъ вашимъ? Какое воспитаніе вы можете дать вашимъ малюткамъ, если вы не побѣдите въ себѣ искушеніе дьявола, влекущаго васъ къ невѣрію? Чему вы научите его? Какъ вы будете воздѣлывать душу любимаго и врученнаго вамъ Богомъ чада? Вѣдь вы душу его любить будете. Какъ же вы поможете ему? Что вы отвѣтите ему, когда невинный малютка спроситъ у васъ: «папаша, кто сотворилъ[1390] все, что прельщаетъ меня? Что ждетъ меня въ загробной жизни? Что я долженъ любить и чего беречься въ этой земной юдоли? Что же вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Что же, вы только, какъ животное, будете воспитывать его тѣло, а душу предоставите Дьяволу? Вы вступаете въ пору жизни, когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы онъ по своей благости помогъ вамъ и помиловалъ.
Старчески усталые глаза смотрѣли прямо въ лицо Левина и свѣтились въ глубинѣ[1391] тихимъ, ласковымъ свѣтомъ, свѣжiй ротъ былъ сложенъ въ кроткую, нѣжную, хотя и торжественную, улыбку. Левину не нужно было лгать. Онъ просилъ Бога дать ему возможность вѣры.
Священникъ благословилъ и отпустилъ его.
Вернувшись въ этотъ день къ невѣстѣ послѣ причастія, Левинъ былъ особенно веселъ. Онъ приписывалъ это возбужденное веселье чувству прекращеннаго неловкаго, фальшиваго положенія. Онъ даже признался Степану Аркадьичу, что ему весело, прыгать хочется, какъ собакѣ, которую учили прыгать черезъ обручъ и которая, понявъ наконецъ и совершивъ то, что отъ нея требуется, взвизгиваетъ и, махая хвостомъ, прыгаетъ отъ восторга на столы и окна.
Онъ разсказалъ невѣстѣ свое чувство. Она поняла его съ двухъ словъ, но не оцѣнила его, какъ ему хотѣлось. Она не видѣла въ этомъ ничего такого, что бы заслуживало вниманія. Она впередъ знала и была твердо увѣрена, что это не могло быть иначе.
Но слова старичка Священника запали ему въ душу, и еще болѣе запалъ ходъ мысли, вслѣдствіи котораго онъ могъ искренно совершить обрядъ. «Полное вѣрованіе нужно, а пока я не знаю другаго, полнаго, я искренно беру и заставляю себя брать то, которое мнѣ извѣстно и въ которомъ я живу и родился».
* № 109 (рук. № 73).
[Слѣдующая по порядку глава.
Въ 7 часовъ вечера толпа народа, въ особенности женщины, окружала освѣщенную для сватьбы церковь.
Невѣста съ посаженной матерью и почти всѣ родные пріѣхали. Ихъ было много. Больше 20 каретъ уже были разставлены жандармами вдоль по улицѣ. Жениха еще не было. Невѣста въ подвѣнечномъ платьи съ заплакаными глазами и улыбающимся съ счастливой рѣшительностью готовымъ лицомъ стояла въ своемъ длинномъ вуалѣ и своемъ вѣнкѣ въ притворѣ направо, окруженная нарядными родными и знакомыми. Около нея шелъ говоръ, прерываемый всякій разъ звукомъ отворенной двери. Невѣста и всѣ оглядывались, ожидая видѣть входящаго жениха. Но дверь уже отворялась болѣе чѣмъ 10-й разъ, и всякій][1392] разъ это былъ или запоздавшій гость, присоединявшiйся къ кружку невѣсты, удивляясь что жениха нѣтъ, или зрительница, присоединявшаяся къ чужой толпѣ налѣво, разглядывавшей невѣсту, ея одежду, ея выраженіе лица, дѣлавшей догадки: которая — мать, который — отецъ, сестра, и о томъ, почему нѣтъ жениха. Ожидавшіе прошли уже черезъ всѣ фазы ожиданія.
Сначала они и не думали о томъ, что женихъ немного опоздалъ, предполагая, что онъ сію минуту пріѣдетъ и его опозданіе будетъ незамѣтно; потомъ всѣ старались дѣлать видъ, что они не думаютъ о немъ и заняты своимъ разговоромъ; но подъ конецъ уже нельзя было притворяться: невѣста не слушала того, что ей говорили, и робко и безпокойно смотрѣла на дверь. Старый князь начиналъ сердиться. Священникъ нетерпѣливо[1393] сморкался въ алтарѣ. Басъ пѣвчихъ[1394] безпокойно покашливалъ. Священникъ безпрестанно высылалъ то дьячка, то дьякона,[1395] и самъ, въ подрясникѣ и шитомъ кушакѣ, выходилъ къ дверямъ посмотрѣть, пріѣхалъ ли женихъ. Никто уже ни о чемъ не могъ говорить и думать, всѣ только ждали, и всѣмъ было непріятно и неловко.
Левинъ въ это время, въ черныхъ панталонахъ, но безъ жилета и фрака, ходилъ, какъ запертый въ клѣткѣ звѣрь, взадъ и впередъ по своему номеру, безпрестанно выглядывая въ дверь въ коридоръ и всякій разъ съ отчаяніемъ взмахивалъ руками.
— Былъ ли когда нибудь человѣкъ въ такомъ ужасномъ дурацкомъ положеніи? — говорилъ онъ Степану Аркадьичу, который сидѣлъ, куря папиросу, и улыбался.
— Да, глупо.
— Нѣтъ, какъ же не понять, — съ сдержаннымъ бѣшенствомъ говорилъ Левинъ. — И эти дурацкіе жилеты! Невозможно! — говорилъ онъ, глядя на измятый передъ своей рубашки.
Весь этотъ день Левинъ по обычаю (на исполненіи всѣхъ обычаевъ строго настаивала Дарья Александровна, и Левинъ и Степанъ Аркадьичъ подчинялись ей) не видалъ свою невѣсту и обѣдалъ одинъ съ своимъ товарищемъ по медвѣжьей охотѣ[1396] Котавасовымъ, и во весь этотъ день, послѣдній день, въ который ему не позволено было видѣть невѣсту, Левинъ испытывалъ неожиданное для себя чувство:[1397] когда наступила рѣшительная минута, не смотря на всю любовь свою и счастье, онъ испыталъ сожалѣніе передъ своей холостой свободой и страхъ передъ ожидающимъ его.
Котовасовъ былъ однимъ изъ самыхъ пріятныхъ для Левина людей: добрый, умный, скромный, хорошо говорящій и въ особенности хорошо слушающій. Левинъ за обѣдомъ не могъ удержаться не сообщить ему странное испытываемое имъ чувство.
— Не даромъ этотъ обычай прощанья съ холостой жизнью, — какъ я ни недоволенъ былъ ею, какъ ни... Ну, да что говорить. Когда теперь удастся на медвѣдя.
— Ну-ка, какъ этотъ Гоголевский женихъ, поѣдемъ сейчасъ въ Тверь. Три обойдены. Одна медвѣдица. А тутъ какъ хотятъ, — сказалъ улыбаясь Котовасовъ.
Послѣ обѣда, когда Котовасовъ, который былъ шаферомъ, ушелъ, чтобы одѣваться, Левинъ, оставшись одинъ, съ еще большей силой испыталъ это странное чувство страха передъ наступающимъ. Не лишеніе свободы, — возможность того, что она не любитъ его, что она par dépit[1398] выходитъ за него. Левинъ остался совершенно одинъ. Ни братъ его, Сергѣй Ивановичъ, ни Степанъ Аркадьичъ, которые обѣщались пріѣхать, не пріѣзжали.
Онъ сидѣлъ, думалъ о томъ, чего онъ лишится, и, чтобы отогнать это чувство, подумалъ о ней. И, странно, чувство страха не исчезло, а только усилилось. «Любитъ ли она меня? Правда ли это? Что она... Она невѣрна будетъ мнѣ?! — Онъ быстро вскочилъ. — Поѣду къ нимъ, спрошу, скажу послѣдній разъ. Мы свободны[1399] и не лучше ли оставить все?» И онъ живо надѣлъ пальто и поѣхалъ къ нимъ.
* № 110 (рук. № 73).
Послѣ волненія ожиданья рубашки, отчаянія въ неприличности опозданія и смѣшной причинѣ его Левинъ не успѣлъ опомниться, не успѣлъ понять, до какой степени онъ виноватъ, какъ уже началось обрученіе.
Левинъ, несмотря на свое говѣнье на прошлой недѣлѣ, невольно, по старой привычкѣ, смотрѣлъ на этотъ предстоящій ему обрядъ вѣнчанія какъ на не столько скучную, сколько фальшивую, формальную необходимость, черезъ которую надо стараться пройти, какъ и черезъ[1400] говѣніе, наилучшимъ образомъ, т. е. такъ, чтобы не выказать неприличнаго неуваженія и вмѣстѣ съ тѣмъ не лгать самому себѣ.
Впрочемъ, въ первую минуту его входа въ церковь ему даже объ этомъ не удалось подумать: онъ такъ былъ взволнованъ мыслью о томъ, что она могла подумать о его опозданіи. Входя въ церковь, онъ смотрѣлъ только на нее. Она была такая же, необыкновенно подурнѣвшая, какъ и всѣ эти послѣдніе дни. Нынче, подъ вѣнцомъ, она даже особенно, еще больше подурнѣла. Глаза были заплаканы и красны и красенъ кончикъ носа, что особенно было замѣтно подъ ея бѣлымъ вуалемъ, бѣлыми цвѣтами въ ея обнаженномъ платьѣ, которое своей обнаженностью непріятно подѣйствовало на Левина. Но лицо ея не могло подурнѣть для Левина. Она взглянула на него вопросительно нѣжно и чуть замѣтно улыбнулась. Эта улыбка, это выраженіе было то, что онъ любилъ въ ней, и потому, какъ бы ни красенъ былъ кончикъ носа, она не могла подурнѣть для него. А улыбка эта изъ заплаканнаго лица была еще болѣе прелестна, еще болѣе она, чѣмъ когда нибудь прежде. Онъ пожалъ ея руку, забывъ обо всѣхъ, и чувство счастливаго и торжественнаго умиленія и нѣкотораго страха, который былъ въ этой улыбкѣ, сообщилось ему. Долго поправляли его, пока наконецъ онъ[1401] понялъ, какъ надо было правой рукой, не перемѣняя положенія на право, взять ее за правую же руку, и эта суета и его безтолковость нисколько не смутили его, — такъ велико было чувство умиленія.
Облаченный священникъ, тотъ же старичекъ съ кроткимъ ртомъ, который исповѣдывалъ его, вывелъ ихъ впередъ церкви и сталъ у аналоя. Толпа родныхъ, жужжа и шурша шлейфами, двинулась за ними. Пока священникъ получалъ перстни и изукрашенные цвѣтами свѣчи и Степанъ Аркадьичъ шептался съ нимъ о чемъ то, Левинъ[1402] поглядѣлъ на Кити. Она[1403] уже не съ робкимъ, но съ счастливымъ, гордымъ выраженіемъ смотрѣла на него однимъ глазомъ. И когда онъ оглянулся, обнаженная[1404] грудь ея высоко поднялась отъ долго сдержаннаго вздоха, и она улыбнулась ему. Но смотрѣть на нее нельзя было. Думать ни о чемъ тоже нельзя было, и потому Левинъ смотрѣлъ передъ собой на блестящій свѣтомъ и золотомъ иконостасъ, на бѣлую ризу Священника съ золотымъ крестомъ, на молодцоватаго дьякона, подававшаго кадило, и не безъ страха, тревожась о томъ какъ онъ простоитъ этотъ часъ времени, исполняя безсмысленный для него обрядъ.[1405]
Священникъ обернулся, трижды перекрестилъ новоневѣстныхъ и подалъ имъ свѣчи.
Левинъ взялъ свою, стараясь имѣть видъ приличный и несмешной.
Началась служба, и онъ невольно,[1406] какъ и всегда, прислушивался къ словамъ ея.
Вслѣдъ за обычной эктинией Левинъ въ словахъ Дьякона, наполнявшаго всю церковь своимъ басомъ и заставлявшаго дрожать волны воздуха у оконъ и въ куполе, Левинъ разслышалъ молитву «о нынѣ обручающихся рабѣ божьемъ[1407] Константинѣ и Екатеринѣ, о еже низпослатися имъ любви совершеннѣй и мирнѣй и помощи — Господу помолимся».
«Однако это не такъ глупо, какъ[1408] кажется, — подумалъ Левинъ, услыхавъ эти слова и особенно слово помощи, особенно неожиданно поразившее его. — Такъ сказано: «любви совершеннѣй и мирнѣй», и вдругъ совсѣмъ другое: помощи, и не сказано отъ кого».
Такъ это несообразно и такъ это истинно вѣрно отозвалось на то, что было въ его сердцѣ во всѣ эти дни и въ эту минуту, что онъ вдругъ[1409] перемѣнилъ совершенно свои взгляды на слова службы. Онъ посмотрѣлъ на Кити. Она стояла все также и не оглянулась на него, но легкимъ движеніемъ рѣсницъ дала ему понять, что она чувствуетъ его взглядъ. Она тоже была тронута.
«Какъ они догадались, что помощи, именно помощи я искалъ и желалъ не знаю отъ кого — думалъ Левинъ, — но я не могу одинъ въ этомъ страшномъ дѣлѣ и прошу и ищу помощи. Какъ же не помощи, — думалъ онъ. — Любитъ ли она меня, не обманывается ли? Невѣрность ея, моя? Болѣзнь? дѣти? Все можетъ быть, все можетъ не быть. И что надо для того, чтобы это было и не было?... И Господу помолимся», проговорилъ онъ самъ съ собою, крестясь и кланяясь.
Слова службы уже не составляли для него развлеченія: онъ уже не выбиралъ изъ многихъ тѣ, которые подходили къ его настроенію и съ которыми онъ былъ согласенъ, но онъ старался проникнуть значеніе каждаго слова и если не понималъ, то винилъ только себя.
Когда священникъ послѣ эктеніи обратился къ нимъ и, давъ затихнуть гулу голоса дьякона и пѣвчихъ, усталыми глазами посмотрѣлъ на Левина и, тихо вздохнувъ, произнесъ молитву, Левинъ уже не судилъ, а ловилъ каждое слово, приписывая ему[1410] то самое значеніе[1411] сознанія своего безсилія и[1412] страха передъ таинственностью совершаемаго и умиленной мольбы о помощи и благословеніи тому, къ чему онъ приступалъ «Боже вѣчный, разстоящія собравый въ соединеніе [и союзъ любве положивый имъ неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку и наслѣдники я Твоего обѣтованія показавый, самъ благослови и рабы твои сія, Константина и Екатерину],[1413] наставляя на всякое дѣло благое».
Когда послѣ молитвы священникъ взялъ перстни и, благословивъ ихъ, три раза перемѣнилъ, Левинъ уже не смотрѣлъ на Кити, и ея розовый палецъ и руки показались ему такими маленькими, ничтожными, тѣлесными въ сравненіи съ тѣмъ ужасомъ передъ совершающимся таинствомъ, которое,[1414] по словамъ молитвы, происходило еще со временъ перваго человѣка, Исаака и Ревекки, которое касалось не людей: колежскаго ассесора Левина и дочери Тайнаго Совѣтника Щербацкаго, а тайны происхожденія и продолженія рода человѣческаго.
* № 111 (рук. № 73).
Нѣсколько позади стояли менѣе близкія:[1415] красавица Корсунская, Николева, барышни Чирковы, изъ которыхъ одна должна была тоже на дняхъ быть сосватана, старая фрейлина въ букляхъ и знаменитая Дарья [1 не разобр.]
Около этаго самаго почетнаго центра стояли мущины: князь Ливановъ въ своемъ мундирѣ, Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ во фракѣ безъ звѣздъ, Махотинъ, съ лоснящейся плѣшью и звѣздами, и тотъ будущій женихъ Чирковой, красавецъ Графъ Синявинъ, и молодой Щербацкій, и Тихонинъ, и Мировскій, шафера ея и его, и Степанъ Аркадьичъ. Мущины свободно говорили, обращаясь къ дамамъ; но дамы всѣ большею частью, какъ и Долли, были такъ поглощены созерцаніемъ того, что они видѣли передъ собой и чувствовали, — кто воспоминанія, кто надежды или разочарованія, и были такъ взволнованы, что не отвѣчали или отвѣчали нехотя, какъ отвѣчалъ бы на неинтересные замѣчанія голодный человѣкъ за ѣдою.
Только рѣдкія, самыя забирающія за душу замѣчанія были обмѣниваемы шопотомъ между дамами.
* № 112 (рук. № 73).
Въ короткій промежутокъ между обрученіемъ и вѣнчаніемъ нѣкоторые изъ тѣхъ, которые знали, что тутъ есть промежутокъ и одна служба кончилась, а другая еще не начиналась, подошли къ жениху и невѣстѣ и сказали нѣсколько поздравительныхъ словъ. Долли хотѣла сказать что то, но не могла отъ размягченія, въ которомъ она была. Она только пожала руку сестры и поцѣловала и улыбнулась ей сквозь слезы.
— Смотри, Кити, первая стань на коверъ, — сказала Графиня Нордстонъ. — Поздравляю, душенька. И васъ также.
— Теперь будутъ спрашивать, не обѣщалась ли ты кому нибудь, — сказала, улыбаясь своей спокойной улыбкой, Львова сестрѣ. — Вспомни, не обѣщалась ли, — сказала она съ убѣжденіемъ, что этого не могло быть.
И этаго не было; но вдругъ воспоминаніе о Вронскомъ[1416] всплыло въ воспоминаніи Кити, и она покраснѣла и испуганно поглядѣла на Левина. Но Левинъ ничего не могъ замѣтить, и если бы замѣтилъ, то это не смутило бы его въ эту минуту. Онъ находился въ состояніи восторженнаго умиленія передъ совершающимся таинствомъ.
Онъ смотрѣлъ вокругъ себя на всѣ эти окружающія его лица и никого не видѣлъ. Братъ его подошелъ къ нему и съ сурьезнымъ лицомъ пожалъ ему руку.
— Да, да, — проговорилъ Левинъ и, взглянувъ на лицо брата, увидалъ, что тотъ дѣлаетъ видъ, какъ будто радуется его счастью. Но онъ видѣлъ, что онъ не понимаетъ и не можетъ понять его чувства. Онъ крѣпко пожалъ протянутую руку брата и обратился къ подходившему Степану Аркадьичу. На лицѣ Степана Аркадьича было знакомое Левину выраженіе готовой хорошей шутки.
— Ну, Костя,[1417] теперь надо рѣшить, — сказалъ онъ съ притворно испуганнымъ видомъ, — важный вопросъ. Ты именно теперь въ состояніи оцѣнить всю важность. У меня спрашиваютъ: обозженные ли свѣчи зажечь или необозженныя? — разница 10 рублей, — сказалъ онъ, собирая губы въ сдержанную улыбку. — Какъ рѣшить?
Левинъ понялъ и улыбнулся. Онъ лучше любилъ эту шутку, чѣмъ что то притворное въ выраженіи брата. Сергѣй Ивановичъ хотѣлъ показать, что онъ понимаетъ важность минуты, но Левинъ думалъ, что онъ не понималъ. Степанъ Аркадьичъ своей шуткой показывалъ, что онъ понимаетъ, какъ смѣшны должны казаться Левину заботы о обозженныхъ или необозженныхъ.
— Такъ необозженные? Ну, я очень радъ. Вопросъ рѣшенъ, — сказалъ онъ, улыбаясь, отходя отъ него.
Священникъ опять вышелъ. Клиръ запѣлъ псаломъ, въ которомъ Левинъ услыхалъ слова: «и узриши сыны сыновъ твоихъ», и опять на него нашло прежнее чувство съ такой силой, что, входя съ невѣстою на коверъ, онъ, столько разъ слышавши объ этомъ примѣчаніи и не думая объ этомъ, и не замѣтилъ, кто прежде ступилъ и какъ всѣ заговорили, что ступилъ онъ.
Священникъ спросилъ ихъ о желаніи ихъ вступить въ этотъ бракъ, потомъ спросилъ, не обѣщались ли они. Какъ будто нечаянно, раздался его голосъ, нарушившій торжественность службы, и потомъ ея, показавшійся Левину страннымъ, голосъ, еще болѣе нарушившій ея торжественность, когда она сказала эти слова. Левинъ оглянулся на нее и, увидавъ ее, понялъ, что забылъ про нее.
И опять началась служба,[1418] по мѣрѣ которой Левинъ чувствовалъ медленное совершеніе.
Сначала онъ слышалъ слова о томъ, что просили Бога за него и ее, какъ за желающихъ сочетаться, напоминали о томъ, какъ Богъ сотворилъ жену изъ ребра Адама, просили, чтобы Онъ далъ имъ плодородіе и благословеніе, какъ Исааку и Ревеккѣ, Іакову, Іосифу, Моисею и Сейѳору. Просили, чтобы Богъ внушилъ рабѣ Божьей Екатеринѣ повиноваться мужу, а мужу быть во главу женѣ, и чтобъ жили по волѣ Бога и чтобъ далъ плодъ чрева, доброчадіе, единомысліе душъ и тѣлесъ.
Потомъ онъ чувствовалъ, когда надѣли на нихъ вѣнцы и Щербацкій, дрожа рукою и улыбаясь, держалъ его надъ[1419] прической съ цвѣтами Кити и когда его шаферъ щекоталъ его волосы вѣнцомъ, онъ чувствовалъ, что уже на половину совершилось. И опять слова службы соотвѣтствовали его чувству: «Сего ради, оставитъ человѣкъ отца своего и матерь и прилѣпится къ женѣ своей, и будетъ два въ плоть едину. Тайна сія велика есть».
Какъ ни серьезно и высоко думалъ о бракѣ Левинъ, онъ теперь только съ ужасомъ началъ обнимать все, прежде только предчувствуемое, его значеніе.
Но когда, послѣ поднесенія вина и воды изъ общей чаши, Священникъ, взявъ ихъ за руки, повелъ вокругъ аналоя и клиръ запѣлъ «Исаіе ликуй», Левинъ зналъ, что все уже совершилось, и вмѣсто страха радость и спокойствіе наполнили его сердце.
Когда Священникъ произнесъ послѣдніе слова: «и всѣхъ святыхъ, аминь» — послѣдней молитвы и всѣ двинулись къ нимъ, онъ въ первый разъ взглянулъ на свою жену, и никогда онъ не видалъ ее до сихъ поръ такою.[1420] Она была его. И она была прелестна тишиною и спокойствіемъ того выраженія, съ которымъ она смотрѣла на него.
Левину хотѣлось теперь одного: поцѣловать ее, но онъ не зналъ хорошенько, правда ли то, что онъ слыхалъ когда то, что послѣ вѣнчанія молодыхъ заставляютъ поцѣловаться, или это обычай только у народа. Но Священникъ вывелъ его изъ затрудненія: онъ улыбнулся своимъ добрымъ ртомъ и[1421] тихо сказалъ: «поцѣлуйте другъ друга» и самъ взялъ у нихъ изъ рукъ свѣчи.
Для Левина сбылось то, чего онъ ждалъ. Чѣмъ больше онъ любилъ свою жену, тѣмъ дальше онъ чувствовалъ себя отъ той грѣшной любви къ ней, которую онъ испытывалъ къ другимъ женщинамъ.
Онъ поцѣловалъ[1422] съ осторожностью и сдержаннымъ восторгомъ и не спуская глазъ смотрѣлъ на нее, какъ на что то совершенно новое и даже непонятное для него, не смотря на то, что это былъ онъ самъ.
—————
Послѣ ужина у Щербацкихъ молодые въ ту же ночь уѣхали въ деревню.
* № 113 (рук. № 76).
Левинъ[1423] чувствовалъ, что всѣ его мысли о женитьбѣ, его мечты поэтической любви, его соображенiя о томъ, какъ онъ устроитъ свою жизнь, — все это было ребячество и что теперь только, въ эту торжественную минуту, открылось для него значеніе того, къ чему онъ приступалъ. Онъ чувствовалъ, что значеніе этаго акта не заключается въ наслажденіи, въ счастіи въ настоящемъ, ни въ какомъ личномъ счастьи, но что онъ и она въ своей слѣпой любви другъ къ другу невольно и безсознательно составляютъ часть этого вѣчнаго и великаго таинства продолженія рода человѣческаго, которое началось съ Адама и Евы, съ Исаака и Ревекки, какъ говорили слова молитвы, и что участіе въ этомъ таинствѣ внѣ воли человѣка, а во власти необъяснимой и таинственной силы, къ которой въ лицѣ Бога теперь прибѣгаетъ церковь.
* № 114 (рук. № 77).
Вронскій никакъ бы не ожидалъ, что онъ такъ обрадуется Голенищеву, но онъ нетолько обрадовался, онъ умилился отъ этой встрѣчи. Онъ забылъ всѣ непріятныя впечатлѣнія послѣднихъ встрѣчъ. Его сердце переполнилось любовью къ бывшему товарищу, и такое же умиленіе и добродушіе замѣнили тревожное выраженіе лица Голенищева.
Вронской еще не понималъ всего могущества того божества, во власть котораго онъ отдался, оставивъ полкъ, Петербургъ, родныхъ, свѣтскихъ и холостыхъ знакомыхъ и связей и заѣхавъ одинъ съ своей любовью въ чужія, ненужныя, безсмысленныя для него условія жизни. Голенищевъ давно уже отрекался по благородству вкусовъ своей природы отъ всѣхъ пошлыхъ условій жизни, даже отрекался отъ жизни въ Россіи, давно уже служилъ этому божеству, что и видно было по его тревожному, несчастному, хотя и достойному выраженію, и зналъ его могущество. Божество это была скука гордости.
* № 115 (рук. № 77).
Анна поразила его своей красотой, простотой и необыкновенной смѣлостью, съ которой она принимала свое положеніе. Она покраснѣла, когда Вронской ввелъ Голенищева, и эта дѣтская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, особенно выигрывавшее отъ невольно оригинальной прически буколь, которыя она усвоила вслѣдствіе короткихъ, не отросшихъ еще волосъ, и эта застѣнчивость чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, какъ она тотчасъ же, какъ бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумѣній, при чужомъ человѣкѣ назвала Вронскаго Алексѣемъ и сказала, что они переѣзжаютъ съ нимъ въ вновь нанятой палаццо. Это еще больше понравилось Голенищеву. Онъ не зналъ того, что она торопилась высказывать свои отношенія къ Вронскому по тому соображенію, что, отказавшись изъ великодушія къ мужу отъ предлагаемаго ей развода, она считала себя вполнѣ законной женой Вронскаго. «Если бы я приняла самопожертвованіе Алексѣя Александровича, я бы вышла замужъ за Вронскаго и была бы его женой и была бы спокойна и права передъ свѣтомъ; а мужъ пострадалъ бы. Теперь же я избавила мужа отъ униженія, и неужели эта жертва съ моей стороны не лучше освящаетъ нашъ бракъ, чѣмъ вѣнцы, которые бы на насъ надѣли?» думала она. И вслѣдствіе того она считала себя женой Вронскаго и не стыдилась этаго. Всего этого разсужденія не могъ знать и не зналъ Голенищевъ, но ему казалось, и онъ дѣлалъ видъ, что онъ вполнѣ понимаетъ и цѣнитъ, и потому имъ было пріятно съ нимъ.
* № 116 (рук. № 77).
Вронской, слушая его,[1424] сначала совѣстился, что онъ не зналъ и первой статьи «Уроковъ жизни», про которую ему говорили какъ про что то очевидно извѣстное. Но онъ несправедливо обвинялъ себя въ этомъ невѣденіи, такъ какъ и большинству читающихъ людей «Уроки жизни» были неизвѣстны. Но потомъ, когда Голенищевъ сталъ излагать свои мысли, Вронской могъ слѣдить за нимъ и, не зная «Уроковъ жизни», интересовался тѣмъ, что говорилъ Голенищевъ, такъ какъ это все было очень учено, умно и прекрасно изложено. Но кромѣ интереса самаго содержанія разговора, Вронской чувствовалъ, что душевное состояніе Голенищева невольно приковываетъ его вниманіе и возбуждаетъ его сочувствіе какъ бы къ такому состоянію человѣка, въ которое онъ самъ долженъ скоро вступить.
И вѣрный инстинктъ не обманывалъ Вронскаго. Точно также какъ онъ самъ теперь началъ подъ могущественнымъ насиліемъ скуки гордости и извѣстной возрастной потребности душевной дѣятельности заниматься живописью, такъ точно Голенищевъ гораздо раньше его началъ заниматься литературой, не потому что ему было что необходимо высказать, но потому, что онъ былъ празденъ, гордъ и любилъ и понималъ литературу и считалъ это занятіе благороднымъ. И Вронскій, не зная подробностей о томъ, какъ Голенищевъ пожертвовалъ и жертвовалъ всѣми простыми благами міра для своей недостижимой цѣли высказать что нибудь новое, тогда какъ онъ не имѣлъ въ этомъ потребности, а только желая этаго, не зная всѣхъ попытокъ обманыванія себя въ томъ, что мысли его новы и велики, тогда какъ онъ, зная въ глубинѣ души, что онѣ стары и малы, не зная того долгаго самообманыванія, состоящаго въ томъ, что, зная слабость взлѣлѣянной мысли и чувствуя, что, какъ только мысль будетъ выражена, слабость обнаружится, онъ нарочно увѣрялъ себя, что мысль не созрѣла, что онъ вынашиваетъ ее, что онъ готовитъ матерьялы, не зная всей той зависти и злобы на міръ и судей за то, что они такъ высоко цѣнятъ сильную, энергически, отъ сердца высказанную, хотя и ложную и въ грубой формѣ, мысль, а не цѣнютъ 10-лѣтній исключительный трудъ его; не зная всего этаго, Вронскій чувствовалъ однако, что этотъ человѣкъ стоитъ на томъ самомъ пути, который онъ избралъ теперь, но только впереди его, и что путь этотъ привелъ его къ несчастію. Несчастіе, духовное несчастье, почти умопомѣшательство видно было на этомъ хорошемъ, умномъ лицѣ.
* № 117 (рук. № 77).
— У него большой талантъ, — сказала Анна. — Я, разумѣется, не судья, но судьи знающіе тоже сказали тоже.
Анна съ даромъ провидѣнія любящей женщины знала лучше всякаго судьи, что у ея теперешняго мужа (такъ она его мысленно называла) не было дара. Она знала это, хотя сама себѣ не говорила этаго. Она видѣла, что, хотя онъ и любилъ ее настолько, насколько онъ способенъ былъ любить, онъ уже испытывалъ то чувство пресыщенія любовью, котораго она боялась тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе понимала это чувство. Она видѣла приближеніе того страшнаго и могущественнаго божества скуки, которое начинало овладѣвать ими, и боялась того неизвѣстнаго, куда можетъ направить его эта новая сила. Любовь его къ живописи, всегда и прежде бывшая въ немъ, усилившаяся пребываніемъ въ Италіи и собираніемъ картинъ и перешедшая въ аматерство, успокаивала ее. Она чувствовала, что онъ слишкомъ много говорилъ про это, слишкомъ много готовился, не такъ дѣлалъ, какъ дѣлаютъ все то, что любятъ, прямо безъ приготовленія, безъ обсужденія, безъ заботъ о внѣшнихъ побочныхъ условіяхъ бросающіеся на любимое дѣло, и потому въ глубинѣ сердца она знала, что онъ разочаруется, но всѣми силами поддерживала его.
* № 118 (рук. № 77).
Счастье Вронскаго и Анны должно бы было быть отравлено мыслью о томъ, что это самое счастье куплено цѣною несчастія нетолько добраго, но великодушнаго человѣка, душевную высоту котораго они оба цѣнили и признавали; но это не было такъ. Мысль объ Алексѣѣ Александровичѣ никогда не приходила имъ и если и приходила, то не нарушала ихъ душевнаго спокойствія и не возбуждала раскаянія. Люди большей частью чувствуютъ раскаяніе въ совершенномъ злѣ только тогда, когда испытываютъ подобное же зло, или оно угрожаетъ имъ; но рѣдко люди испытываютъ раскаяніе въ томъ поступкѣ, который даетъ имъ счастье и одобряемъ людьми.
И Анна и Вронской не испытывали раскаяніе въ злѣ, причиненномъ Алексѣю Александровичу. Они никогда не думали объ этомъ; безсознательно отгоняли эту мысль, когда она имъ приходила. И потому воспоминаніе о немъ не мѣшало ихъ счастію. Они имѣли все для того, чтобы быть счастливыми. Они оба были молоды, здоровы, они любили другъ друга, они были богаты и свободны, но они оба одинаково чувствовали, что счастья не было.
Счастья не было для нихъ только потому, что было полное осуществленіе того, чего они оба желали. И это осуществленіе показало имъ ту вѣчную ошибку, которую дѣлаютъ люди, представляя себѣ счастіе также, какъ представляется рай, — соединеніемъ такихъ условій, въ которыхъ осуществлены всѣ желанія. Они испытали то странное чувство разочарованія въ своихъ желаніяхъ, которое такъ рѣдко случается съ людьми. Когда желанія ихъ были исполнены, они почувствовали, что желанія эти были ничтожны и ошибочны и что достиженіе ихъ нетолько не есть счастье, но есть тоска.
* № 119 (рук. № 77).
У него была внѣшняя способность понимать искуство и вѣрно, со вкусомъ, подражать искуству, и онъ подумалъ, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, нѣсколько времени поколебавшись между тѣмъ, какую онъ выберетъ себѣ работу: политическую статью, поэму или живопись, онъ выбралъ живопись. Въ живописи онъ тоже нѣкоторое время колебался о томъ, какой онъ выберетъ родъ: религіозную, историческій жанръ или тенденціозную или реалистическую живопись. Онъ понималъ всѣ роды и могъ вдохновляться и тѣмъ и другимъ; но онъ не могъ себѣ представить даже, чтобы можно было даже не знать, какіе есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тѣмъ, что есть въ душѣ, не заботясь о томъ, будетъ ли то, что онъ напишетъ, принадлежать къ какому нибудь извѣстному роду или ни къ какому. Такъ какъ онъ не зналъ этаго и вдохновлялся только извѣстнымъ родомъ, т. е. вдохновлялся уже самымъ искуствомъ, то онъ изучалъ всѣ роды, взвѣшивалъ ихъ достоинства и выбиралъ тотъ, который ему представлялся самымъ новымъ и вмѣстѣ благороднымъ. Такимъ показался ему новый историческій жанръ, и онъ избралъ его.
Анна, точно также какъ и онъ, почувствовала послѣ[1425] 1 мѣсяца такой жизни чувство неудовлетворенности, несмотря на исполненіе желаній, и потребность новыхъ желаній, которыя бы дали цѣль и интересъ въ жизни. Но ей, какъ женщинѣ, не нужно было искать ихъ. Она нашла ихъ въ немъ. Она видѣла и понимала всю ту душевную работу, которая происходила въ немъ, и всѣ ея желанія сосредоточились на томъ, чтобы слѣдить за нимъ и помогать ему наполнить свою жизнь.
Она постоянно чувствовала малѣйшія измѣненія его душевнаго состоянія, слѣдила за ними и поддерживала его въ состояніи увлеченія своей работой. Ея жизнь вмѣстѣ съ заботой о ребенкѣ дѣвочкѣ, которая съ кормилицей жила и путешествовала вмѣстѣ съ ними, вмѣстѣ съ работой объ устройствѣ удобствъ его жизни, заботами о себѣ, о томъ, чтобы не переставать нравиться ему, была полна.
Она своимъ тонкимъ чутьемъ любви знала не столько то, что ему было нужно, сколько то стекло, въ которое онъ въ извѣстный моментъ хотѣлъ смотрѣть на жизнь и на нее, и тотчасъ же незамѣтно принимала на себя тотъ тонъ, въ которомъ онъ хотѣлъ видѣть ее и всю жизнь.
Первое время она видѣла, что онъ хотѣлъ, чтобы онъ былъ молодымъ, беззаботно счастливымъ, вырвавшимся на волю молодымъ и ни въ комъ не нуждающимся и удовлетворяющимся только собою. И она дѣлала ихъ жизнь такою. Потомъ было время, когда они были въ Римѣ, онъ хотѣлъ, чтобы они были знатными туристами, и такими они были. Потомъ онъ хотѣлъ, чтобы они были во Флоренціи людьми, желающими только свободы для тихой семейной и артистической жизни, и такими они были. Потомъ весною, при переѣздѣ въ Палаццо, онъ хотѣлъ, чтобы они были покровители искусствъ, меценаты, и такою она дѣлала ихъ жизнь.
Голенищевъ, знакомый со всей интеллигенціей города, много способствовалъ имъ въ этомъ и былъ пріятнымъ собесѣдникомъ. Анна видѣла, что между имъ и Вронскимъ установилось молчаливое условіе взаимнаго восхваленія. Вронской слушалъ статьи Голенищева, Голенищевъ любовался его картиной, и они оба — Анна видѣла это — были недовольны собой, безпокойны, но поддерживали другъ друга (что имъ такъ нужно было обоимъ) въ убѣжденіи, что то, что они дѣлаютъ и чѣмъ заняты, дѣло серьезное.
* № 120 (рук. № 77).
Первое время жизнь во дворцѣ съ высокими лѣпными плафонами и фресками, съ тяжелыми желтыми штофными гардинами, съ древними вазами на каминахъ, съ рѣзными дверями и съ залами, увѣшанными картинами мастеровъ, самой своей внѣшноcтью веселила Вронскаго и поддерживала въ немъ пріятное заблужденіе, что онъ не столько Русской полковникъ въ отставкѣ и помѣщикъ[1426] Пензенской, Зарайской и Саровской губерніи, сколько любитель искуствъ, покровитель ихъ и самъ скромный художникъ, отрекшійся отъ свѣта, связей честолюбія для любимой женщины и искуства.[1427] Палаццо былъ очень дешевъ, 2000 франковъ въ мѣсяцъ, такъ что не стоило лишать себя этаго удовольствія. Немного дорого стоило только устройство трехъ комнатъ спальни, ея кабинета и маленькой гостиной, которыя, въ противоположность всѣмъ остальнымъ комнатамъ, называемыхъ у нихъ moyen âge,[1428] они называли домомъ. Комнаты эти необходимо было устроить, ибо спальня палаццо съ громадной рѣзной кроватью подъ балдахиномъ, съ штофными шитыми занавѣсами была невозможна. И эти два различные міра въ ихъ домѣ доставляли имъ особенное удовольствіе. «Где мы нынче будемъ[1429] обѣдать? — спрашивали они. — Дома или въ moyen âge?» Большей частью они обѣдали и принимали гостей въ moyen âge, въ большой столовой, въ угольной или въ atelier[1430] Вронскаго, огромной свѣтлой комнатѣ прекрасныхъ размѣровъ. Вронскому первое время доставляло особенное и новое наслажденіе смотрѣть на граціозную фигуру Анны, казавшуюся маленькой, когда она отворяла рѣзную въ 3 ея роста вышиною дверь и садилась на стулъ съ высокой рѣзной спинкой или останавливалась у тяжелой гардины громаднаго расписнаго окна. И особенное новое удовольствіе доставляло имъ возвращеніе изъ грандіозныхъ и тяжелыхъ среднихъ вѣковъ въ элегантную уютность 3-хъ комнатокъ дома, въ которыхъ они нарочно уменьшили всѣ размѣры.
Голенищевъ, полюбившій ихъ, бывалъ у нихъ часто и познакомилъ ихъ съ нѣкоторыми учеными и артистами. Общество собиралось мужское и пріятное.
Они жили такъ 3 мѣсяца. Анна видѣла, что эта новая роль, принятая на себя Вронскимъ, удовлетворяла ему, и ревниво слѣдила за тѣмъ, что могло разрушить его довольство своимъ положеніемъ.
Вронской написалъ портретъ Анны, который всѣ очень хвалили, но не кончилъ его, предполагая, что онъ отложилъ окончаніе до другаго времени, въ сущности же потому, что онъ чувствовалъ, что портретъ нехорошъ и его нельзя кончить. У него было столько истиннаго пониманія искуства, что онъ видѣлъ, что это не то, что нужно, хотя и не могъ найти, въ чемъ ошибка, и зналъ, что стоило окончить портретъ, для того чтобы всѣ недостатки, видные ему одному, бросились въ глаза всѣмъ. Онъ оставилъ портретъ неоконченнымъ, писалъ подъ руководствомъ Профессора живописи этюды съ натуры и готовилъ матерьялы для задуманной имъ исторической картины «Смерть Мономаха». Он выписалъ много книгъ и читалъ ихъ и рисовалъ эскизы.
Голенищевъ пришелъ рано и принесъ новыя, полученныя имъ изъ Россіи, газеты и журналы. За кофеемъ дома, т. е. въ маленькой гостиной, сидѣли, разговаривая о русскихъ новостяхъ, почерпнутыхъ изъ газетъ. Въ одной изъ газетъ была статья о русскомъ художникѣ, жившемъ во Флоренціи и оканчивавшемъ картину, о которой давно ходили слухи и которая впередъ была куплена. Въ статьѣ, какъ и всегда, были укоры правительству и Академіи за то, что замѣчательный художникъ былъ лишенъ всякаго поощренія и помощи.
— Да ты видѣлъ его картину? — спросилъ Вронской.
— Видѣлъ, — отвѣчал Голенищев. — Разумѣется, онъ не лишенъ дарованія; но фальшивое совершенно направленіе. Все то же Ивановско-Штраусовско-Ренановское отношеніе къ Христу и религіозной живописи.
— Что же представляетъ картина? — спросила Анна.
— Слово къ юношѣ, который спрашивалъ, чѣмъ спастись. Христосъ представленъ Евреемъ со всѣмъ реализмомъ новой школы и умнымъ дипломатомъ, который знаетъ, чѣмъ задѣть юношу, — отдай имѣнье. Я не понимаю, какъ они могутъ такъ грубо ошибаться. Во первыхъ, искуство не должно спорить. А Христосъ уже имѣетъ свое опредѣленное воплощеніе въ искуствѣ великихъ мастеровъ. Стало быть, если они хотятъ изображать не Бога, a революціонера или мудреца, то пусть берутъ изъ исторіи Сократа, Франклина, но только не Христа. Мы привыкли соединять съ понятіемъ Христа Бога, и потому, когда мнѣ представляютъ Христа какъ начальника партіи — человѣка, у меня является споръ, сомнѣніе, сравненіе. А этого то не должно быть въ искуствѣ. Они берутъ то самое лицо, которое нельзя брать для искуства.
* № 121 (рук. № 77).
То, что это соображеніе было одно изъ миліоновъ другихъ соображеній, которыя Михайловъ зналъ, всѣ бы были вѣрны, онъ полюбилъ Голенищева за это замѣчаніе, и тотчасъ же вся картина его предстала опять въ томъ глубокомъ значеніи, которое онъ самъ приписывалъ ей. Если бы человѣкъ былъ въ состояніи сдѣлать существо, которое говоритъ, двигается и живетъ, судьи стали бы разсматривать это существо и, открывъ ему ротъ, нашли бы, что у этого существа есть маленькій язычекъ въ концѣ неба и сказали бы: «однако какъ вѣрно онъ сдѣлалъ это, даже и маленькій язычекъ не забытъ». Подобное же чувство испытывалъ Михайловъ, слыша замѣчаніе Голенищева. Онъ хвалилъ за то, что не забытъ былъ язычекъ. Язычекъ же не могъ быть забытъ, потому что сдѣланное существо должно говорить.
* № 122 (рук. № 77).
Михайловъ волновался, но не умѣлъ ничего сказать въ защиту своей мысли, потому что не могъ и не хотѣлъ сказать единственнаго несомнѣннаго довода — того, что если онъ художникъ, а это онъ зналъ твердо, то онъ не можетъ выдумывать такъ для своихъ произведеній, а ему открываются произведенія, которыя онъ выводитъ готовыя со всѣми условіями ихъ жизни и что когда онъ выдумываетъ произведенія, что онъ пробовалъ, то эти выдуманныя произведенія до того безобразны и жалки въ сравненіи съ настоящими, которыя онъ знаетъ, что онъ уже не можетъ принимать одно за другое и не можетъ проходить тѣхъ, которыя открываются ему.
И потому онъ написалъ эту картину только потому, что ему такъ надо было. Онъ горячился, особенно, можетъ быть, именно потому, что чувствовалъ справедливость гоненія Голенищева. Но онъ долженъ былъ сдѣлать эту ошибку и не могъ не сдѣлать ее.
Анна съ Вронскимъ уже давно переглядывались, сожалѣя о умной говорливости ихъ пріятеля, и наконецъ Вронской перешелъ, не дожидаясь хозяина, къ другой небольшой картинѣ.
— Ахъ, какая прелесть, какая прелесть. Прелестно! Какъ хорошо! — вскрикнули они въ одинъ голосъ.
«Что имъ такъ понравилось?» подумалъ Михайловъ. Онъ и забылъ про эту, три года тому назадъ писанную, картину. Забылъ всѣ страданія, восторги, которые онъ пережилъ съ этой картиной, весь сложный ходъ чувства и миліоны соображеній, которыя онъ о ней дѣлалъ, когда она неотступно, день и ночь, занимала его, забылъ, какъ онъ всегда забывалъ про оконченныя картины. Онъ не любилъ даже смотрѣть на нее и выставилъ только потому, что ждалъ Англичанина, желавшего купить ее.
— Это такъ, этюдъ давнишній, — сказалъ онъ.
— Какъ хорошо! — сказалъ Голенищевъ,[1431] тоже, очевидно, искренно подпавшій подъ прелесть картины.
Итальянская красавица крестьянка сидѣла на порогѣ и кормила ребенка грудью. Она одной рукой придерживала осторожно его ручку, которую онъ сжалъ у бѣлой груди, другой не прикрыла, a хотѣла прикрывать обнаженную грудь и смотрѣла спокойно и восторженно на мущину, остановившагося съ косой передъ нею и любовавшагося на ребенка.
Мужъ ли онъ былъ, любовникъ, чужой ли, но, очевидно, онъ похвалилъ ребенка, и она была горда и довольна.
* № 123 (рук. № 77).
Вронской, Анна и Голенищевъ, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Она очень легко отзывалась о Михайловѣ и его картинѣ, признавая только способность техники, но видѣла, что таланта настоящаго нѣтъ и, главное, необразованіе полное, которое губитъ нашихъ русскихъ художниковъ; но Итальянка съ ребенкомъ запала въ ихъ памяти, и, нѣтъ нѣтъ, они возвращались къ ней. «Что за прелесть. Какъ это удалось ему. Вотъ что значитъ техника. Онъ и не понимаетъ, какъ это хорошо. Да! надо не упустить и купить ее». Вернувшись домой, Анна прошла къ своей дѣвочкѣ и никогда такъ долго не сидѣла съ ней и такъ не любила ее, какъ въ этотъ день. Она даже раскаивалась въ своемъ охлажденіи къ дѣтямъ, въ особенности къ Сережѣ, котораго она такъ давно не видѣла.
Вечеромъ Голенищевъ ушелъ, и Вронской пошелъ провожать его.
— Какъ славно мы провели нынче день, — говорилъ онъ. — А знаешь, я зашелъ къ себѣ въ atelier, и мнѣ послѣ Михайлова, признаюсь, многое непонравилось. Техника, техника.
— Это придетъ, — утѣшалъ его Голенищевъ, въ понятіи котораго Вронской имѣлъ большой талантъ и, главное, образованіе, дающее возвышенный взглядъ на искуство.
Возвращаясь одинъ домой, Вронской рѣшилъ, что онъ передѣлаетъ всю свою картину, и мысль о новомъ планѣ, какъ всегда, возбуждала его.
Вернувшись домой, онъ засталъ Анну въ слезахъ. Это были первыя съ тѣхъ поръ, какъ они оставили Петербургъ.
Анна призналась, что она тосковала объ сынѣ. Вронской предложилъ ей ѣхать въ Петербургъ, чтобы видѣть сына, но она отказалась. Она отказывалась потому, что видѣла Вронскаго увлеченнаго работой и жизнью здѣсь, при которой онъ весь принадлежалъ ей, а это ей теперь было дороже всего.
Но этому настроенію Вронскаго суждено было разрушиться вслѣдствіе знакомства съ Михайловымъ и приглашенія писать портретъ Анны.
На 3-й день Михайловъ пришелъ и началъ работу. Въ чужомъ домѣ и въ особенности въ палаццо у Вронскаго Михайловъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ у себя въ студіи. Онъ былъ непріятно почтителенъ, какъ бы боясь сближенія съ людьми, которыхъ онъ не уважалъ. Называлъ Вронскаго ваше сіятельство и Анну ваше превосходительство и никогда, несмотря на приглашенія Анны и Вронскаго, не оставался обѣдать и не приходилъ иначе какъ для сеансовъ. Вронской былъ съ нимъ учтивъ и даже искателенъ, но Михайловъ оставался холоденъ и ни однаго слова не сказалъ о картинахъ Вронскаго, которыя, противъ желанія Вронскаго, показала ему Анна.
Портретъ Анны съ пятого сеанса поразилъ всѣхъ, въ особенности Вронскаго, необычайной правдивостью и красотой особенной, которую странно было какъ могъ найти Михайловъ въ ея превосходительствѣ, какъ шутилъ Голенищевъ. «Надо было знать годами, любить ее, какъ я любилъ, — думалъ Вронской, — чтобы найти это самое ея, самое милое духовное выраженіе. А онъ посмотрѣлъ и написалъ». Вронской съ этаго же 5 сеанса пошелъ къ себѣ и изрѣзалъ написанный имъ портретъ Анны и пересталъ заниматься живописью. Не только неодобреніе Михайлова его попытокъ, не только этотъ чудный портретъ, сколько близость сношеній съ этимъ страннымъ, сдержаннымъ человѣкомъ въ голубыхъ панталонахъ и съ вертлявой походкой показали Вронскому, что для искуства, для того чтобы найти въ немъ цѣль и спасенье, нужно что то такое, чего у него не было. Онъ, разумѣется, не признавался себѣ въ этомъ. Онъ говорилъ, что онъ не въ духѣ всѣ эти дни, говорилъ, что техника ему трудно дается и что онъ боится, что Анна скучаетъ здѣсь. Анна же видѣла это съ самаго начала; съ той самой минуты, какъ она увидала Михайлова, она поняла, что увлеченіе Вронскаго не прочно. Теперь она видѣла, что продолжать прежней роли нельзя, что все вышло. Дворецъ сталъ старъ и грязенъ, и, получивъ письмо о томъ, что все готово для раздѣла между братьями, Вронской и Анна поѣхали въ Апрѣлѣ въ Петербургъ, онъ — съ тѣмъ чтобы сдѣлать раздѣлъ, она — чтобы повидаться съ сыномъ.
* № 124 (рук. № 79).
Чѣмъ больше она узнавала Вронскаго, тѣмъ больше она любила его и[1432] тѣмъ больше совершенствъ она находила въ немъ. Все, что онъ ни думалъ, ни дѣлалъ, все было возвышенно и въ ея глазахъ невыразимо словами, прекрасно. Онъ былъ честолюбивъ (она знала это) — это было доказательство сознанія его призванія къ власти. Онъ пожертвовалъ честолюбіемъ для нея, никогда не показывая сожалѣнія, — это былъ признакъ горячности его сердца. Онъ былъ болѣе, чѣмъ прежде, любовно почтителенъ къ ней, и мысль о томъ, чтобы она никогда не почувствовала неловкости своего положенія, ни на минуту не покидала его,[1433] — это было доказательство его благородства чувствъ. Онъ никогда не вспоминалъ о мужѣ, и, когда что нибудь наводило на воспоминанія о томъ времени, онъ хмурился.[1434] Она понимала, что онъ хмурился потому, что съ его великодушіемъ, ему трудно было переносить роль торжествующаго. Когда бывали между ними несогласія, онъ поспѣшно и покорно уступалъ. И она восхищалась необычной мягкостью, добротой его въ соединеніи съ энергіей и твердостью его характера. Онъ скучалъ иногда. Это было доказательство богатства его натуры, требовавшей дѣятельности. Онъ пытался читать ученыя и политическія сочиненія, писать статью, потомъ сталъ заниматься собираніемъ гравюръ и живописью. И она видѣла, что во всемъ ему стоило захотѣть, и онъ превзошелъ бы всѣхъ другихъ людей. Онъ покупалъ ненужныя вещи, бросалъ деньги, — она видѣла въ этомъ щедрость. Онъ занимался своимъ штатскимъ костюмомъ, она любовалась его красотой въ новомъ платьѣ. Онъ говорилъ дурнымъ итальянскимъ языкомъ на улицѣ, — она удивлялась его способности къ языкамъ.
Ея любовь къ нему и восхищеніе передъ нимъ часто пугало ее самою: она искала и не могла найти въ немъ ничего не прекраснаго и съ болью въ сердцѣ чувствовала свое ничтожество передъ нимъ.[1435]
Она не смѣла показывать ему всего рабства своего чувства.[1436] Ей казалось, что онъ, зная это, скорѣе можетъ разлюбить ее. И она ничего такъ не боялась, хотя и не было къ тому никакихъ поводовъ, какъ того, чтобы потерять его любовь. Она удивлялась сама на себя, на силу и униженіе своей любви, но страхъ передъ потерей его, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что, отрѣзавъ отъ себя все остальное въ жизни, у нее оставалась одна эта любовь.
* № 125 (рук. № 80).
Это все было серьезная и тяжелая сторона его жизни; но много было и счастливыхъ минутъ; онъ ожидалъ и предвидѣлъ, но во всѣхъ лучшихъ минутахъ было отсутствіе спокойствія, было излишество.
Въ началѣ великаго поста случилось, какъ это постоянно бывало между ними приливами и отливами, вышелъ особенно счастливый и нѣжный періодъ ихъ жизни. Это былъ настоящiй медовый месяцъ. Самый же медовый мѣсяцъ, т. е. мѣсяцъ послѣ свадьбы, былъ самый тяжелый мѣсяцъ, оставившій имъ обоимъ, и особенно ему, такія тяжелыя, ужасныя воспоминанія, что они никогда во всю жизнь уже не поминали про нихъ.[1437]
Они только что пріѣхали изъ Москвы и рады были своему уединенію. Онъ сидѣлъ въ кабинетѣ у письменнаго стола и писалъ. Она въ томъ темно-лиловомъ платьѣ, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надѣла и которое было особенно памятно и дорого ему, сидѣла на диванѣ, на томъ самомъ кожанномъ старинномъ диванѣ, который всегда стоялъ въ кабинетѣ у дѣда и отца Левина и на которомъ родились всѣ Левины. Она сидѣла на диванѣ и шила broderie Anglaise.[1438] Это было ея занятіе, когда она бывала съ нимъ и занята имъ. Она шила и улыбалась своимъ мыслямъ. Онъ писалъ свою книгу. Занятія его и хозяйствомъ на новыхъ основаніяхъ и книгой, въ которой должны были быть изложены эти основанія, не были оставлены имъ; но какъ прежде эти занятія и мысли показались малы и ничтожны въ сравненіи съ мракомъ, покрывшимъ всю жизнь, такъ теперь это занятіе, это дѣло, въ сравненіи съ той облитой яркимъ свѣтомъ счастья необъятностью жизни, казалось еще меньше и ничтожнѣе. Онъ продолжалъ заниматься имъ, потому что видѣлъ, какъ и прежде, что это было дѣло новое и полезное, но онъ чувствовалъ теперь, вновь взявшись за него, что центръ тяжести его вниманія перенесся на другое и что не такъ, какъ прежде, когда онъ чувствовалъ, что безъ этаго дѣла онъ жить не можетъ; онъ чувствовалъ, что можетъ заниматься и можетъ не заниматься этимъ. Онъ занимался теперь этимъ преимущественно потому, что ему хотѣлось показать ей, что онъ трудится и дѣлаетъ дѣло. Онъ писалъ теперь главу о томъ, что бѣдность Россіи происходитъ только отъ неправильнаго размѣщенія поземельной собственности и направленія труда и что внѣшнія формы цивилизаціонныя, какъ-то: банки, желѣзныя дороги и телеграфы, которыя являются нормально только тогда, когда весь нужный трудъ на земледѣліе уже положенъ, у насъ явились искуственно, преждевременно, прежде чѣмъ опредѣлилась правильная форма пользованія землей, прежде чѣмъ сняты преграды разумнаго пользованія, какъ то: община и паспорты, и что потому эти содѣйствующія развитію богатства орудія цивилизаціи —[1439] кредитъ, пути сообщенія — у насъ только сдѣлали вредъ, отстранивъ главный очередной вопросъ устройства земледѣлія, и отвлекли лучшія силы.
— Да, это справедливо, — пробормоталъ онъ, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядитъ на него и улыбается, оглянулся. — Что? — спросилъ онъ, улыбаясь и вставая.
— Нѣтъ, я сказала, что не хочу отвлекать тебя.
— Да вѣдь я не могу, я чувствую, что ты на меня смотришь. Что ты думала?
— Я? я думала, что у тебя на затылкѣ волосы расходятся и косичка на бекрень.[1440] Вѣдь вотъ послѣ тебя сестра. Какъ бы я желала...[1441] Нѣтъ, нѣтъ, иди, пиши, не развлекай меня, — сказала она, показывая на свое шитье. — Мнѣ надо свои дырочки вышивать.
Она взяла ножницы и стала прорѣзывать.
— Нѣтъ, скажи же, что? — сказалъ онъ обидѣвшись. — Брось свои дырочки, и я свои брошу. Что ты бы желала?
— Узнать твою сестру. Золовка. Какъ ты думаешь, мы сойдемся съ ней?
— Навѣрно, она пріѣдетъ лѣтомъ. Такъ какое же ты наблюденiе дѣлала надъ моимъ затылкомъ? У кого косичка, то дочь. А у тебя косичка.
— Косичка. И была бы сестра. Ну, разскажи мнѣ, что ты писалъ.
Онъ сталъ разсказывать, но косичка ея больше занимала его. Онъ разсмотрѣлъ эту косичку и поцѣловалъ ее.
— Ну вотъ ты все и испортилъ, — сказала она, взявъ его руку и цѣлуя ее.
— Какъ мы хорошо занимались. И я такъ рѣшила, что не буду тебѣ мѣшать. Иди, иди, пиши, — повелительно шутливо говорила она ему.
Но писанье уже не продолжалось, и они, какъ виноватые, разошлись, когда человѣкъ вошелъ доложить, что чай поданъ.
* № 126 (рук. № 80).
Левинъ ничего не могъ сдѣлать для брата. Онъ не могъ даже спокойно смотрѣть на него, не могъ воздерживаться отъ слезъ, которыя душили его, какъ только онъ входилъ въ комнату, и эта безпомощность его въ отношеніи брата, и не только безпомощность, но даже вредное вліяніе, которое онъ имѣлъ на него, мучали его. Онъ видѣлъ, что ничего нельзя сдѣлать нетолько для сохраненія жизни, но даже для облегченія страданій, и чувствовалъ, что однаго желаетъ теперь и для него самаго, и для Кити, и для себя — это того, чтобы онъ какъ можно скорѣе умеръ. И это желаніе, которое твердо и непоколебимо съ сознаніемъ своего права установилось въ его сердцѣ и которое онъ не могъ изгнать, раскаяніе и отвращеніе къ себѣ мучало его. Онъ входилъ и выходилъ изъ комнаты, придумывалъ невольно себѣ дѣла — то разобрать вещи, то послать за докторомъ, то пойти къ хозяину поговорить о лучшемъ для больнаго номерѣ.
* № 127 (рук. № 80).
Но Кити думала, чувствовала и дѣйствовала совсѣмъ не такъ. Она помнила Николая Левина еще изъ Содена. Еще тамъ онъ въ соединеніи съ ея тогдашнимъ поэтическимъ воспоминаніемъ о Константинѣ своей поразительной и странной фигурой и пристальнымъ взглядомъ, устремленнымъ на нее, произвелъ въ ней странное впечатлѣніе страха передъ нимъ и влеченія къ нему, какъ будто она чувствовала въ немъ что то близкое и родственное. Разсказы ея мужа про любимаго брата въ томъ смыслѣ, что онъ былъ человѣкъ съ золотымъ сердцемъ и пылкими страстями, хорошій самъ по ceбѣ, но негодившійся для этой жизни, усилили въ ней это влеченіе къ несчастному брату. Когда она вошла и онъ улыбнулся ей, она тотчасъ же почувствовала, что ей всегда бы было легко и просто съ нимъ и что она любитъ его; а любовь къ нему въ теперешнемъ его положеніи была жалость.
* № 128 (рук. № 80).
Левинъ не одобрилъ этаго всего, онъ не вѣрилъ, чтобы изъ этаго вышла какая нибудь польза для больного. Болѣе же всего онъ боялся, чтобы больной не разсердился за то, что его тревожатъ, но онъ не могъ не любоваться той простотой и увѣренностью, съ которой жена его дѣлала этo дѣло, и тѣмъ вѣрнымъ тономъ, который непереставая держала: тонъ оживленія, дѣятельности, дѣятельности тяжелой, но необходимой постояннаго тихаго сочувствія страданіямъ и вмѣстѣ отсутствія отчаянія и никогда неистребимой надежды въ облегченіи. Она видѣла жалкое, безпомощное состояніе своего мужа и, чтобы помочь ему, постоянно давала ему порученія, посылая его то къ хозяину выхлопотать другой номеръ, то въ городъ искать квартиру, то къ Доктору узнать, что дѣлать отъ пролежней, то въ аптеку.
* № 129 (рук. № 80).
Вмѣсто того чтобы найти на лицѣ брата недовольное выраженіе, какъ онъ того ожидалъ, Левинъ увидалъ, что Николай, когда его одѣли въ теплую рубашку, поднявъ воротникъ около его неестественно тонкой шеи, подозвалъ Кити и, взявъ ея руку,[1442] хотѣлъ поцѣловать, но раздумалъ, вѣроятно боясь, что ей это непріятно будетъ, и погладилъ ее другой рукой.
Онъ что то сказалъ, обращаясь къ брату, но Левинъ слышалъ только послѣднія слова — «твоя Катя» и понялъ, что хлопоты его жены нетолько не непріятны были, но доставляли единственно возможное счастіе больному. Когда она подходила къ нему, въ особенности когда дѣлала что нибудь около него, большіе блестящіе глаза больнаго съ выраженіемъ страстной мольбы и упорной надежды слѣдили за нею.
* № 130 (рук. № 80).
Видъ брата и близость смерти возобновили въ душѣ Левина то чувство ужаса передъ неразгаданностью смерти, которое охватило его въ тотъ осенній вечеръ, когда умеръ старикъ дядька и онъ убѣгалъ отъ бѣшеной собаки. Чувство это теперь было еще сильнѣе, чѣмъ прежде; еще менѣе, чѣмъ прежде, онъ чувствовалъ себя способнымъ познать смыслъ смерти, но теперь, благодаря его любви къ женѣ и ея близости, недоумѣніе это не приводило его въ отчаяніе: онъ видѣлъ возможность жить если не для себя, то для нея, не думая о смерти, и, что болѣе всего утѣшаетъ его, онъ видѣлъ, что его жена смотрѣла на смерть, обходилась съ ней безъ отчаянія, стало быть, это можно было.
* № 131 (рук. № 80).
Послали за докторомъ. Докторъ сказалъ, что агонія можетъ продолжаться еще часовъ 10. Въ эти 10 часовъ Левинъ просидѣлъ у него, изрѣдка выходя къ женѣ. Но послѣ 10 часовъ къ утру наступила не смерть, а больной понемногу оживалъ и пришелъ въ прежнее состояніе. Онъ опять сталъ садиться, кашлять, сталъ говорить и попросилъ молока и выпилъ.
Прошелъ день, два, три, прошла цѣлая недѣля. Больной опять пересталъ думать о смерти, опять сталъ надѣяться, придумывать средства и сдѣлался еще болѣе раздражителенъ и мрачен. Никто, ни братъ, ни Катя, не успокоивали его. Онъ на всѣхъ сердился и всѣмъ говорилъ непріятности, всѣхъ упрекалъ въ своихъ страданіяхъ и требовалъ, чтобы ему привезли знаменитаго Доктора изъ Петербурга.
Катя на 4-й день уговорила мужа, положеніе котораго, она видѣла, было мучительно, ѣхать въ Москву за докторомъ, чтобы или привезти его или привезти его совѣты. Левинъ поѣхалъ. Онъ былъ радъ уѣхать. Онъ боялся сойти съ ума. То величественное, торжественное чувство смерти, которое онъ испыталъ, когда братъ призвалъ его, было разрушено. Человѣкъ умиралъ, и ему давали изъ стклянокъ лекарства, искали лекарствъ, докторовъ, и всѣ только однаго желали — чтобы онъ умеръ, умеръ какъ можно скорѣе. Помочь ему въ жизни Левинъ не могъ, въ смерти также. А присутствуя тутъ, потворствуя ему, онъ чувствовалъ, что кощунствовали надъ религіей и надъ таинством смерти. Страданія больнаго, въ особенности отъ пролежней, которые уже нельзя было залѣчить, все увеличивались. Кромѣ того, онъ не зналъ, что ему дѣлать. Жена его, молодая жена, чужая по крови этому человѣку, убивала себя, мучалась, губила свое здоровье и, можетъ быть, жизнь будущаго ребенка, а увезти ее нельзя было. Она не хотѣла этаго, а насильно увезти — значило самому уѣхать.
Онъ вернулся, само собою разумѣется, безъ доктора и съ увѣреніями доктора, что выздоровленія, судя по свѣденіямъ мѣстнаго доктора, быть не можетъ, а тянуться жизнь можетъ неопредѣленно, отъ часа до мѣсяца.
По возвращеніи изъ Москвы прошло еще трое мучительныхъ сутокъ. Левинъ отдыхалъ только, когда спалъ. Когда же не спалъ, то имѣлъ одно поглощавшее всѣ другія желанія — желаніе чтобы онъ умеръ, умеръ какъ можно скорѣе. Это чувство, которое онъ испытывалъ и которое спокойно раздѣляли Катя и Марія Николаевна, и лакеи гостинницы, и хозяинъ ея, и всѣ постояльцы, — это же чувство не могло не быть въ больномъ. Это видно было. Не было положенія, въ которомъ бы онъ не страдалъ, не было мѣста, члена его тѣла, которые бы не томили, не мучали его желаніемъ избавиться отъ этого мучительнаго тѣла, не было мысли, воспоминанія, вида чего бы то ни было, которое бы не возбуждало страданія въ больномъ и желанія избавиться, также какъ отъ тѣла, отъ воспоминаній, впечатлѣній и мыслей.
Хуже или лучше для Левина — уже онъ самъ не зналъ что — было то, что на 10-й день ихъ пріѣзда Катя сдѣлалась больна. У нея сдѣлалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать съ постели.
Докторъ объяснилъ, что болѣзнь произошла отъ усталости, волненія, а между прочимъ можетъ быть и другая причина, и обѣщалъ прислать вечеромъ свою помощницу. Послѣ обѣда однако Катя встала и пошла, какъ всегда, съ работой къ больному. Катя точно также, какъ и всѣ, измучалась въ эти 10 дней и желала скорѣе конца несчастному; но Левинъ видѣлъ, что она спокойно, съ знаніемъ того, что она знала, переносила это положеніе. Въ это послѣобѣда она послала за священникомъ, и дѣйствительно наступила столь желанная всѣмъ кончина.
Цѣлый день умирающій былъ въ томъ же положеніи, какъ и прежніе дни. Онъ говорилъ рѣзко и укоризненно, также, какъ и прежде, но въ лицѣ его была робость, и руками онъ безпрестанно хваталъ что-то на себѣ и какъ будто хотѣлъ сдерживать. Онъ обиралъ себя, какъ назвала это Марья Николаевна, прибавивъ, что это вѣрный признакъ близкой смерти.
Священникъ читалъ отходную. Умирающій протянулъ руку и не успокоился, когда Левинъ подалъ ему свою. Онъ проговорилъ: «Катя» и взялъ обѣ руки и посмотрѣлъ на нихъ робкимъ взглядомъ, за который, если бы они могли въ чемъ нибудь упрекать его, они все бы простили. Марья Николаевна поцѣловала его руку, но онъ уже закрылъ глаза и не обратилъ на нее вниманія.
Потомъ открылись глаза и остановились. Священникъ, окончивъ молитву, благословилъ его крестомъ и постоялъ молча минуты двѣ. Больной былъ неподвиженъ и мертвъ. Священникъ еще дотронулся до похолодѣвшей и посинѣвшей руки.
— Кончился, — сказалъ онъ торжественно шопотомъ, — закройте глаза.
Левинъ почувствовалъ вдругъ опять весь приливъ прежней нѣжности и, сдерживая рыданія, подошелъ, чтобы закрыть глаза. Передъ нимъ уже лежалъ не братъ, а то, что осталось отъ него. Онъ взялся за холодный лобъ и остановился. Откуда то изъ глубины трупа послышались звуки рѣзкие, опредѣленные. Губы шевельнулись.
— Не-со-всѣмъ. Скоро.
И черезъ минуту это былъ трупъ.
—————
Докторъ подтвердилъ свои предположенія. Нездоровье Кити была ея беременность, и ей надо было беречь себя.
* № 132 (рук. № 83).
Алексѣй Александровичъ уже не вспоминалъ о томъ, что мучало его, былъ весь поглощенъ проэктомъ о духовенствѣ и былъ относительно спокоенъ.
Возвращаясь изъ министерства, Алексѣй Александровичъ вышелъ изъ кареты на Невскомъ и пошелъ пѣшкомъ до книжной лавки, въ которой надо было спросить выписанныя книги. Это было дообѣденное время Невскаго. Онъ шелъ ни на кого не глядя, перебирая въ головѣ свои доводы противъ мнимаго опонента, когда молодой человѣкъ, недавно пріѣхавшій въ Петербургъ, поступившій недавно на службу къ нему, догналъ его и пошелъ съ нимъ, заговаривая, очевидно хвастаясь своимъ знакомствомъ съ важнымъ лицомъ. Все это давно знакомо Алексѣю Александровичу. Онъ извинялъ его и шелъ, слушая однимъ ухомъ, и глядѣлъ передъ собой. Вдругъ онъ почувствовалъ,[1443] что жизнь его остановилась. Ноги его шли, уши слушали, глаза смотрѣли, но онъ потерялъ сознаніе. Навстрѣчу все ближе и ближе шла дама подъ руку съ черноватымъ штатскимъ мущиной, сіяя улыбкой, и что то говорила. Это была Анна. Она не видала его, но вотъ она узнала, вздрогнула. Глаза Вронскаго устремились на него же. Алексѣй Александровичъ опустилъ голову и ничего не видалъ. Не видалъ, какъ Вронскій поднялъ руку и отнялъ, какъ выраженіе смерти и ужаса вдругъ показалось на всѣхъ лицахъ и какъ они также мгновенно исчезли, оставивъ только большое оживленіе, и оба прошли мимо другъ друга.
Дома Алекеѣй Александровичъ прошелъ кѣ себѣ и долго ходилъ по комнатѣ, дѣлалъ жесты и потомъ, глядя въ зеркало и, то улыбаясь, то хмурясь самому себѣ, то выпрямляясь и смотря волосы, смотрѣлъ на себя.
Въ то время, какъ онъ хмурился, онъ поправлялъ прошедшее тѣмъ, что вмѣсто прощенія вызывалъ на дуэль Вронскаго; когда дѣлалъ жесты, онъ убивалъ его, когда улыбался, онъ съ любовью умолялъ жену не покидать его и смотрѣлъ въ зеркало, чтобы знать, какое вліяніе могла имѣть на нее его умоляющая улыбка. Когда выпрямлялся и смотрѣлъ волоса, то спрашивалъ себя въ зеркалѣ, очень ли онъ старъ. Но все это было сдѣ[лано].[1444]
* № 133 (рук. № 84).
Когда послѣ многихъ переговоровъ, пріѣздовъ, отъѣздовъ на половинѣ своей жены, куда Алексѣй Александровичъ уже не входилъ, онъ очутился наконецъ одинъ въ домѣ съ сыномъ и гувернанткой, онъ ужаснулся своему положенію.
Съ той минуты какъ онъ понялъ изъ словъ Степана Аркадьича, что все его умиленіе, прощеніе и вся его христіанская любовь были для другихъ, для Анны въ особенности, безтактной помѣхой для ея счастія, онъ почувствовалъ себя потеряннымъ и виноватымъ и отдался совершенно въ руки тѣхъ, которые занимались имъ. Его такъ завертѣли и запутали,[1445] что онъ не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, что будетъ, и только когда уже Анна уѣхала и Англичанка прислала спросить его о томъ, должна ли она обѣдать съ нимъ вмѣстѣ или отдѣльно, онъ понялъ ясно, что жена съ любовникомъ ушла отъ него и что онъ остался одинъ съ сыномъ. Онъ въ первый разъ тутъ только понялъ свое положеніе, взглянувъ на него глазами другихъ людей, и ужаснулся ему. Труднѣе всего въ этомъ положеніи было то, что онъ никакъ не могъ соединить своего прошедшаго съ настоящимъ и предстоящимъ будущимъ. Не то прошедшее, когда онъ счастливо жилъ съ женой, смущало его. Переходъ отъ того прошедшаго къ знанію невѣрности жены онъ страдальчески пережилъ уже, и оно было понятно ему. Если бы жена тогда, послѣ объявленія о своей невѣрности, ушла отъ него, онъ былъ бы несчастливъ, какъ онъ и былъ, но онъ бы не былъ[1446] въ томъ ужасномъ безвыходномъ положеніи, въ какомъ онъ чувствовалъ себя теперь. Онъ не могъ теперь никакъ примирить своего недавняго прошедшаго, своего умиленія, своей усиленной любви къ умиравшей женѣ, своего прощенія, своей любви къ маленькой дѣвочкѣ и заботъ, сознанія своей христіанской высоты съ тѣмъ, что теперь было, т. е. съ тѣмъ, что[1447] онъ остался одинъ опозореннымъ и несчастнымъ болѣе гораздо, чѣмъ какимъ онъ былъ прежде, съ постыднымъ воспоминаніемъ своего умиленія и прощенія, которое никому не нужно было, которое наложило на него новое несмываемое пятно смѣшнаго.[1448] Этаго своего столь несвойственнаго ему увлеченія чувствомъ онъ не могъ примирить съ тѣмъ, что послѣдовало.
[1449]Человѣкъ, живущій чувствомъ, умѣетъ владѣть имъ, знаетъ послѣдствія проявленія чувства, знаетъ ему мѣру. Алексѣй Александровичъ же не зналъ этаго и, одинъ разъ въ жизни отдавшись чувству, надѣлалъ такихъ вещей, которыхъ онъ самъ понять не могъ теперь, и поставилъ себя въ положеніе, которое мучило его жгучимъ раскаяніемъ, какъ самый жестокій и низкій поступокъ, и положеніе, изъ котораго онъ не видѣлъ выхода.
Онъ чувствовалъ, что всегда неяркимъ огнемъ горѣвшій въ немъ свѣтъ чуть брезжился и готовъ былъ слетѣть съ свѣтильни.[1450] Онъ чувствовалъ, что жизнь остановилась въ немъ. Теперь онъ не только не любилъ кого нибудь однаго, онъ чувствовалъ себя на вѣки излѣченнымъ отъ любви; но онъ не могъ любить всѣхъ людей вообще, какъ онъ прежде думалъ, что любитъ, потому что онъ боялся теперь людей.
Преобладавшее въ немъ и давившее его чувство теперь былъ страхъ за себя передъ жестокостью людей. Онъ чувствовалъ, что[1451] теперь ненавистенъ людямъ, не потому что онъ дуренъ, но потому, что онъ истерзанъ. Онъ чувствовалъ, что за это они будутъ безжалостны къ нему. Онъ чувствовалъ, что люди уничтожатъ его, какъ собаки изтерзанную, визжавшую отъ боли собаку.[1452] Онъ сознавалъ это, и потому чувство самосохраненія заставило его скрыть свои раны, и это одно составляло всю его привязу къ жизни.
Первое лицо, которое онъ увидалъ на другой день послѣ отъѣзда его жены, былъ Михаилъ Васильичъ Слюдинъ, правитель дѣлъ. Въ первую минуту какъ онъ вошелъ, Алексѣй Александровичъ сказалъ себѣ, что онъ попроситъ его велѣть написать прошеніе объ отпускѣ и не станетъ заниматься дѣлами, но онъ не сказалъ этаго, заинтересованный тѣмъ, какъ теперь будетъ относиться къ нему его Правитель Дѣлъ. Въ тонѣ Михаила Васильевича онъ увидалъ новую черту усиленной внимательности къ дѣлу и совершеннаго равнодушія къ душевному состоянію начальника, и Алексѣй Александровичъ убѣдился, что отношенія служебныя были возможны, несмотря на его истерзанное состояніе. Михаилъ Васильевичъ, очевидно не видалъ и не хотѣлъ видѣть ничего, кромѣ дѣла. Когда бумаги были всѣ просмотрѣны и подписаны и Михаилъ Васильевичъ укладывалъ ихъ въ портфель, Алексѣй Александровичъ поднялъ на него глаза и встрѣтился съ любопытнымъ, жестокимъ взглядомъ, испугавшимъ Алексѣя Александровича.
— Оставайтесь обѣдать, я одинокъ сталъ теперь, — невольно сказалъ Алексѣй Александровичъ.
— Очень благодаренъ, я схожу только въ канцелярию, — сказалъ Михаилъ Васильевичъ и, замѣтивъ вопросительный взглядъ начальника, прибавилъ: — я слышалъ, что Анна Аркадьевна уѣхала.
Онъ сказалъ это голосомъ до того простымъ, что тонъ его былъ ненатураленъ.
— Анна Аркадьевна для меня не существуетъ болѣе. — вспыхнувъ некстати, сказалъ Алексѣй Александровичъ.
Слюдинъ, сочувственно вздохнувъ, опустилъ голову.
То, что онъ сказалъ Слюдину, такъ мучало Алексѣя Александровича, такъ онъ былъ недоволенъ этимъ, такъ онъ боялся, что онъ не въ силахъ будетъ скрыть передъ всѣми свои страданія, и такъ хотѣлось ему испытать себя, что онъ, вспомнивъ о запискѣ Графини Лидіи Ивановны, просившей назначить время, когда онъ можетъ быть у нея, тотчасъ[1453]
* № 134 (рук. № 85).
Слѣдующая по порядку глава.
Еще одно важное дѣло, въ это время занимавшее Алексѣя Александровича, было воспитаніе сына, за которое онъ принялся съ особенной энергіей съ тѣхъ поръ, какъ остался одинъ съ нимъ.
Онъ любилъ больше ту дѣвочку, которую увезли отъ него, но[1454] онъ любилъ и сына по своему; и любовь его къ сыну выражалась теперь заботами о его воспитаніи. Рѣшивъ, что это его обязанность и что наступило время для правильнаго воспитанія сына, Алексѣй Александровичъ приступилъ къ составленію плана для этаго. Для составленія же плана Алексѣю Александровичу нужно было изучить теорію воспитанія. И Алексѣй Александровичъ, пріобрѣтя педагогическiя книги, сталъ читать ихъ. Составить планъ самому, по своему характеру и характеру ребенка и его положенію, никогда не приходило въ голову ему. Алексѣй Александровичъ былъ какъ тѣ набалованныя лошади, которыя не ходятъ передомъ, а всегда за другими. Алексѣй Александровичъ взялъ книги педагогики, дидактики, антропологіи и прочелъ очень много. Когда у него образовался въ головѣ такой сумбуръ, что онъ уже не понималъ, чего онъ собственно хочетъ для своего сына, и вмѣстѣ съ тѣмъ установилось убѣжденіе, что онъ не одинъ, а съ почтенными и учеными людьми находится въ этомъ сумбурѣ, онъ, какъ лошадь за обозомъ, въ пыли переднихъ возовъ, влегъ въ хомутъ и приступилъ къ дѣлу. Составивъ по книгамъ свой планъ, онъ пригласилъ къ себѣ еще спеціалиста педагога съ тѣмъ, чтобы съ нимъ обсудить все дѣло.
Несмотря на всю пріобрѣтенную на службѣ опытность свою въ сношеніяхъ съ людьми и умѣніе ставить ихъ въ настоящее положеніе и внушать имъ должное уваженіе, Алексѣй Александровичъ никогда не встрѣчалъ болѣе непоколебимаго въ своей увѣренности и презрѣніи ко всему міру человѣка, какъ спеціалиста педагога.
Несмотря на то, что педагогъ былъ человѣкъ служащій и въ зависимости отъ того высшаго чиновника, сотоварища Каренина, по рекомендацiи котораго педагогъ былъ приглашенъ, педагогъ вошелъ къ Алексѣю Александровичу съ такимъ видомъ возвышенной и непонятой жертвы людской тупости и такого впередъ опредѣленнаго и полнаго презрѣнія къ Алексѣю Александровичу, что первое время Алексѣй Александровичъ былъ даже смущенъ.
— Сакмаровъ сказалъ мнѣ, чтобы я пришелъ къ вамъ. Я явился, — сказалъ онъ мрачно и уныло.
— Я бы желалъ посовѣтоваться съ вами о воспитаніи своего сына и просить васъ принять на себя общее, такъ сказать, руководство.
Педагогъ нетолько не говорилъ «ваше превосходительство», какъ къ тому привыкъ Каренинъ, но, очевидно безъ надобности, часто говорилъ просто «вы», «вамъ» и «знаете».
— Я очень занятъ. Но я могу найти время для вашего сына. Весь вопросъ состоитъ въ томъ, что, собственно, вы желаете отъ меня и сойдемся ли мы въ нашихъ воззрѣніяхъ на воспитаніе. Потому что противъ убѣжденій. — Онъ помолчалъ, и Алексѣй Александровичъ чувствовалъ, что онъ въ этомъ мѣстѣ хотѣлъ сказать, даже прошепталъ, ему казалось, «батюшка мой». — Противъ убѣжденій я не могу работать.
— Прошу покорно садиться, — сказалъ нѣсколько смущенный Алексѣй Александровичъ и, взявъ въ руку свой любимый ножъ изъ слоновой кости, сталъ излагать свои взгляды, т. е. все то, что онъ прочелъ въ книжкахъ, желая показать этимъ педагогу свое знакомство съ теоріей дѣла и то, что педагогъ напрасно такъ презираетъ его.
Но Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что педагогъ былъ недоволенъ и находилъ, что все это такъ, да не такъ. Педагогъ слушалъ уныло, изрѣдка презрительно улыбаясь. Въ особенности рѣдкіе, но длинные волоса педагога смущали Алексѣя Александровича. Но когда Алексѣй Александровичъ сказалъ, что онъ желалъ бы въ особенности дать нравственно-религіозное направленіе сыну (это была мысль не изъ педагогическихъ книгъ, но изъ своего убѣжденія), тогда педагогъ прервалъ молчанiе и спросилъ, что именно подъ этимъ разумѣлъ Алексѣй Александровичъ. Алексѣй Александровичъ хотѣлъ оставаться въ области общихъ вопросовъ, но педагогъ потребовалъ точности. Онъ поставилъ вопросъ о томъ, считаетъ ли, напримѣръ, Алексѣй Александровичъ необходимымъ ввести въ учебный планъ священную исторію?[1455]
— Безъ сомнѣнія, — отвѣчалъ Алексѣй Александровичъ, поднимая брови и желая строгимъ видомъ осадить педагога; но педагогъ не смутился и объявилъ съ усмѣшкой, что[1456] онъ не можетъ взять на себя преподаваніе этаго предмета, такъ какъ считаетъ его не педагогическимъ.[1457] Алексѣй Александровичъ возразилъ по антропологіи, считая, что нравственное чувство должно быть также воспитываемо.
Педагогъ же возразилъ по педагогической психологіи, дидактикѣ и методикѣ, объявивъ Алексѣю Александровичу, что по новѣйшимъ изслѣдованьямъ чувственная сторона вовсе не признается, а что все дѣло состоитъ въ предметной эвристикѣ. Поэтому вся цѣль воспитанія должна состоять въ томъ, чтобы образовать постепенно правильныя понятія въ душѣ ребенка. И потому должно быть избѣгаемо все сверхестественное. Хотя онъ и не высказалъ этого словами, Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что онъ мысленно поставилъ дилемму такъ же рѣшительно и ясно, какъ бы призванный къ больному докторъ, который бы сказалъ, что если больной не перестанетъ пить вино и курить, онъ считаетъ излишнимъ прописывать лѣкарства; также и онъ, очевидно, считалъ свое искусство излишнимъ, если не будутъ оставлены всѣ предразсудочныя требованія. Алексѣй Александровичъ[1458] былъ озадаченъ. Отказаться отъ того, чтобы воспитывать сына въ законѣ христіанскомъ, онъ не могъ, лишиться руководства опытнаго и ученаго, успѣвшаго внушить ему уваженіе педагога, онъ тоже не хотѣлъ. Алексѣй Александровичъ не сдался, но, вспомнивъ, что въ числѣ пріобрѣтенныхъ и прочтенныхъ имъ книгъ была и книга этого педагога подъ заглавіемъ «Опытъ предметной концепціи этической Евристики[1459] съ изложеніемъ основъ Методики и Дидактики», Алексѣй Александровичъ на основаніи того, что онъ помнилъ изъ этой книги, сталъ защищать свою мысль. И, действительно, когда рѣчь зашла о его книгѣ, педагогъ помягчилъ и согласился на компромиссъ, состоящій въ томъ, чтобы педагогъ велъ ученіе по свѣтскимъ предметамъ, законъ же Божій будетъ вести самъ отецъ.[1460]
Планъ былъ составленъ, и началось обученіе и воспитаніе.
Сережа же между тѣмъ совсѣмъ не зналъ того, изъ чего состояла его душа и какъ она для воспитанія была раздѣлена. Онъ зналъ только одно — что, хотя ему было 9 лѣтъ, душа его была ему дорога, и онъ никому безъ ключа любви не позволялъ отворять дверей въ нее, а ни у отца, ни у педагога не было этаго ключа, а потому душа его, переполненная[1461] жажды познанія,[1462] развивалась независимо отъ нихъ и своими таинственными путями. Онъ дѣлалъ все, что его заставлялъ дѣлать педагогъ, умственно считалъ и училъ статьи и писалъ, что ему велѣли. Училъ для духовника и для отца Катихизисъ, Священную Исторію и читалъ Евангеліе.[1463] Но когда педагогъ говорилъ, что нѣтъ ничего безъ причины, что все составлено изъ единицъ, что все, что мы говоримъ, есть предложеніе, и когда Законоучитель и отецъ говорили ему, что родъ человѣческій погибъ отъ зла и что Сынъ Божій искупилъ его, что надо жить по Закону Божію для того, чтобы получить послѣ смерти награду въ будущей жизни, онъ училъ все это, но онъ не вѣрилъ ни одному слову, ни предложенью, ни единицѣ, ни будущей жизни, ни наградѣ, ни, еще менѣе, смерти.[1464]
Онъ зналъ, что большимъ нужно обманывать его и заставлять заучивать этотъ обманъ. Для чего это было нужно, онъ не зналъ, но зналъ, что это нужно, и заучивалъ. Но ко всему тому, что отъ него требовали, въ немъ было такое холодное, недоброжелательное отношеніе, что если въ томъ, чему его учили, и было что нибудь такое, чему онъ могъ и желалъ вѣрить, онъ относился къ этому одинаково недовѣрчиво. Онъ видѣлъ очень хорошо, что и педагогъ и Законоучитель испытывали пріятное чувство самодовольства, когда ихъ выводы сходились съ тѣмъ, что они прежде говорили, и онъ понималъ,[1465] что они могли быть довольны тѣмъ, что если изъ предложенія исключить глаголъ, то не будетъ смысла, и что еслибы дьяволъ не соблазнилъ Эвы, то отъ нея и не родился бы Искупитель; но онъ, понимая, какъ имъ это должно быть пріятно, такъ какъ они сами это выдумали, оставался къ этому совершенно равнодушенъ, такъ какъ его не любили тѣ, которые его учили, и онъ не могъ любить ихъ и потому не вѣрилъ имъ. А не вѣря, въ своемъ маленькомъ умѣ судилъ ихъ. Изъ всего того, чему его учили, въ особенности три причины заставили его извѣриться и критически относиться ко всему остальному. Первое — это было, что отецъ и графиня Лидія Ивановна, часто посѣщавшая его, говорили ему сначала, что мать его умерла, а потомъ, когда онъ узналъ отъ няни, что она жива, они сказали ему, что она умерла для него, что она нехорошая. Такъ какъ онъ убѣдился, что переувѣрить ихъ нельзя, что причина этаго ихъ ложнаго сужденія, вѣроятно, ихъ чувства къ ней, онъ рѣшилъ, что вѣрить имъ нельзя. Вторая причина была ученіе педагога о томъ, что въ каждомъ предложеніи есть глаголъ, что когда мы говоримъ: «нынче холодно», то этимъ мы подразумѣваемъ, что нынче есть холодно. Этому онъ не могъ вѣрить. Когда онъ допрашивалъ объ этомъ педагога, педагогъ разсердился, и Сережа понялъ, что это не такъ, но это надо учить, и также послѣ этаго относился и къ другимъ предметамъ ученія. Главная же причина его недовѣрія было то, что ему говорили особенно часто то, что всѣ умрутъ и онъ самъ умретъ. Этому онъ никакъ не могъ вѣрить. Какъ онъ ни старался и не смотря на то, что няня даже подтверждала это, онъ не могъ понять этаго. Что дурные умрутъ, онъ могъ понять это. Но за что онъ, который будетъ хорошимъ, умретъ, это не вѣрилось ему. Онъ много думалъ объ этомъ и не могъ совсѣмъ не вѣрить, такъ какъ всѣ говорили, и не могъ помириться. Онъ пришелъ къ увѣренности, что умираютъ только дурные, но не всѣ. И подтвержденіе этой мысли онъ нашелъ въ Священной исторіи. Энохъ былъ взятъ живой на небо. «Вѣрно, и съ другими тоже самое, только они не говорятъ этаго», думалъ онъ.[1466] Онъ расспрашивалъ у законоучителя подробности о жизни Эноха, но ему не сказали ничего. Это еще болѣе подтвердило его въ убѣжденіи, что они не все говорятъ и многое скрываютъ изъ того, что онъ узнаетъ, когда будетъ большой.
Алексѣй Александровичъ и педагогъ были недовольны своимъ воспитанникомъ и изрѣдка бесѣдовали, придумывая усиленія дѣйствія на ту или другую изъ частей его души. Педагогъ жаловался на недостатокъ пытливости ума своего воспитанника, объясняя, что при эвристической системѣ необходимо вызывать только, такъ сказать; Алексѣй Александровичъ же находилъ, что нужно болѣе усилить дисциплину ума. Между тѣмъ та сила душевности, которую они ждали на свои колеса, давнымъ давно уже, просочиваясь туда, куда ее влекла и призывала потребность любви, давно уже работала.[1467] Когда разлука съ матерью прервала его любовныя отношенія, Сережа,[1468] какъ и всѣ дѣти, мало пожалѣлъ объ этомъ лишеніи. Атмосфера любви, въ которой онъ жилъ, была такъ естественна ему, что онъ думалъ — такія отношенія установятся у него со всѣми другими. Онъ ждалъ этой любви отъ отца, но встрѣтилъ совсѣмъ другое. Отецъ заботился не о немъ, не о его тѣлѣ, ѣдѣ, одеждѣ, главное, забавахъ, а о томъ, чтобы заставить его думать и чувствовать что то чуждое, заботился о его душѣ, которую онъ не могъ подчинить ему. Педагога онъ встрѣтилъ съ восторгомъ, въ щелочку смотрѣлъ на него, когда онъ былъ у отца, и готовился любить его; но и въ педагогѣ онъ разочаровался, какъ бы разочаровался голодный человѣкъ, которому вмѣсто жареной курицы подали картонную, обучая его, какъ рѣзать жареную курицу.
Вода любви и жажда познанія просочились у Сережи въ самыя неожиданныя мѣста. Няня старая, оставшаяся экономкой въ домѣ, была главная учительница его. Ее рѣдко допускали къ нему, такъ какъ онъ жилъ подъ присмотромъ дядьки нѣмца. Но когда она приходила и ему удавалось поговорить съ ней, онъ впивалъ ея слова, и всѣ тайны жизни разоблачились для него. Дядька [1 неразобр.] былъ тоже учителемъ именно въ то время, когда не исполнялъ приказаній Алексѣя Александровича и позволялъ себѣ говорить о постороннихъ предметахъ, о своей жизни съ своимъ ученикомъ. Потомъ была дочь Лидіи Ивановны — Лизанька, къ которой иногда возили его, въ которую онъ былъ влюбленъ. Потомъ былъ старикъ швейцаръ — другъ Сережи, съ которымъ каждый день были краткіе, но поучительные для Сережи разговоры, когда онъ выходилъ и приходилъ съ гулянья.
— Ну что, Капитонычъ, — сказалъ онъ разъ весною, румяный и веселый возвращаясь съ гулянья и отдавая свою сборчатую поддевочку высокому улыбающемуся на маленькаго человѣчка съ высоты своего роста швейцару. — Что, былъ нынче подвязанный чиновникъ? Принялъ папа?
— Приняли. Ужъ какъ радъ былъ. — улыбаясь сказалъ Швейцаръ, — пожалуйте, я сниму.
* № 135 (рук. № 88).
Слѣдующая по порядку глава.
Друзья Алексѣя Александровича, въ особенности графиня Лидія Ивановна, старались поднять его въ общественномъ мнѣніи.[1469] Они старались выставить его великодушнымъ человѣкомъ[1470] — христіаниномъ, подставившимъ лѣвую щеку, когда его били по правой, человѣкомъ, достойнымъ не только сожалѣнія, но уваженія и восхищенія. Но, несмотря на всѣ свои усилія, они чувствовали, что Алексѣй Александровичъ безвозвратно упалъ въ общественномъ мнѣніи[1471] вслѣдствіи того, что не онъ, a другіе противъ него поступили дурно.
— Это ничего не доказываетъ, — говорила[1472] Лиза, бывшая тоже защитницей Алексѣя Александровича, Стремову[1473] на его неуважительный отзывъ о Каренинѣ, по случаю возможности встрѣчи его теперь съ женою, такъ какъ было извѣстно, что она въ Петербургѣ, — какъ только то, что онъ высокой души человѣкъ, а она женщина безъ правилъ и религіи. Ужъ его то нельзя ни въ чемъ упрекнуть. Я, признаюсь, не понимаю ее. Можно быть безнравственной женщиной, но какъ не имѣть уваженія къ приличіямъ, какъ, послѣ всего того что было, пріѣхать въ Петербургъ. Онъ мнѣ такъ жалокъ.
— Да я не спорю, — отвѣчалъ Стремовъ, пріятно улыбаясь при одной мысли о безнравственной женщинѣ. — Вы замѣтили, графиня, какъ онъ перемѣнился послѣднее время?
— Да, онъ постарѣлъ, бѣдный. Кого не состаритъ такое горе... Не только постарѣлъ физически, но онъ кончился: c’est un homme fini.[1474] Онъ сталъ раздражителенъ, онъ сталъ прожектеръ.
— Не то что постарѣлъ, а съ нимъ сдѣлалось, что съ простоквашей бываетъ, когда она перестоитъ, — говорилъ Стремовъ, позволявшій себѣ вольность вульгарныхъ сравненій. — Знаете, какъ будто крѣпкое, а тамъ вода. Это называетъ моя экономка «отсикнулась». Вотъ и онъ отсикнулся.
И Стремовъ, сжавъ свои крѣпкіе губы, съ такимъ выраженіемъ, которое ясно говорило, что онъ самъ надѣется еще не скоро отсикнуться, смѣясь умными глазами, смотрѣлъ на собесѣдницу.
— Перестаньте, а то, право, я разсержусь,[1475] — говорила графиня Лидія Ивановна, тщетно пытаясь удержаться отъ смѣха. —[1476] Вронскій — вотъ безнравственный и дурной человѣкъ.[1477]
— О да, разумѣется, — отвѣчалъ Стремовъ.[1478]
Графиня Лидія Ивановна видѣла, что Стремовъ, несмотря на то что онъ былъ добрый и честный человѣкъ, презиралъ Алексѣя Александровича[1479] и уважалъ Вронскаго и что переувѣрить его она не въ силахъ, и потому прекратила разговоръ.
Разговоръ былъ прекращенъ тѣмъ болѣе кстати, что вслѣдъ за этими словами въ гостиную вошелъ самъ Алексѣй Александровичъ.
Алексѣй Александровичъ дѣйствительно перемѣнился за это послѣднее время, и не столько физически, хотя онъ замѣтно постарѣлъ, сколько нравственно. Алексѣй Александровичъ въ эти послѣдніе мѣсяцы изъ человѣка вполнѣ самоувѣреннаго и спокойнаго сдѣлался человѣкомъ безпокойнымъ и робкимъ, только удерживающимъ по привычкѣ и для приличія самоувѣренную и спокойную внѣшность.
Несмотря на то, что графиня Лидія Ивановна, тотчасъ же, встрѣчая его, сказала: «а мы сейчасъ говорили о принцессѣ; ей значительно лучше», несмотря на это, Алексѣй Александровичъ былъ увѣренъ, что говорили о немъ и его женѣ. Онъ это теперь всегда думалъ. Несмотря на то, что Алекеѣй Александровичъ былъ разумомъ твердо убѣжденъ въ томъ, что его поведенiе относительно жены было безупречно, несмотря на то, что онъ высоко цѣнилъ свое христіанское смиреніе и самоотреченіе и что разумъ его хвалилъ его за это, онъ не переставая чувствовалъ раскаяніе и угрызенія совѣсти за то положеніе, въ которое онъ поставилъ себя.
Нынче, болѣе чѣмъ когда нибудь, онъ видѣлъ во всѣхъ глазахъ, устремленныхъ на него, жестокую насмѣшку: онъ, только что, передъ пріѣздомъ во дворецъ, дѣлая свою утреннюю прогулку, встрѣтился лицо съ лицомъ съ Вронскимъ и догадывался, что и Анна въ Петербургѣ. Онъ чувствовалъ опасность своего положенія. Ему казалось, что всѣ только ждутъ отъ него признака слабости и стыда, чтобы накинуться и растерзать его. «И какъ они всѣ были сильны и здоровы физически, — думалъ Алексѣй Александровичъ, глядя на камергера и вспоминая здоровую, кровью налитую фигуру, — какъ они сіяютъ». И потому онъ чаще вспоминалъ о той христіанской высотѣ, на которой онъ находился, и, помня это, усиленно поднималъ голову и[1480] небрежно[1481] здоровался съ знакомыми.
Во всѣхъ лицахъ его знакомыхъ онъ видѣлъ одинаковую кровожадность; одно только поэтому драгоцѣнно-милое лицо графини Лидіи Ивановны представлялось ему островомъ любви и участья въ морѣ враждебности, и потому его невольно тянуло къ ней.[1482]
Алексѣй Александровичъ ошибался, предполагая, что всѣ, кромѣ Лидіи Ивановны, были враждебно расположены къ нему и что она одна понимала и жалѣла его. Большинство знакомыхъ Алексѣя Александровича жалѣли и не осуждали его, но всѣ смѣялись надъ нимъ. Однимъ, двумя остроумными людьми положеніе Алексѣя Александровича было выставлено въ смѣшномъ видѣ, и это воззрѣніе, какъ самое легкое, и было усвоено всѣми, и изъ за этаго никто ужъ не могъ видѣть того, что собственно былъ Алексѣй Александровичъ.[1483]
Одна графиня Лидія Ивановна не смѣялась надъ нимъ. Алексѣй Александровичъ объяснялъ себѣ это тѣмъ, что она одна была христіанка. Онъ и не думалъ о томъ, что она любитъ его. Эта ея любовь казалась ему только пониманіемъ его, и онъ считалъ остальныхъ людей несправедливыми за то, что они не имѣли къ нему такого же чувства.
Быть любимымъ такъ просто и естественно, и такъ уродливо и дико быть нелюбимымъ. Проходя сквозь строй насмѣшливыхъ взглядовъ, ему такъ естественно было тянуться къ ея влюбленному взгляду, какъ растенію къ свѣту.[1484]
— Поздравляю васъ, — сказала она ему, указывая глазами на ленту.
Онъ[1485] пожалъ плечами, закрывъ глаза, какъ бы говоря, что это не можетъ радовать его. Но Лидія Ивановна знала хорошо, что это одна изъ его главныхъ радостей, хотя онъ и никогда не признается въ этомъ.
— Разумѣется, не какъ честолюбіе, но отрицательно, какъ признаніе....
— Да, да, — сказалъ Алексѣй Александровичъ.
И, не смотря на волненіе, въ которомъ онъ находился по причинѣ извѣстія о пріѣздѣ жены, губы его сжались въ сдержанную улыбку удовольствія, того самаго, которое онъ испытывалъ утромъ, въ первый разъ надѣвая новую ленту.
— Ну, что нашъ Ангелъ? — Ангелъ былъ Сережа.
— Завтра его рожденье. Я очень доволенъ отцомъ Сергіемъ.
— Ахъ, это такой высокой души человѣкъ, — сказала Лидія Ивановна про священника, бывшую свою пассію. — Я васъ звала, — сказала она грустно, готовя его. — Вы придете? Но я предувѣдомляю васъ, что я все бы дала, чтобы избавить васъ отъ нѣкоторыхъ воспоминаній, но другіе не такъ думаютъ.
— Я знаю, — сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Она здѣсь.
Лидія Ивановна посмотрѣла на него восторженно, и слезы восхищенія передъ величіемъ его души выступили ей на глаза.
* № 136 (рук. № 88).
[1486]Алексѣй Александровичъ чувствовалъ себя спокойнѣе и способнѣе къ дѣятельности, чѣмъ когда нибудь прежде. Даже здоровье его стало лучше.
Прошедшее съ женою, въ особенности послѣднія мѣсяцы, невѣрность, болѣзнь, его прощеніе и разлука, какъ ни странно это можетъ показаться, никогда имъ не вспоминались.
Онъ отгонялъ отъ себя эти воспоминанія, какъ неясный и тяжелый сонъ, какъ рядъ поступковъ безсмысленныхъ и необдуманныхъ.
Онъ не любилъ вспоминать о своемъ прощеніи и умиленіи, вопервыхъ, потому, что вспоминать о своемъ добродѣтельномъ поступкѣ было дурно, портило самый поступокъ, во вторыхъ, потому, что было что то непослѣдовательное въ его дѣйствіяхъ за это время.
Онъ чувствовалъ, что, никогда не живя чувствомъ и разъ отдавшись ему вполнѣ, онъ не съумѣлъ соблюсти мѣру, не съумѣлъ владѣть этимъ чувствомъ и напуталъ.
Теперь жена его умерла для него, какъ онъ и сказалъ объ этомъ сыну, и онъ никогда не вспоминалъ о ней и вполнѣ чувствовалъ и цѣнилъ свободу отъ скорбей по плоти и возможность служить Господу такъ, какъ онъ понималъ эти слова
* № 137 (рук. № 88).
Воспользовавшись тѣмъ временемъ, когда Стремовъ разговорился съ вошедшей дамой, Графиня Лидія Ивановна отвела Алексѣя Александровича и, указавъ ему подлѣ себя мѣсто,
— Я бы не стала говорить съ вами о тяжеломъ для васъ предметѣ, — сказала она, поднимая глаза, — но нашъ Сережа — вы знаете, какъ мнѣ дорогъ онъ и ваши нужды.
Алексѣй Александровичъ понялъ, что она хотѣла говорить о томъ, что Анна въ Петербургѣ. Онъ болѣзненно поторопился и сжалъ руки.
— Да, я имѣлъ неудовольствіе встрѣтить ее на улицѣ, — сказалъ онъ.
— Надѣюсь, что вы вѣрите въ мою дружбу и участіе. Я про это то и говорю. Лиза видѣла ее. Я этаго не понимаю; но все равно, она видѣла ее, и сколько я могла узнать, она здѣсь только затѣмъ, чтобы увидать сына. Какъ вы смотрите на это? Я не знаю, но, по моему, свиданіе нашего милаго Сережи съ ней погубитъ все то, что мы съ такимъ трудомъ посѣяли въ немъ. Какъ вы думаете?
* № 138 (рук. № 89).
Алексѣй Александровичъ былъ въ тѣхъ же сферахъ, съ тѣми же людьми, но на него смотрѣли иначе. Теперь его какъ будто знали всего, и новаго отъ него ничего болѣе не ждали; чтобы онъ ни сказалъ и ни сдѣлалъ, всѣ принимали это какъ что то такое, что одно и предвидѣлось отъ него. Онъ занималъ еще значительное мѣсто, онъ былъ членомъ комиссій и совѣтовъ, но роль его перестала быть дѣятельною. Онъ былъ какъ оторванная стрѣлка часовъ, болтающаяся подъ стекломъ циферблата. Онъ, какъ стрѣлка, оставался на томъ же самомъ видномъ мѣстѣ, но никто уже не интересовался тѣмъ, что показывала эта стрѣлка, несмотря на то, что она перескакивала съ мѣста на мѣсто.
И дѣйствительно, точно также какъ оторванная стрѣлка циферблата, Алексѣй Александровичъ теперь былъ дѣятельнѣе, и дѣятельность его была разнообразнѣе, чѣмъ прежде. Онъ, не имѣя опредѣленной колеи дѣятельности, теперь, яснѣе чѣмъ когда нибудь, видѣлъ недостатки правительственныхъ распоряженій и считалъ своимъ долгомъ содѣйствовать изысканію средствъ къ исправленію недостатковъ. Скоро послѣ возвращенія своего изъ Москвы Алексѣй Александровичъ началъ писать первый свой проектъ, долженствовавшій исправить вопіющіе недостатки, первый проектъ изъ длиннаго ряда проектовъ, которые ему суждено было написать по всѣмъ отраслямъ администраціи и который никто не читалъ и которые скоро получили прозваніе Каренинскихъ проектовъ.
Мѣстоимѣніе «они» получили въ его рѣчахъ особенное значеніе. Онъ увлекался въ разговоры о государственныхъ дѣлахъ съ женщинами и молодыми людьми, и припѣвъ этихъ разговоровъ былъ всегда одинъ и тотже: «я имъ говорилъ или писалъ, но они не понимаютъ этаго. Они погубятъ Россію. Для нихъ не существуетъ законовъ» и т. п.
О томъ времени, когда Анна открыла ему все и онъ, поколебавшись о томъ, вызвать ли или не вызвать на дуэль Вронскаго, онъ написалъ ей письмо, о томъ, какъ онъ объяснялся и съ Степаномъ Аркадьичемъ и какъ ухаживалъ за новорожденной не своей дочерью и какъ въ послѣдній разъ видѣлся съ женой, — эти воспоминанія раскаянія жгли его сердце. Онъ вспоминалъ и о томъ счастливомъ времени, когда они хорошо жили съ женою, но это не мучало его. Его мучали воспоминанія о томъ, что онъ могъ бы не сдѣлать. Онъ зналъ, что онъ относительно жены не сдѣлалъ ничего дурнаго.
Онъ зналъ даже, что онъ поступилъ добродѣтельно и возвышенно, но положеніе, въ которое онъ поставилъ себя, вызвало въ немъ раскаяніе, такое тяжелое и ѣдкое, какъ будто это былъ самый неразумный, безнравственный и низкій поступокъ. Онъ убѣждалъ себя, что поступилъ руководясь христіанскимъ закономъ любви и прощенія обидъ, и потому это не могло быть дурно. Онъ старался утѣшать себя мыслью о томъ, что интересы его не въ этой жизни, а въ будущей. Онъ вѣрилъ въ то, что интересъ не въ этой, а въ загробной жизни; но эта мысль нисколько не утѣшала его; но ему было стыдно и больно за то, что дурно устроилъ свою жизнь здѣсь, и то, что это зачтется ему тамъ, ни на одинъ волосъ не облегчало его положенія, какъ будто связи между той и этой жизнью не могло быть и эта жизнь въ себѣ носитъ свои награды и наказанiя. И потому единственное утѣшеніе его было забвеніе, котораго онъ достигалъ постояннымъ, хотя и не плодотворнымъ трудомъ.
* № 139 (рук. № 89).
— Проси Мисъ Эдвардсъ ко мнѣ, — сказалъ онъ Корнею, пришедшему съ порученіемъ отъ Англичанки. — Нѣтъ, я самъ приду, — сказалъ онъ, когда Корней повернулся.
Даже въ глазахъ невозмутимаго Корнея Алексѣю Александровичу показалось теперь, что онъ видитъ нетолько насмѣшку, но жестокость, кровожадность, радость за страданія своего барина.
— Подожди, когда я говорю, — непривычно строго сказалъ Алексѣй Александровичъ, и, взглянувъ въ глаза Корнею и показавъ ему строгое и холодное лицо, онъ отпустилъ его.
«Я долженъ перенести это, я долженъ скрыть свои раны, иначе они растерзаютъ меня», подсказало ему чувство самосохраненія, и съ строгимъ лицомъ онъ вышелъ впередъ къ Англичанкѣ.
— Да, разумѣется, вы должны обращаться ко мнѣ, — сказалъ онъ Англичанкѣ, — но такъ какъ я бываю занятъ, то я впередъ опредѣлю вамъ порядокъ вашей жизни. Не угодно ли сѣсть. — Онъ съ трудомъ, хотя и правильно, говорилъ по Англійски. — Чай пить, breakfast[1487] у васъ будетъ какъ обыкновенно. Потомъ вы будете обѣдать со мною.
— Но, сударь, я думаю необходимо lunch, завтракъ....
— Да, lunch, — сказалъ онъ. Да, 8 часовъ. Для пищеваренія необходимо 4 часа. Слѣдовательно, въ 12.
— Наши уроки, сударь, до завтрака, а потомъ прогулка.
— Да, да. Я долженъ обдумать это, — сказалъ онъ, чувствуя, что теряется, и не спуская съ нея глазъ, чтобы не позволить ей смѣяться надъ собой. — Да, я обдумаю это. Благодарю васъ. Нынче я прошу васъ обѣдать со мною. — И онъ всталъ.
— Я тоже хотѣла предложить перевести насъ въ боковую комнату, такъ какъ эта темна, и Ма’m (госпожа) намѣревалась это сдѣлать. Теперь.
— И очень хорошо. Я завтра попрошу васъ. Гдѣ Сережа?
— Онъ въ дѣтской съ Марьей Карловной. Прикажете привести его къ вамъ?
— Нѣтъ, передъ обѣдомъ.
Англичанка вышла изъ комнаты. Алексѣй Александровичъ потеръ рукою лобъ, какъ онъ дѣлалъ, когда напряженіе мысли было слишкомъ сильно.
«Да, да, завтракъ, обѣдъ, помѣщеніе. Да, это все обдумать надо. А первое, надо скрыть свое страданіе, свой стыдъ».
Онъ ушелъ въ кабинетъ, но вслѣдъ за Англичанкой явилась экономка съ вопросами еще болѣе трудными для разрѣшенія, чѣмъ вопросы Англичанки.
«Куда помѣстить вещи, оставшіяся послѣ Анны Аркадьевны? Оставить на половинѣ Анны Аркадьевны, такъ, какъ оно было, или будутъ перемѣны?» Экономка, жена Корнея, была старая слуга, и отъ нея нельзя было бояться насмѣшки и жестокости, но бесѣда съ нею не была для Алексѣя Александровича легче,[1488] чѣмъ съ другими. Матрена не скрывала своего огорченія. Сдѣлавъ вопросъ, она посмотрѣла на Алексѣя Александровича и, вздохнувъ, опустила голову и стала разбирать складки платья, чтобы найти платокъ.
— Я переговорю обо всемъ съ управляющимъ, ступайте, — сказалъ Алексѣй Александровичъ.[1489]
Но Матрена не ушла, она расплакалась!
— Сереженьку жалко, — говорила она всхлипывая, — Богъ ей судья...
Алексѣй Александровичъ, отпустивъ ее, почувствовалъ себя еще болѣе потеряннымъ, но онъ зналъ, что, если онъ поддастся этому чувству, его забидятъ, и онъ постарался мужаться.
Пришедшему управляющему онъ началъ было давать распоряженiя о новомъ устройствѣ квартиры, но запутался и сказалъ, что онъ обдумаетъ и распорядится.[1490]
* № 140 (рук. № 90).
Слѣдующая по порядку глава.
— Мнѣ говорили, что прочутъ Сафонова. Но Государю не угодно.
Такъ, стоя у двери, говорили два придворные на поздравленіи, и одинъ — слабый старичокъ, другой — могучій камергеръ съ расчесанными душистыми бакенбардами.
— Гм!, да.
Разговоръ было остановился. Но одинъ изъ собесѣдниковъ нашелся сказать осужденіе.
— А на его мѣсто Каренина. Этотъ и воду и воеводу, — сказалъ онъ, и разговоръ тотчасъ оживился. — Здравствуйте, князь. Мы говоримъ про Каренина, что онъ одинъ изъ самыхъ полезныхъ людей, кого бы не нужно замѣстить. Онъ на все годится.[1491]
— А онъ бѣлаго орла получилъ, — сказалъ князь.
— Несчастливъ въ любви, счастливъ на службѣ, — сказалъ камергеръ, оправляя плюмажъ на своей расшитой золотомъ шляпѣ. — Нѣтъ, посмотрите на него, какъ онъ счастливъ и доволенъ, какъ мѣдный грошъ, — прибавилъ онъ, указывая перчаткой на подходившаго къ нимъ Каренина.[1492]
— Нѣтъ, онъ постарѣлъ.
— Не то что постарѣлъ, a отсѣкнулся. Знаете, что бываетъ съ простоквашей, когда она вдругъ сдѣлается жидкой.[1493]
Говорившій едва успѣлъ договорить, и слушавшіе не успѣли скрыть улыбки, какъ Алексѣй Александровичъ ужъ подошелъ къ нимъ.[1494]
— Я васъ еще не поздравлялъ, — сказалъ князь, указывая на его старшую, вновь полученную, красную ленту.
— Благодарю васъ, князь, — отвѣчалъ Алекcѣй Александровичъ, тщетно стараясь скрыть улыбку удовольствія, которая невольно выступала на его лицѣ всякій разъ, какъ упоминалось о новой наградѣ, къ которой онъ считалъ своимъ долгомъ быть совершенно равнодушнымъ. — Какой нынче прекрасный день, — сказалъ онъ, особенно налегая на словѣ прекрасный, и прошелъ.
Алексѣй Александровичъ былъ въ придворномъ мундирѣ и съ новой старшей лентой черезъ плечо. Онъ имѣлъ свой обычный видъ спокойствія, усталости и достоинства. Онъ неторопливо передвигалъ ноги, раскланиваясь съ знакомыми, и дѣлалъ видъ, что отъискиваетъ въ толпѣ кого-то. Волосы его порѣдѣли; онъ весь похудѣлъ и опустился за этотъ послѣдній годъ; но въ фигурѣ его и въ лицѣ была та неувядаемая если не свѣжесть — независимость отъ тѣлесныхъ недуговъ, которая бываетъ у петербургскихъ и въ особенности у придворныхъ людей.
Увидавъ огромные, воздымающіяся изъ корсета плечи графини Лидіи Ивановны, Алексѣй Александровичъ улыбнулся, открывъ неувядающіе бѣлые зубы,[1495] и подошелъ къ ней.
Туалетъ Лидіи Ивановны стоилъ ей большаго труда, какъ и всегда теперь, когда она была влюблена. Цѣль ея туалета была теперь совсѣмъ обратная той, которую она преслѣдовала 30 лѣтъ тому назадъ. Тогда ей хотѣлось украшать себя чѣмъ нибудь, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Теперь, напротивъ, по должности своей она такъ была, несоотвѣтственно годамъ и фигурѣ, разукрашена въ своемъ придворномъ платьѣ, что цѣль ея состояла въ томъ, чтобы противоположность этихъ украшеній съ ея наружностью была бы не слишкомъ ужасна. Но не смотря на всѣ труды, положенные ею на это, она все таки была ужасна, хотя и думала противное. Она и не подозрѣвала того впечатлѣнія комическаго ужаса и недоумѣнія, которые она произвела на дядю ея горничной, мужика изъ Новгородской губерніи, которому его племянница показала барыню изъ швейцарской, когда та надѣвала шубу.
— Удивителенъ! сіяетъ и доволенъ, — продолжалъ молодой камергеръ про Каренина, когда онъ сошелся съ графиней Лидіей Ивановной. — Вы знаете, она влюблена въ него, она ревнуетъ его теперь къ женѣ. Желалъ бы я знать, знаетъ ли онъ, что жена его здѣсь.
— Какъ здѣсь?
— То есть не здѣсь, во дворцѣ, а въ Петербургѣ. Я вчера встрѣтилъ ихъ, т. е. ее съ Алексѣемъ Вронскимъ, bras dessus, bras dessous,[1496] въ англійскомъ магазинѣ.
— Я увѣренъ, что онъ если встрѣтитъ ее, то такъ же любезно съ ней раскланяется, какъ съ графиней Лидіей Ивановной.
— C’est un homme qui n’a pas de...,[1497] — началъ молодой камергеръ.
— Я это понимаю, но не понимаю, какъ нѣтъ стыда. Онъ никогда столько не выѣзжалъ, столько не показывался вездѣ, какъ теперь.
Это было справедливо. Никогда Алексѣй Александровичъ столько не ѣздилъ въ свѣтъ и не бывалъ такъ часто на людяхъ, какъ съ того времени, какъ жена ушла отъ него. Но это происходило совсѣмъ не отъ того, чтобы онъ не понималъ всего стыда своего положенія. Къ несчастью, онъ сознавалъ его. И эта свѣтскость его происходила именно оттого, что онъ слишкомъ болѣзненно сознавалъ то смѣшное и унизительное положеніе, въ которомъ онъ находился.
* № 141 (рук. № 90).
Первые дни, когда надо было отвѣчать на настоятельные вопросы о томъ, что дѣлать съ Сережей безъ матери, какъ употребить оставшіяся свободными комнаты, куда дѣвать вещи Анны Аркадьевны, какъ поступить со счетами изъ магазиновъ, которые по небрежности не заплатила Анна и которые подавали ему, главное же — какъ отвѣтить на молчаливый, страдальческій вопросительный взглядъ сына, очевидно спрашивающій о матери, — Алексѣй Александровичъ[1498] невольно всѣ силы своей души напрягалъ только на то, чтобы,[1499] отвѣчая на всѣ эти вопросы, показать, что все это было имъ предвидѣно, очень естественно и что новое положеніе нисколько не смущаетъ и не огорчаетъ его. Онъ дѣлалъ величайшія усилія надъ собой, но во всѣхъ взглядахъ, прислуги даже и подчиненныхъ, онъ видѣлъ такія явныя насмѣшку и презрѣніе, что была минута на второй день послѣ отъѣзда жены,[1500] когда онъ почувствовалъ себя не въ силахъ долѣе выдерживать эту роль.
Онъ ушелъ въ свою комнату и, не отвѣчая на вопросы и требованія, сказался больнымъ[1501] и сознался самъ себѣ, что онъ несчастливъ и не видитъ никакого выхода изъ своего положенія. Положеніе его въ это время было особенно тяжело еще и потому, что въ служебной карьерѣ своей онъ въ самое послѣднее время почувствовалъ тотъ предѣлъ возвышенія успѣха, далѣе котораго ему не суждено было идти. Онъ испыталъ то чувство, которое долженъ былъ испытать тотъ человѣкъ, который, повѣривъ, что если онъ каждый день будетъ поднимать теленка, черезъ три—4 года будетъ поднимать быка, когда онъ почувствовалъ, что теленокъ росъ несоотвѣтственно съ его силой, то грустное чувство, которое испытываетъ нетолько честолюбецъ, но и всякій спеціалистъ, убѣждающійся, что есть предѣлъ его возвышенію и что онъ достигъ его. На службѣ для людей честолюбивыхъ чувство это наступаетъ иногда очень поздно и всегда поражаетъ особенно сильно.[1502] Алексѣй Александровичъ съ самыхъ низшихъ чиновъ и званій[1503] шелъ перегоняя другихъ, безостановочно поднимаясь по лѣстницѣ чиновъ и званій до того самаго званія, которое онъ занималъ послѣднее время и которое находилось почти на вершинѣ лѣстницы. Такъ что, казалось, не нужно было даже никакого усилія, чтобы дойти до высшей ступени. Но на этой послѣдней ступени движеніе вверхъ вдругъ остановилось. Сначала Алексѣй Александровичъ не обратилъ вниманія на это замедленіе. Онъ относилъ это сначала къ случайности. Но различныя повторявшіяся случайности имѣли тѣже послѣдствія. Онъ обвинилъ себя въ недостаткѣ энергіи и въ послѣднее время усилилъ энергію дѣятельности, но соразмѣрно съ усиліемъ энергіи увеличились и препятствія, всѣ казавшіяся случайными. Онъ попытался измѣнить пріемы. Но тѣ самые пріемы, которые прежде оказывались дѣйствительными, теперь только вредили ему; оказалось, что со всѣхъ сторонъ была одинаковая непоколебимая преграда. Была стѣна, не пускавшая его дальше. Теленокъ выросъ такъ великъ, что онъ уже не могъ поднимать его. Послѣднія столкновенія его съ Стремовымъ, инородцы, другія комиссіи — все имѣло одинъ результатъ. Движеніе восходящее было кончено. Алексѣй Александровичъ былъ въ тѣхъ же сферахъ, съ тѣми же людьми, его также уважали, но онъ чувствовалъ, что въ немъ не было уже для этихъ людей ничего новаго, что отъ него ничего не ждали, что его всего какъ будто знали, предполагая, что онъ весь уже вышелъ. Онъ занималъ еще значительное мѣсто, онъ былъ членом комиссій и совѣтовъ, но комиссіи и совѣты, прежде представляющіяся ему ступенями къ возвышенію, теперь наводили на него уныніе, какъ тотъ одръ, на который лечь боится больной, предчувствуя что это будетъ его смертнымъ одромъ. Такимъ смертнымъ служебнымъ одромъ представлялись ему тѣ совѣты и забытые комиссіи, которыхъ онъ былъ членомъ. Но государственная дѣятельность была для него необходимостью. Онъ съ увлеченіемъ отдавался этой службѣ въ совѣтахъ и комиссіяхъ не признаваясь себѣ въ томъ, что онъ зналъ хорошо, что изъ этаго ничего не выйдетъ. Ему казалось, напротивъ, что онъ теперь яснѣе чѣмъ когда нибудь видитъ недостатки правительственныхъ распоряженій и средствъ къ ихъ исправленію. Онъ и не думалъ того, что такъ ясно видѣлъ теперь недостатки только отъ того, что онъ самъ былъ устраненъ отъ дѣятельности и что въ этомъ порицаніи онъ сходился со всѣми до и послѣ него за флагомъ честолюбія оставленными чиновниками. Онъ дорожилъ своими мыслями теперь тѣмъ болѣе, что они нетолько никѣмъ не были раздѣляемы, но впередъ уже осуждены только потому, что они шли отъ него. Несмотря на волненія послѣднихъ мѣсяцевъ или, можетъ быть, вслѣдствіе этаго, онъ очень скоро послѣ возвращенія своего изъ Москвы началъ писать первый свой проэктъ, долженствовавшiй исправить вопіющіе недостатки, первый проэктъ изъ длиннаго ряда проэктовъ, которые ему суждено было написать по всѣмъ отраслямъ администраціи и которые никто не читалъ и которые скоро получили названіе Каренинскихъ проэктовъ. Несмотря на происшедшій въ немъ въ семейномъ дѣлѣ душевный переворотъ, въ служебныхъ дѣлахъ, въ преніяхъ въ комиссіяхъ и совѣтахъ, въ офиціозныхъ обществахъ и въ особенности въ своихъ проэктахъ, гдѣ Алексѣй Александровичъ давалъ уже полную волю своимъ чувствамъ, онъ руководствовался совершенно противоположными правилами, чѣмъ въ семейномъ вопросѣ. Насколько онъ былъ смирененъ, прощалъ и любилъ въ семьѣ, настолько онъ былъ гордъ и самоувѣренъ, предписывая новыя начала, осуждая все прежнее, настолько онъ никому ничего не прощалъ, ловилъ каждую ошибку и обмолвку, и настолько онъ ненавидѣлъ всѣ тѣ новыя силы, которыя, оставляя его за флагомъ, входили въ эту заколдованную для него область, въ которую онъ не могъ проникнуть.
* № 142 (рук. № 90).
Еще была графиня Лидія Ивановна, но это былъ преимущественно политическій[1504] другъ и высшій безтолковый другъ. Онъ могъ себѣ представить, что она съ порывистымъ восторгомъ будетъ осуждать политическихъ непріятелей, будетъ восторгаться поступкомъ Алексѣя Александровича, будетъ ужасаться передъ испорченностью людскою вообще и Анны въ особенности, будетъ говорить высшія христіанскія общія мѣста, но выслушать, понять все душевное положеніе Алексѣя Александровича — онъ зналъ, что она не можетъ.
Между прочимъ, случилось такъ, что въ эту самую тяжелую минуту одинокаго отчаянія пріѣхала графиня Лидія Ивановна и оказалась самой действительной утѣшительницей для Алексѣя Александровича.
— Я прервала запретъ (j’ai forcé la consigne), — сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша отъ волненія и быстраго движенія. — Я все слышала! Это ужасно! Скажешь, что мы живемъ за 20 вѣковъ въ идолопоклонническомъ мірѣ до Христа, — сказала она приготовленную и нравившуюся ей фразу, съ свойственной ей самодовольной улыбкой.
Алексѣй Александровичъ привсталъ и хмурясь сталъ трещать пальцами. Его предположенія не обманули его. Услыхавъ этотъ знакомый ему тонъ, эту разчувственность своими собственными чувствами и умиленіе передъ собой, которыя исключали всякую возможность сердечнаго сочувствія къ другому, Алексѣю Александровичу стало еще тяжелѣе, и онъ думалъ только о томъ, какъ бы избавиться отъ нея. Онъ, по привычкѣ учтивости, подвинулъ ей стулъ.[1505]
— Не угодно ли, графиня. Впрочемъ, я боленъ,[1506] графиня, очень боленъ, — сказалъ онъ, чтобы его не задержали.
Графиня Лидія Ивановна посмотрѣла на него молча; брови ея вдругъ поднялись внутренними складками, составляя треугольникъ, лицо ея такъ измѣнилось, что Алексѣй Александровичъ не узналъ бы ее.
— Алексѣй Александровичъ, — сказала она съ слезами въ глазахъ и въ голосѣ, — бываютъ минуты, когда человѣку нуженъ другъ, нужна помощь. Возьмите меня. Могу я помочь? — сказала она, протягивая ему руку.
Минуту тому назадъ Алексѣй Александровичъ только одного желалъ — избавиться отъ нея; теперь онъ схватилъ ея[1507] руку и, цѣлуя ее, желалъ только однаго — чтобы она не покинула его, потому что онъ понялъ, что она жалѣетъ и любитъ его.
— Я разбитъ, я убитъ, графиня, я не человѣкъ болѣе, — говорилъ Алексѣй Александровичъ, глядя въ ея сочувственные, наполненные слезами глаза. — Положеніе мое тѣмъ ужасно, что я не нахожу нигдѣ, въ самомъ себѣ не нахожу точки опоры.
— Въ себѣ мы не можемъ найти точки опоры. Опора и сила наша это — Онъ, если онъ въ сердцѣ нашемъ. Я знаю, Онъ въ сердцѣ вашемъ. Поищите Его, и вы найдете. Простите меня, что я учу васъ, — перебила его графиня Лидія Ивановна.
И не смотря на то, что въ этихъ словахъ было то умиленіе передъ своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексѣю Александровичу ложнымъ, новое восторженное христіанское настроеніе, которое распространилось въ послѣднее время въ Петербургѣ, Алексѣй Александровичъ все таки чувствовалъ, что сердце Лидіи Ивановны полно простой жалости къ нему, и потому онъ продолжалъ высказывать то, что было болѣе всего больно ему.
— Я потому не нахожу опоры, что тотъ самый поступокъ, который я считалъ хорошимъ, — прощеніе и смиреніе, — что это самое обратилось противъ меня.
Лидія Ивановна въ лицѣ своемъ выразила недоумѣніе о томъ, что онъ считалъ усиленіемъ своего несчастія, — неужели потерю своей жены, развратной и гадкой женщины?
— Не потеря того, чего нѣтъ теперь, — отвѣчалъ Алексѣй Александровичъ. — Я не жалѣю. Но я не могу не раскаиваться теперь въ томъ, что я сдѣлалъ и считалъ высокимъ. Я чувствую себя пристыженнымъ и раскаивающимся за то зло, которое мнѣ сдѣлали.
— Это то, что называютъ Respect humain,[1508] — сказала она. Это искупленіе. Не вы совершили тотъ высокій поступокъ прощенія, которымъ я восхищаюсь и всѣ, но Онъ,[1509] который обитаетъ ваше сердце. И если вы раскаиваетесь, то вы отрекаетесь отъ Него и Его помощи.
* № 143 (рук. № 92).
Следующая по порядку глава.
Съ этаго дня началась для Алексѣя Александровича новая жизнь. Графиня Лидія Ивановна исполнила свое обѣщаніе. Она действительно[1510] взяла на себя всѣ заботы по устройству и веденію дома Алексѣя Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна въ практическихъ дѣлахъ. Всѣ ея распоряженія надо было измѣнять, такъ какъ они были неудобоисполнимы, и все это измѣнялось Корнеемъ, камердинеромъ Алексѣя Александровича, который незамѣтно для всѣхъ велъ весь домъ Каренина и спокойно и осторожно во время одѣванія барина докладывалъ ему то, что было нужно. Но помощь Лидіи Ивановны всетаки была въ высшей степени дѣйствительна: она дала нравственную опору Алексѣю Александровичу въ сознаніи ея любви и уваженія къ нему и въ особенности въ томъ, что, какъ она счастлива была думать, она почти обратила его въ Христіанство, т. е. изъ равнодушно и лѣниво вѣрующаго обратила его въ горячаго и твердаго сторонника того новаго объясненія христіанскаго ученія, которое распространилось послѣднее время и сущность котораго состояла въ томъ, что такъ какъ Христосъ пострадалъ для спасенія рода человѣческаго, что вѣра въ него даетъ это спасенiе, то сущность ученія лежитъ не въ стремленіи къ подражанію Христу, [1511] какъ это понимали большинство русскихъ христіанъ, а въ самой вѣрѣ, въ живости вѣры. Такъ что [1512] спасеніе не пріобрѣтается, какъ въ обыкновенномъ и народномъ воззрѣніи на христіанство, дѣлами любви и самоотверженія, a спасеніе дается вѣрой, и изъ вѣры сами собой вытекаютъ дѣла. Алексѣй Александровичъ не разъ прежде въ различныхъ редакціяхъ слышалъ это ученіе, и оно всегда одинаково мало интересовало его, потому что оно ему было не нужно, но теперь, самъ не замѣтивъ какъ и когда, онъ вполнѣ усвоилъ себѣ его. Незамѣтно какъ и когда, онъ усвоилъ себѣ, также какъ и другіе, раздѣлявшіе это ученіе, твердую увѣренность въ томъ, что онъ обладаетъ полнѣйшей и несомненнѣйшей вѣрой въ Христа и поэтому самому находится въ счастливомъ и высокомъ состояніи спасенія. Алексѣю Александровичу легко было убѣдиться въ этомъ.
Алексѣй Александровичъ, также какъ и Лидія Ивановна и другіе люди, раздѣлявшіе ихъ воззрѣнія, былъ лишенъ совершенно глубины воображенія, душевной способности, состоящей въ томъ, что образы, вызываемые воображеніемъ, становятся такъ дѣйствительны, что съ ними уже нельзя обращаться какъ хочешь, что вызванное воображеніемъ представленіе уже не допускаетъ другихъ представленій, противурѣчащихъ или невозможныхъ при первомъ представленіи. Люди же, лишенные этой способности, могутъ представлять себѣ все что угодно и могутъ вѣрить во все то, что они себѣ представляютъ. Новые христіане, въ томъ числѣ теперь Алексѣй Александровичъ, не только не находили затрудненія въ объясненiи словъ писанія о сотвореніи Ангеловъ, о возсѣданіи Бога сына одесную отца, они любили именно указывать на то, что представленія эти не стѣсняютъ ихъ. Для[1513] человѣка, обладающаго глубиною воображенія, представленіе Божества невозможно. Еще болѣе невозможно представленіе Божества, находящагося въ своемъ сердцѣ, и потому[1514] таковой, вѣрующій въ Божество и Христа, имѣетъ въ жизни дѣйствительной подтвержденія своей вѣры въ дѣлахъ, основанныхъ на вѣрѣ. Люди же безъ глубины воображенія не видятъ ничего невозможнаго въ своихъ представленіяхъ и легко убѣждаются, что они обладаютъ полнѣйшей вѣрой, и представленіе, что Христосъ находится въ ихъ душѣ, для нихъ естественно и легко.
Ошибка этаго ученія, состоящаго въ томъ, что спасеніе дается вѣрой, a вѣра опредѣляется только сознаніемъ своей вѣры, въ которомъ судья самъ вѣрующій, была бы очевидна Алексѣю Александровичу, если бы онъ далъ себѣ трудъ подумать объ этомъ прежде, но тогда всѣ эти разговоры казались ему излишними, теперь же ему такъ необходимо было въ своемъ униженіи имѣть ту, хотя бы и выдуманную, высоту, съ которой бы онъ могъ презирать презирающихъ его людей, что онъ и не замѣтилъ, какъ усвоилъ себѣ это ученіе со всѣми его выводами.
Правда, что поверхностность этаго религіознаго представленія о своей вѣрѣ[1515] смутно чувствовалась Алексѣю Александровичу,[1516] и онъ зналъ, что когда онъ, вовсе не думая о томъ, что его прощеніе есть дѣйствіе высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, онъ испыталъ больше счастія, чѣмъ когда онъ, какъ теперь, всякую минуту думалъ, что[1517] въ его душѣ живетъ Христосъ и что, подписывая бумаги, онъ исполнялъ Его волю; но для него было необходимо такъ думать. Безъ этаго убѣжденія онъ не могъ бы жить, а теперь онъ жилъ и имѣлъ интересы жизни.
«Соединенъ ли ты съ женой — не ищи развода, остался ли безъ жены — не ищи жены», говоритъ апостолъ Павелъ въ главѣ, которую часто перечитывалъ Алексѣй Александровичъ, теперь во всемъ руководившiйся Писаніемъ. «Таковые, т. е. женатые, будутъ имѣть скорбь по плоти, a мнѣ васъ жаль», говоритъ Апостолъ; и эта жалость, столь справедливая, такъ тронула Алексѣя Александровича, что онъ безъ волненія никогда не могъ читать этихъ словъ. «Женатый заботится о мірскомъ, какъ угодить женѣ. Не женатый заботится о Господнемъ, какъ угодить Господу». Это послѣднее особенно чувствовалъ на себѣ Алексѣй Александровичъ. Со времени разлуки своей съ женой онъ чувствовалъ, что всей душой отдавался заботѣ о Господнемъ. Господнее, о которомъ онъ могъ заботиться, была служба и воспитаніе оставшагося на его ответственности сына.
Ни то, ни другое дѣло не давало того удовлетворенія, той главной награды за трудъ, которыя имѣетъ мужикъ, выпахивающій десятину земли и въ завтракъ, присѣвъ къ сохѣ, оглядывающій треть уже черной десятины.
Этой очевидности совершеннаго труда не было у Алексѣя Александровича. Въ самое послѣднее время, вслѣдствіи ли столкновенія съ Стремовымъ за инородцевъ или несчастія съ женой, до сихъ поръ безостановочно шедшее въ гору движеніе по службѣ вдругъ остановилось. Несмотря на то, что Алекеѣй Александровичъ занималъ еще важное мѣсто и былъ членомъ многихъ комитетовъ и комиссій, онъ чувствовалъ, что взглядъ на него совершенно измѣнился. Отъ него ничего болѣе не ждали: что бы онъ ни говорилъ и ни предлагалъ, его слушали такъ, какъ будто то, что онъ предлагаетъ, давно уже извѣстно, и это самое ждали отъ него, и это самое не нужно. Онъ чувствовалъ, что движеніе его вверхъ остановилось, что онъ дошелъ до того предѣла, котораго не перейдешь, и что скоро онъ останется сенаторомъ или за штатомъ. Какъ ни тяжело это ему было, онъ продолжалъ работать, считая это своимъ долгомъ. Чувствуя себя какъ бы уже устраненнымъ отъ настоящаго участія въ правительственной дѣятельности, онъ яснѣе видѣлъ теперь всѣ ошибки и недостатки и считалъ своимъ долгомъ указывать на возможность исправленія ихъ. Вскорѣ послѣ своей разлуки съ женой онъ началъ писать первый проэктъ о исправленіи финансовъ Россіи. Проэктъ этотъ былъ первымъ изъ сотни проэктовъ и записокъ, которые суждено было написать Алексѣю Александровичу по всѣмъ отраслямъ управленія, которые никто не читалъ и которые скоро получили названіе Каренинскихъ проэктовъ.
[1518]Другое дѣло жизни Алексѣя Александровича, воспитаніе сына, также мало радовало его и затрогивало его сердце. Это было тоже исполненіе долга, и тяжелаго и непріятнаго для Алексѣя Александровича. Онъ никогда не любилъ сына, въ особенности послѣ несчастія съ женой не могъ преодолѣть отвращенія къ нему, усиленнаго все больше и больше выражавшимся сходствомъ мальчика съ матерью. Но, разъ взявшись за дѣло, Алексѣй Александровичъ добросовѣстно исполнялъ его, насколько стараніе, образованіе и разсудокъ могли содѣйствовать этому дѣлу. Никогда не занимавшись вопросами воспитанія, Алексѣй Александровичъ посвятилъ нѣсколько мѣсяцевъ теоретическому изученію предмета.
<Алексѣй Александровичъ былъ высокообразованный чиновникъ, и потому онъ и на минуту не сомнѣвался въ плодотворности нетолько своей служебной дѣятельности, но и вновь предпринятой имъ воспитательной. Какъ въ службѣ опорой въ томъ, что онъ дѣлаетъ важное и плодотворное дѣло, служило ему то, что онъ дѣлаетъ дѣло вмѣстѣ съ самыми важными въ мірѣ людьми, считаемыми общественнымъ мнѣніемъ высшими, такъ и въ воспитаніи сына онъ былъ увѣренъ, что дѣлаетъ дѣло, потому что поставилъ себя въ сообщество со всѣми самыми важными лицами, занимавшимися и занимающимися воспитаніемъ.>
* № 144 (кор. № 117).
<Такими постыдными воспоминаніями, которыя, не заключая въ себѣ ничего дурного, мучаютъ болѣе, чѣмъ воспоминанія преступлений, было для Алексѣя Александровича воспоминаніе о томъ времени, когда Анна открыла ему все и онъ колебался о томъ, вызвать или не вызвать на дуэль Вронскаго. Теперь ему казалось, противно всѣмъ его убѣжденіямъ, что надо было вызвать, и другое то — когда Бетси и Степанъ Аркадьевичъ завертѣли его и уговорили отпустить жену. Ему казалось теперь, что этаго не надо было дѣлать. Но онъ отгонялъ отъ себя эти воспоминанія и тѣ поправки прошедшему, которыя онъ дѣлалъ. Все это было сдѣлано, и кончено и непоправимо. И потому онъ убѣждалъ себя, что это было хорошо. Онъ поступилъ руководясь вѣчными законами любви и прощенія обидъ, и потому это не могло быть дурно. То мучительное чувство стыда, которое томило его, онъ считалъ остаткомъ слабости, respect humain, и боролся съ нимъ. Чтобы не мучиться своимъ настоящимъ положеніемъ, онъ говорилъ себѣ, что интересы его не въ этой жизни, а въ будущей, что поступокъ, если и мучаетъ его въ этой жизни, то долженъ радовать его по отношенію къ будущей жизни. И онъ вѣрилъ въ это всей душой. Вѣрилъ и въ то, что у него нѣтъ интересовъ въ этой жизни, что онъ скоро умретъ, и тогда всѣ эти воспоминанія будутъ имѣть для него совсѣмъ другое значеніе. Но сколько онъ не старался увѣрить себя въ этомъ, пока онъ живъ, вѣрное чувство жизни показывало ему, что онъ дурно устроилъ свою жизнь, что онъ виноватъ въ этомъ и не будетъ имѣть ни минуты покоя. То, что это зачтется ему тамъ, ни на одинъ волосъ не облегчало его положенія, какъ будто связи между той и этой жизнью не могло быть и эта жизнь въ себѣ носила свои награды и наказанія.>[1519]
* № 145 (рук. № 88).
Анна и Вронскій ужъ вторую недѣлю жили въ Петербургѣ, гдѣ ихъ задержалъ раздѣлъ Вронскаго съ братомъ, для котораго все было приготовлено, но при которомъ явились неожиданныя затрудненія. Дѣло раздѣла не задержало бы ихъ въ Петербургѣ, если бы при этомъ у обоихъ не было личнаго задушевнаго желанія быть въ Петербургѣ. Кромѣ того сильнаго и все болѣе и болѣе усиливающегося желанія Анны увидѣть сына, у нихъ было общее обоимъ странное невысказываемое желаніе: испытать общество своихъ прежнихъ знакомыхъ, какъ они будутъ относиться къ ихъ новому положенію. Испытывать, казалось, нечего было; имъ, опытнымъ свѣтскимъ людямъ, должно было знать впередъ, какъ будетъ смотрѣть на нихъ общество; но они, не говоря другъ другу объ этомъ, теперь оба испытывали общество, не перемѣнилось ли оно. И оба одинаково больше интересовались общественнымъ прогрессомъ, смутно предполагая, что ихъ положеніе при прогрессѣ общества можетъ представляться инымъ, чѣмъ оно представлялось прежде. Не признаваясь въ этомъ другъ другу, они оба находились въ тяжеломъ положеніи.
Можно просидѣть нѣсколько часовъ сряду, поджавши ноги, въ одномъ и томъ же положеніи, если знаешь, что ничто не помѣшаетъ перемѣнить положеніе и вытянуть ноги; но если человѣкъ знаетъ, что онъ долженъ сидѣть такъ съ поджатыми ногами и не можетъ ихъ вытянуть, то то самое положеніе, которое въ первомъ случаѣ было даже пріятнымъ, становится мучительнымъ, вызывая настоящія судороги въ ногахъ.
Можно жить спокойно безъ свѣта, безъ знакомыхъ, если знать, что нѣтъ никакихъ препятствій для веденія свѣтской жизни; но знать, что свѣтъ закрытъ, то это лишеніе покажется страданіемъ.
То, что испытывали Вронской и Анна, было хуже этаго: они испытывали сомнѣніе въ томъ, закрытъ или не закрытъ для нихъ свѣтъ, и если закрытъ, то насколько. Для обоихъ ихъ, находившихся всегда въ томъ положеніи, что и въ голову имъ никогда не приходилъ вопросъ о томъ, хочетъ или не хочетъ тотъ или другой быть знакомымъ, это положеніе сомнѣнія было мучительно и унизительно.
* № 146 (рук. № 90).
Пріѣхавъ въ Петербургъ,[1520] Вронскій съ Анной остановились въ одной изъ лучшихъ гостинницъ, Вронскій отдѣльно въ нижнемъ этажѣ, Анна наверху въ большомъ отдѣленіи. Первый визитъ Вронскаго былъ къ брату. Тамъ онъ засталъ пріѣхавшую изъ Москвы мать. Мать и невѣстка были сдержаны относительно его и ни словомъ не упомянули о его связи съ Анною. Братъ же, на другой день пріѣхавъ утромъ къ Вронскому, самъ спросилъ его о Аннѣ. Вронскій прямо сказалъ ему, что онъ смотритъ на свою связь съ Анной какъ на бракъ, что онъ надѣется уговорить ее принять разводъ, предлагаемый ее мужемъ, и тогда женится на ней, а до тѣхъ поръ считаетъ ее такою же своей женой, какъ и всякую жену, и проситъ его такъ передать матери и своей женѣ.
— Если свѣтъ не одобряетъ этаго, то мнѣ совершенно все равно, — сказалъ Вронскій.[1521]
Старшій[1522] понялъ, что оговаривать уже нельзя, и вмѣстѣ съ Алексѣемъ пошелъ къ Аннѣ.
Вронскій при братѣ говорилъ, какъ и при всѣхъ, Аннѣ вы и обращался съ нею какъ съ[1523] близко знакомою, но было подразумѣваемо, что братъ знаетъ ихъ отношенія, и говорилось о томъ, что Анна ѣдетъ въ имѣніе Вронскаго.
Изъ другихъ знакомыхъ Вронскаго бывшій товарищъ его Вреде былъ[1524] также наверху у Анны и былъ въ тѣхъ же отношеніяхъ. Остальные мущины встрѣчались съ Вронскимъ, бывали у него, но ни словомъ не упоминали о его отношеніяхъ къ Аннѣ.[1525]
Несмотря на всю свою свѣтскую опытность, Вронскій вслѣдствіи фальшиваго положенія, въ которомъ онъ находился, былъ въ странномъ заблужденіи. Казалось, ему надо бы понимать, что свѣтъ закрытъ для него съ Анной, но теперь въ головѣ его бродили какія то неясныя соображенія о томъ, что такъ было только встарину, но что теперь, при быстромъ прогрессѣ (онъ незамѣтно для себя теперь былъ сторонникомъ всякаго прогресса), что теперь взглядъ общества на вопросъ, о томъ, будутъ ли они приняты въ обществѣ, еще не рѣшенъ. «Разумѣется, — думалъ онъ, — свѣтъ придворный и т. п. не приметъ ее, но порядочные люди, близкіе, могутъ понять это какъ слѣдуетъ». И онъ испытывалъ свѣтъ и его отношеніе къ себѣ и къ Аннѣ. Но очень скоро онъ замѣтилъ, что свѣтъ былъ болѣе даже чѣмъ когда нибудь открытъ для него лично, но что въ игрѣ въ кошку-мышку руки, поднятыя для него, тотчасъ же опускались передъ Анной,[1526] и потому онъ одинъ никуда не ѣздилъ, а если ѣздилъ, то только для того, чтобы узнать, пропустятъ ли ее за нимъ.
Первую попытку онъ сдѣлалъ съ женою брата. Матери, начавшей усовѣщевать его, онъ отвѣтилъ, что его рѣшеніе неизмѣнно, а что если она хочетъ оставаться съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, то онъ проситъ ее никогда не отзываться презрительно о женщинѣ, которую онъ любитъ и уважаетъ. Онъ возлагалъ большія надежды на Лизу; ему казалось, что[1527] она не броситъ камня и съ своимъ золотымъ сердцемъ, простотой и рѣшительностью поѣдетъ къ Аннѣ и приметъ ее.
Но Лиза упорно молчала и избѣгала всего, касавшагося Карениной, краснѣла, когда разговоръ[1528] угрожалъ склониться къ новому положенію Алексѣя.
На другой день своего пріѣзда Вронскій[1529] прямо высказалъ ей свое желаніе. Она[1530] выслушала его и отвѣчала:
— Ты знаешь, Алексѣй, какъ я люблю тебя, и готова все для тебя сдѣлать, но я молчала потому, что знала, что не могу тебѣ и Аннѣ Аркадьевнѣ помочь, — сказала она, особенно старательно выговоривъ «Анна Аркадьевна». — Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала: никогда; можетъ быть я на ея мѣстѣ и хуже бы была, но ты пойми, что я не могу этаго сдѣлать. У меня дочери растутъ, и я должна жить въ свѣтѣ для мужа. Ну, я пріѣду къ Аннѣ Аркадьевнѣ. Она пойметъ, что я не могу ее звать къ себѣ или должна это дѣлать тайно. Это ее же оскорбитъ. Я не могу, Алексѣй, пожалуйста, не проси меня и пойми.
И Вронскій понялъ.[1531] Онъ особенно понялъ это послѣ того, какъ Бетси, одна изъ прежнихъ знакомыхъ, пріѣхала къ Аннѣ. Она, очевидно, считала свой пріѣздъ къ ней геройскимъ поступкомъ и наивно высказала это. Она пробыла не болѣе десяти минутъ, разговаривая о свѣтскихъ новостяхъ, и, уѣзжая, сказала:
— Вы не сказали однако, когда разводъ, потому что вы не можете же оставаться въ этомъ положеніи. Положимъ, я забросила свой колпакъ черезъ мельницы, но другіе поднятые воротники васъ будутъ бить холодомъ, пока вы не женитесь. И это такъ просто теперь, ça se fait.[1532] Такъ вы въ пятницу ѣдете? Надѣюсь, увидимся, до свиданья.[1533]
Вронскій понялъ, что дальнѣйшія попытки тщетны и что надо пробыть въ Петербургѣ эти нѣсколько дней, какъ въ чужомъ городѣ, избѣгая всякихъ сношеній съ прежнимъ свѣтомъ и не подвергаясь непріятностямъ и оскорбленіямъ этаго положенія. Одна изъ главныхъ непріятностей положенія въ Петербургѣ было то, что Алексѣй Александровичъ и его имя, казалось, были вездѣ. Нельзя было ни о чемъ начать говорить, чтобы разговоръ не свертывалъ къ Алексѣю Александровичу. Никуда нельзя было поѣхать,[1534] чтобы не встрѣтить его. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Вронскому, какъ кажется человѣку съ больнымъ пальцемъ, что онъ какъ нарочно обо все задѣваетъ этимъ самымъ больнымъ пальцемъ. Но Анна какъ будто не понимала[1535] неловкости своего положенія. Она, казалось Вронскому, не замѣчала тѣхъ безчисленныхъ мелочей, которыя должны были оскорблять ее. Она не замѣчала, что[1536] Варвара Павловна Шервудъ, единственная изъ прежнихъ знакомыхъ, которая ѣздила къ Аннѣ, была единственная и что положеніе Варвары Павловны Шервудъ въ свѣтѣ, жившей врозь съ своимъ мужемъ,[1537] было очень сомнительное, что женатые мущины старательно избѣгали упоминать о своихъ женахъ, что разговоръ никогда не бывалъ свободенъ, что всѣ говорили въ ея присутствіи всегда какъ будто боясь оступиться и сказать неловкость.[1538]
— Мнѣ очень хорошо здѣсь, пожалуйста, не безпокойся обо мнѣ, говорила она Вронскому,[1539] предлагавшему ей уѣхать не дожидаясь раздѣла. Но въ первый разъ Вронскій слышалъ въ отношеніи къ себѣ раздражительный тонъ.[1540] Во все это время ихъ пребыванія въ Петербургѣ Вронскій видѣлъ, что въ Аннѣ происходитъ что то особенное. Онъ не зналъ ее еще такою. То она была не нѣжна, какъ прежде, къ нему, но какъ будто влюблена въ него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Вронской не понималъ, что Анна страдала въ Петербургѣ почти тѣмъ же, чѣмъ и онъ, но страданія ея были въ столько разъ сильнѣе, въ столько разъ унизительнѣе для нея, что она не могла рѣшиться высказать ихъ, особенно ему, который былъ причиною этаго. Точно такъ же какъ и онъ, она еще болѣе, чѣмъ онъ, опытная и свѣтская женщина, надѣялась на какое то измѣненіе вслѣдствіи прогресса взгляда общества на ея положеніе. Она, точно такъ же какъ и онъ, съ болѣзненно напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за всѣми признаками отверженія ея отъ свѣта, которое было ей особенно тяжело, такъ какъ она всегда была въ такомъ положеніи, что никогда для нея не могло быть вопроса о томъ, хочетъ или не хочетъ быть съ ней знакомымъ. Всѣ всегда за честь считали знакомство съ нею. Теперь она дорожила знакомствомъ Варвары Павловны, которая ей была необходима только хоть для того, чтобы въ своемъ элегантномъ костюмѣ одной не быть похожей, она знала, на кого. Но кромѣ этихъ страданій у ней были еще другіе, состоящіе въ томъ, что теперь въ Петербургѣ она мучительно чувствовала, [что] нужно было жить, т. е. быть занятой. A занятій не было,[1541] въ особенности потому, что не было ни заграницей, ни здѣсь, не было женщинъ подругъ съ одинаковыми интересами. Все это мужское общество и умно и интересно, но она испытывала лишеніе того женскаго общенія, надъ которымъ такъ смѣются мущины, лишеніе тѣхъ разговоровъ о нарядахъ, о нездоровьяхъ женскихъ, того женскаго сужденія о мущинахъ, того совершенного отдыха отъ того мундира, который, какъ при начальствѣ, носятъ женщины передъ мущинами. Въ Петербургѣ этаго ужъ совсѣмъ не было. Даже кормилица — и та была итальянка, съ которой нельзя было поговорить по душѣ. И, не сознаваясь въ этомъ, Анна мучительно страдала и становилась все болѣе и болѣе раздражительна.
Одна изъ цѣлей ея поѣздки въ Петербургъ и пребыванія въ немъ состояла въ томъ, чтобы увидать сына. Но это свиданье, которое казалось ей столь легкимъ и естественнымъ, теперь, послѣ всѣхъ тѣхъ оскорбленій, никому, кромѣ ей, не замѣтныхъ, которыя она испытала въ Петербургѣ, ей казалось очень труднымъ, почти невозможнымъ достигнуть этаго свиданія.
Видѣться и имѣть сношенія съ Алексѣемъ Александровичемъ она не хотѣла[1542] потому, что,[1543] несмотря на сознаніе ею правоты и великодушія, она имѣла къ мужу такое же, если еще не большее, чѣмъ прежде, отвращеніе. Надѣялась она видѣть сына черезъ старую преданную ей няню, но она узнала, что няня уже не находилась при сынѣ.[1544]
Когда былъ уже рѣшенъ день отъѣзда, Анна, узнавъ отъ Вронскаго, передавшаго ей городскіе слухи, о новыхъ отношеніяхъ Алексѣя Александровича къ Графинѣ Лидіи Ивановнѣ, рѣшилась написать ей письмо.
Сочиненіе этаго неискренняго и хитраго письма стоило Аннѣ большого труда, и ей было стыдно перечесть его, когда она его написала.
Неискренно въ письмѣ было упоминаніе о томъ, что не хочетъ огорчать этаго великодушнаго человѣка. Она нетолько не считала его великодушнымъ, но считала его жестокимъ за то, что онъ, не любя сына, держалъ его при себѣ, отравляя этимъ ея жизнь. Неискренно было тоже упоминаніе о христіанскихъ чувствахъ Лидіи Ивановны. Она не вѣрила въ нихъ. Она считала Лидію Ивановну притворщицей, хотя и не такой притворщицей, которая притворялась бы для того, чтобы обманывать другихъ, но притворщицей, обманывавшей первую себя и никогда не могущую быть естественной. Хитрость же письма состояла въ томъ, что она женскимъ чутьемъ, по разсказамъ, угадала чувство Лидіи Ивановны къ Алексѣю Александровичу, поняла впередъ, что Лидія Ивановна будетъ ревновать къ ней и стараться отказать ей, и потому она вставила фразу о томъ, что допустить или не допустить свиданіе должно зависѣть не отъ Лидіи Ивановны, а отъ Алексѣя Александровича.
Въ тотъ день, какъ она послала записку графинѣ Лидіи Ивановнѣ, Анна была[1545] въ одномъ изъ своихъ хорошихъ дней. Она чувствовала себя[1546] сильной, веселой, оживленной не вслѣдствіи того, чтобы что нибудь новое, веселое случилось, но вслѣдствіи того, что все непріятное, тяжелое не обращало вниманія, а все то, что ни думалось, все представлялось легко и весело.
«Ну и Богъ съ ними, — думала она. — Я сдѣлала свою постель и буду на ней спать, и я довольна ею. Всегда во всякой жизни бываютъ тяжелые періоды, какъ путешествія и т. п. Такой былъ нашъ періодъ жизни здѣсь, и въ особенности потому, что мы не такъ смотрѣли. Послѣ завтра мы уѣдемъ въ деревню. Алексѣй любитъ меня больше чѣмъ когда нибудь. Я видѣла, какъ онъ страдалъ за меня. А я люблю ли его? Никогда не думала, что можно такъ любить человѣка».
И тайны ихъ интимной жизни вспомнились ей, и страстная улыбка освѣтила ея лицо. «Ну, да не въ томъ дѣло. Во всякомъ положеніи можно быть счастливой». Она пошла къ кормилицѣ. Дѣвочка, увидавъ ее, открыла беззубый ротикъ и, подвернувъ рученки, стала загребать ими, какъ рыба поплавками, и Анна и кормилица просіяли улыбками. Разспросивъ кормилицу о томъ, какъ ей нравится Петербургъ, и утѣшивъ ее, что въ деревнѣ будетъ лучше, Анна[1547] достала записную книжку и серебрянымъ карандашикомъ записала нужныя покупки. Всѣ были не нужны, но все было весело покупать.
— О, да мы нынче въ хорошемъ духѣ, — сказалъ Вронской, входя и встрѣтившись съ ея взглядомъ.
— Въ томъ, въ какомъ надо быть, особенно теперь, какъ мы ѣдемъ. Все это наше пребываніе здѣсь — какъ сонъ, — неправда ли? — И она взяла его руку съ короткими пальцами и прижала ее къ своей шеѣ. — Я написала Графинѣ Лидіи Ивановнѣ. Пожалуйста, не бойся. Вопервыхъ, она непремѣнно отвѣтитъ мнѣ. А не отвѣтитъ, мнѣ все равно. Мнѣ нужно видѣть Сережу только. Въ этомъ дѣло. И если она откажетъ, то я узнала, что няня живетъ у нихъ въ домѣ, но не при Сережѣ. Я пошлю за ней и черезъ нее устрою.
— Черезъ кого ты узнала?
— Моя швея, но не въ томъ дѣло. Я иду или ѣду покупать. Вотъ. А ты?
— Ты меня не возьмешь съ собой? — сказалъ онъ.
Она взглянула на него и опустила глаза. Надо было избѣгать показываться вмѣстѣ.
— Да мнѣ опять нужно въ судъ. Нынче послѣдній разъ. Да вотъ деньги, если нужны. Я взялъ въ банкѣ. — И онъ положилъ бумажникъ на столъ. — Такъ до свиданья, до обѣда, — сказалъ онъ покраснѣвъ.
Анна вернулась только къ обѣду все въ такомъ же веселомъ состояніи, въ какомъ она была съ утра. Она даже забыла про письмо къ Графинѣ Лидіи Ивановнѣ и вспомнила о немъ только тогда, когда, пересчитавъ всѣ вынесенные изъ кареты покупки, вышла къ обѣду. Обѣдъ былъ накрытъ на 3-хъ. Греве, встрѣтившійся съ Вронскимъ, былъ оставленъ къ обѣду. Греве былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые не оскорбляли Вронскаго и Анну знаніемъ ихъ отношеній. Были люди свѣтскіе, которые прямо умышленно оскорбляли, стараясь выставить неприличность ихъ отношеній, были люди, какъ ихъ заграничный пріятель, своимъ обращеніемъ показывающій, что онъ считаетъ ихъ отношенія натуральными. Это оскорбляло ихъ потому, что они сами знали, что это неправда. Были люди, которые какъ будто не думали объ ихъ отношеніяхъ, и такимъ былъ Греве. Онъ просто чувствовалъ къ Вронскому дружбу, которая ему самому казалась сначала товарищескою дружбою, но которая оказалась сильнѣе, и такую же дружбу чувствовалъ къ Аннѣ, и они оба испытывали особенно пріятное чувство при Греве.
Передъ самымъ обѣдомъ пріѣхалъ еще Тушкевичъ съ порученіемъ къ Аннѣ отъ княгини Бетси. Княгиня Бетси просила извинить, что она не пріѣхала проститься, она была нездорова, но просила Анну пріѣхать къ ней между половиной 7 и 9. Анна и Вронскій переглянулись при этомъ опредѣленіи времени, показывавшемъ, что были приняты мѣры, чтобы она никого не встрѣтила, но это не оскорбило Анну. Она была въ хорошемъ духѣ.
— Очень жалко, что я именно не могу между 1/2 7 и 9, — сказала она, чуть улыбаясь.
— Княгиня очень будетъ жалѣть.
— И я тоже.
— Вы, вѣрно, ѣдете слушать Пати, — сказалъ Тушкевичъ.
— Да,[1548] я такъ давно не слыхала Пати.
— У васъ есть ложа?
— Нѣтъ, но я думаю, что кто нибудь изъ васъ достанетъ.
— Позвольте мнѣ, — вызвался Тушкевичъ.
— Не хотите ли остаться обѣдать? — сказала Анна. — Кажется, я опоздала.
И опять она переглянулась съ Вронскимъ. Онъ понялъ, что она оставила обѣдать Тушкевича для того, чтобы не показать ему, что она можетъ быть оскорблена. Но всетаки Вронской пожалѣлъ, что она пригласила этаго пустого, какъ онъ считалъ, и ничтожнаго человѣка.
Тушкевичъ однако, какъ человѣкъ ловкій, попалъ въ тонъ, который давалъ Греве, и былъ не непріятнымъ собесѣдникомъ.
Сѣвши за супъ только, Анна вспомнила о письмѣ къ Лидіи Ивановнѣ.
— Какой отвѣтъ принесъ комисіонеръ? — сказала она.
— Отвѣта нѣтъ, — отвѣчалъ лакей.
И это не разстроило веселаго расположенія духа Анны. Оно даже усилило его. Настроеніе ея духа стало веселое, наступательное. Въ душѣ ея проснулся дьяволъ, присутствіе котораго она любила въ себѣ и котораго боялся въ ней Вронской, но который всегда восхищалъ его. Онъ видѣлъ, какъ зажглись ея глаза, какъ каждое движеніе ея стало быстрѣе и вмѣстѣ граціознѣе, каждое слово ея[1549] имѣло какое то затаенное значеніе.
Когда встали отъ обѣда и Тушкевичъ уѣхалъ за ложей, а Греве пошелъ курить, Вронской вышелъ съ нимъ вмѣстѣ къ себѣ. Посидѣвъ нѣсколько времени, они вбѣжали наверхъ. Анна уже была одѣта въ черное бархатное платье и темнокрасную прическу. Она вышла къ нимъ, очевидно довольная собой.
— Ты точно поѣдешь въ театръ? — сказалъ онъ, не любуясь ею.
— Отчего же ты такъ испуганъ? — смѣясь глазами, сказала она. — Отчего же мнѣ не поѣхать?
Она какъ будто не понимала всего того, что означали его слова и что она понимала очень хорошо только вчера еще.
— Ты знаешь, что я все бы отдалъ, чтобы избавить тебя отъ...
— Не отъ чего избавлять. Отчего Анна Аркадьевна Каренина не можетъ взять ложу въ театрѣ и отчего графъ Вронской, Вреде, Тушкевичъ не могутъ войти къ ней въ ложу?
— Ахъ, ты знаешь, Анна, — говорилъ онъ ей, будя ее, точно также, какъ говорилъ ей когда то ея мужъ.
— Да я не хочу обо всемъ этомъ думать, — сказала она улыбаясь. — Стыжусь я того, что я сдѣлала? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, и если бы опять тоже, то было бы опять тоже. Я тебя люблю и счастлива; иди, иди.
Она пожала его руку.
— Вотъ я никогда не видалъ тебя въ такомъ духѣ.
— Я въ томъ духѣ, въ которомъ Кесарь сказалъ, что лодочка его не потонетъ, потому что онъ Кесарь, потому что онъ счастливъ. И я тоже. Прощай. Пришли мнѣ свой бинокль.
— А что отвѣтила Лидія Ивановна?
— Ничего, я послала къ нянѣ. Тушкевичъ a été trés gentil,[1550] я не понимаю Бетси, но какъ знакомый....
— Такъ ты рѣшительно ѣдешь?
— Рѣшительно ѣду, — сказала она съ особеннымъ, непонятнымъ ему блескомъ блестя глазами, — и не сердись на меня. Отчего ты не смотришь на меня?
Онъ смотрѣлъ на нее. Онъ видѣлъ всю красоту ея лица, обнаженной шеи и рукъ. Но эта красота ея пугала его за нее.
— Я смотрю и вижу, — сказалъ онъ улыбаясь, — но не понимаю. — А впрочемъ, — вдругъ сказалъ онъ, подходя къ ней, — поѣдемъ. — И онъ поцѣловалъ ея руку.
«It was a failure,[1551] — говорила себѣ Анна, возвращаясь изъ театра, гдѣ она не досидѣла 2-хъ актовъ. — It was a failure», почему то повторяла она себѣ.
Ничего не случилось. Но всѣ одинаково какъ будто не видали ее. Мущины же, которые подходили къ ней, что то пытались показать тѣмъ, что они подходятъ къ ней. Вронской подошелъ къ ней, но только тогда, когда она говорила съ Тушкевичемъ, остановивщись у рампы.
Свѣтъ теперь совершенно потухъ въ ея глазахъ, когда она снимала тяжелое платье.
Дома она нашла письмо Графини Лидіи Ивановны.
«Бездушная, фальшивая притворщица, — сказала она, разорвавъ ея письмо. — Завтра я поѣду къ нему, и мнѣ все равно, увижу ли я или не увижу Алексѣя Александровича», сказала она себѣ.
<Этотъ вечеръ Вронской долженъ былъ провести у брата, и она мучительно, страстно ждала его. Одно, что ей оставалось, — это была его любовь. И онъ не дорожилъ каждой минутой этой любви. Она ждала его, а онъ сидѣлъ теперь съ этой Лизой, которую онъ такъ высоко ставитъ. Она, вѣрно, влюблена въ него и заманиваетъ его.>
* № 147 (рук. № 90).
Приходъ кормилицы однако разбудилъ Анну отъ того столбняка, въ которомъ она находилась. Она ничего не говорила Вронскому о томъ, какъ и когда она намѣревалась увидать сына. Она скрыла отъ него письмо Лидіи Ивановны и хотѣла скрыть свою сегодничную поѣздку. Она боялась того, чтобы онъ узналъ про ея поѣздку, про ея чувства къ сыну, больше всего боялась, чтобы онъ не заговорилъ съ ней про это. Она знала, что для него, не смотря на то что онъ былъ главной причиной ея горя въ этомъ отношеніи, что для него ея свиданіе съ сыномъ, чувства, которыя она могла испытать при этомъ, все это кажется самой не важной и обыкновенной вещью. И что никогда онъ не будетъ въ силахъ понять всей глубины ея страданья. Она знала, что за его холодный тонъ при упоминаніи объ этомъ она возненавидитъ его. И она боялась этого и потому скрывала отъ него и ничего не хотѣла говорить про это.
Кормилица разбудила ее. Надо было перестать думать о непоправимомъ, надо было скрыть отъ него, надо было жить жизнью, которою она жила тѣ нѣсколько дней, которые она провела въ Петербургѣ. А жизнь, которую она вела эти нѣсколько дней въ Петербургѣ, была исполнена волненій и тревогъ и требовала напряженія всѣхъ ея силъ, и она, устранивъ слишкомъ мучительныя воспоминанія о сынѣ, опять отдалась этой жизни.
* № 148 (рук. № 90).
Но мучительнѣе всего было для Анны то новое чувство, которое она въ это время, именно въ Петербургѣ, начала испытывать къ Вронскому.
Она промѣняла все: и общественное положеніе, и спокойствіе совѣсти, и сына — все на любовь, которой она не имѣла къ мужу и отъ мужа. Но имѣла ли она эту любовь, на которую она все промѣняла? Этотъ вопросъ въ первый разъ пришелъ ей въ Петербургѣ. Передъ пріѣздомъ въ Петербургъ у ней было въ первый разъ несогласіе съ Вронскимъ о томъ, какъ имъ остановиться. Вронскій предлагалъ остановиться, для соблюденія приличій, въ разныхъ гостиницахъ. Анна не хотѣла этаго. Она высказала, что она ничего не хочетъ скрывать. Рѣшено было остановиться въ разныхъ этажахъ. Она видѣлась съ Вронскимъ во время своего пребыванія въ Петербургѣ только урывками. И это мучало Анну. Она была лишена того, за что она промѣняла все.
И она сердилась на него и чувствовала сильнѣйшія приливы любви къ нему и ревновала его. Варвара Павловна на улицѣ указала ей княжну Сорокину, про которую Анна слышала отъ Бетси какъ про невѣсту, которую прочила мать Вронскому, и всякій разъ, как Вронскій уѣзжалъ изъ дома, ей казалось, что онъ видится съ княжной Сорокиной, раскаивается въ своей связи, подчиняется кознямъ матери, чтобы женить его.
Всего этаго не могла сказать Анна Вронскому, и все это производило въ немъ впечатлѣніе какого то таинственнаго, скрытаго отъ него возбужденія.
* № 149 (рук. № 90).
Когда Анна вошла въ швейцарскую, Капитонычъ узналъ ее, и ей больно было видѣть выраженіе испуга на его лицѣ.
— Здраствуй, Капитонычъ, — сказала она ему. — Я къ сыну при... — сказала она[1552] и, удержавшись на половинѣ слова, чувствуя, что слезы вдругъ подступили ей къ горлу и съ виноватой мольбой взглянувъ на старика, она быстрымъ легкимъ шагомъ пошла на лѣстницу.
Перегнувшись весь впередъ и цѣпляясь калошами, Капитонычъ бѣжалъ за ней, стараясь перегнать ее.
— Учитель тамъ, можетъ, раздѣтъ, я скажу.
— Нѣтъ, не говори, — сказала Анна, тщетно стараясь удержать свое волненіе.
— Сюда, налѣво пожалуйте... Они теперь въ прежней диванной, — отпыхиваясь, сказалъ Швейцаръ, съ удивленьемъ чувствуя волненіе, сообщившееся и ему.
— Позвольте повременить. Я загляну, — сказалъ онъ, останавливаясь у высокой двери. — Извините, что не чисто еще. Ну, да не къ тому, — прибавилъ онъ, махнувъ рукой, чувствуя, что говоритъ вздоръ, и, пріотворивъ дверь и заглянувъ въ нее, съ умиленной улыбкой обернулся къ Аннѣ.
— Только проснулись.
Анна не могла видѣть ничего, но она слышала зѣваніе. По одному голосу этаго зѣванія она узнала бы его. Это былъ его голосъ, его ротъ. Она видѣла этотъ ротъ, какъ онъ отворялся. Анна вошла. Сережа былъ въ постели. Онъ только что приподнялъ голову съ подушки, но еще не проснулся. Онъ зналъ, засыпая, что его ждетъ счастье имянинъ и зналъ это во все время сна. Но къ утру сонъ далъ ему такое счастіе, что теперь, на границѣ между сномъ и бдѣніемъ, онъ не зналъ, чему отдаться. Въ то время какъ Анна отворяла дверь съ одной стороны, дверь отворилась съ другой стороны, и появилась фигура Василья Лукича въ помочахъ и шитой рубашкѣ.
— Пора вставать, Сережа, половина.... — началъ было онъ, но, увидавъ даму, закрывъ грудь руками, скрылся. Сережа поднялся съ спутанной кровати, взглянулъ было на голосъ Василія Лукича, но, ничего не найдя на томъ мѣстѣ, откуда былъ голосъ, повернулся къ другой двери, взглянулъ заспанными глазами на входившую мать, блаженно улыбнулся и опять закрылъ глаза. Въ томъ, что онъ видѣлъ ее передъ собою, ничего не было необыкновеннаго.
— Мальчикъ мой милый, — проговорила задыхаясь она, подходя къ нему и дотрогиваясь до его пухлой спины, ежившейся подъ тонкой рубашкой. Услыхавъ ея голосъ, онъ приподнялся, держась за спинку кровати, перегнулся къ матери, ничего не говоря, и, сонно улыбаясь, взглянулъ на нее и, опять закрывъ глаза, сталъ тянуться къ ней. Потомъ онъ перехватился пухлыми рученками отъ спинки кровати за ея плечи, прижимаясь къ ея щекѣ, и сталъ тереться своимъ нѣжнымъ личикомъ о ея[1553] мокрую отъ слезъ щеку, обдавая ее тѣмъ милымъ соннымъ запахомъ и теплотой, которые бываютъ только у дѣтей.
— Мама — ты, — сказалъ онъ, открывая глаза и блаженно улыбаясь. — Нынче мое рожденье. Я радъ. Я встану сейчасъ, — и онъ засыпалъ, говоря это. — Я и во снѣ тебя видѣлъ.
Анна обнимала его, трогала[1554] руками его тѣло, лицо[1555] и цѣловала его лицо, волосы, руки и не могла говорить. Слезы душили ее. Какъ ни близко она была отъ него, она все таки видѣла его и видѣла, какъ онъ выросъ и переменился безъ нея, и она узнавала и не узнавала его голыя ноги, топотавшія въ постели, которыя теперь стали такъ велики, его шейку, его завитки волосъ на затылкѣ, въ которые она такъ часто цѣловала его.
— О чемъ же ты плачешь, мама? — сказалъ онъ, совершенно проснувшись. — О чемъ ты плачешь?
И онъ самъ готовъ былъ заплакать.
— Нѣтъ, я не буду, — сказала она. — Я плачу отъ радости, что увидала тебя. Ну, тебѣ одѣваться надо, — сказала она, садясь подлѣ его кровати на стулъ, на которомъ было приготовлено платье мальчика, но не выпуская его руки. — Какъ ты одѣваешься безъ меня? Какъ ты умываешься безъ меня?
— Я не моюсь холодной водой. Папа не велѣлъ. А Василія Лукича ты не видала? Онъ придетъ. А ты сѣла на мое платье! — И Сережа вдругъ расхохотался. — Мама! Душечка, голубушка! — закричалъ онъ, бросаясь опять къ ней и обнимая ее, какъ будто онъ теперь только ясно понялъ, что случилось.
Анна смотрѣла на него, не опуская глазъ.
— Ты теперь не уѣдешь отъ насъ, — сказалъ Сережа.
Но только что онъ сказалъ это, онъ покраснѣлъ, понявъ, что этаго нельзя было говорить.
— Нѣтъ, я уѣду, Сережа, — отвѣчала Анна, не глядя ему въ глаза. — Я не могу съ вами жить. Это несчастіе, и я не могу тебѣ растолковать. Когда ты выростешь большой, ты...
Она хотѣла сказать «пожалѣешь, не осудишь меня», но остановилась, не окончивъ начатую фразу. Но ей не нужно было кончать. Сережа понялъ вполнѣ, что она хотѣла сказать, и отвѣтилъ ей такъ, какъ она хотѣла этаго. Онъ схватилъ ея руку, которая ласкала его волосы, и, всхлипывая, сталъ прижимать ее ладонью къ своему рту и цѣловать ее. Пока они говорили, въ домѣ происходило волненіе. Василій Лукичъ, не понимавшій сначала, кто была эта дама, услыхавъ изъ разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа, про которую онъ только слышалъ, такъ какъ поступилъ въ домъ уже послѣ нея, былъ въ сомнѣніи, войти ли ему или нѣтъ, или сообщить Алексѣю Александровичу. Сообразивъ все дѣло, онъ рѣшилъ, что его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы поднять Сережу въ опредѣленный часъ, и потому ему, не обращая вниманія на мать или кто бы это ни былъ, нужно исполнять свою обязанность. Поэтому онъ одѣлся, перемѣнивъ только галстукъ, надѣвъ синій, болѣе шедшій къ нему и употребляемый для прельщенія дамъ. Съ дамой этой, какъ съ дамой легкаго поведенія, могъ возникнуть романъ, и потому Василій Лукичъ, устроивъ галстукъ и причесавшись особенно авантажно, рѣшился войти, подошелъ къ двери и отворилъ ее. Но ласки матери и сына, звуки ихъ голосовъ и то, что они говорили, совершенно измѣнили настроеніе духа Василія Лукича. Онъ вздохнулъ, покачалъ головой и затворилъ дверь. «Подожду еще 10 минутъ», сказалъ онъ себѣ. Между прислугой дома въ это же время происходило сильное волненіе. Всѣ они узнали, что пріѣхала барыня, что Капитонычъ пустилъ ее и она теперь въ дѣтской, а баринъ всегда въ 8 часовъ самъ заходитъ въ дѣтскую. Корней — камердинеръ, но въ сущности главный человѣкъ въ домѣ и въ разладѣ барина съ барыней всегда бывшій на сторонѣ барина, напустился на Капитоныча, какъ онъ смѣлъ принимать Анну Аркадьевну. Швейцаръ отмалчивался; но когда Корней сказалъ ему, что за это согнать слѣдуетъ, Капитонычъ подскочилъ къ нему и, махая руками, съ пѣной у беззубаго рта сталъ кричать на него.
— Да вотъ ты бы раньше вставалъ да двери отворялъ. Да ту самую барыню, у которой 10 лѣтъ служилъ, кромѣ милости ничего не видалъ, вытолкалъ бы въ за шею, какъ шлюху, твою жену. Ты бы про себя помнилъ, какъ барина обирать, да енотовыя шубы таскать.
— Гдѣ барыня? — перебила его вбѣжавшая старуха няня. — Мнѣ Варвара сказала.
— Хоть бы вы, нянюшка, сказали, что нельзя, — сказалъ ей Корней. — Съ этимъ дуракомъ, развѣ его увѣришь? Алексѣй Александровичъ сейчасъ выйдутъ, пойдутъ въ дѣтскую. Вѣдь кто политику понимаютъ, какъ же встрѣтиться.
— Ахъ, горе! Я пойду.
Когда няня вошла въ дѣтскую, Сережа разсказывалъ матери подробности своего образа жизни. Она слышала его, впивала въ себя всѣ жесты, интонаціи его и почти не понимала того, что онъ говорилъ. Безпокойство, сознаніе неловкости своего положенія начинало мучать ее. Она слышала шаги Василія Лукича, подходившаго къ двери и кашлявшаго, и слышала шаги подходившей няни. Она оглянулась и Сережа за ней.
— Няня, мама! — закричалъ Сережа, сіяя радостью.
— Барыня, голубушка, — заговорила няня, подходя къ Аннѣ и цѣлуя ея плечи и руки. — Вотъ Богъ привелъ радость имяниннику! Ничего то вы не перемѣнились.
— А я не знала, что вы въ домѣ.
— Я не живу, я съ дочерью живу, я поздравить пришла. Анна Аркадьевна, голубушка...
Няня вдругъ заплакала и опять стала цѣловать ея руки. Сережа сіялъ глазами и улыбкой и, выскочивъ изъ постели, топоталъ жирными голыми ножками, подпрыгивая по ковру подлѣ нихъ.
Тѣ сомнѣнія, которыя находили на него о томъ, не сдѣлала ли мать чего нибудь дурнаго, теперь были уничтожены въ его глазахъ той нѣжностью и уваженьемъ, которыя няня оказывала матери.
Но какъ разъ тутъ няня что то шопотомъ стала говорить матери, и мать вздохнула и сказала.
— Хорошо, хорошо.
И такое грустное и странное выраженіе сдѣлалось при этомъ на лицѣ матери. Она подошла къ нему.
— Ну, прощай, милый мой Кутикъ — (такъ звала она его ребенкомъ), — милый, милый. Такъ ты никогда не забудешь меня?
Сережа понялъ, что она прощается. Онъ хотѣлъ спросить, зачѣмъ? Но по ея лицу понялъ, что этаго нельзя спрашивать.
* № 150 (рук. № 90).
Яшвинъ опрокинулъ еще рюмку коньяку въ шипящую воду, выпилъ и всталъ, застегиваясь.
— Я обѣщался уѣхать съ Анной Аркадьевной, — сказалъ онъ, чуть улыбаясь подъ усами и показывая этой улыбкой, что онъ считаетъ неосновательными опасенія Вронскаго. — Ты пріѣдешь?
— Не думаю, — отвѣчалъ Вронской. — Такъ завтра поѣдемъ вмѣстѣ жеребца посмотрѣть. Ты заѣдешь?
— Ладно. А то пріѣзжай.
— Нѣтъ, мнѣ дѣло есть.
— Ну такъ до завтра.
И Яшвинъ вышелъ. «Съ женою забота, съ не женой еще хуже, — подумалъ онъ. — А славная баба».
Вронской, оставшись одинъ, взялъ свою начатую давно ужъ толстую книгу объ искусствѣ, но, только прочтя первую фразу, убѣдился, что читать и понимать этой дребедени (какъ онъ самъ себѣ опредѣлилъ сужденія автора о упадкѣ греческаго искусства) не можетъ, и швырнулъ книгу на столъ. «Да, нынче что — четвергъ, абонементъ? Да, Егоръ съ женой тамъ, и мать, вѣроятно. Что бишь нынче? Аида. Это значитъ весь Петербургъ тамъ».
* № 151 (рук. № 90).
Онъ вошелъ по покатому ковру въ то время, какъ пѣвица, блестя обнаженными плечами, атласомъ и бриліянтами, нагибалась, улыбаясь, съ помощью тенора, державшаго ее за руку, собирала неловко перелетавшіе черезъ рампу букеты, и какой то господинъ съ рядомъ въ серединѣ блестѣвшихъ помадой волосъ и длинными руками тянулся черезъ рампу съ какой то вещью. Воины и поселяне стояли съ голыми руками и обтянутыми ногами и, оборачиваясь въ 3/4 на публику, перешептывались. Капельмейстеръ на своемъ возвышеніи помогалъ передавать и оправлялъ свой бѣлый галстукъ. Музыканты отирали платками потъ, въ ложахъ, въ партерѣ блестѣвшія нарядами дамы и рѣдкіе мундиры и сюртуки, въ райкѣ поддевки и пиджаки — всѣ шевелились, хлопали и кричали. Люстры и газовые рожки въ бронзовыхъ подобіяхъ свѣчей ярко горѣли. Вронскій вошелъ въ середину партера и, остановившись, сталъ оглядываться. Все, что онъ видѣлъ, было такъ знакомо ему, что онъ не видѣлъ уже общаго, но въ этомъ общемъ внѣшнемъ благоприличіи и порядкѣ и блескѣ, въ этой тысячной толпѣ онъ видѣлъ и чувствовалъ только отношенія десятковъ близко знакомыхъ ему лицъ его круга, и онъ чувствовалъ отношенія этихъ лицъ между собой. Нынче, менѣе чѣмъ когда нибудь, онъ обратилъ вниманіе на пѣвицу, на сцену, на этотъ шумъ, который, онъ зналъ, ничего другаго не выражалъ, какъ радость о томъ, что есть предлогъ удовлетворить своей потребности пошумѣть, ни на всѣ тѣ обычныя лица, несмотря на то что они перемѣняются, всегда составляющія одинъ и тотже составъ театра.
Оглядывая партеръ, онъ видѣлъ тѣхъ же знакомыхъ ему стариковъ и молодыхъ въ первомъ ряду, однихъ сидящихъ тамъ, какъ Серпуховской, и другихъ ему подобныхъ, потому что имъ въ голову не могло придти сидѣть не въ 1-мъ ряду, другихъ, залѣзающихъ не въ свой 1-й рядъ только для того, чтобы быть тамъ, гдѣ Серпуховской. Тѣже были разбросанные по разнымъ рядамъ и въ сталяхъ знакомые настоящіе люди между толпою Богъ знаетъ кого, съ бородами или совсѣмъ безъ перчатокъ или въ Богъ знаетъ какихъ перчаткахъ, людей, на которыхъ всегда бывало досадно Вронскому за то, что они тоже позволяли себѣ какъ то по своему любить оперу и пѣвицу и тоже разсуждать объ этомъ. Въ сталяхъ были извѣстныя дамы изъ магазиновъ, вѣроятно, и разныя несчастныя, которыя тоже воображали, что они дамы. Наверху, какъ и всегда, отъ райка до бельэтажа толпилось тоже знакомое стадо, и наконецъ въ бельэтажѣ и бенуарѣ, тоже какъ и всегда, была обычная публика. Были эти дамы полусвѣта, кое гдѣ были дамы банкировъ, купцовъ, были эти обычные, Богъ знаетъ кто, пріѣхавшiе изъ деревень и задающіе праздникъ налитымъ кровью имянинницамъ или невѣстамъ барышнямъ съ красными руками, съ какими то офицерами въ задахъ ложи, которые старались, очевидно, что то представлять изъ себя, что то доказать. И наконецъ во всей этой толпѣ было ложъ 12, 15, въ которыхъ были настоящіе и въ которыхъ сидѣли люди и женщины всѣ одинаково равнодушные ко всему остальному и занятые собою, своими интересами дня. И это были оазисы, въ которыхъ была жизнь, на которые Вронскій обратилъ вниманіе и съ которыми онъ тотчасъ же вошелъ въ сношенія, не выходя еще изъ партера. Актъ кончился, когда онъ вошелъ, и потому онъ, не заходя въ ложу брата, прошелъ до перваго ряда и остановился у рампы съ Серпуховскимъ, который, упираясь ногами въ рампу, издалека увидавъ его, звалъ его къ себѣ улыбкой.
Вронскому стоило только оглядѣть эти оазисы ложи, направленія взглядовъ, выраженіе лицъ, стоило замѣтить вниманіе, которое обращали на него, стоило только обмѣняться двумя словами при встрѣчѣ и замѣтить молчаніе, установившееся между двумя говорившими до его прихода, чтобы понять, какой нынче былъ общій интересъ всего этаго его круга, и что интересъ этотъ былъ, съ одной стороны, новый объявившійся женихъ извѣстной дѣвушки, который почти пьяный сидѣлъ въ ея ложѣ. Вронскій зналъ, что этотъ скандальный бракъ съ человѣкомъ, изуродованнымъ несчастной болѣзнью и пьянымъ, на который согласились родители, потому что отецъ жениха былъ въ большой силѣ, теперь, когда въ первый разъ женихъ явился въ публикѣ съ невѣстой, очень занималъ высшій кругъ; но онъ видѣлъ, что интересъ, возбужденный появленіемъ Анны, былъ еще сильнѣе и что всѣ улыбки, шутки, пожатія плечъ, выраженія негодованія — все относилось къ ней.
* № 152 (рук. № 90).
— Благодарю васъ, — сказала она, взявъ въ маленькую руку въ высокой перчаткѣ поднятую Вронскимъ афишу и съ удивленіемъ взглянувъ на отворявшуюся дверь ложи, впустившую Лизу. Густая краска покрыла ея лицо и шею; она поняла чувство Лизы, которая пожалѣла и, быстро вставъ, пошла ей навстрѣчу, но попросила ее сѣсть сзади ложи, не выходя на свѣтъ. — Да, я недавно пріѣхала и скоро уѣзжаю. Ваши дѣти здоровы? — говорила Анна. — Я хотѣла... я... — Она не могла договорить, слезы задушили ея голосъ.
Лиза сдѣлала, какъ будто она не замѣтила ея волненія, и, поговоривъ съ ней о театрѣ и Римѣ, не словомъ не упомянувъ о своемъ деверѣ, такая же спокойная и холодная, какъ всегда, вышла отъ нея.
Послѣ визита Лизы Анна уже не могла болѣе взять на себя того, чтобы выйти на свѣтъ. Она сказала, что у нея голова болитъ, и попросила Яшвина проводить ее до кареты.
Пріѣхавъ домой, она долго не снимала своего тяжелаго платья и не позволяла себѣ думать о томъ, что было. Она ждала Вронскаго, чтобы при немъ думать и сказать ему все, что она думаетъ и чувствуетъ. Ей казалось сначала, что онъ, одинъ онъ былъ виноватъ во всемъ. Зачѣмъ онъ не поѣхалъ съ нею, зачѣмъ онъ не подошелъ къ ней? Зачѣмъ онъ не отговорилъ ее ѣхать? Но прошли полчаса, онъ не ѣхалъ, и она стала думать о томъ, что было.
Вспоминая теперь, она не могла понять самое себя. Какъ? какимъ путемъ могла она рѣшиться поѣхать — поставить себя въ это ужасное положеніе? Она Богъ знаетъ кто — неприлично сидѣть съ ней рядомъ, вспоминала она. Она, стало быть, une femme entretenue.[1556]
«Но все таки какъ онъ смѣлъ это думать. Какъ жалости у него не было. Какъ онъ не понялъ моихъ страданій. Я сдѣлала это потому, что я не знаю, любитъ ли онъ меня. Я хотѣла испытать его любовь. Онъ не долженъ былъ довести меня до этаго. Если бы онъ любилъ, какъ я. Если бы онъ любовался мной, какъ я любовалась имъ тутъ въ театрѣ, каждымъ жестомъ его, улыбкой, какъ онъ стоялъ у рампы съ Серпуховскимъ. Но вотъ шаги; вѣрно, онъ. Если бы онъ былъ тутъ, развѣ я страдала бы, развѣ я бы могла думать объ униженіи? Что всѣ эти слова, когда онъ тутъ и его любовь моя. Нѣтъ, это не онъ, но теперь онъ скоро придетъ».
Она сняла платье, переодѣлась и ждала его, но его не было. Все она продала за его любовь, и этой любви не было, если онъ могъ оставить ее въ такую минуту. И усумнившись въ его любви, все униженіе ея положенія представилось ей во всемъ ужасѣ. И онъ былъ виноватъ въ этомъ, и она то ненавидѣла, то любила его.
Онъ былъ сердитъ за то, что она поставила его въ ложное положеніе, и не хотѣлъ придти къ ней, пока не пройдетъ его сердце. Но когда онъ утромъ пришелъ къ ней, она встрѣтила его словами:
— Зачѣмъ вы пришли. Между нами все кончено.
И она разрыдалась слезами стыда и отчаянія. Слезы ея сразу покорили его. Онъ просилъ прощенія, онъ во всемъ считалъ виноватымъ себя. Онъ умолялъ ее вѣрить въ свою любовь. И тѣ слова увѣренія въ любви, которыя ему казались такъ пошлы, что онъ въ сомнѣніи выговаривалъ эти слова, она впивала въ себя и чувствовала, что одни эти слова могутъ дать ей силы жизни. Это была ихъ первая ссора. Ссора заглушила все то, что было поводомъ къ ней. Пребываніе въ Петербургѣ казалось имъ, особенно Аннѣ, дурнымъ сномъ, и они поѣхали въ деревню какъ вновь влюбленные, радуясь на свое счастье.
* № 153 (рук. № 93).
[1557]II томъ.
I часть.
1.
Долли проводила это лѣто съ дѣтьми[1558] у сестры Кити Левиной въ Клекоткѣ. Въ Покровскомъ домъ совсѣмъ развалился, да и Левинъ съ женою уговорили Долли. Степанъ Аркадьичъ въ недѣлю разъ пріѣзжалъ по желѣзной дорогѣ и находилъ, что это устройство весьма полезно для жены и дѣтей, и говорилъ, что очень сожалѣетъ о томъ, что служба мѣшаетъ ему постоянно жить съ ними. Въ 1-хъ числахъ Iюля Степанъ Аркадьичъ выхлопоталъ себѣ отпускъ на 2 недѣли, чтобы успѣть взять тетеревовъ, а можетъ быть, и болотную дичь, къ тому же времени въ[1559] Клекотокъ пріѣхали и еще гости — старушка Княгиня Щербацкая и вдова сестра[1560] Левина изъ за границы съ двумя дочерьми. Клекотковскій домъ былъ полонъ.[1561] Левинъ былъ женатъ[1562] 2-й годъ. Жена только что встала послѣ родовъ 1-го ребенка. Онъ былъ счастливъ въ супружествѣ, т. е. онъ говорилъ себѣ, что, должно быть, онъ то самое, что называютъ: вполнѣ счастливъ въ супружествѣ; но онъ самъ никакъ бы не назвалъ того положенія, въ которомъ онъ находился, счастьемъ. Съ счастьемъ всѣ люди съ дѣтства привыкли соединять понятіе спокойствія, тишины и если не праздности, то дѣятельности ровной, опредѣленной и любимой.[1563]
Въ особенности же съ понятіемъ счастія нераздѣльно понятіе сознанія своего счастія и пониманія своего положенія.[1564] Левинъ же во всѣ эти[1565] 15 мѣсяцевъ не переставая испытывалъ неожиданности и какъ будто только начиналъ узнавать и себя, и ее, и весь міръ. На каждомъ шагу было новое, совершенно новое, неизвѣстное и если не непріятное само по себѣ, то непріятное по неожиданности. Сынъ хорошей семьи, честныхъ родителей, не видавшій ихъ взрослымъ,[1566] Левинъ составилъ себѣ понятіе о семейномъ счастіи очень опредѣленное и прекрасное. Но, вступивъ въ семейную жизнь, онъ на каждомъ шагу видѣлъ, что это было совсѣмъ не то. На каждомъ шагу онъ испытывалъ то, что испыталъ бы человѣкъ, любовавшійся плавнымъ, счастливымъ ходомъ лодочки по озеру послѣ того, какъ онъ бы самъ сѣлъ въ эту лодочку. Онъ видѣлъ, что мало того, чтобы сидѣть ровно, не качаясь, — надо еще соображать, ни на минуту не забывая, куда плыть, и надо грести, и что подъ ногами вода и на рукахъ мозоли, и что, только много поработавъ веслами, можно пуститься на минуту и насладиться плаваніемъ.
Одно же изъ самыхъ[1567] неожиданныхъ и не совсѣмъ пріятныхъ чувствъ, испытываемыхъ имъ въ это время, было безпрестанное пониженіе его гордости, признаніе того, что онъ не только не лучше и не умнѣе другихъ людей, какъ онъ любилъ это думать, а то, что ему надо много и много стараться для того только, чтобы не быть хуже и глупѣе другихъ людей. Бывало, холостымъ, глядя на чужую супружескую жизнь, на ссоры, столкновенія, ревность, денежное стѣсненіе, онъ только презрительно улыбался въ душѣ. Для своей будущей супружеской жизни онъ нетолько не допускалъ возможность (о невѣрности[1568] онъ и не позволялъ себѣ думать) несогласій, столкновеній, ссоръ, сценъ ревности, но и всѣ пріемы его супружеской жизни, казалось ему, должны были быть во всемъ совершенно непохожи на жизнь другихъ. Самыя обыкновенныя вещи, какъ то: визиты жены, наряды, денежная зависимость другъ отъ друга, — все это казалось ему оскорбительнымъ. Какъ[1569] дѣти говорятъ: «когда я выросту большой, у меня будетъ все по особенному», такъ и онъ говорилъ въ душѣ, что у него въ супружествѣ все будетъ по особенному.[1570] Жена его, будущія дѣти были для него такая святыня, что никто не долженъ былъ смѣть думать и говорить про это безъ набожности, той самой, которую онъ испытывалъ. Потомъ сама жена его представлялась ему вѣчно тихая, ровная, таинственная и чистая, всегда прекрасная и священная.[1571] И вдругъ вмѣсто всего этаго онъ испыталъ всю дѣйствительность, и эта дѣйствительность на каждомъ шагу принижала его гордость, и принижала такъ,что, онъ чувствовалъ, виноватъ былъ онъ самъ, а не дѣйствительность... Жена его была всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ только могъ желать ее.[1572] Она была умна, добра, благородна, красива — все что можно было желать, a дѣйствдтельность супружеской жизни на каждомъ шагу принижала его гордость. Стало быть, былъ виноватъ онъ. Онъ чувствовалъ это, но еще не признавался. Онъ былъ гордъ во всѣхъ житейскихъ дѣлахъ, всякое дѣло, какъ скоро возьмешься за него, принижаетъ гордость; но въ житейскихъ дѣлахъ, служба общественная, хозяйственная дѣятельность, наука даже — онъ пыталъ себя въ этихъ дѣятельностяхъ и видѣлъ, что всетаки имѣетъ право быть гордымъ, потому что легче и лучше большинства людей успѣваетъ въ этихъ дѣлахъ; «но почему же, — спрашивалъ онъ себя, — въ супружеской жизни я невольно смиряюсь и вижу, что она не виновата», и не находилъ отвѣта, потому что не зналъ, что всѣ дѣла людскія ничто въ сравненіи съ дѣломъ супружества, понимаемомъ, какъ онъ понималъ его.
Первое время своей супружеской жизни Ордынцевъ вмѣсто тихаго, счастливаго теченія жизни испытывалъ непрестанную борьбу съ женою и цѣлый рядъ то неожиданныхъ разочарованій, то еще болѣе неожиданныхъ[1573] открытій. Во всей жизни его, какъ физической, такъ и нравственной, онъ испытывалъ усиленное напряженіе, не приносящее вознагражденія.
Уже въ эти[1574] 11/2 года было нѣсколько столкновеній съ женою, въ которыхъ Ордынцевъ почувствовалъ, что ему тоже, какъ и другимъ людямъ, нужно прощеніе, и что и она не всегда святая, какъ онъ хотѣлъ, и что ей нужно прощеніе. Первое ихъ столкновеніе произошло[1575] на 3-й день послѣ ихъ сватьбы, и Левинъ никогда не забылъ этаго мучительнаго чувства разочарованія, когда нарушена была его воображаемая вѣчная любовь и согласіе. Столкновеніе произошло отъ того, что онъ заговорилъ о томъ, что онъ боится, что у нихъ не будетъ дѣтей. Ему такъ сильно этаго хотѣлось, что онъ боялся вѣрить въ возможность этаго, и высказалъ свое задушевное желаніе.
— Отчего же ты это думаешь? — спросила она его вдругъ, и лицо ея странно перемѣнилось. Она отдернула отъ него руку.
— Я не думаю, я боюсь.
— Я знаю отчего.
— Ну, я не знаю, — сказалъ онъ сухо, оскорбленный ея безпричинной холодностью.
— Оттого что у тебя не было дѣтей. Да я не хочу этаго знать, — вскрикнула она сердито и заплакала.
Теперь онъ понялъ, что она вспомнила его признанія, когда онъ слишкомъ подробно, желая быть добросовѣстнымъ, разсказалъ ей[1576] о своей любви до женитьбы.
— Неужели я виноватъ, что хотѣлъ, чтобы не было между нами тайнъ и въ прошедшемъ, Кити? — Онъ взялъ ее за руку.
— Довольно, довольно, никогда не говори мнѣ про это, и никогда мы, женщины, не простимъ это и не забудемъ.
И вдругъ помертвѣло и некрасиво сдѣлалось ея лицо и дребезжа зазвѣнѣлъ ея голосъ. Она не могла простить ему того, что она не первая женщина, съ которой онъ въ такой близости. Они помирились. И также неожиданно и оскорбительно возникло столкновеніе изъ за того, что тетушка не любила тѣхъ сдобныхъ хлѣбовъ, которые Кити заказывала къ чаю. И также неожиданно возникло другое столкновеніе то за то, что ей грустно становилось въ уединеніи деревни, то за то что онъ[1577] по какому нибудь слову ея начиналъ ревновать ее къ ея прошедшему, къ Вронскому.[1578] Это проходило, но во все время ихъ первыхъ сношеній чувствовалась натянутость, какъ бы подергиванье въ ту и другую сторону той цѣпи, которой они были связаны. Они не спорили, несмотря на то что онъ, хотя и отвыкая немного, оставался по старому резонеромъ и часто любилъ логически умно и остроумно доказывать. Она спорила рѣдко и не о томъ, съ чѣмъ она несоглашалась, но онъ съ каждымъ днемъ, къ удивленію своему, больше и больше убѣждался, что у нея были тверды не убѣжденія, а былъ твердъ тотъ планъ жизни, по которому не то что она хотѣла жить, а по которому она знала какимъ то таинственнымъ предчувствіемъ, что они будутъ жить. Онъ больше и больше чувствовалъ себя какъ бы въ большомъ[1579] паркѣ, гдѣ только въ извѣстныхъ направленіяхъ прочищены дорожки, a другія, напр[отивъ?], засажены, деревья загорожены, и что въ расположенiи дорожекъ этаго парка есть твердая мысль — планъ. Его мечта была жизнь 9 мѣсяцевъ въ деревнѣ въ совершенномъ уединеніи за своей научной философской работой, 3 мѣсяца въ Москвѣ, въ свѣтѣ. Средства къ жизни ему долженъ былъ дать большой винный заводъ. Управленіе имѣніемъ и домомъ онъ бралъ на себя. Жена должна была, по его понятію, избрать себѣ работу умственную и благодѣтельство въ деревнѣ, школы, и бѣдные, и родильный домъ.[1580]
Въ исполненіи этой общей мечты онъ[1581] въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ встрѣчалъ въ ней[1582] противорѣчіе, въ другихъ согласіе, невыражаемыя словами, но руководившія ихъ жизнью.[1583] Жизнь въ деревнѣ ей нравилась, и не только 9 мѣсяцевъ, но и всегда. Она не хотѣла ѣхать ни за границу, какъ онъ предлагалъ ей, ни въ Москву, но въ деревнѣ она не хотѣла уединенія,[1584] a хотѣла, чтобы друзья и родные ѣздили къ ней, и такъ устраивала домъ.[1585] Винокуренный заводъ она ненавидѣла за его вонь, но принимала большое участіе въ лѣсахъ, садахъ и породистыхъ коровахъ. Управленіе домомъ она взяла сразу просто и естественно въ свои руки, и честь дома, чтобы было чисто и сытно, казалась ея священнымъ долгомъ.
Отстраненіе его отъ общественной деятельности она одобряла и одобряла его умственную работу и поощряла къ ней. Но сама не любила для себя ни умственныхъ, ни филантропическихъ занятій. Когда она сходилась съ народомъ и сердце прямо говорило ей, она помогала и заботилась, но не любила этаго, какъ правильное занятіе.
Года послѣ Ордынцевъ вспоминалъ и удивлялся тому, какъ она угадала его будущую жизнь и начала ее, какъ будто зная все, что будетъ, впередъ.[1586]
—————
Было начало Іюля. Большіе сидѣли на терасѣ, дѣти бѣгали передъ домомъ на pas de géants.[1587] Сама Кити сидѣла въ углу поодаль отъ жаровни, на которой старая княгиня варила малиновое варенье. Ордынцевъ былъ на перестройкѣ завода.[1588]
2.
Вышла одна изъ тѣхъ минутъ, рѣдкихъ въ семейной жизни, когда взрослые остались одни, и именно одни, тѣ самые, которымъ надо было переговорить между собою; и кромѣ того, вышло то настроеніе, въ которомъ охотно говорится о задушевныхъ вещахъ. На терасѣ оставались старушка тетушка, варившая варенье, и Княгиня, принимавшая живѣйшее участіе въ вареньи, стоявшемъ на жаровнѣ, Долли съ груднымъ ребенкомъ, заснувшемъ у ней на колѣняхъ, Марья Николаевна въ очкахъ съ своимъ вязаньемъ и сама Кити[1589] въ мягкомъ креслѣ и подальше отъ жаровни. Всѣ въ этомъ домѣ слѣдили теперь за нею, какъ за сосудомъ, наполненнымъ драгоцѣнностью.
Разговоръ перешелъ всѣ самыя интересныя темы: какъ варить малину, съ водой или безъ воды, но тутъ чуть было не установилась враждебность между старушкой теткой и Княгиней. «Не хочетъ ли теща по своему все передѣлывать въ домѣ? Я 30 лѣтъ варю». Марья Николаевна ловко перевела разговоръ на ситчикъ, который она купила дѣвушкѣ, но который такъ хорошъ, что она хочетъ себѣ сдѣлать платье. Ситчикъ навелъ разговоръ на то, что платья бываютъ счастливыя. Кити вспомнила о своемъ желтенькомъ, волшебномъ, какъ она называла, платьѣ. Все важное случалось съ ней въ этомъ платьѣ. Съ этаго разговоръ перешелъ на примѣты и чудеса.
— Да вотъ и не вѣрьте чудесамъ послѣ этаго, — сказала она. — Это необыкновенно. Мало того, что Богъ иногда вмѣшивается въ наши дѣла, говоритъ: «чуръ, этаго нельзя!» или велитъ то и то дѣлать, но тутъ это любезность со стороны Бога, какъ говоритъ Костя. Вѣрно, Богъ ихъ любитъ...
— Да какже это было? — спросила Княгиня, снимая розовыя пѣнки и отряхивая на тарелку съ подтекающимъ кровянымъ сиропомъ.
— Вѣдь вы знаете, маменька, какъ долго[1590] Костя не дѣлалъ предложенія. Его мучало, съ его гордостью, мысль объ[1591] Вронскомъ.[1592] Они, всѣ мущины, — прибавила она, — ужасно ревнивы къ нашему прошедшему и думаютъ, что ихъ прошедшее насъ нисколько не мучаетъ.
— Ну, да это естественно, — сказала Долли.
— Только я не знаю, — вступилась мать Княгиня за свое материнское наблюденіе за дочерью, — какое же твое прошедшее могло его безпокоить? Что Удашевъ ухаживалъ за тобой? Это бываетъ съ каждой дѣвушкой...
— Ну да не про это мы говоримъ, — покраснѣвъ сказала Кити.
— Нѣтъ, позволь, — продолжала мать, — и потомъ, ты сама[1593] не хотѣла мнѣ позволить переговорить съ Вронскимъ. Теперь васъ не удержишь. Отношенія твои и не могли зайти дальше, чѣмъ должно. Я бы сама вызвала его. Впрочемъ, тебѣ, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни и успокойся.
— Я спокойна.
— Ну, маменька, — сказала Долли,[1594] — это было несчастіе. Я знаю, что онъ ждалъ только[1595] матери, чтобы сдѣлать предложеніе. Надо было Аннѣ пріѣхать — и вотъ[1596] примѣръ истинной страсти по первому взгляду.
— Ахъ, пустое, ma chère,[1597] — гадкая, отвратительная женщина, безъ сердца, — сказала мать, не могшая забыть того, что Кити вышла не за Удашева, а за Ордынцева.
— Да мы совсѣмъ отвлеклись, Княгиня, — сказала Марья Николаевна. — Ну, Кити, разсказывай.
— [1598]Костя долго не дѣлалъ предложенія: его[1599] мучала мысль о Вронскомъ. Мы поѣхали[1600] въ подмосковную къ Львовымъ. И Костя пріѣхалъ туда. И тутъ я рѣшилась совсѣмъ: «Если онъ сдѣлаетъ предложеніе, я не откажу ему». Но какое это мучительное положеніе.
— Ты думаешь, ты одна? — сказала Марья Николаевна. — Каждая женщина испытываетъ это. Каждая...
— Да, ты знаешь ли, когда ты видишь, что онъ готовъ всякую минуту сдѣлать тебѣ предложеніе, ты сама любишь его, ты видишь, что онъ на все для тебя готовъ, что ты можешь сдѣлать изъ него что хочешь, но слово это онъ не можетъ, не рѣшается высказать. Тутъ и гордость и скромность мѣшаетъ.
— Чѣмъ болезненнѣе это, тѣмъ лучше. Это плохо, если человѣку также легко сдѣлать предложеніе, какъ купить калачъ, и дѣвушкѣ также легко отвѣтить. Тебѣ ногамъ неловко, — прибавила она, замѣтивъ, что Кити сдѣлала движеніе, — право, дай я принесу тебѣ скамеечку.
— Да нѣтъ, — краснѣя отвѣчала Кити.
— Вотъ это ужъ вы выдумали, — сказала Княгиня, дуя на столовую ложку съ вареньемъ, чтобы остудить ее. — Въ старину этаго не было и не могло быть, а сватала мать черезъ свахъ, и больше счастливыхъ браковъ было.
— Можетъ быть, маменька. Только[1601] Костя мучался, я хотѣла помочь ему и не могла, — продолжала Кити, и съ той милой непослѣдовательностью женскаго разговора она опять забыла, что хотѣла разсказать, и начала въ подробности разсказывать, какъ ей помогли обстоятельства.[1602] Онъ пріѣхалъ къ Львовымъ. И у нихъ всегда какія нибудь excursions. Тутъ затѣяли ѣхать за 40 верстъ къ ихъ теткѣ. Погода прекрасная была, и[1603] мы поѣхали въ 4-мъ:[1604] Варинька, студентъ Гагинъ, я и Костя.
[1605]Мы поѣхали; одна дама верхомъ съ мущиной и одна дама въ кабріолетѣ съ другимъ; кучера мы не взяли, — въ этомъ то и было удовольствіе, и такъ какъ обѣимъ[1606] намъ хотѣлось ѣхать верхомъ, то[1607] мы перемѣнялись, и, разумѣется, большей частью[1608] Левинъ ѣхалъ[1609] со мной, а[1610] Гагинъ съ Варинькой. Варинька (вы знаете, она старая дѣвушка, фрейлина и премилая), она уморительно кокетничала съ[1611] студентомъ, кажется только затѣмъ, чтобы не разстроить нашу partie carrée.[1612] Она премилая! Мы пріѣхали къ дядѣ, — продолжала разсказъ Кити. — Онъ безтолковый, безпорядочный. Мы не спали отъ клоповъ, а мущины провели ночь на сѣнѣ; но утромъ мы рѣшили ѣхать чѣмъ свѣтъ. И какое утро было чудное. Я давно уже не видала, съ тѣхъ поръ какъ мы ѣздили къ Троицѣ съ [1 неразобр.], помните? Утромъ онъ пришелъ свѣжій, веселый; и я была послѣ безсонной ночи — еще веселѣе. Какой то у насъ смѣхъ былъ. Варинька смѣшила. Мы и не простились, какъ то какъ сумашедшіе уѣхали. Варинька поѣхала съ[1613] студентомъ, а мы должны были ѣхать въ кабріолетѣ. Кучеръ держалъ лошадь, а я стала прикалывать амазонку, и тутъ вдругъ все рѣшилось. Солнце еще не всходило. И вмѣстѣ солнце взошло и моя судьба.
— Но какъ, какъ? — съ блестящими глазами жадно спрашивали въ одинъ голосъ Марья Николаевна и Долли.[1614]
И Княгиня, слышавшая эту исторію нѣсколько разъ, всетаки такъ увлечена была исторіей, что бросила опять ложку и стала опять варить, хотя уже сиропъ тянулся и больше варить не нужно было. Она тоже съ счастливой улыбкой любви и воспоминанія, скосивъ голову съ чепчикомъ на бокъ, смотрѣла на покраснѣвшую Кити и тоже прошептала:
— Какъ?
— Нѣтъ, это я не могу разсказать, — сказала она, и голосъ дрогнулъ. — Впрочемъ, было вотъ что.
— Ты помогла? — сказала Долли.
— Да какъ хочешь думай. Онъ сказалъ, что я свѣжа, а я сказала: «А я не спала, а все думала». — «И я тоже. Но мысли хорошія». — «Какія?» И мы узнали, что мы объ одномъ и томъ же думали. И тутъ все случилось....
— Да какъ же именно онъ сказалъ? — сказала Марья Николаевна.
— Именно? — улыбаясь и краснѣя повторила Кити. — Я помню, онъ сказалъ: «Я хочу, я рѣшился, я люблю васъ... быть моей женой». — Она засмѣялась съ слезами счастья на глазахъ. — И тутъ все случилось... И мы вышли на крыльцо, женихъ съ невѣстой, и только что вышло солнце. И какъ я помню, пѣтухъ тутъ и кучеръ и дядя на крыльцѣ, а мы что то глупое сказали и уѣхали. Назадъ мы ѣхали по другой дорогѣ, черезъ городъ, Варинька и[1615] студентъ скрылись изъ вида. Мы ѣхали и говорили такъ хорошо. И никого до самого города не встрѣтили. Ужъ подъѣзжая къ городу, мы помолчали, и онъ вдругъ, не глядя на меня, сказалъ: «Одно я бы желалъ, чтобы вы встрѣтились съ нимъ и чтобъ безъ разговора чувствовалось, что то кончено». Я сказала: «Какъ вы не поймете, что это такое ужасное воспоминаніе?» — «Я бы желалъ, чтобы это было не «ужасное», а «простое, воспоминаніе». — «Да оно такъ и будетъ».
Только что я это сказала, мы видимъ, ѣдетъ навстрѣчу съ горы пролетка, и сидитъ какой-то одинъ въ черномъ пледѣ и шляпѣ сѣрой. Мы спустились, переѣхали мостикъ, и пролетка спустилась. Никого кругомъ, только два нашихъ экипажа, и мы смотримъ другъ на друга. Не забудь, 5 часовъ утра. Ктожъ въ пролеткѣ? Удашевъ. Онъ снялъ шляпу, поклонился и проѣхалъ. Потомъ[1616] Костя узналъ, что онъ жилъ въ городѣ съ Анной и отъискивалъ священника за городомъ и ѣхалъ къ этому священнику, чтобы условиться, какъ вѣнчать его.
— Кити, ты всегда забываешь, — сказала тетушка, дожидавшаяся конца разговора, — тебѣ нельзя такъ сидѣть.
Кити сняла ногу съ ноги.
— Да, пусть придумаютъ люди такое стеченіе обстоятельствъ, пусть изъ милліона разъ это удастся разъ.... — говорила Марья Николаевна въ то время, какъ по лѣстницѣ терассы зазвучали сильные, гибкіе шаги Ордынцева.[1617] Его еще не видно было. Но его узнали, и[1618] выразительная, умная и энергическая голова его, сіяя оживленіемъ, выставилась изъ за перилъ, и онъ вошелъ.
— Что это «милліонъ разъ»? — спросилъ онъ.
Но никто не отвѣтилъ ему и не подумалъ обмануть. Онъ понялъ и не повторилъ вопроса.
— Мнѣ жаль, что я разстроилъ ваше женское царство.
Ордынцевъ былъ на заводѣ съ нѣмцемъ, дѣлая планъ его перестройки. Возвращаясь домой мимо pas de géants съ визгомъ дѣтей и на терассу, гдѣ слышались голоса женскіе друзей, онъ радовался, сравнивая это съ его прежней одинокой жизнью. Но его мучало то, что жена уходила отъ его вліянія. Онъ шелъ весь погруженный въ свои дѣла.
— Ну что заводъ? — спросила Кити.
— Такъ хорошъ будетъ, и это мое изобрѣтеніе такъ упроститъ дѣло, что я....
— Только бы ты отдалъ его въ аренду, — сказала Кити, — было бы превосходно.
— Вотъ упрямство. Мы живемъ заводомъ, — обратился онъ къ belle mère.[1619] — Я могу получать 12 тысячъ, а аренда 3 тысячи.
— Да, «могу». Но мы получаемъ только убытокъ....
— Ну, хорошо, хорошо, — съ досадой сказалъ онъ. — Однако не пора ли посылать за Стивой?
— Да, пора, — сказала Долли. — Я бы поѣхала, да мнѣ съ Федей — (старшій сынъ) — хочется заняться. А то каждый день что нибудь помѣшаетъ.
Дарья Александровна сама выучила грамматику Кюнера и учила Гришу до латинскому.
— Поѣзжай, Долли, я займусь.
Съ тѣхъ поръ какъ онъ былъ женатъ, онъ въ первый разъ въ жизни черезъ очки своей жены увидалъ одну половину міра, женскую, такою, какая она есть въ самомъ дѣлѣ, а не такою, какою она кажется. И первое лицо во всей дѣйствительности, которое онъ увидалъ такой, была его belle soeur. Онъ узналъ ужасы невѣрности, пьянства, мотовства, грубости Степана Аркадьича, и Долли въ ея настоящемъ свѣтѣ изъ простой, доброй и какой то забитой, незначительной женщины выросла въ героиню, въ прелестную женщину, въ которой онъ узнавалъ тѣ же дорогія ему въ своей женѣ черты, и онъ испытывалъ къ ней, кромѣ любви, набожное чувство уваженія и всѣми средствами старался ей быть полезнымъ.
— О нѣтъ, ты такъ добръ, уже столько занимаешься съ нимъ. A тебѣ столько дѣла. Да и пожалуй, онъ не пріѣдетъ. Здѣсь ничего пустой экипажъ, но на станціи непріятно.
— Не ѣздите, посидимъ еще, побесѣдуемъ, — сказала Марья Николаевна.
— Да, правда, что дѣло на меня такъ и липнетъ, — сказалъ[1620] Левинъ, — прежде бывало тяготился свободой и досугомъ, а теперь со всѣхъ сторонъ.
— Ну ужъ мое, ты какъ хочешь, — сказала Марья Николаевна, — съѣзди въ Пирогово и устрой, это ужъ ты долженъ.
— Это то сдѣлаю для себя: тамъ болото, и мы съ Стивой вмѣстѣ поѣдемъ.
— Ну что,[1621] тетинька, готово? — сказала Кити.
— Переварила, мой другъ. Тебя заслушалась; впрочемъ, лучше, не обсахарится, и сдѣлай ты, пожалуйста, по моему совѣту: съ ромомъ бумажку.
Кити говорила про варенье, но она думала о мужѣ и не спускала съ него глазъ. Сейчасъ случилось два обстоятельства: онъ засталъ ихъ за разговоромъ объ Удашевѣ, — онъ понялъ это, и она огорчила его отпоромъ о заводѣ, надо было смягчить его.[1622]
Онъ смотрѣлъ и хотѣлъ отвернуться, но замѣтилъ виноватое выраженіе и самъ подошелъ.
— Что ты,[1623] какъ себя чувствуешь?
— Прекрасно. Я такъ счастлива и признаюсь, — она сказала шопотомъ, — какъ мнѣ ни хорошо съ ними, жалко нашихъ вечеровъ вдвоемъ. Пойдемте походить.
Но тутъ съ крикомъ, топотомъ неслась навстрѣчу ватага дѣтей, 2 дѣвочки подростка Марьи Николаевны и 3 Долли и Англичанка. Левинъ поспѣшилъ заступить имъ дорогу отъ жены, какъ бы они, разбѣжавшись, не толкнули ее. У всѣхъ дѣтей былъ разсказъ о необыкновенной высотѣ, на которую поднимали Mlle Теборъ на pas de géants, и видно, что тамъ это событіе имѣло огромное значеніе, которое оно теперь утратило. Всѣ они съ прилипавшими прядями волосъ къ лбамъ бросились къ матерямъ, и по немногу затихалъ восторгъ того, что тамъ случилось.
Но скоро всѣ разобрались по мѣстамъ: Кити пошла распорядиться комнатой и постелью Степана Аркадьича, несмотря на всѣ уговоры, чтобы она не утруждала себя; Княгиня сѣла за пяльцы, Долли пошла съ сыномъ твердить Кюнера, а къ Ордынцеву пришелъ нѣмецъ съ планами завода.
—————
3.
[1624]Вечеромъ дѣти уже ушли спать, и большіе сидѣли на терасѣ съ колпаками на свѣчахъ, около которыхъ бились бабочки, когда по щебню аллеи захрустѣли рессоры коляски, ѣздившей за Степаномъ Аркадьичемъ. Коляска ѣхала скоро; значитъ, онъ пріѣхалъ. Ордынцевъ съ своими быстрыми гимнастическими движеніями перескочилъ черезъ перила и рысью побѣжалъ навстрѣчу. Онъ видѣлъ Степана Аркадьича одинъ разъ послѣ своей сватьбы, и отношенія ихъ замѣтно измѣнились. Они не стали холоднѣе, потому что они уже были на той крайней точкѣ близости, на которой бываютъ мущины дружны между собой, но стало между ними что то скрытое, невысказанное, если не враждебное, то соперническое. Едва ли чувствовалъ это съ своей простотой и добротой Степанъ Аркадьичъ, но Ордынцевъ чувствовалъ это. Онъ чувствовалъ, что они, какъ свояки, женатые на родныхъ сестрахъ, представляютъ невольный предлогъ сравненія для сестеръ, для матери сестеръ, даже для постороннихъ, спрашивающихъ себя, какая сестра счастливѣе и съ женской точки зрѣнія лучше живетъ? т. е. у кого комнаты лучше, ѣда лучше, гости и знакомые лучше и важнѣе. Кромѣ того, зная то, что онъ зналъ про Степана Аркадьича, Ордынцевъ не могъ не быть холоднѣе, хотя онъ чувствовалъ, что источникъ всѣхъ его гадостей была тоже простота и доброта, за которую онъ былъ такъ милъ.[1625] Степанъ Аркадьичъ былъ не одинъ, онъ везъ съ собой юношу, отличнѣйшаго малаго и страстнаго охотника, какъ онъ говорилъ. Онъ поцѣловался и сказалъ:
— А, здорово земледѣлецъ! Тутъ жена? вы какъ?
Ордынцеву непріятна была эта развязность, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ и всѣ, онъ невольно подчинялся этому веселому, доброму тону. Кромѣ того, онъ былъ радъ мущинѣ пріятелю, съ которымъ можно было и поохотиться и поговорить (особенно излить всѣ накопившіеся, никому невысказанныя открытія о женщинахъ и супружествѣ) и просто логически поговорить о мужскихъ, т. е. общихъ интересахъ, съ которыми ему тѣсно было въ его женскомъ монастырѣ, какъ ни милъ и дорогъ былъ для него этотъ монастырь. Это было необходимо ему часто, и онъ тяготился этимъ лишеніемъ.
4.
Ордынцевъ, зная все прошедшее, всю подноготную отношеній Степана Аркадьича съ женою, невольно наблюдалъ ихъ отношенія и[1626] изумлялся. Алабинъ былъ такъ простъ, свободенъ, добръ и даже покровительственъ, что, казалось невольно, только и существуетъ физическое отношеніе супруговъ: онъ силенъ, свѣжъ, красивъ, несмотря на свои рѣдкія сѣдины въ[1627] прибритой въ серединѣ бородѣ, — она худа, костлява, измучена, съ платьемъ, какъ на вѣшалкѣ, и съ перстнями, болтающимися на изсохшихъ бѣлыхъ пальцахъ. Какъ же ему не[1628] самодовольно смотрѣть на нее и не чувствовать гордость снисхожденія, сравнивая свою силу и сочность съ ея слабостью и изсушенностью? Только Ордынцевъ, зная прошедшее, видѣлъ, какъ иногда она мѣткимъ, ядовитымъ, такъ не шедшимъ къ ней замѣчаніемъ отвѣчала ему.
За чаемъ и вмѣстѣ ужиномъ, во время котораго Алабинъ выпилъ стакана два своего любимого бургонскаго, Ордынцевъ замѣтилъ, что Алабинъ почти сталъ ухаживать за старшей племянницей, и у дѣвочки заблестѣли глаза, и вся она оживилась и какъ бы подобралась.
— Ну чтожъ, завтра ѣдемъ въ Лупилки — (это было знаменитое болото). — Дупелей не знаю — найдемъ ли, но бекасовъ пропасть. Или ты усталъ? Надо выѣхать до свѣта, а то жарко.[1629]
— Я усталъ? Никогда еще не уставалъ. Давайте не спать. Что за ночь! Пойдемте гулять. — Онъ взглянулъ на дѣвочку. — Давайте пойдемъ.
— О, въ этомъ мы увѣрены, что ты можешь не спать и другимъ не давать. А я пойду, — сказала Долли.
— Ну, посиди, Долинька. Я тебѣ еще сколько разскажу.
— Вѣрно, нечего.
— Ну, такъ ѣдемъ завтра. Ты меня не буди.
— Я разбужу. Въ два? Ахъ, да, ну что, вы видѣлись съ Анна? — спросилъ онъ вдругъ. — Вѣдь она въ 20 верстахъ отъ васъ. Я непремѣнно съѣзжу.
— С M-me Карениной? — сказала старая княгиня.
— Т. е. съ Удашевой, — поправилъ онъ.
— Ну тамъ какъ хочешь, только я думаю, что моимъ дочерямъ не зачѣмъ съ ней видѣться.
— Отчего же?
— А оттого, что она поставила себя въ такое положеніе, въ которомъ избѣгаютъ знакомства. И это выдумала не я, а свѣтъ. Ея никто не видитъ и не принимаетъ, и мы....
— Да отчего жъ никто? Вотъ вы все такъ, маменька. Ну что тутъ, какіе хитрости и тонкости. Ея принимали вездѣ какъ Каренину, а теперь она Удашева, и всѣ будутъ принимать.
— Ну, это мы еще увидимъ.
— Да, вотъ увидите.[1630] Они не хотѣли до сихъ поръ быть въ свѣтѣ. А посмотрите, Удашевы поѣдутъ въ Петербургъ, и всѣ къ нимъ поѣдутъ и будутъ принимать.
— Не думаю. Старуха Удашева видѣть не хочетъ сына, и ужъ одно это, что она поставила сына противъ матери.
— Совсѣмъ не думала возстановлять. А кто же угодитъ московской Грибоѣдовской старухѣ?
И Алабинъ обратился за подтвержденіемъ къ Ордынцеву и Кити. Мнѣніе жены его не интересовало.
— Я не поѣду, — сказалъ Ордынцевъ. — А жена какъ хочетъ.
Онъ не смотрѣлъ на жену, говоря это. Онъ зналъ, что въ ея душѣ должна была быть сложная борьба чувствъ относительно этаго. Онъ зналъ, что она не могла простить Аннѣ то, что тогда она отняла у нея жениха и побѣдила ее. Онъ зналъ, что женщины никогда не прощаютъ этаго, и онъ не ошибался. Онъ думалъ еще, что мысль о близости этаго человѣка, воспоминаніе прежняго волнуетъ ее. И въ этомъ онъ ошибался. Человѣка этаго не существовало для нея, и она была такъ равнодушна къ нему, что она даже не помнила его, не могла живо представить себѣ его: онъ не существовалъ для нея. Еще онъ думалъ, глядя на мертвенное и строгое выраженіе, установившееся на ея лицѣ, что она думаетъ о томъ, какъ онъ понимаетъ теперь ея чувства, и въ этомъ онъ ошибался. Она ни о чемъ другомъ не думала въ эту минуту, какъ только о томъ, зачѣмъ эта дурная (она считала ее дурной женщиной, и въ этомъ они часто спорили съ сестрой, считавшей ее очень хорошей женщиной) — эта дурная женщина и прежде и теперь встрѣчается ей на дорогѣ и разстраиваетъ ея жизнь. И она была зла и холодна.
— Я? — сказала она. — Зачѣмъ я поѣду? Не мнѣ рѣшать эти вопросы: почтенная ли она женщина или нѣтъ. Но главное, что эти вопросы меня вовсе не интересуютъ. И мы съ Мишей давно ужъ держимся того правила, чтобы не имѣть географическихъ знакомствъ. Чтожъ, что они живутъ близко. Они не нашего круга, какъ М-me Фуксъ; а та, хоть и за 300 верстъ, — нашего круга, и мы къ нимъ поѣдемъ и они къ намъ.
— Да, да поѣдемъ завтра, поѣдемъ Корушка, — заговорилъ Ордынцевъ, довольный отвѣтомъ жены и лаская подошедшую къ нему собаку, взвизгивавшую жалостно и нѣжно отъ ласки хозяина.
— Да избави меня Богъ сестрой производить раздоръ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ съ доброй улыбкой.
— Я съѣзжу къ ней, потому что люблю ее, а не только другимъ не совѣтую, и женѣ предоставляю дѣлать, какъ она хочетъ.
— Я давно хотѣла и поѣду, — сказала Долли. — Мнѣ ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поѣду одна, когда ты уѣдешь на охоту. И никого этимъ не стѣсню. И даже лучше безъ тебя, Стива. Вотъ какъ ты будешь на охотѣ.
— Вотъ разсудила моя умница, — и онъ покровительственно потрепалъ ее по плечу.
—————
5
На зарѣ телѣжка стояла у подъѣзда, и Кора, навизжавшись, напрыгавшись, уже сидѣла въ ней дожидаясь. Степанъ Аркадьичъ въ большихъ новыхъ сапогахъ, доходившихъ до половины толстыхъ ляжекъ, въ зеленой блузѣ съ игрушечкой ружьемъ и отрепанной пуховой шляпѣ стоялъ на крыльцѣ улыбаясь, съ сигарой во рту, и отбиваясь отъ половопѣгаго сетера Крака, который вился около него и, вскидывая лапы на плечи, цѣплялся за дробовикъ;[1631] Ордынцевъ тоже въ охотничьемъ забѣжалъ еще разъ къ проснувшейся женѣ.
Когда онъ вышелъ и сѣлъ въ телѣжку, взявъ возжи и сдерживая игравшую рыжую пристяжную, онъ весь, какъ всегда, отдался чувству и дѣлу предстоящей охоты и не безъ страха и соревнованія поглядывалъ на Алабина, извѣстнаго сильнаго стрѣлка. Онъ боялся и не найти довольно и того, чтобы его Кракъ не оказался лучше Коры, и того, главное, чтобы Алабинъ не обстрѣлялъ его. Кромѣ того, его телѣжка, имъ выдуманная, лошади — все это занимало его, и на все онъ желалъ знать мнѣніе и одобреніе Алабина. Но Алабинъ, какъ и во всемъ въ жизни, самъ ничего не устроившій трудомъ, любилъ и цѣнилъ все хорошее, но такъ, какъ рыба воду въ[1632] прудѣ. Разумѣется, вода хороша, но могла бы быть почище и лучше бы, еще побольше. Но Ордынцеву и его холодное одобреніе было пріятно.
— Вотъ эта своего завода, полукровная — видишь. А это я придумалъ мѣсто и для собакъ. Кора сюда! — Кора вскочила.
— А чтожъ, сюда не зайдемъ? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, указывая на низъ съ кочками около рѣки, выбитый скотиной между двумя лугами не кошенными, съ сѣрымъ сплошнымъ ковромъ махалокъ созрѣвшаго покоса.
— Нѣтъ, — выбитъ и не кошенъ. А вонъ тамъ затонъ. Можно зайти. Тамъ скошено, и на рядахъ дупеля могутъ быть.
Они зашли, дупель вылетѣлъ голубов[атый], перелетѣлъ изъ подъ ноги съ выпуклымъ трескомъ крыльевъ. Ястребъ вьется. И наконецъ бекасиное болото. Лакей Красовскаго. Жаръ ружья, горнъ[?]. Алабинъ, покачивая, лѣпитъ. Тучи бекасовъ, Голодъ, яйца[?]. Легли отдохнуть, разговоръ о супружествѣ.
6.
[1633]Степанъ Аркадьичъ, прихрамывая на лѣвую ногу, съ полной сумой (14 штукъ) пошелъ съ болота. Кракъ, весь черный и вонючій отъ болотной тины, ужъ рысью бѣжалъ передъ нимъ. Ордынцевъ, разгорячившись, дѣлалъ промахъ за промахомъ, кричалъ на собаку, которая тоже горячилась и, утопая по щиколотку въ ржавчинѣ, лазилъ по болоту (у него было только 5 штукъ).
— Миша! пойдемъ, — кричалъ ему Алабинъ, и тутъ же изъ подъ него на сухомъ мѣстѣ взвился прелестный бекасъ. Онъ неторопливо повернулся, ударилъ, и Ордынцевъ видѣлъ, какъ свалился комочкомъ, и Кракъ бросился къ нему.
— Это несчастіе, — говорилъ Ордынцевъ и опять лѣзъ къ тому мѣсту, куда пересѣли 3 бекаса; но напуганные, чмокнувъ, одинъ и всѣ взвились. Пафъ, пафъ, а изъ подъ ногъ еще одинъ. Онъ сталъ заряжать и чуть не обжегся, такъ горячи были стволы. Потъ лился ручьемъ и освѣжал. Солнце стояло въ зенитѣ и пекло. Кора стояла у ногъ, махая хвостомъ и готовая къ новымъ трудамъ. Онъ тронулся: каблукъ, вытаскиваемый изъ ржавчины, чмокнулъ. Онъ схватился за ружье, думая, что бекасъ. «Нечего дѣлать, надо на отдыхъ».
Когда онъ вернулся, съ трудомъ таща ноги въ сапогахъ, облѣпившихся грязью, тѣ 500 шаговъ, которые надо было пройти до избы Финогеныча, безъ надежды на дупелей, показались ему тяжелѣй всей ходьбы дня.
Когда онъ пришелъ, Степанъ Аркадьичъ сидѣлъ на стулѣ красный, съ прищемившими задъ дощечками, и Финогенычъ тянулъ съ него сапоги. Другая нога, мокрая, съ сѣрыми складками и кружками прилипшей болотной травы. Онъ былъ веселъ и свѣжъ. Обмылъ ноги, все перемѣнилъ и уже шутилъ съ 16-ти лѣтъ дочерью Финогеныча[1634].
Ордынцевъ, мрачный, не говоря, снялъ сапоги и побѣжалъ купаться. Выкупавшись и освѣживъ свое атлетическое тѣло, онъ вернулся, и вся мрачность пропала. Они взялись за завтракъ. Жареная курица, которую рвали руками, яйца, хлѣбъ, соль, водка — все это вкусное, охотничьимъ особеннымъ вкусомъ. Только что они улеглись съ папиросами и начали разговоръ о новомъ заводѣ, какъ пришли мужики, и Ордынцевъ вышелъ къ нимъ, а Алабинъ заснулъ сладкимъ сномъ. Ордынцевъ часа три проговорилъ и вернулся довольный. «Отлично устроилъ, это лучшіе арендаторы. Ну, чаю». Алабинъ проснулся и началъ хвалить дѣвочку, сравнивая ее съ только что вылущеннымъ задкомъ орѣшка.
— Я не понимаю, — сказалъ Ордынцевъ, — какъ лишать себя главнаго счастья супружества — этаго спокойствiя къ женшинамъ. Я свѣтъ узналъ... Я... — и онъ началъ длинно описывать прежнее состояніе и теперешнее.
— А я не понимаю, какъ лишать себя поэзіи женщинъ. Безъ этаго нѣтъ жизни. И я знаю, ты думаешь, что это для семьи? Нисколько. Только не въ домѣ. Я знаю, я имѣю вины, но не это. И помни, надо тебѣ сказать, что это удивительная женщина, моя жена[1635].
И онъ сдѣлалъ свою profession de foi.[1636] Ордынцевъ разсказалъ свое удивленье передъ мiромъ женщинъ, ихъ раcположеніемъ духа, и то, что ссоры между имъ и женой быть не можетъ и что если бы была ссора, онъ бы счелъ себя погибшимъ.
Вечернее поле поѣхали, собаки облизались, но устали и не лѣзли съ телѣги. Одна Кора только отъ собакъ по деревнямъ. Пріѣхали въ лѣсъ. Караульщикъ. Черными бѣгали. Ордынцевъ уби[лъ]. Подмѣнилъ заяцъ. Ордынцевъ обходилъ и ноги волочилъ. Сѣлъ отдыхать, и выводокъ чудный. Ордынцевъ не убилъ. Алабинъ.
Пріѣхали веселые, усталые. На терассу, переодѣлись. Долли[1637] нѣтъ, она уѣхала. Ордынцева ждутъ бумаги изъ управы. Жена подаетъ, старается. Сестра спрашиваетъ, какъ ея дѣла. Онъ хлопочетъ и приходитъ къ чаю.
* № 154 (рук. № 94).
Удашевъ и Анна жили въ Воздвиженскомъ, селѣ, почти городкѣ, пожалованномъ прадѣду Удашева и которое при разделѣ досталось на долю младшаго брата. Въ имѣньи былъ дворецъ (онъ такъ и назывался), фонтаны, статуи въ саду. Имѣнье это было заброшено. Но тотчасъ же по выходѣ своемъ въ отставку и отъѣздѣ съ Анной за границу Удашевъ съѣздилъ туда и послалъ туда архитектора и сдѣлалъ распоряженія для возобновления всего. Все это стоило страшныхъ денегъ, но, когда молодые вернулись изъ за границы, они нашли дворецъ почти готовымъ, и Анна была восхищена и красотой мѣста на крутомъ берегу извивающейся рѣки и великолѣпiемъ постройки и внутренняго убранства. Удашевъ во всемъ любилъ крупное и величавое и потому, разъ взявшись за устройство дома и перестройку, онъ не жалѣлъ денегъ, и, дѣйствительно, все получило хотя и новый, но величавый характеръ.
Великолѣпіе это въ первую минуту произвело на чуткую душу Анны оскорбительное впечатлѣніе, она вспомнила, съ чѣмъ обыкновенно соединяется роскошь; но скоро она сжилась съ этой обстановкой и съ свойственнымъ ей тактомъ, среди безумной роскоши, окружавшей ея, сама какъ бы умышленно держалась величайшей простоты. Она носила самые простые платья и прически. Кромѣ того, обращеніе съ ней Удашева, какъ въ первое время, въ Петербургѣ, такъ и заграницей и въ особенности здѣсь, было до такой степени почтительно (насколько оно можетъ быть между мужемъ и женою), что непріятныя мысли, вызванныя въ первую минуту этой роскошью, были забыты ею, она свыклась съ новымъ домомъ и увлеклась тѣмъ, что занимало мужа (какъ она называла Удашева) — именно конскимъ заводомъ — рысистымъ и скаковымъ — и въ особенности постройками и перестройками, убранствомъ, которые все продолжались и не только не кончались, но, казалось, разростались. Кромѣ того, у Анны были и свои личныя пристрастья — это былъ огромный акваріумъ (она сама кормила звѣрей и рыбъ, пріучала ихъ и заботилась о ихъ водѣ) и[1638] школа дѣвочекъ, которую она[1639] наблюдала. При дѣвочкѣ была кормилица и Англичанка няня, и Анна мало занималась дѣвочкой. Она сама не кормила ее — съ ней были связаны тяжелыя самыя воспоминанія, и кромѣ того видъ этаго ребенка напоминалъ ей мужа и Сережу, о к[оторыхъ] она умѣла забывать. Она именно умѣла забывать. Она всѣ эти[1640] послѣдніе медовые мѣсяца какъ бы прищуриваясь глядѣла на свое прошедшее, съ тѣмъ чтобы не видать его всего до глубины, a видѣть только поверхностно. И она такъ умѣла поддѣлаться къ своей жизни, что она такъ поверхностно и видѣла прошедшее. Она, какъ въ этихъ картинкахъ, которыя сучьями деревьевъ образовываютъ фигуру, нарочно видѣла одни деревья, а не фигуры, которые они образовывали. И она была искренна, когда говорила Удашеву, что она счастлива. Послѣ всего горя мученій, раскаянія, стыда, униженія послѣдняго времени она какъ изъ подъ воды вынырнула, дыша воздухомъ, и съ наслажденіемъ дышала имъ. Обида доброму мужу, разлука съ сыномъ, мнѣнія свѣта — все это не существовало для нея, потому что она никогда не думала объ этомъ. Она была счастлива своей и его любовью, и медовый мѣсяцъ ихъ не прерывался. Но для той жизни, которую они вели, имъ необходимъ былъ свѣтъ, люди, тѣ самые, которые, они говорили себѣ, что имъ не нужно. Эти оранжереи, эти цѣльныя зеркальныя стекла въ домѣ, эти медальоны vieux saxe[1641] вмѣсто пуговицъ на обояхъ ея кабинета, эти экипажи, лошади — все это теряло смыслъ, если никто не видѣлъ этаго. И потому они оба одинаково и въ одно время почувствовали необходимость публики. Первый человѣкъ, посѣтившій ихъ, былъ Степанъ Аркадьичъ. Оба были очень рады ему, и онъ умѣлъ такъ быть простъ и остороженъ, что ни на секунду не задѣлъ ихъ неловкаго положенія. Послѣ Степана Аркадьича черезъ Бетси они приглашали Тушкевича, который пріѣхалъ къ нимъ на все лѣто, и онъ былъ пріятенъ, потому что зналъ толкъ во всемъ и развлекъ. Кромѣ этихъ гостей, Алексѣй Кириллычъ въ деревнѣ тотчасъ же нашелъ придворныхъ, и[1642] къ нему стали ѣздить помѣщики безъ женъ, но все таки были хорошіе люди, понимавшіе нѣкоторый толкъ. Потомъ были домочадцы — докторъ, управляющій. Дамъ никого не было. Но на дняхъ хотѣла пріѣхать либеральная Дарья Александровна. Анна Аркадьевна съ волненіемъ ждала ее, и это волненiе сообщалось и Алексѣю Кириллычу.
Дарья Александровна на четверкѣ соловопѣгихъ, какъ и распорядился Ордынцевъ, выѣхала послѣ чая и въ самый жаръ, тогда, когда мужики съ косами укладывались на отдыхъ, а ярко пестрыя бабы на сухомъ жару съ пѣснями ходили рядами, загребая валы, подъѣзжала къ Полунину. У поворота въ аллею съ старой скотопрогонной большой дороги кучеръ остановилъ запотѣвшую четверню и кликнулъ мужика изъ кучки, лежавшаго подъ оглоблями телѣги. Слѣпни облѣпили лошадей, лошади били ногами, и стало еще жарче. Вѣтерокъ, который былъ на ѣздѣ, затихъ. Одинъ старикъ отбивалъ косу; металическій звонъ отбоя равномѣрно раздавался въ тишинѣ послѣ звука колесъ. Безъ шапки, курчавый сѣдой старикъ съ темной отъ пота горбатой спиной босикомъ подошелъ къ коляскѣ, не выпуская изъ рукъ косу[1643].
— Въ Полунино? На барскій дворъ? Прямо по пришпекту, — сказалъ онъ. — Да вамъ кого?
— Барина, голубчикъ, — сказала Дарья Александровна, — и барыню. Дома они?
— Барыню то молодую? — сказалъ мужикъ. — Дома нѣтъ, матушка, сейчасъ верхомъ проѣхали. Значитъ, разгуляться проѣхали, а то дома. А вы, видать, не бывали еще у нашего то, — сказалъ мужикъ, видимо желая поговорить.
— Нѣтъ, не была.
— Ну такъ поглядите, глазъ не отведешь. Ужъ какъ убралъ баринъ то — бѣда. Лучше царскаго дворца. Страсть.
— Вотъ какъ.
— А вы чьи будете?
— Изъ Волхова, — сказалъ кучеръ, влѣзая на козлы.
— Михаилъ Николаича, знаемъ. Баринъ хорошій. Что, работы нѣтъ ли насчетъ покосу?
Молодой здоровый, огромнаго роста парень подошелъ тоже.
— Не знаю, голубчикъ. Ну, прощай.
— Съ Богомъ, — сказалъ мужикъ.
Но только что они тронулись въ аллею, онъ закричалъ ему, махая рукой:
— Постоооой! — Кучеръ остановился. — Самъ ѣдетъ. Вонъ они втроемъ. Вишь, заваливаютъ, — говорилъ мужикъ, указывая на 3-хъ верховыхъ, скакавшихъ по дорогѣ.
Это были Удашевъ, Анна и конюхъ. Виднѣе всѣхъ была Анна въ развѣвающейся черной амазонкѣ и вишневомъ вуалѣ. Сіяющее красивое лицо ея и глаза еще издалека блестѣли. Она сидѣла, низко перевалившись на право, прекрасная, потолстѣвшая. Но тонкая талія ея не отдѣлялась отъ сѣдла на быстромъ галопѣ золотистой гнѣдой кобылы, отбивавшей темпъ галопа по сухой муравкѣ дороги. Подъ Удашевымъ была кровная темно гнѣдая лошадь. И онъ съ скрытыми усиліями держалъ ее на тугомъ трензелѣ, чтобы ровняться съ дамой. Щегольство, нарядность, чистота новизны на ихъ платьяхъ, сѣдлахъ, лошадяхъ ихъ обоихъ, мастерство ѣздить пріятно поразили Долли, но еще пріятнѣе поразило ея выраженіе на ихъ лицахъ такой большой радости при видѣ ея, какая не соотвѣтствовала событію. Они оба обрадовались, какъ обрадуются, увидавъ послѣ годовъ изгнанія земляковъ на чужой сторонѣ.[1644] Анна, бѣлая, румяная, пополнѣвшая съ тѣхъ поръ, какъ Долли не видала, просіяла счастливой улыбкой, узнавъ Долли, взглянула на Удашева, какъ бы подтверждая ему что то радостное этимъ взглядомъ, и, не дожидаясь помощи, соскочила съ лошади и бросилась къ Долли въ коляску обнимать ее.
— Вотъ радость, Алексѣй! вотъ радость. Дайте мнѣ разцѣловать васъ. Какъ вы похудѣли, вотъ радость.
Удашевъ, снявъ сѣрую высокую шляпу, и открывъ лысину, тоже улыбался улыбкой радости, которую онъ не могъ удержать.
— Такъ поѣдемъ, вы устали и жарко.
Поцѣловавъ руку гостьи, онъ опять сѣлъ на лошадь и рысью поѣхалъ впередъ. Двѣ женщины, казалось, не могли нарадоваться на себя и дѣлали вопросы, не успѣвая отвѣчать. Долли любовалась на своего друга. Она пополнѣла и похорошела еще: несмотря на то, что въ ней не было болѣе того выраженiя вызывающаго веселья, которое она видѣла въ ней тогда: выраженье это замѣнилъ тихій[1645] любовный свѣтъ.
— Ну, я вамъ все покажу, вотъ это нашъ паркъ начинается. Алексѣй глупости дѣлаетъ, тратится; но чтожъ дѣлать. Вѣдь это не вредно, если есть средства. Вонъ оранжереи. А вотъ сейчасъ вы увидите домъ. Это еще дѣдовскій домъ, и онъ ничего не измѣнилъ въ немъ съ наружи.
— Очень хорошъ. Прелесть.
— Отчего вы такъ похудѣли?.. Но вы счастливы? послѣ того...
— Да, сколько могу счастлива дѣтьми.[1646] Тебя я не спрашиваю...
Анна вздохнула вмѣсто отвѣта.
— Со мной что то волшебное случилось. Знаешь, сонъ вдругъ сдѣлается страшнымъ, и проснешься, такъ и я. Но, можетъ быть, и это сонъ.
— Ну, какъ я рада, что я тебя вижу и что ты счастлива.
— Да, но ты знаешь, Миши нѣтъ со мной...
— Я знаю.
— Ему уже 7 лѣтъ. 3-го дня было его рожденье. А вотъ и домъ. Алексѣй уже пріѣхалъ давно. Вотъ ведутъ его лошадь. Какая красавица, не правда ли? Я его заставляю ѣздить, а то всѣ кавалеристы непремѣнно бросаютъ ѣзду. Да, домъ огромный. Вотъ тутъ мы тебя помѣстимъ. Ты погостишь? На долго ли? Какъ до завтрашняго утра? Да это нельзя.
— Нельзя, я такъ обѣщала, и дѣти.
— Ну, увидимъ.
Они вышли изъ коляски.[1647] Анна провела Долли въ ея комнату. Все — паркъ съ гротами — все свѣжо, вновь отдѣлано, все выкрашено, дорожки съ краснымъ щебнемъ, бархатные газоны, старикъ въ фартукѣ, чистившій и показывавшій имъ партеры съ стеклянными глоб[усами] на стал[яхъ], два лакея въ бѣлыхъ галстукахъ, выскочившіе встрѣчать, зала съ картинами, видъ гостиной съ тяжелыми штофными портьерами, ея комнаты — все съ иголочки (видно было, что никто еще не жилъ тутъ), горничная франтиха и все, все новое, все говорило о той некрасивой новой роскоши, свойственной одинаково быстро изъ ничего разбогатѣвшимъ людямъ, откупщикамъ, жидамъ, желѣзнодор[ожникамъ] и людямъ развратнымъ, вышедшимъ изъ условій честной жизни, такъ какъ источникъ этой некрасивой роскоши одинъ: желаніе наполнить пустоту жизни, пустоту, образовавшуюся или отъ неимѣнія общественной среды или отъ потери среды бывшаго общества. Анна пошла къ себѣ переодѣваться, а Долли, оставшись одна съ франтихой, съ огромнымъ шиньономъ и миндальными ногтями горничной среди мраморныхъ умывальниковъ, сильныхъ духовъ, все новыхъ, думала именно объ этомъ и не хотѣла вѣрить тому, но невольно думала это, и нѣкоторыя движенія Анны[1648] вспоминались ей, и она съ отвращеніемъ отгоняла эту мысль, но мысль опять приходила. Еще она не кончила одѣваться, какъ Анна пришла къ ней и съ своей сдержанной энергіей движеній докончила ея туалетъ и повела ее сначала въ дѣтскую, гдѣ была Англичанка въ букляхъ и опять таже новая роскошь. Въ дѣтской, въ этомъ дорогомъ единственномъ мірѣ Дарьи Александровны, эта роскошь еще больнѣе поразила ее. Ея дѣтская была чистая, но не элегантная, и она слишкомъ высоко цѣнила святыню дѣтской, чтобъ украшать ее. Украшенія казались ей святотатствомъ. Самъ ребенокъ, красавица дѣвочка, акуратный крѣпышъ съ черными глазами и бровями, съ ямочками, красавица, подобной которой она не видывала, въ кружевахъ и лентахъ, понравилась ей очень, но не взяла ее за сердце. Изъ дѣтской они встрѣтили Удашева утонченно учтиваго, съ которымъ посидѣли въ гостиной, прошли по дому, поиграли на биліардѣ и только передъ обѣдомъ двѣ женщины, сидя въ саду, разговорились по душѣ. Разговоръ начался о жизни въ деревнѣ. Дарья Александровна хвалила свою жизнь и говорила, что если бы мужъ былъ съ нею, она бы ничего не желала.
— Ты совсѣмъ, можетъ быть, счастлива теперь.
— Да, я и счастлива, — поспѣшно сказала Анна. — Я настолько пережила, что убѣдилась — намъ — женщинамъ отъ жизни можно имѣть только любовь. И если есть, больше ничего.[1649]
— A дѣти!
— Другой я не скажу. Что мнѣ дѣти, и ты вѣрно всѣхъ отдашь за мужа.
— О! нѣтъ.
— Мы гадки, — вдругъ неожиданно зло сказала Анна. — Какъ мы гадки. Въ насъ вложена эта любовь къ мущинѣ; a вмѣстѣ съ тѣмъ, если женщина хороша, эта любовь противна мнѣ. Противна, противна.
«Да, но дѣти», хотѣла сказать Долли, но вспомнила, что мысль о дѣтяхъ, объ одномъ, у Анны Аркадьевны должна быть тяжела для нея, и она промолчала. Эту необходимость умалчивать о нѣкоторыхъ предметахъ она тутъ въ первый разъ почувствовала, но потомъ впродолженіи дня нѣсколько разъ замѣчала ее или, что еще хуже, замѣчала послѣ того, какъ уже сказала, что не надо было говорить.[1650]
— Одно, что меня безпокоитъ, — продолжала Анна, — это то, что онъ не уживется. Имъ нужна какая то дѣятельность. И все вздоръ.
И опять въ ея глазахъ мелькнула мрачная тѣнь, которой она, видимо, сама боялась. Она поспѣшила заговорить о другомъ.
— Ну, что Кити? Не сердится на меня?
— Сердится? Нѣтъ, но ты знаешь, это не прощается.
— Да, но я не была виновата, и кто виноватъ, что такое виноватъ? Это была судьба. И ей лучше, говорятъ, онъ прекрасный человѣкъ.
— О, да.
Странный звукъ. Это былъ тамъ-тамъ. Они пошли обѣдать. За обѣдомъ опять были неловкiе мѣста въ разговорѣ. Долли сказала, что она пріѣдетъ другой разъ, но что не проситъ отдавать визита. На минуту замолчали, и Анна и Удашевъ переглянулись.
— Да, Москва, — сказала Анна. — Можетъ быть, мы поѣдемъ въ Петербургъ. Тогда я буду у васъ.
Вечеромъ, когда пили чай на терассѣ и Удашевъ ушелъ къ тренеру, Анна съ безпокойствомъ ждала его и, когда онъ пришелъ, поспѣшила идти спать.
На другое утро Долли хотѣла ѣхать, но не смѣла отказать просьбамъ и осталась до вечера. Удашевъ сказалъ, что проводитъ ночью. Анна сказала:
— Какъ ты?
— Да я провожу до большой дороги.
И опять неловкое молчаніе. Вечеромъ Удашевъ поѣхалъ провожать верхомъ, а Анна простилась съ Долли на крыльцѣ.
—————
Ордынцевъ заговорился въ конторѣ. Ночь прелестная. Жена ждетъ, почти не видалъ. И смутная мысль: Долли пріѣдетъ, и надо видѣть, какъ она разскажетъ сестрѣ про свиданіе съ Удашевымъ. Странный ревнивый страхъ вдругъ напалъ на него. Уже темно было и свѣтло отъ мѣсяца, когда онъ вбѣжалъ на терасу. Старуха одна.
— Мама, гдѣ всѣ?
— Стива, кажется, легъ спать. А Кити развѣ не съ тобой? Я думала, что ты съ ней пошелъ?
— Куда?
— На встрѣчу Долли, она со всѣми дѣтьми. И что это ночью ѣздить. Она съ Шурочкой пошла.
Ордынцевъ стоялъ молча. И мрачная тѣнь ревности вполнѣ застлала его мысль: «она пошла отъ нетерпѣнья узнать, что онъ». Вдругъ лай собакъ, который глушилъ и экипажъ и веселые женскіе голоса. Привезли мама. Голосъ Кити. Что за глупость. Онъ встряхнулся и выбѣжалъ.
— Ахъ, а я тебя искала вездѣ.
Она взяла его за руку, пожала.
— Ну какъ не стыдно по ночамъ?
— Ничего, маменька, всѣ дѣти здоровы, да меня проводили.
— Кто?
— Алексѣй Кириллычъ до дороги.
Ордынцевъ выпустилъ руку жены, и холодъ пробѣжалъ по спинѣ. «Теперь вѣрно. Но можетъ быть, она не видала его, она не дошла до дороги».
— Какая лошадь славная у Удашева, — сказала дѣвочка.
«Кончено. Теперь все кончено». Онъ пустилъ ее руку и весело сталъ говорить съ Долли, разсказывая про охоту. Кити видѣла эту веселость и все поняла. Вечеръ длился невыносимо долго для обоихъ. Они знали, что неизбѣжно объясненіе, и желали его всей душой и боялись. Другіе видѣли, что что-то не такъ, но всѣ заняты своимъ. Наконецъ разошлись. Ордынцевъ ходилъ. «Какъ мнѣ идти къ ней, что сказать? Убить ее». А она, испуганная, раздѣвалась одна и тоже думала: «Какъ мнѣ сказать ему. Точно я виноватая, когда я не могу быть виновата». Они просидѣли порознь до свѣта. Она вышла въ кофтѣ.
— Миша, что ты?
— Ты знаешь, — мертвымъ голосомъ. — Тебѣ надо говорить.
— Да что мнѣ говорить, я не знаю.[1651]
— То что ты ходила встрѣчать сво....
— Миша, не оскорбляй меня. Я видѣла, что ты такъ, но я не вѣрила себѣ. Если я не говорю..
— Оттого что тебѣ все равно.
— Нѣтъ, это такъ быть не можетъ.
Все тихимъ, злымъ шопотомъ.
— Я этого не могу переносить.
— Такъ, стало быть, ты думалъ. Это гадко, оскорбительно. Стало быть, я не могу быть въ Москвѣ, потому что я его встрѣчу. — И нервы ее разстроились. — Да я не могу...
— Ну говори, что и какъ было.
— Ахъ, ты [1 неразобр.]
— Виноватъ.
— Я [1 неразобр.] и не думала.
Долго шло и кончилось слезами, и любовь больше прежней. Утромъ за чаемъ веселые, добрые оба.
Послѣ того какъ Долли уѣхала, Удашевъ пришелъ къ женѣ.
— Она какая то притворная и кислая, твой другъ. И что за манера совѣтовать не отдавать визита; я самъ знаю, что дѣлать. И твой братъ почему не пріѣхалъ?[1652]
— Нѣтъ, она не знаетъ, какъ вести себя.
— Но это глупо. Я былъ въ Москвѣ, и всѣ о тебѣ спрашивали. — Онъ помолчалъ. — А мнѣ нужно будетъ ѣхать послѣ завтра, надо привезти тренера.
— Ты лучше поѣзжай нынче, сейчасъ, и оставайся.
— Ахъ, что ты такъ раздражительна.
— Да ты самъ говоришь, что Долли глупо себя ведетъ, это не успокоиваетъ.
— Отчего же тебя огорчаетъ, что я поѣду?
— Нисколько. Это естественно. Я для тебя maitresse.[1653] Къ ней пріѣзжаютъ, когда нужно, и опять уѣзжаютъ.
— Анна, это не хорошо. Я всю жизнь тебѣ готовъ отдать, а ты...
— Да, жизнь ты готовъ отдать и все, но не можешь дать того простого, чтобы Долли не просила не возвращать визита.
— Да это вздоръ. Я это докажу.
— Нѣтъ! не вздоръ. А у насъ остается одно — роскошь (я видѣла, какъ она смотрѣла на эту роскошь, и она, роскошь, мнѣ противна стала) и... любовь, вотъ эта любовь. И надо.
Она обняла его голову и прижала къ своей груди.
Черезъ часъ они еще разговаривали.
— Ты поѣзжай въ Москву, но, Алексѣй, если ты подумаешь, то ты увидишь, что намъ непремѣнно надо ѣхать отсюда.
— Я сдѣлаю все, что ты хочешь, — сказалъ онъ холодно.
— Да, и поѣдемъ въ Петербургъ. Я здѣсь не могу жить, пойми это.
— Что ты велишь, то мы сдѣлаемъ.
Она замолчала, а онъ тяжело вздохнулъ и сталъ готовить новый планъ жизни, но все было неясно и страшно.
* № 155 (рук. № 95).
Несмотря на увѣренія Степана Аркадьича, которому въ своей безпомощной растерянности повѣрилъ Алексѣй Александровичъ, несмотря на увѣренія о томъ, что все это очень просто, даже самъ Степанъ Аркадьичъ увидалъ, что дѣло развода не очень просто. Алексѣй Александровичъ соглашался оставить жену, т. е. отпустить ее, и не требовать развода для себя. Онъ соглашался на то, чтобы меньшой, не его ребенокъ-дѣвочка носила его имя. И онъ думалъ, что онъ сдѣлалъ все, что могъ, для того чтобы простить обиду; о томъ, чтобы послѣ его великодушія отъ него еще бы требовали какихъ нибудь жертвъ, ему и не приходило въ голову, тѣмъ болѣе что, какъ ни велико было то зло, которое ему сдѣлали эти 2 человѣка, его бывшая жена и Вронской, онъ зналъ, что они чувствуютъ зло, сдѣланное ему, мучаются совѣстью и цѣнятъ его великодушіе. Но не прошло 3-хъ мѣсяцевъ, какъ отъ него потребовали еще новыхъ жертвъ, казавшихся ему невозможными.[1654] Явился вопросъ: какое имя будетъ носить будущій ребенокъ Анны и Вронскаго. Являлось три альтернативы: или дѣти будутъ носить незаконное имя Каренина, или онъ долженъ доказать законно преступную связь жены, или онъ долженъ былъ, принявъ на себя постыдныя улики прелюбодѣянія, допустить разводъ для себя, какъ для виновной стороны. Въ обоихъ первыхъ случаяхъ страдали бы другіе, только въ послѣднемъ случаѣ страдалъ онъ одинъ. И какъ ни ужасны были для него ложные униженія, черезъ которыя онъ долженъ былъ пройти, онъ исполнилъ то, что отъ него требовали. И Вронской и Анна женились въ томъ имѣніи, Вронского, где онъ жилъ съ Анной до этаго.
<Для Вронскаго и Анны наступило наконецъ давно желанное и дорого купленное счастіе.>
* № 156 (рук. № 97).
Было начало Іюля. Послѣ обѣда дѣти Долли съ гувернанткой и Варинькой (дѣти любили ее, казалось, больше матери и требовали, чтобы она шла съ ними) пошли за грибами. Сергей Ивановичъ, какъ и обыкновенно, сознательно и снисходительно отдыхая отъ умственныхъ и общественныхъ трудовъ, наслаждался простой, ясной деревенской жизнью. Сергѣй Ивановичъ еще за обѣдомъ сказалъ, что онъ пойдетъ съ ними за грибами.
— Я очень люблю ходить за грибами, — сказалъ онъ, оглядываясь на всѣхъ и какъ бы подчеркивая то значеніе, которое должно имѣть его — философа и общественнаго руководителя — хожденіе за грибами.
Варинька покраснѣла, услыхавъ это, и Кити переглянулась съ Долли.
Тотчасъ послѣ обѣда еще Сергѣй Ивановичъ не допилъ свою чашку кофе и еще находился въ серединѣ спора съ братомъ. Сергѣй Ивановичъ говорилъ, что сельская жизнь, въ противуположность городской, проста и ясна, и въ этомъ ея прелесть. Константинъ Левинъ говорилъ, что, напротивъ, городская ясна и проста, потому что въ городской люди живутъ въ условіяхъ, которые они сами сдѣлали, а въ сельской сталкиваешься съ необъяснимымъ.
— Ты во многомъ перемѣнился съ тѣхъ поръ, какъ женился, и къ лучшему, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ улыбаясь Катѣ, которая стояла, перегнувшись назадъ, съ усталымъ выраженіемъ подлѣ мужа и, очевидно, ожидала конца спора, чтобы сказать ему что то. — Но не перемѣнился въ твоей любви защищать самыя парадоксальныя темы.
— Ты бы сѣла, мой другъ, тебѣ нехорошо стоять, — сказалъ ей мужъ, значительно глядя на нее.
Сергѣй Ивановичъ подалъ ей стулъ. Она сѣла.
— Ну какая же сложность можетъ быть въ первобытныхъ условіяхъ жизни, — продолжалъ Сергѣй Ивановичъ, — въ сравненіи съ тѣмъ экстрактомъ, такъ сказать, изъ этихъ условій, которымъ мы занимаемся, когда, напримѣръ, пишешь книги, излагаешь свои мысли о всѣхъ этихъ предметахъ.
* № 157 (рук. № 97).
— Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошелъ?
— Про ситчики.
— Да, и про ситчики, но потомъ объ томъ, какъ дѣлаютъ предложенія.
— А, — сказалъ Левинъ, улыбаясь и чувствуя, но не слушая ее.
— И о твоемъ братѣ и Варенькѣ. Я очень желаю этаго. Какъ ты думаешь, устроится это?
— Не знаю. Я долженъ тебѣ сказать, что я брата не понимаю. Мы съ нимъ такія чуждыя натуры, что я не понимаю его.[1655] Какъ тебѣ сказать, я нынче думалъ о моихъ отношеніяхъ съ нимъ, — началъ онъ говорить всю свою задушевную мысль, какъ онъ всегда говорилъ съ женою, вполнѣ увѣренный, что она пойметъ его, какъ бы ни трудно и глубоко было то, что онъ имѣетъ сказать. Какъ ни странно бы было ему сказать при комъ нибудь, знающемъ Кити и ея быстрый и неглубокій умъ, что Левинъ говорилъ ей и она понимала такiя вещи, которыя не могъ бы понять ни его братъ Сергѣй Ивановичъ, ни кто изъ самыхъ умныхъ людей его знакомыхъ, а это было такъ.[1656] — Я чувствую, что не могу понять цѣлей его мыслей. Какъ тебѣ сказать. Я всегда ищу того, что любитъ человѣкъ, и этаго я не нахожу.
— Никакъ мыслями и разговорами не сойдетесь. Я слушала нынче вашъ споръ.
— Да вотъ хоть нынѣшній споръ.[1657] Онъ и не видитъ тѣхъ вопросовъ неразрѣшимыхъ, которые представляются на каждомъ шагу, если имѣть въ виду самое дѣло; но у него это какъ то яснѣе. Если мужикъ бѣденъ... — началъ Левинъ.
Кити скучно было это, но она все понимала.
— Такъ зачѣмъ же ты споришь?
— Я спорю по дурной привычкѣ, но я теперь убѣдился, что мы съ нимъ два различныхъ человѣка.[1658] Разумеется, онъ лучше меня. Но я бы не желалъ такимъ быть.
— Такъ почему же онъ лучше тебя?
— Потому что онъ дѣлаетъ дѣло, полезное другимъ. А я ничего не дѣлаю. Я началъ писать книгу и бросилъ, а онъ написалъ прекрасную книгу. Его книга прекрасная,[1659] но правда, что она ужъ и забыла давно о томъ, чего онъ хотѣлъ. Она вся направлена противъ того, что можно противъ нея сказать. И мало того, теперь ее разбранили, эту книгу, и какъ всегда нарочно притворились, что не понимаютъ того, что онъ хотѣлъ сказать, и приняли на себя тонъ, что они все знаютъ, что онъ хотѣлъ сказать, но что онъ просто не знаетъ того, о чемъ говоритъ, и поднимаютъ его на смѣхъ. И онъ теперь пишетъ отвѣтъ, который уже забылъ даже про то, что говорила книга, которая сама забыла про то, чего она хотѣла, и такъ и идетъ.[1660] Ну, я этаго не могу. Вотъ ничего и не дѣлаю. Не могу, мнѣ совѣстно дѣлать дѣло не всѣми силами души, а такого дѣла, въ которое бы положить всѣ силы, нѣтъ.
— Ну, какъ ты скажешь про папа? — спросила Кити. — Что, можно его упрекнуть, что онъ ничего не дѣлалъ?
— Никакъ. Но надо имѣть ту простоту, ясность, доброту, какъ твой отецъ, а у меня есть ли? Вотъ я ничего не дѣлаю и мучаюсь. Все это ты надѣлала. Послѣ тебя, моихъ отношеній съ тобой, мнѣ такъ стало противно все ненастоящее, что я не могу. Мы сейчасъ съ Кирюшинымъ толковали о колодцѣ, все это не важно, но это настоящее. Что дѣти грибовъ набрали — настоящее, что ты тутъ — это самое настоящее.
— [1661]Я, главное, удивляюсь, что ты безпокоенъ, потому что не исполняешь какого то урока.[1662]
— Да, да... Больше мнѣ ничего не надо. Когда тебя не было и не было еще этаго, — сказалъ онъ съ взглядомъ, который она поняла, — я искалъ работы. И все это было вздоръ. Пожалуй, не вздоръ, но не настоящее. Еслибы я могъ любить эту свою политическую экономію и хутора, какъ я люблю свою землю, любилъ телятъ и коровъ своихъ, какъ, главное, я тебя люблю, тогда бы я дѣлалъ, а то я обманывалъ себя, и этаго я теперь не могу. Мнѣ совѣстно.
— [1663]Значитъ, такъ ты сотворенъ.
— Ты знаешь, все гордость. Прежде я думалъ: какъ я ничего, когда другіе столько дѣлаютъ. А теперь я радъ, что я ничего. Только оставьте меня въ покоѣ. Я то, что меня сдѣлалъ Богъ, и, главное, никого не обманываю.
— А какъ ты думаешь, сдѣлаетъ онъ предложеніе?
— Очень похоже.
— А хорошо бы было! Вотъ и наша линейка догнала ихъ. Не устала ли ты, Кити?
— Нисколько.
— А то садись, если лошади смирны, и шагомъ.
Агафья Михайловна, охотница и мастерица собирать грибы, несмотря на свой отказъ, что есть дѣло, поѣхала съ ними.
* № 158 (рук. № 97).
На другой день Левинъ въ самомъ веселомъ и дружелюбномъ расположеніи духа, обходивъ уже домашнее хозяйство, постучался въ комнату, гдѣ ночевалъ Васенька.
— Entrez,[1664] — прокричалъ ему тотъ. — Вы меня извините, я еще только ablutions[1665] кончилъ, — сказалъ Васенька улыбаясь, стоя передъ нимъ въ расшитомъ тонкомъ бѣльѣ.
Онъ былъ очень красивъ, и красота его особенно нравилась Левину. «Отъ этаго, — подумалъ онъ, — мнѣ и пришли эти глупые мысли».
— Вы хорошо спали?
— Какъ убитый. А день какой нынче для охоты.
— Да вы чай или кофе?
— Ни то, ни другое. Я завтракаю. Мнѣ, право, совѣстно. Дамы, я думаю, уже встали. Пройтись теперь отлично. Вы мнѣ покажите лошадей.
— Ну, пойдемте. Не стѣсняйтесь, пожалуйста.
Левинъ присѣлъ къ окну. Ласка впрыгнула къ нему. Онъ ласкалъ ее, любовался на красиваго юношу и бесѣдовалъ. Они заговорили по случаю вчерашняго пѣнія о музыкѣ, и оказалось, что Васенька любилъ, понималъ музыку, и сужденiя его сходились съ Левина. Они заговорили о Степанѣ Аркадьичѣ, еще объ общихъ знакомыхъ. И общее впечатлѣніе, произведенное на Левина, было самое пріятное. Онъ, дѣйствительно, былъ славный малый, простой, понимающій и очень веселый. Онъ былъ изъ тѣхъ, которыхъ Левинъ въ своемъ умѣ относилъ къ роду настоящихъ. Если бы Левинъ сошелся съ нимъ холостымъ, онъ бы общался съ нимъ. Было немножко непріятно Левину его праздничное отношеніе къ жизни и какая-то развязность элегантности petit crevé,[1666] но это можно было извинить за его добродушіе и порядочность. Онъ нравился Левину своимъ хорошимъ воспитаніемъ, отличнымъ выговоромъ на Французскомъ и Англійскомъ языкахъ, тѣмъ, что онъ былъ человѣкомъ его міра, и какой то наивностью добродушія.
Прійдя на конюшню, ему ужасно понравилась верховая степная лошадь, и онъ съ ребяческой наивностью просилъ осѣдлать и проѣхаться. Что то такое онъ представлялъ себѣ въ ѣздѣ на степной лошади и казацкомъ сѣдлѣ дикое, поэтическое, изъ котораго ничего не выходило, но наивность его (въ особенности съ его красотой, улыбкой и граціей движеній) была мила. Тоже понравился онъ Левину разсказами о своемъ имѣніи.[1667] Онъ спрашивалъ Левина совѣта, какъ ему быть[1668] и можно ли жить въ деревнѣ, и видно было, что онъ понималъ чутьемъ прелесть деревенской жизни, но не имѣлъ никакого понятія о томъ, какъ и чѣмъ люди живутъ въ деревняхъ. Оттого ли, что натура его была симпатична Левину, или потому, что Левинъ старался, въ искупленіе вчерашняго грѣха, найти въ немъ все хорошее, Левинъ въ самомъ веселомъ и дружескомъ расположеніи вернулся съ нимъ домой.
* № 159 (рук. № 97).
«Завтра пойду рано утромъ, возьму на себя не горячиться. Бекасовъ пропасть. Вонъ другой блеетъ барашкомъ. И дупеля есть, а приду домой, будетъ записка отъ Кити». Но думать о Кити онъ не позволялъ себѣ: ему становилось слишкомъ страшно за все то, что могло съ ней случиться. «Да, это правда, — думалъ онъ, — что такое отношеніе къ женѣ есть отсутствіе мужества. Но чтожъ дѣлать, — думалъ онъ, — разумѣется, я буду скрывать это свое обабленіе. Есть такія вещи, что знаешь, что нехорошо, какъ нашъ разговоръ сейчасъ. Разумѣется, несправедливо мое довольство и богатство, но долженъ ли я отдать все?»
На этомъ вопросѣ, отвѣта на который у него не было, его мысли развлекъ скрипъ дверки калитки изъ пуньки и, когда онъ прислушался, крикъ ребенка изъ избы. Онъ вышелъ, чтобы посмотрѣть, кто это ходитъ.
— Куда же это ты, тетка? — спросилъ онъ у бабы, шедшей къ избѣ.
— А за молочкомъ, батюшка, внучку.
Словоохотливая старуха остановилась у крыльца и разсказала Левину всю исторію ребенка и его родителей. Сынъ ея старшій былъ водовозомъ въ городѣ, приносилъ на одной лошади рублей 80 въ годъ; жена его, молодайка, тамъ родила и пошла кормилицей къ барынѣ, ребеночка прислала къ бабушке, и мать съ нимъ теперь спала и выкармливала его на рожкѣ.
— Чтожъ, здоровъ ребенокъ?
— Слава тебѣ, Господи.
— Чтожъ, часто встаешь ночью?
— Да вотъ другой разъ всю ночь спать не даетъ. А пора рабочая. Овесъ не вязанъ.
Поговоривъ съ бабой, Левинъ вернулся въ сарай и къ своимъ мыслямъ.
«Зачѣмъ нашъ ребенокъ будущій ожидается съ такими приготовленіями, а этотъ? Чтожъ, могу я отдать все и чтобъ Кити, какъ эта бабушка или какъ мать, выкармливала?... Нельзя. Нельзя также, какъ нельзя птицѣ, устыдившейся того, что она летаетъ, а заяцъ не можетъ отдать ему свои крылья». И успокоившись навремя этими доводами, Левинъ сталъ засыпать и уже сквозь сонъ слышалъ смѣхъ и веселый говоръ Весловскаго и Степана Аркадьича.
* № 160 (рук. № 97).
Долли чувствовала себя смущенной, но, чтобы говорить что-нибудь, она, хотя и считала, что съ его гордостью ему непріятны были похвалы его дома и сада, она все таки сказала, что поражена красотой его усадьбы, и съ удивленіемъ замѣтила, что это очень обрадовало его. Онъ вдругъ оживился и сталъ разсказывать ей о своихъ нововведеніяхъ и улучшеніяхъ и сталъ показывать ей ихъ. Изъ за того общаго всѣмъ свѣтскаго приличія, съ которымъ хозяева выставляютъ свои удобства жизни и роскошь съ такимъ видомъ, что это имъ и всѣмъ гостямъ должно представиться какъ самое обыкновенное, она не догадывалась, что, посвятивъ теперь на улучшеніе и украшеніе своей усадьбы всѣ силы своей жизни, для Вронскаго было необходимо показать все это кому нибудь и что ему некому было показывать, и онъ былъ въ восхшценіи отъ того, что она наивно любовалась всѣмъ.
— Если вамъ не скучно и вы не устали, то пройдемте въ больницу, — прибавлялъ онъ, безпрестанно заглядывая ей въ лицо, чтобы убѣдиться, что ей точно было не скучно. — Ты не пойдешь, Анна? — обратился онъ къ ней.
— Нѣтъ,[1669] мы пойдемъ. Неправда ли? — обратилась она къ Свіяжскому. — Только[1670] il ne faut laisser le pauvre Тушкевичъ se morfondre dans le bateau.[1671] Надо послать имъ сказать.
Больница была удивительна, и нельзя было не восхищаться ей. Вронскій если начиналъ что-нибудь дѣлать, то уже доводилъ дѣлаемое до совершенства. Такой больницы нетолько не было въ губерніи, но едва ли была въ столицахъ. Все строеніе, еще не конченное, должно было имѣть видъ феодальнаго замка съ подъѣздомъ, украшеннымъ камнями dans le genre rustique.[1672] Во внутренности была устроена вентиляція самой новой системы. Полы всѣ паркетные, стѣны подъ мраморъ, ванны мраморныя, постели съ такими пружинами, что если развернуть пружины, то можно бы загородить весь крестьянскій выгонъ.
Свіяжскій оцѣнивалъ все, какъ знающій всѣ новыя усовершенствованія. Долли просто восхищалась и удивлялась невиданному ей до сихъ поръ и радовалась тому дружескому и простому отношенію, которое установилось между ею и Вронскимъ, очевидно влюбленнымъ въ свою больницу. Прежде столь чуждый ей, онъ нравился ей теперь своимъ благороднымъ увлеченіемъ. Сказанный Вронскимъ Свіяжскому слова, que c'est devenu tellement commun les écoles,[1673] что я началъ больницу да и увлекся, хотя и испортили немного впечатлѣніе Долли, она всетаки въ эту прогулку и разговоръ съ Вронскимъ съ удовольствіемъ чувствовала, что она сблизилась съ нимъ.
* № 161 (рук. № 97).
Она сѣла къ ней и обняла ее.
— Но ты не презирай меня. Я не стою презрѣнья. Я несчастна. И ты знаешь отчего? Я не во время полюбила. Ты не повѣришь, я до того дня, какъ я прiѣхала къ тебѣ въ Москву и встрѣтила Алексѣя, я не знала, что такое любовь. Вѣдь это смѣшно сказать, но я въ 27 лѣтъ въ первый разъ полюбила, и это мое несчастье. Такъ ты не презираешь меня?
— Нѣтъ, я люблю тебя.
Долли была совершенно покорена. Ей казалось, что все не могло быть иначе, какъ какъ это говорила Анна, и только когда Анна ушла, Долли стала понемногу выходить изъ подъ ея вліянія, и опять ей показалось несправедливо не хлопотать о разводѣ и не рожать дѣтей.
Оставшись одна, Долли помолилась Богу и съ мыслями о домѣ и дѣтяхъ легла на постель. Какъ дорогъ и милъ ей показался этотъ ея міръ и какъ ей захотѣлось опять въ него.
* № 162 (рук. № 97).
Прощаніе съ княжной Варварой, съ мущинами и Анной было особенно непріятно Дарьѣ Александровнѣ. Пробывъ день, и она и хозяева ясно чувствовали, что онѣ не подходятъ другъ къ другу и что лучше имъ не сходиться. И потому обычныя при прощаньи выраженія дружбы, просьбы о перепискѣ и желаніи свидѣться были, очевидно, неискренни. Когда она уѣхала, хозяева и домочадцы въ Воздвиженскомъ почувствовали облегченіе въ родѣ того, которое испытали Левины, когда уѣхалъ Весловскій. Дарья Александровна и кучеръ Левиныхъ испытывали еще болѣе радостное чувство облегченія, когда они выѣхали въ поле. Чувство это было такъ сильно, что они даже сообщили его другъ другу. Дарьѣ Александровнѣ только хотѣлось спросить Григорья кучера о томъ, какъ ему понравилось, какъ онъ самъ началъ говорить.
— Богачи то богачи, а овса по 3[1674] гарнца дали. До пѣтуховъ поѣли. Больше не дали. Чтожъ 3[1675] гарнца: только закусить. Нынѣ овесъ у дворниковъ 35 коп. Авось не разорили бы. Пріѣзжай къ намъ. Сколько съѣдятъ, и даютъ. Скупъ баринъ.
— Да вѣдь это не баринъ, — сказала Дарья Александровна, — а въ конторѣ.
— Нѣтъ, я до камердинера доходилъ. Говорю: «доложите барину». Такъ — «самъ не велѣлъ, — говоритъ, — положены одно — три гарца».
* № 163 (рук. № 97).
Анна безъ гостей все также занималась собою и вмѣсто гостей занималась чтеніемъ не романовъ, какъ она прежде это дѣлала, а такъ называемыхъ серьезныхъ книгъ, тѣхъ модныхъ серьезныхъ книгъ какими были Toqueville, Carlyle, Lewes,[1676]Taіne. Она прочитывала, эти книги, понимая ихъ вполнѣ, но испытывая то обычно оставленное такими книгами чувство возбужденія и неудовлетворенія жажды.
* № 164 (рук. № 97).
Постройка и потомъ устройство больницы сильно занимали ее, и она нетолько помогала, но почти все устроивала сама. Также занимала ее школа для дѣвочекъ. Она сама давала тамъ уроки. Также увлекалась она одно время садомъ, превращеніемъ парка въ садъ. Все, за что она бралась, кипѣло подъ ее руками. Но все это продолжалось недолго.
* № 165 (рук. № 97).
Онъ не могъ нахвалиться своимъ нѣмцемъ управляющимъ. Какое бы онъ ни начиналъ дѣло — постройку больницы, конюшенъ, завода — все шло превосходно, такъ какъ ни у кого, и совершенно такъ, какъ оно должно было идти по послѣднимъ даннымъ Европейской науки. Главное же, всякое дѣло удовлетворяло вполнѣ все больше и больше развивавшемуся въ Вронскомъ чувству расчетливости.
— Das laesst sich ausrechnen, Erlaucht,[1677] — говорилъ нѣмецъ, доставая значительнымъ и привычнымъ жестомъ записную книжку изъ боковаго кармана и быстро дѣлая умноженіе красивымъ почеркомъ. — Sexs Mahl acht ist acht und vierzig,[1678] — и т. д.
Управляющiй приходитъ къ тому, что по теоріи 726 Cubikfut Luft unumgaenlich nothwendig, aber wir schaften uns das Ding von Bergmann an, und mit der Luftpumpe gewinnen wir 200 Cubikfuss. Das giebt uns reinen barich 2000 Rubel.[1679]
Всѣ расчеты нѣмца дѣлались такъ. Смѣта первая по наукѣ требовала 500, но, сообразивъ и придумавъ (именно за 2000 у Графа Вронскаго можно было это сдѣлать) легкое примѣненіе, тоже самое производилось за 3000, такъ что всегда былъ барышъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ все было не кое какъ, а по самому усовершенствованному способу. Барыши еще не получались, потому что не пришло время, но они были несомнѣнны. Теперь были барыши въ расходованіи того капитала, который былъ полученъ за выкупъ и залогъ. И барыши эти были огромные. Больница стоила 80 тысячъ, но ее нельзя бы было построить меньше, чѣмъ за 130 по расчетамъ. Тоже было и въ покупкѣ коровъ, въ постройкѣ завода. На эти вещи, очевидно нужныя, Вронскій не скупился. «Если это дѣлать, то дѣлать самое лучшее, чтобы можно было гордиться, но въ мелочахъ надо быть расчетливымъ». Такъ думалъ Вронскій, и онъ все болѣе и болѣе становится расчетливъ. Кучеръ Левина правду сказалъ Дарьѣ Александровнѣ, что онъ отказалъ въ мѣрѣ овса. Онъ это дѣлалъ по принципу, и керасинъ въ рабочую, и поденные гривенники бабамъ, и дрова на топливо — все было подъ строгимъ его личнымъ контролемъ, и нигдѣ нельзя было взять лишняго.
* № 166 (рук. № 97).
За губернскимъ столомъ шла повѣрка губернскихъ суммъ. Губернской Предводитель, тучный старикъ съ бѣлыми усами и бакенбардами и румянымъ глянцовитымъ барскимъ внушительнымъ и добродушнымъ лицомъ, съ шитымъ блестящимъ воротникомъ, высоко поднимавшимся около его короткой шеи, сидѣлъ на предсѣдательскомъ креслѣ, придерживая бѣлой пухлой рукой черный ящикъ, и тщетно пытался быть спокойнымъ. Онъ краснѣлъ, тяжело дышалъ и безпокойно оглядывался на шумѣвшихъ вокругъ него дворянъ.[1680] Сначала говорилъ Свіяжскій, очень громко и точно, требуя повѣрки суммъ. Потомъ противъ повѣрки суммъ нескладно говорилъ старичекъ. Потомъ опять за повѣрку говорилъ юноша очень ядовитый, потомъ заговорилъ Сергѣй Ивановичъ. Сергѣй Ивановичъ былъ однимъ изъ членовъ комиссіи, разсматривавшей употребленіе губернскихъ суммъ и потому засѣдавшей за столомъ вмѣстѣ съ Предводителемъ и другими членами. Всѣмъ было извѣстно ораторское искусство Сергѣя Ивановича, и большинство слушало его, какъ Пати, озабоченное только тѣмъ, какъ бы не пропустить то мѣсто, которое будетъ замѣчательно и которое будутъ повторять.
Замѣчательное было только въ концѣ отчета о дѣйствіяхъ комиссіи. Комиссія выработала слѣдующія данныя. Точно, ясно и особенно учтиво Сергѣй Ивановичъ изложилъ ихъ и отвѣтилъ на предложеніе Предводителей партіи стараго губернскаго о томъ, чтобы по примѣру прежнихъ годовъ не тратить времени на повѣрку суммъ, а благодарить всѣмъ составомъ нашего глубокоуважаемаго Михаила Ивановича за понесенные имъ труды и перейти къ слѣдующимъ занятіямъ. На это предложеніе Сергѣй Ивановичъ замѣтилъ, не глядя на еще болѣе взволновавшагося Предводителя, что комиссія пришла къ убѣжденію, что ни господа Дворянскіе Предводители, ни мы не имѣемъ права лишать Его Превосходительство того внутренняго удовлетворенія, которое онъ въ виду всей массы дворянъ испытываетъ, отдавъ отчетъ въ столь преуспѣвавшихъ подъ его мудрымъ распоряженіемъ дворянскихъ суммахъ.[1681]
Слова эти, къ удивленію Левина, не видѣвшаго въ нихъ ничего особеннаго, возбудили въ новой партіи тихое и достойное одобреніе, въ старой же партіи — страшное возбужденіе и озлобленіе. Нѣсколько Предводителей и нѣсколько лицъ, окружавшихъ столъ, заговорило вдругъ.
— Не надо. Не хотимъ отчета. Благодаримъ. Вѣримъ.
Поощренный этими криками, Губернскій Предводитель всталъ и заговорилъ искренно взволнованнымъ голосомъ. Слова его были не значительны, онъ говорилъ о довѣріи дворянства, о любви къ нему, которой онъ не стоитъ, ибо вся заслуга его — въ преданности дворянству, которому онъ посвятилъ 12 лѣтъ службы. Но чѣмъ дальше онъ говорилъ, тѣмъ чувствительнѣе становилась его рѣчь. Онъ самъ останавливался отъ слезъ. Происходили ли эти слезы отъ сознанія несправедливости къ нему, отъ любви къ дворянству или отъ натянутости положенія, въ которомъ онъ находился, чувствуя себя окруженнымъ врагами, но волненіе сообщалось многимъ и даже Левину, несмотря на то, что онъ слышалъ отъ своей партіи, что каждое трехлѣтіе Михаилъ Ивановичъ, ударяя себя въ грудь, прослезивается надъ ящикомъ и что поэтому никто не открываетъ его, хотя весьма сомнительно, чтобы деньги были цѣлы.
Несмотря на то что Левинъ зналъ все это, волненіе Губернскаго Предводителя сообщилось ему, и онъ видѣлъ, что Сергѣй Ивановичъ съ саркастической и недовольной улыбкой смотрѣлъ на него, когда Левинъ невольно вмѣстѣ съ другими прокричалъ: «не надо».
Вопросъ о повѣркѣ суммъ былъ рѣшенъ, какъ и въ прежніе выборы. Губернскій Предводитель прослезился, ударялъ себя въ грудь, большинство старыхъ дворянъ также прослезилось, и новаторы остались ни съ чѣмъ.
Двери залы отворились, и толпа мундирныхъ, странныхъ на видъ дворянъ шумно высыпала въ сосѣднюю продолговатую залу, гдѣ можно было закусить, выпить и покурить. Левинъ задержался въ толпѣ сзади другихъ, и Губернскій предводитель, спѣшившій тоже, натолкнулся на него.
* № 167 (рук. № 97).
Доброхотная, гостепріимная и достойная ласка хозяина, его внушительные рѣчи и жесты — все это возбудило вчера невольное уваженіе и сочувствіе. Это не было расположеніе клумбъ и цвѣтовъ и кустиковъ, которые можно было не одобрять и желать передѣлать иначе, а это было большое старое раскидистое дерево, обросшее мохомъ и глубоко пустившее корни, которымъ надо было пользоваться, къ которому надо было пригонять цвѣтники и клумбы, которое нельзя было не признать за фактъ. И вдругъ теперь это то старое, обросшее мохомъ, почтенное дерево робѣло, суетилось, очевидно хитрило и было травимо кѣмъ-же? — юношами — Свіяжскимъ и другимъ безбородымъ мальчикомъ въ элегантномъ мундирѣ съ холоднымъ румянымъ лицомъ, который такъ хорошо говорилъ. Левину трогателенъ и жалокъ былъ этотъ старикъ, и ему хотѣлось сказать ему что нибудь пріятное.
— Я думаю, нынче кончится, — сказалъ онъ.
— Едва ли, — испуганно оглянувшись, сказалъ Предводитель.
— Также скоро и просто, какъ повѣрка суммъ. Вы останетесь...
— О да, только при томъ условіи, чтобы единогласно, а то я усталъ, ужъ я старъ.
Левинъ не зналъ, что отвѣтить, но улыбнулся дружелюбно. Предводитель посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ. Онъ зналъ, что братъ Левина врагъ и потому не понималъ отношенія къ себѣ Левина, но всетаки пожалъ еще разъ руку, и они разошлись.
* № 168 (рук. № 97).
— Ну, какъ идетъ ваше хозяйство?
Помѣщикъ остановился подлѣ Левина, и между ними завязался разговоръ. Помѣщикъ этотъ еще тогда очень понравился Левину. Теперь онъ ему былъ еще пріятнѣе въ эту минуту одиночества. Помѣщикъ принадлежалъ къ разряду старыхъ дворянъ, которые въ залѣ выборовъ такъ рѣзко отличались отъ молодыхъ, новыхъ.
Старые были большей частью или въ дворянскихъ старыхъ застегнутыхъ мундирахъ съ короткими таліями и узкими въ плечахъ или въ своихъ особенныхъ мундирахъ, которые они выслужили на службѣ. Такъ этотъ былъ въ старомъ мундирѣ Генеральнаго штаба.
Молодые же были въ дворянскихъ мундирахъ, но разстегнутыхъ, съ бѣлыми жилетами, широкими въ плечахъ, и съ низкими таліями или въ мундирахъ съ черными воротниками, съ элегантнымъ шитьемъ министерства юстиціи. Левинъ былъ самъ въ такомъ мундирѣ и по виду принадлежалъ къ новымъ. Но, наблюдая дворянъ, онъ невольно вникалъ съ большимъ интересомъ и уваженіемъ въ старыхъ, чѣмъ въ молодыхъ. Молодые казались ему не только не интересны, но и не привлекательны. Бесѣда съ этимъ помѣщикомъ съ сѣдыми усами, очевидно тоже съ удовольствіемъ встрѣтившагося съ Левинымъ, была ему очень пріятна. Глядя въ это умное, столько пережившее, перестрадавшее и все таки честное и достойное лицо, Левину казалось, что онъ получилъ отъ него объясненіе всей этой непонятной для него дворянской дѣятельности. Левинъ высказалъ ему всѣ свои сомнѣнія и отвелъ съ нимъ душу.
* № 169 (рук. № 97).
Свіяжскій взялъ подъ руку Левина и пошелъ съ нимъ къ своимъ.
— Сергѣй Ивановичъ искалъ тебя.
Теперь уже нельзя было миновать Вронскаго, потому что онъ, стоя съ Степаномъ Аркадьичемъ и Сергѣемъ Ивановичемъ, смотрѣлъ прямо на подходившаго Левина.
— Какъ же, я имѣлъ удовольствіе встрѣтиться у Княгини Щербацкой, — сказалъ онъ, подавая руку Левину.
— Я не помню, — сказалъ Левинъ смутившись. — Впрочемъ, можетъ быть, я забылъ. Очень радъ.
И онъ тотчасъ же заговорилъ съ братомъ.
Спокойствіе и порядочность Вронскаго не измѣнили ему ни на минуту, но Левинъ видѣлъ, что онъ былъ и грубъ и глупъ и даже смѣшонъ, и ему было досадно это. Въ дѣйствительности же всѣ очень мало замѣтили это. Всѣ въ это время были очень озабочены предстоящимъ дѣломъ. Были представленными нѣкоторыми довѣренности на шары, которые, если бы были признаны, то количество шаровъ стараго Губернскаго Предводителя было бы больше, чѣмъ ожидалось. Вообще все дѣло стояло такъ, что 5, 6 шаровъ могли все испортить.
— Покажи, пожалуйста, свою довѣренность, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ брату.
Прочтя ее, онъ началъ говорить, что отвергать тѣ довѣренности можно только на основаніи разъясненія циркуляромъ Министерства прибавленія статьи 1807.
Многіе изъ дворянъ уже уходили, многіе собирались кучками, и, очевидно, было волненіе.
Левинъ спросилъ:
— Когда же будутъ болтировать?
Ему отвѣтили, что прежде вопросъ о довѣренностяхъ.
— Какъ же будутъ болтировать? — спросилъ онъ у Свіяжскаго и удивился, замѣтивъ испугъ на лицѣ Свіяжскаго и взглядъ, брошенный на тутъ же стоявшаго бѣлокураго юношу.
Чтобы поправиться и не показать, что онъ чувствуетъ свою неловкость, Левинъ обратился къ бѣлокурому юношѣ и спросилъ его. Но это было еще хуже. Юноша и Свіяжскій были два кандидата.
— Ужъ я то ни въ какомъ случаѣ, — отвѣтилъ юноша.
И вслѣдъ затѣмъ всѣ зашумѣли и, бросая папиросы, пошли въ залу.
* № 170 (рук. № 97).
Волненіе, казавшееся стихшимъ послѣ повѣрки суммъ, теперь вдругъ опять поднялось и, усиливаясь, усиливаясь, какъ это всегда бываетъ въ толпѣ, дошло до высочайшей степени. Всѣ стремительно, съ озабоченными лицами, давя другъ друга, затѣснились къ губернскому столу. Безпрестанно въ запертую дверь врывались запоздавшіе и съ испуганными лицами, боясь пропустить, торопились присоединиться къ толпѣ, спрашивая: «что? что?»
Левинъ издалека слышалъ мягкій голосъ Предводителя, визгливый чей то голосъ и голосъ Свіяжскаго. Они спорили о формѣ довѣренности.
Такъ какъ, для того чтобы смотрѣть на все это дѣло серьезно, Левину надо было помнить, что отъ сверженія Губернскаго Предводителя будетъ зависѣть правильность опекъ и земское дѣло, онъ и помнилъ это и удивлялся той страстности, съ которой разбирали вопросъ о формѣ довѣренности. Онъ постоянно забывалъ силлогизмъ о томъ, что, для того чтобы не было несправедливости по опекамъ, нужно, чтобы Предводителемъ было другое лицо. Для того чтобы Предводитель былъ другой, нужно большинство, для большинства же нужно отвергнуть довѣренности. Для отверженія же довѣренности нужно признать ту форму, въ которой они поданы, не достаточной; для этого же нужно найти антицеденты. Опять прѣнія заключилъ ровный и сильный вездѣ голосъ Сергѣя Ивановича. Онъ доказалъ неопровержимо. Но мнѣнія раздѣлились, а несогласные закричали: «болтировать!» (т. е. болтировать мнѣніе). «Болтировать на шары!»
— О, о! — кричали со всѣхъ сторонъ.
Дворянинъ, котораго Левинъ видѣлъ нѣсколько разъ у водки, кричалъ громче всѣхъ, очевидно только чтобы кричать. Чтобы болтировать, надо было выразить мнѣніе. Опять начались споры. Левинъ усталъ, ему было ужасно скучно и досадно на себя, что онъ никакъ не могъ найти никакого интереса въ томъ, что дѣлалось, тогда какъ большинство, казалось, только что разогрѣлось и находилось на высшей степени возбужденія. Левинъ ушелъ ходить въ залу, гдѣ была закуска, и невольно увлекся наблюденіями надъ лакеями, какъ они убирали недоѣденное и какъ буфетчикъ опять апетитно разставлялъ рюмки и закуски и какъ лакей одинъ съ сѣдыми бакенбардами, очевидно, выказывалъ презрѣніе къ другимъ, и молодые надъ нимъ подтрунивали. Интересы этихъ лакеевъ и буфетчика болѣе занимали его, чѣмъ дворянскіе интересы въ залѣ.
Секретарь дворянской опеки, вертлявый старичекъ, имѣвшій спеціальность знать всѣхъ дворянъ губерніи по имени и отчеству, развлекъ его.
* № 171 (рук. № 97).
— 98 неизбирательныхъ, — прозвучалъ громкій голосъ, и опять начался гулъ, говоръ, крикъ, и всѣ пошли въ залу, гдѣ была закуска.
— Никакого права не имѣлъ!
— Подлость!
— Прокатили!
— На основаніи статьи...
— Желалъ бы я знать, кто пуговицу положилъ?
— Нѣтъ уваженія къ своему дѣлу, — слышалъ Левинъ взволнованные голоса въ разныхъ группахъ, которые теперь уже опредѣленнѣе образовывались. Ясно уже было видно, какъ группа одной партіи замолкала, когда проходили дворяне другой партіи.
— Что, каково? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, подхватывая Левина за руку. — Мы вынесли на плечахъ своихъ — однимъ шаромъ.
Онъ, очевидно, былъ уже въ полномъ азартѣ игры. Его занималъ, какъ въ крокетъ, выигрышъ своей партіи. Такое же волненiе было замѣтно на другихъ лицахъ. Позиція была выгоднѣе для партіи новыхъ, но у старыхъ была еще надежда. Старые по нѣкоторымъ уѣздамъ пошли просить Губернскаго Предводителя болтироваться. Надѣялись, что другіе уѣзды сдѣлаютъ тоже, но уѣздъ Свіяжскаго прямо отказался, и другіе уѣзды послѣдовали его примѣру. Губернскій Предводитель всетаки, несмотря на то, что онъ выражалъ Левину другое, рѣшился болтироваться. Опять всѣ пошли въ залу, опять роздали шары, и тутъ уже Левинъ, исполняя предначертанное, впередъ приготовившись, сжалъ оба кулака, таинственно держа шаръ въ лѣвой, и всунулъ обѣ, но, задумавшись, вынулъ обѣ, не положивъ, и, очевидно, положилъ налѣво.
Опять послышался счетъ шаровъ, опять голосъ провозгласилъ число избирательныхъ, и опять всѣ зашумѣли и пошли въ комнату, гдѣ закуска.
Предводитель былъ выбранъ значительнымъ большинствомъ.
— Ну, теперь кончено? — спросилъ Левинъ у Сергѣя Ивановича, все болѣе и болѣе чувствуя уныніе, скуку и пристыженность.
— Теперь вопросъ Кандидата, — сказалъ за Сергѣя Ивановича, неудостоившаго отвѣта, [Свіяжскій]. — Кандидатъ Предводителя можетъ получить больше шаровъ.
Вронскій подошелъ къ нимъ.
— Ну, что, Графъ? Вы довольны?
— Да, пріятно, что мы настояли на своемъ. Какъ разъ тѣ 6 шаровъ, которые мы расчитывали.
Вронскій, очевидно, уже вполнѣ участвовалъ въ игрѣ и понималъ всѣ ея фазы.
— Вы будете? — сказалъ Вронскій Свіяжскому.
— Надо уговорить его, — обратился онъ къ Сергѣю Ивановичу.
— Ни въ какомъ случаѣ, — отвѣчалъ Свіяжскій рѣшительно.
* № 172 (рук. № 99).
Было еще одно[1682] общество, которое было интересно для Левина, — это общество университетское, съ которымъ онъ сошелся черезъ пріятеля профессора и которые ѣздили и которые собирались къ нему. Въ этомъ обществѣ Кити съ удивленіемъ, такъ какъ она по свойственной женщинамъ склонности не уважать то, что не понимаешь, она съ удивленіемъ увидала,[1683] что мысли Левина нетолько о хозяйствѣ, но и о политической экономіи очень серьезно заняли ученыхъ людей и что онъ много зналъ и думалъ по этой части, и къ его мнѣніямъ имѣли уваженіе. Но это общество и занятія въ библіотекѣ и книгой не увлекали его въ городѣ. Онъ говорилъ ей, что онъ не ученый, но что то, что онъ пережилъ, передумалъ, онъ желаетъ высказать. Но прежде всего онъ желаетъ пережить. Не высказать еще можно переживши. Но сказать что нибудь не переживши нельзя, и потому онъ хотѣлъ жить. А жить онъ могъ только на своемъ мѣстѣ. Здѣсь же онъ, кромѣ того что былъ внѣ своей среды, не жилъ, а только ждалъ. Мысль о приближающихся родахъ ни на минуту не покидала его. Поѣздка на выборы разсѣяла его и произвела то, чего ожидала Кити. Хотя онъ ей ничего и не говорилъ, а только разсказалъ все, что было, она по его тону и въ особенности потому, какъ онъ послѣ этой поѣздки пересталъ жаловаться ей на свою общественную праздность и какъ онъ пересталъ спорить съ Сергѣемъ Ивановичемъ объ общественной дѣятельности, а, напротивъ, усвоилъ себѣ спокойное, веселое отношеніе къ этимъ вопросамъ, она поняла, что онъ въ этомъ отношеніи теперь пришелъ въ совершенную ясность.[1684] Она хорошенько не понимала какъ, но тотъ разговоръ съ помѣщикомъ о Весталкиномъ огнѣ, который онъ съ особеннымъ чувствомъ ей передалъ очевидно, имѣлъ большое вліяніе на его успокоеніе.
Было еще два оазиса въ этомъ морѣ чуждыхъ ему людей. Это были товарищъ его Котовасовъ, женившійся въ это время и съ которымъ они сблизились, и Голышевъ, женатый на племянницѣ Щербацкаго, съ которымъ они особенно сблизились.
* № 173 (рук. № 99).
Первое время онъ сталъ ходить въ библіотеку и заниматься чтеніемъ для своей книги и выписками, но потомъ ему все болѣе и болѣе становилось некогда отъ ничего недѣланія, и онъ не могъ продолжать и уже не раскаявался, а спокойно ѣздилъ изъ мѣста въ мѣсто и вездѣ слушалъ и говорилъ, слушалъ и говорилъ. И говорилъ такъ много о тѣхъ самыхъ мысляхъ, которыя должны были составить его книгу, что мысли эти даже перестали интересовать его. Но чѣмъ празднѣе онъ становился, тѣмъ онъ становился озабоченнѣе. Столько было интересовъ, что онъ не поспѣвалъ слѣдить за всѣми и составлять о нихъ опредѣленное мнѣніе, а нужно было имѣть, потому что всѣ эти интересы начинали занимать его. Онъ не замѣчалъ, что это были не его интересы, что онъ въ деревнѣ никогда бы и не подумалъ о нихъ, занимаясь тѣми, которые выростали изъ его хода жизни и мыслей, а что онъ, увлекаясь этими чуждыми интересами, отдавался потоку толпы. Но онъ увлекался ими. Его занималъ и вопросъ знаменитаго процесса, и магнетизма, и университетскій, и думскій, и славянскій, и много другихъ вопросовъ, и его самолюбію льстило, что онъ болѣе, чѣмъ большинство, имѣлъ своихъ мыслей объ этихъ вопросахъ. И онъ ѣздилъ, разговаривалъ, и ему было не только не скучно, но часто пріятно.
* № 174 (рук. № 103).
— Рѣшительно исправляетесь, батюшка, пріятно видѣть, — сказалъ Котовасовъ, въ лѣтнемъ пальто вмѣсто халата встрѣчая Левина въ маленькой гостиной. — Я слышу звонокъ и думаю: не можетъ быть, чтобы во время; Ну что, каково въ Петербургѣ то встрѣтили гостей? А это знаменательно, — началъ онъ тотчасъ же о той политической модной новости, которая занимала въ это время публику.
Кромѣ своей науки, Котовасовъ интересовался только политикой. Левинъ еще не слыхалъ подробностей этой встрѣчи.[1685] Онъ не читалъ вчерашней вечерней газеты.
— А что?
Котовасовъ сказалъ свое мнѣніе и, войдя въ кабинетъ, познакомилъ Левина съ[1686] ученымъ Летовымъ. Тутъ же былъ профессоръ физики,[1687] котораго труды Левинъ зналъ,[1688] всегда интересуясь физикой, и когда то, страстно надѣясь сдѣлать открытіе, занимался ею. Онъ очень радъ былъ встрѣтить извѣстнаго ему ученаго.
Разговоръ остановился на короткое время на[1689] политической новости.
Оба ученые сказали то, что они слышали про это дѣло. Физикъ передалъ извѣстные ему изъ вѣрнаго источника слова, сказанныя по этому случаю Государемъ и министромъ.[1690] Летовъ же слышалъ то же за вѣрное, что Государь сказалъ совсѣмъ другое. Котовасовъ придумалъ такое положеніе, въ которомъ и тѣ и другія слова могли быть сказаны, и разговоръ на эту тему, очевидно никого очень не интересующій, прекратился.
— Да вотъ написалъ почти книгу объ естественныхъ условіяхъ рабочаго въ отношеніи къ землѣ, — сказалъ Котовасовъ. — И я не спеціалистъ, но мнѣ понравилось, какъ естественнику, то, что онъ беретъ человѣчество какъ что-то внѣ зоологическихъ законовъ, а, напротивъ, видитъ[1691] зависимость его отъ среды и[1692] въ этой зависимости отъискиваетъ законы развитія.
— Это очень интересно, — сказалъ[1693] Летовъ.
— Я попытался только, признавъ свойства извѣстнаго мнѣ русскаго рабочаго крестьянина за присущія ему зоологическія свойства,[1694] — началъ Левинъ краснѣя, — изслѣдовать тотъ путь, по которому онъ стремится идти къ своему благосостоянію. Я старался не задаваться мыслью, — поспѣшно прибавилъ Левинъ,[1695] — что[1696] путь этотъ есть тотъ, по которому идутъ болѣе развитые народы, а совершенно свободно отъискивалъ этотъ путь и пришелъ къ новымъ довольно результатамъ. Изучая на самомъ предметѣ, дѣлая наблюденія....
— Это то и дорого,[1697] — перебилъ его Летовъ. — Теорій много въ нашей наукѣ, а данныхъ статистическихъ, наблюдение и опытовъ — мало.[1698] Опыты, наблюденія, факты даютъ не самую истину, но отрѣзываютъ пути ложныя и, все болѣе и болѣе сжимая этотъ путь, наконецъ указываютъ его.
— Совершенно вѣрно, — отвѣчалъ физикъ, — но[1699] всетаки наука никогда не можетъ удовлетвориться однимъ анализомъ. Анализъ и синтезъ всегда держатъ свои равные права.
Соціологъ согласился съ этимъ мнѣніемъ, но, очевидно, этотъ вопросъ не интересовалъ его.
— Почему же вы полагаете, что русскій человѣкъ имѣетъ особенное отношеніе къ землѣ? — спросилъ Летовъ Левина.
— По зоологическимъ, такъ сказать, свойствамъ человѣка или по его отношенію къ землѣ — количественному.
Левинъ видѣлъ, что вопросъ[1700] этотъ былъ не только вопросъ, сколько вступленіе къ изложенію своего мнѣнія, но ему хотѣлось высказать всю свою мысль, и потому онъ сталъ говорить о томъ, что самый народъ сознаетъ всегда свое призваніе и что призваніе русскаго народа есть заселеніе огромныхъ пространствъ. Соціологъ опять перебилъ его, замѣтивъ, что легко быть введену въ заблужденіе, дѣлая умозаключенія объ общемъ призваніи народа, что основой отношенія человѣка къ землѣ всегда будутъ два начала: количественное отношеніе земли къ человѣку и качество земли. И не давая ужъ Левину досказать свою мысль, соціологъ началъ излагать ему свое ученіе о томъ, что первыя заселенія не могли быть сдѣланы на лучшихъ и плодороднѣйшихъ мѣстахъ.
Соціологъ имѣлъ усвоенную на кафедрѣ привычку говорить и охоту къ этому. Вопросъ же, о которомъ онъ говорилъ, интересовалъ его и былъ еще нерѣшеннымъ, не обработаннымъ для него самаго. И потому ему пріятно было повѣрять этимъ самого себя, излагать свое ученіе, въ особенности человѣку, интересующемуся этимъ дѣломъ. Кромѣ того, ему пріятно было излагать это Левину еще и потому, что всѣмъ знакомымъ и близкимъ людямъ онъ давно уже изложилъ свою теорію. А Левинъ былъ новый человѣкъ.
Левинъ слушалъ не совсѣмъ охотно. Ему казалось, что онъ самъ знаетъ впередъ все, что скажетъ соціологъ, и хотѣлось перебить его, чтобы сказать свою мысль, такую, которая, по его мнѣнію, должна была опровергнуть всѣ доводы соціолога.[1701] Несмотря на[1702] это, Левину все-таки было пріятно и лестно, что этотъ умный, ученый человѣкъ такъ старательно излагаетъ ему свои воззрѣнія.[1703] Левинъ не зналъ того, что такому вниманію онъ обязанъ только тому, что онъ новый человѣкъ, и думалъ, что это была дань его уму и знанію, поразившимъ уже соціолога,[1704] и тѣмъ болѣе онъ желалъ дождаться конца рѣчи соціолога, чтобы изложить ему свои взгляды. Онъ и дождался этаго и изложилъ свои, но соціологъ остался къ нимъ, очевидно, холоденъ и вступилъ въ завязавшійся между физикомъ и Котовасовымъ разговоръ объ университетскомъ вопросѣ.
Университетскій вопросъ былъ очень важное событіе въ эту зиму въ Москвѣ. Три старые профессора въ совѣтѣ не приняли мнѣнія молодыхъ, молодые подали отдѣльное мнѣніе. Мнѣніе это было, по сужденію однихъ, ужасно,[1705] по сужденію другихъ — было самое простое и справедливое мнѣніе, и профессора раздѣлились на двѣ партіи.
Одни, къ которымъ принадлежалъ Котовасовъ и физикъ, видѣли въ противоположной сторонѣ подлый доносъ, обманъ; другіе видѣли мальчишество, неуваженіе къ авторитетамъ. Левинъ, хотя и не принадлежавший къ университету, нѣсколько разъ еще вчера слышалъ и говорилъ объ этомъ дѣлѣ и имѣлъ свое составленное на этотъ счетъ мнѣніе и теперь, принявъ участіе въ общемъ разговорѣ, выразилъ это мнѣніе.
Такъ онъ просидѣлъ у Котовасова часа полтора и просидѣлъ бы еще больше, еслибъ физикъ не посмотрѣлъ на часы.
— Ахъ, я опоздаю, — сказалъ онъ.
— А куда вы? — спросилъ Котовасовъ.
— Да нынче въ юго-восточномъ комитетѣ засѣданіе въ память 100-лѣтняго юбилея Кржимаго.
— Такъ что же вамъ? — сказалъ Котовасовъ.
— Да я обѣщалъ прочесть въ его память о его трудахъ по физикѣ. Меня просили, а то ничего не будетъ.[1706]
— А! — сказалъ Котовасовъ, совершенно понявъ теперь, для чего нужно было ѣхать.
— Да что же вы не заѣдете ко мнѣ, — сказалъ физикъ Левину. — Я очень радъ вамъ показать.
Онъ обѣщалъ показать новый, полученный имъ изъ Англіи, аппаратъ,[1707] о которомъ они тоже поговорили.
— Да вѣдь не знаю, когда застать васъ.
— Да вотъ хоть нынче, послѣ засѣданія комитета. Да пріѣзжайте въ засѣданіе. Право, интересно, а оттуда пройдемъ ко мнѣ[1708] съ два шага.
— Ахъ, очень радъ, — сказалъ Левинъ, быстро обсудивъ все то, что ему предстояло нынче утромъ: визитъ, засѣданіе въ судѣ,[1709] Львовъ, концертъ. Онъ рѣшилъ, что[1710] поѣдетъ къ Львову, кстати и у него позавтракаетъ.
Онъ вышелъ вмѣстѣ съ физикомъ и, обѣщавшись быть въ засѣданіи, поѣхалъ къ Львову.
III глава.
Львовъ былъ человѣкъ совершенно противуположныхъ вкусовъ и привычекъ Левину. Онъ былъ европейскій аристократъ по манерамъ и убѣжденіямъ и воспитанію. Жилъ всю свою жизнь въ столицахъ, преимущественно въ Европѣ, гдѣ онъ служилъ дипломатомъ, имѣлъ величайшее уваженіе и довѣріе къ общественному мнѣнію и по французски нетолько говорилъ свободнѣе, чѣмъ по русски, но и думалъ. Но, несмотря на эту противуположность, они очень сошлись съ Левинымъ.
Львовъ вышелъ изъ дипломатическаго корпуса не по непріятности (у него никогда ни съ кѣмъ не было непріятностей) и перешелъ на службу въ дворцовое вѣдомство въ Москву для того, чтобы дать наилучшее воспитаніе своимъ двумъ дѣтямъ — мальчику и дѣвочкѣ, которые составляли единственную цѣль его жизни.
Онъ былъ дома, и Левинъ безъ доклада вошелъ къ нему въ нестолько роскошный и изящный, сколько доведенный до малѣйшихъ подробностей удобства и чистоты кабинета.
Львовъ въ домашнемъ сюртукѣ съ поясомъ, въ замшевыхъ ботинкахъ сидѣлъ на креслѣ и въ съ синими стеклами pince nez читалъ книгу, стоявшую на пюпитрѣ, осторожно держа нѣжнымъ пальцемъ прекрасной руки до половины испеплившую сигару.
Красивое, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые, блестящіе, серебрянные волоса придавали еще болѣе породистое выраженіе, просіяло спокойной, радостной улыбкой.
Онъ не вставая протянулъ руку и заговорилъ по русски съ несколько французскимъ акцентомъ.
— Отлично! А я хотѣлъ къ вамъ посылать. Ну что Кити? Садитесь сюда, покойнѣе. — Онъ всталъ и придвинулъ качалку. — Откуда и куда?
Левинъ разсказалъ ему свое прошедшее посѣщеніе Котовасова и знакомство съ Летовымъ и предстоящую поѣздку въ университетъ.
Львова это очень интересовало. Онъ разспросилъ и сказалъ, что ему жалко, что онъ не можетъ слѣдить за всѣмъ этимъ.
— И потомъ мое образованіе слишкомъ недостаточно, — сказалъ онъ. — Мнѣ для воспитанія дѣтей нужно много освѣжить въ памяти и просто выучить. Вотъ я читаю, — онъ показалъ грамматику Буслаева, — требуютъ отъ Миши, а это такъ трудно, — и, напавъ на свою любимую тему воспитанія, на которую Левинъ любилъ наводить его, Левинъ разговорился по французски.
— Пойдемте теперь завтракать
— Очень хочу.
И они пошли въ столовую. Левинъ, какъ всегда, полюбовался прекрасными дѣтьми, позавтракалъ и обѣщалъ Львовой заѣхать за ней въ публичное засѣданіе любителей, чтобы съ ней вмѣстѣ оттуда ѣхать къ Николѣ Явленному — такъ они называли домъ Кити — обѣдать.
— Какія прелестныя дѣти, — сказалъ Левинъ выходя.
— Ахъ, не говорите. Это слишкомъ страшно. Все, что я желаю, — чтобы они были лучше меня. И это не много. А хороши? О, какъ это трудно быть хорошимъ.
— Кити мнѣ говорила что то переговорить съ вами объ Облонскомъ, — сказалъ Левинъ, когда Львовъ остановился провожать его.
— Да, да, maman хочетъ, чтобы мы, les beaux frères,[1711] напали на него и дѣлали ему внушенія. Что можно сдѣлать? Да и какое я имѣю право? По праву дружбы — я согласенъ. Но проповѣдовать нравственность я не могу. Я самъ, можетъ быть, хуже его. Je n’ai pas de tentations, voilà tout.[1712] Но мы можемъ сказать, что намъ велѣли. Ну, иди на коньки, Миша, — сказалъ онъ сыну.
— А ты пойдешь, папа?
— Пойду. Такъ я не могу говорить; все, что я могу сдѣлать, — это подтверждать то, что вы скажете.
— Да я то что?
— Ну, à ce soir.[1713]
«Экой славный, славный человѣкъ», говорилъ себѣ Левинъ,[1714] сѣвши на извощика и закутываясь воротникомъ отъ бившаго въ лицо снѣга, направляясь къ университету.
Засѣданіе уже было въ серединѣ, когда Левинъ вошелъ въ залу.
Въ большой, темной залѣ у стола въ серединѣ сидѣлъ Предсѣдатель во фракѣ и звѣздѣ: человѣкъ пять сидѣло по бокамъ, и одинъ лѣниво читалъ скучную рукописную исторію жизни Кржимаги.
Левину, слушая его, казалось, что не было ни однаго слова изъ того, что тотъ читалъ, которое бы онъ не слыхалъ сотни разъ. Вокругъ стола въ отдаленіи, между рядами пустыхъ стульевъ и креселъ, въ одномъ изъ которыхъ сидѣлъ Левинъ, сидѣло десятка два мущинъ и дамъ. Всѣ показались Левину ужасно грустны.
Когда чтецъ кончилъ, Пресѣдатель поблагодарилъ его и прочелъ присланные ему стихи знаменитаго поэта Мента на этотъ юбилей. Онъ прочелъ стихи, которые Левину тоже показались знакомыми. Потомъ физикъ прочелъ свою записку объ ученыхъ трудахъ юбиляра, и это было интересно. Потомъ всѣ встали, и Левинъ подошелъ къ физику, познакомился съ Предсѣдателемъ и принялъ участіе въ разговорѣ о томъ судейскомъ дѣлѣ знаменитаго убійцы, на которое онъ не поѣхалъ. При этомъ были высказаны мнѣнія, которыя Левинъ слышалъ уже, и онъ высказалъ свое мнѣніе, противоположное общему, которое онъ вчера еще на вечерѣ у[1715] Сипягиной развивалъ и имѣлъ успѣхъ. Его новое и оригинальное мнѣніе Предсѣдатель и физикъ приняли какъ что-то извѣстное и не заслуживающее возраженія. И это было немножко оскорбительно Левину.
Пройдя на квартиру физика, Левинъ съ большимъ интересомъ разсмотрѣлъ аппаратъ и побесѣдовалъ съ физикомъ. Отъ вопросовъ о теплѣ и электричествѣ они перешли къ позитивизму и вообще къ философіи, къ которой физикъ оказывалъ большую склонность, и тутъ завязался споръ, во время котораго Левину удалось сказать слово, которое ему понравилось.
— Вы говорите, что вопросы метафизическіе не подлежатъ позитивной наукѣ, — сказалъ онъ. — Но вѣдь метафизическіе вопросы суть только вопросы о смыслѣ жизни, и потому отвѣтъ, что позитивная наука не занимается метафизикой, другими словами значитъ, что она не ищетъ смысла, т. е. единства въ жизни.[1716]
Левинъ[1717] вышелъ отъ профессора еще рано, такъ что могъ успѣть побывать въ концертѣ, такъ какъ это было близко.
* № 175 (рук. № 99).
Изъ концерта, гдѣ Левинъ встрѣтилъ много знакомыхъ и переговорилъ еще о многихъ предметахъ и узналъ еще много самыхъ свѣжихъ новостей, онъ поѣхалъ къ Графинѣ Боль отдать визитъ, который сдѣлалъ имъ Графъ и на которомъ настаивала Кити, провожая его. Какъ ни привыкъ теперь Левинъ къ городской жизни, онъ уже такъ давно не дѣлалъ визитовъ, что ему странно было это. «Ни имъ меня не нужно, ни мнѣ ихъ, ничего между нами общаго нѣтъ. Ну зачѣмъ я приду? Что я скажу?» Въ старину, когда онъ былъ холостой, онъ никогда не дѣлалъ этихъ визитовъ, и не достало бы духу. Онъ бы боялся быть смѣшнымъ, но теперь ему было все равно, и онъ смѣло вошелъ въ швейцарскую.
— Дома?
— Графиня дома. Какъ прикажете доложить? Пожалуйте.
Левинъ снялъ одну перчатку, взялъ шляпу въ лѣвую руку и пошелъ по лѣстницѣ, улыбаясь надъ самимъ собой. «Если бы мы были разумныя существа, эта Графиня спросила бы меня, зачѣмъ я пріѣхалъ, и я рѣшительно не зналъ бы, что сказать. Рѣшительно ни за чѣмъ, даже для удовольствія не могъ бы сказать, потому что ни ей, ни мнѣ не можетъ быть удовольствія!»
Когда Левинъ входилъ, Графиня Боль что то говорила съ экономкой или гувернанткой, и лицо у нея было озабоченное. Но увидавъ Левина, она улыбнулась и прошла съ нимъ вмѣстѣ къ одному дивану, очевидно нисколько не сомнѣваясь, что тутъ, у этаго дивана, надо дѣлать то, что они сбираются дѣлать. Она сѣла на диванъ и указала ему стулъ. Онъ сѣлъ, поставилъ на полъ шляпу.
— Вы были въ концертѣ?
— Да, я только оттуда.
— Хорошо было?
— Да, очень интересно, но я думаю...
И онъ началъ повторять то, что говорилъ тамъ. Она притворялась, что слушала. Онъ говорилъ, а самъ думалъ: «Если бы мы были разумныя существа, она сказала бы: пошелъ вонъ!, а она, видимо, находитъ, что это натурально и что все я говорю какъ слѣдуетъ». Вошла барышня. Левинъ всталъ, поклонился.
— Вы знакомы? Что Катерина Александровна?
Левинъ сказалъ, что она здорова. Барышня сѣла, улыбаясь сказала, что онѣ были вчера въ оперѣ и что новые пѣвцы не понравились ей. Тутъ вошелъ юноша, незнакомый Левину, и точно тоже сдѣлалъ, что Левинъ, и заговорилъ о выставкѣ картинъ. Левинъ сказалъ о выставкѣ картинъ свое мнѣніе. И наступило молчаніе. Потомъ мать съ дочерью переглянулись. «Неужели пора вставать? — подумалъ Левинъ. — Ну, ужъ если бы разумныя существа, можно еще не разсердиться, что я пришелъ безъ дѣла, но ужъ нельзя не разсердиться за то, что оторвалъ ихъ отъ дѣла; прошло 5 минутъ, посидѣлъ и уйду. Зачѣмъ же ты приходилъ, коли сейчасъ уходишь? А вижу, что такъ надо». Онъ всталъ, они нисколько не удивились, нашли, что это совершенно такъ надо и даже повеселѣли, пожали ему руку и просили передать mille choses[1718] женѣ. Швейцаръ нахмурившись спросилъ, подавая шубу:
— Гдѣ изволите стоять, — и тотчасъ же записалъ въ большую, хорошо переплетенную книжку.
* № 176 (рук. № 99).
Въ концѣ обѣда ихъ развлекъ еще старичокъ сгорбленный съ отвисшей губой и въ мягкихъ сапогахъ, который тихимъ, тихимъ шагомъ подошелъ къ ихъ столу. Это былъ одинъ изъ самыхъ старыхъ членовъ клуба, князь Кизлярской. Никто его не зналъ внѣ клуба, но, какъ члена клуба, его знала вся Москва. Онъ остановился, оглядывая себѣ мѣсто, и выбралъ наконецъ недалеко отъ Левина, тяжело сѣлъ и поманилъ къ себѣ пальцемъ лакея.
— Это такъ называемый шлюпикъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ довольно громко, указывая на князя Кизлярскаго: онъ зналъ, что онъ былъ глухъ. — Это еще покойный Арнольдъ ввелъ названіе. Онъ искалъ на партію четвертаго. Никого не было. Онъ и говоритъ: «Ну, какого нибудь шлюпика приведи». Человѣкъ пошелъ прямо къ нему. Съ тѣхъ поръ пошло — шлюпикъ.
— А слышалъ, какъ швейцаръ съострилъ? — сказалъ Туровцинъ.
— Какже, приходитъ этотъ, знаешь, самый древній въ швейцарскую, спрашиваетъ: «изъ шлюпиковъ есть кто?» «Вы третій». «А мы въ шлюпики попадемъ, — сказалъ онъ. — А»?
— Петръ Ильичъ Виновской просятъ, — перебилъ старичокъ лакей, поднося два тоненькихъ стакана доигрывающаго шампанскаго и обращаясь къ Степану Аркадьичу и къ Левину.
Степанъ Аркадьичъ взялъ стаканъ и, переглянувшись на другой конецъ стола съ плѣшивымъ рыжимъ, усатымъ мущиной, у котораго усы шли отъ щекъ, помахалъ ему, улыбаясь, головой.
— Кто это? — спросилъ Левинъ.
— Ты его у меня встрѣтилъ. Добрый малый.
Левинъ сдѣлалъ тоже, что Степанъ Аркадьичъ, и взялъ стаканъ.
— Нѣтъ, это однако удивительно, что князь Кизлярской опоздалъ къ обѣду. Онъ не опаздывалъ 30 лѣтъ.
Старый членъ въ мягкихъ сапогахъ, кончивши обѣдать, идя мимо князя Кизлярскаго и ковыряя зубочисткой въ зубахъ, увидавъ Князя Кизлярскаго, нахмурился и подошелъ къ нему.
— Это что значитъ, Князь? Къ обѣду опоздали? — сказалъ онъ, садясь подлѣ него.
Князь Кизлярской, завѣсившись салфеткой, жадно ѣлъ уху и не отрываясь смотрѣлъ на собесѣдника, очевидно показывая, что онъ имѣетъ что отвѣтить, но теперь ему некогда.
— Странное дѣло, — началъ онъ, окончивъ хриплымъ медленнымъ голосомъ съ восточнымъ акцентомъ. — Въ 28 лѣтъ 2-й разъ опоздалъ, — сказалъ онъ. — Тоже дѣло было, отложить нельзя. Да и ошибся.
— Какое же дѣло?
— А жену хоронилъ. Тоже обѣщали, что кончутъ всѣ дѣла рано, а вышло не рано. Вѣдь тоже изъ Грузинъ на Ваганьково, не малый конецъ. Да и дорога никуда не годится.
— Вотъ я и не зналъ.
— Какже, была жена. Хорошая была женщина. Она нѣмка была. Ну, и дорога, я вамъ скажу. Странное дѣло. Сергѣй, ты кулебяку подай, — обратился онъ къ лакею.
— Чтожъ, кончили, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ улыбаясь. — Допьемъ, да и пойдемъ.
— Нѣтъ, я боюсь, что много, — сказалъ Левинъ, вставая и чувствуя, что лицо его горитъ и что ему очень все становится легко и весело.
Въ исторіи жены Князя Кизлярскаго онъ видѣлъ только одно смѣшное, и хотѣлось, отойдя отъ стола, посмѣяться объ этомъ.
Войдя въ большую залу, Левинъ столкнулся съ Вронскимъ. Вронской тоже былъ краснѣе и веселѣе обыкновеннаго. Онъ очень обрадовался Степану Аркадьичу и съ той же веселой улыбкой протянулъ руку Левину.
— Вы гдѣ обѣдали?
— Мы за вторымъ столомъ, за колонами.
— А я встрѣтилъ Ташкентова и Яшвина.
— Вы надолго въ Москву? — спросилъ онъ у Левина.
— Да я уже 3-й мѣсяцъ.
— Очень радъ встрѣтиться.
Степанъ Аркадьичъ разсказалъ комическую исторію жены Князя Кизлярскаго. Вронской добродушно расхохотался, и они вмѣстѣ сѣли у камина. Яшвинъ подошелъ къ нимъ. Съ нимъ познакомили Левина, и еще кто-то спросилъ шампанскагo.
Старый Князь Щербацкой, проходя черезъ комнату, подошелъ къ Левину и, взявъ его за руку, повелъ съ собою.
— Я очень радъ, что ты сошелся опять съ Вронскимъ. Мы, и я и ты, ничего не можемъ упрекнуть ему. И онъ порядочный человѣкъ. Ну, я сяду за свою партію, а ты что?
— Да я самъ не знаю, похожу, посмотрю, да и домой.
— Да, братъ, это интересно. Но надо знать. Вотъ этотъ знаешь — Мѣрковъ. Это одинъ изъ самыхъ интересныхъ людей. Съ тѣхъ поръ какъ я себя помню, я помню его. Онъ живетъ съ цыганкой, но, кромѣ того, у него двѣ старухи сестры — дѣвки. Онъ ихъ содержитъ. У него ни гроша за душой. Но онъ, вотъ видишь, пьетъ и играетъ. Но онъ пьетъ, а умъ не запиваетъ. Гришка Мѣрковъ, Гришка Мѣрковъ. Какъ кто богатенькій изъ Петербурга пріѣзжій, онъ съ нимъ составляетъ партію по четвертаку. Шампанское неугасаемое, тѣ пьютъ и лапти плетутъ, а онъ играетъ. Ну и этимъ живетъ. И добрый малый.
* № 177 (рук. № 99).
Гостиная, самая обыкновенная комната, показалась необыкновенно красива и пріятна Левину. За чаемъ продолжался пріятный, незамѣтный разговоръ, во время котораго пониманіе другъ друга между Анной и Левинымъ все болѣе и болѣе устанавливалось. Разговоръ зашелъ о книгахъ для народа. Левинъ говорилъ, что народъ не понимаетъ нашихъ книгъ. Анна замѣтила, что она никогда не могла увлечься школой, чувствуя непреодолимую стѣну между coбой и народомъ. Когда Левинъ подтвердилъ это,
— Ну вотъ видите, ужъ если вы, — я знаю все про васъ, — который такъ близокъ къ народу, чувствуете эту стѣну, что же городскимъ жителямъ, да еще женщинамъ. Не надо обманывать себя.
* № 178 (рук. № 99).
Выйдя изъ гостиной, Левинъ чувствовалъ неловкость, и неловкость эта все усиливалась по мѣрѣ того, какъ онъ вспоминалъ все, что было, т. е. самые простые разговоры. Она была умная, милая, сердечная женщина и очень жалкая, но что то было не то. Левина болѣе всего пріятно поразилъ въ Аннѣ ея calme[1719] благородный и самоудовлетворяющійся, а этого то и не было. Это было притворство.
—————
Оставшись одна, Анна[1720] взяла книгу, но не читала, а думала. Кити любила Вронскаго и Лѣвина, и Анна испытывала склонность къ той же самой послѣдовательности. Несмотря на рѣзкое различіе между ними въ умственномъ строѣ и вообще съ точки зрѣнія мущины, съ точки зрѣнія женщины въ нихъ было что то одинаковое. То, что любили женщины, было одно и тоже. И съ первой встрѣчи съ Левинымъ Анна почувствовала, что она могла бы заставить его полюбить себя, что онъ былъ ея и что она могла бы полюбить его. Это она почувствовала, когда прощалась съ нимъ. И вспомнивъ весь вечеръ, она поняла, что она не переставая кокетничала съ нимъ. Теперь все это время, съ тѣхъ поръ какъ у нея не было дѣтей, она постоянно чувствовала себя возбужденной, и вызывать чувство мущины было для нея естественно, непроизвольно даже.
И она чувствовала, что что то было не то, и ей больно и стыдно это было. И вмѣстѣ съ тѣмъ была рада. «Если я такъ дѣйствую на другихъ, на этаго семейнаго, любящаго человѣка, отчего же онъ такъ холоденъ ко мнѣ?» Но[1721] она не позволяла себѣ остановиться на этихъ мысляхъ. Жизнь ея здѣсь, въ Москвѣ, была не жизнь, a ожиданіе[1722] развязки ея положенія, которая все оттягивалась. Она не позволяла себѣ ничего начинать, ничего измѣнять; она, сдерживая себя, ждала, безпрестанно говоря себѣ, что тогда, когда она выйдетъ замужъ, тогда начнется. Пока у нея были забавы семейства Англичанина, писаніе, чтеніе. Вронской, хотя и бывалъ, какъ нынче, въ клубѣ и кое-гдѣ у самыхъ близкихъ знакомыхъ, всетаки проводилъ большую часть времени съ нею, и любовь его не уменьшалась. Когда же приходили дурныя мысли и занятія не помогали, былъ морфинъ. Нынче были мысли о Левинѣ, зависть къ Кити, которая мѣшала ей,[1723] и она приняла морфинъ.
* № 179 (рук. № 99).
— Ты, вѣрно, не будешь сердиться, что я поѣхалъ. Стива просилъ и Долли, и потомъ я радъ, что съ Вронскимъ мы стали пріятели. Я бы желалъ, чтобы ты встрѣтилась. Вѣдь ты не сердишься, что я поѣхалъ?
— О, нѣтъ, — хитро, ласково сказала она.
— Она очень милая, очень, очень, и жалкая, хорошая женщина, — говорилъ онъ, разсказывая про Анну.
Кити вполнѣ, казалось, раздѣляла его мнѣніе, и онъ ушелъ раздѣваться. Вернувшись въ спальню успокоенный, ободренный Кити, Левинъ вдругъ былъ удивленъ и ужаснутъ видомъ жены, которая, и не начиная раздѣваться, сидѣла на томъ креслѣ, на которомъ онъ оставилъ ее, и отчаянно рыдала.
* № 180 (рук. № 99).
— Господи помилуй, прости, помоги, — твердилъ онъ и душою и устами. Онъ могъ думать только о двухъ вещахъ — о мельчайшихъ подробностяхъ того, что ему нужно сдѣлать, — какъ найти и увезти доктора и какъ найти другаго, если этотъ почему нибудь не можетъ, то къ какому, на какую улицу онъ поѣдетъ, и вмѣстѣ послать Ѳедора къ 3-му. И кромѣ этихъ подробностей того, что онъ могъ и долженъ былъ дѣлать и въ обдумываніи которыхъ онъ чувствовалъ себя необыкновенно спокойнымъ, неторопливымъ и обдуманнымъ, онъ могъ только думать о Богѣ, его законахъ, его личномъ отношеніи къ нему, Левину, и къ Кити и о Его милосердіи.
— Господи, прости и помоги.
О самой же Кити, о выраженіи ея лица, которое непереставая было передъ нимъ, онъ не думалъ и не могъ думать. Онъ испытывалъ къ совершавшемуся тамъ таинственный и любовный ужасъ, исключающій мысли, и испытывалъ только все увеличивающееся напряженіе.
* № 181 (рук. № 99).
— Ну, прощайте. Господи, прости и помоги, — говорилъ Левинъ и вскочилъ въ сани рядомъ съ Ѳедоромъ.[1724]
— Но, вмѣсто того чтобы ѣхать къ доктору, онъ теперь, напряженно обдумывая всѣ случайности, рѣшилъ, что лучше вернуться домой, чтобы спросить у Лизаветы Петровны, какъ дѣла, и чтобъ было бы что передать доктору.
— Поѣзжай къ доктору, — сказалъ онъ Федору, — а я сейчасъ пріѣду.
И онъ вернулся домой, и, съ необыкновенной внимательностью, отчетливостью и напряженностью дѣлая все — снимая шубу, отворяя двери, онъ вбѣжалъ по лѣстницѣ и вошелъ въ спальню.
Кити сидѣла на креслѣ, вязала и разсказывала громко, весело, какъ Долли вчера ихъ смѣшила. Если бы не ея воспаленное лицо и тотъ же глубокій взглядъ, можно бы подумать, что ничего не было необыкновеннаго. Княгиня слушала ее съ торжественно взволнованнымъ лицомъ, безпрестанно оглядываясь на Лизавету Петровну, которая, засучивъ рукава, быстрымъ, легкимъ шагомъ ходя по комнатѣ, что то разбирала и устанавливала. Кити тоже смотрѣла на нее. Дѣвушка глядѣла на нее, не спуская глазъ. Она, казалось, теперь была главное лицо, обращавшее всеобщее вниманіе.
— Что ты? — спросила его Княгиня недовольно.
— Я заѣхалъ спросить, что сказать.
— Ты не бойся, Костя, — сказала Кити весело, подходя къ нему. — Теперь...
И опять таже жалоба, безпомощность, радость, торжество и нѣжность.
Но она не кончила и схватилась за него. Лизавета Петровна подбѣжала къ ней.
— Поѣзжайте, да опіуму возьмите.
Левинъ опять побѣжалъ внизъ и поѣхалъ къ доктору.
* № 182 (рук. № 99).
Дѣла Степана Аркадьича шли все хуже и хуже. Дѣла его были въ такомъ положеніи, что всякій не только благоразумный, предусмотрительный человѣкъ, но человѣкъ просто не лишенный разсудка пришелъ бы въ отчаяніе, но Степанъ Аркадьичъ нетолько не приходилъ въ отчаяніе, но забота о будущемъ не портила ни одной изъ минутъ удовольствій, изъ ряда которыхъ составлялась его жизнь. Онъ долгимъ опытомъ уже узналъ теперь всѣ тѣ обстоятельства, которыя были связаны съ заботами, и старательно и всегда добродушно отворачивался отъ нихъ. Деньги за лѣсъ были почти всѣ прожиты. Онъ за вычетомъ 10% забралъ у купца почти все впередъ, и на остальное Дарья Александровна, узнавъ про это, наложила свое запрещеніе. Въ первый разъ Дарья Александровна прямо заявила свои права на свое состояніе и также, какъ отказалась подписать купцу въ полученіи денегъ за послѣднюю ⅓ лѣса, также и ничтожный доходъ съ Покровскаго требовала прямо себѣ и, кромѣ того, заявляла свои права на часть жалованья. На все это Степанъ Аркадьичъ соглашался отъ всей души и отдавалъ все, что могъ. Но кромѣ жены, денегъ требовали отъ него и должники, и Захаръ иногда принималъ сторону должниковъ и отбиралъ послѣднія деньги, такъ что случалось, что Степану Аркадьичу иногда нечѣмъ было заплатить за мѣсто въ театрѣ, за обѣдъ и бутылку шампанскаго, если онъ не обѣдалъ у знакомыхъ содержателей. Это было непріятно, и это не должно было такъ продолжаться. У князя Бариманскаго было уже 1½ милліона долга, у Красавцева 300 тысячъ, у Жевахова полмилліона, у того самаго, который прожилъ 5 милліоновъ и сдѣлалъ 1 долгу; было же мѣсто министра съ 20 тысячами оклада, и онъ жилъ же. И Степанъ Аркадьичъ считалъ своей обязанностью устроить свои дѣла такъ, чтобы жить.
* № 183 (рук. № 99).
... — Она отъ всего отказалась, но дѣйствительность, время показали, что ея положеніе мучительно и невозможно. Не то чтобъ онъ измѣнился къ ней...
— Нельзя ли безъ излишнихъ подробностей, — сказалъ нахмурившись Алексѣй Александровичъ.
— Положеніе невозможно по тому, какъ глядитъ на это свѣтъ, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ, задѣтый за живое вопросомъ о сестрѣ, и самъ не ожидая того, находя слова и выраженія и, главное, сердечное убѣжденіе — Дѣло въ томъ, что ея положеніе мучительно тяжело. Она заслужила его, ты скажешь. Она знаетъ это и не проситъ тебя. Она прямо говоритъ, что она ничего не смѣетъ просить. Но я прошу, умоляю, мы всѣ, родные, всѣ, любящіе ее. А ее любятъ и любили многіе, потому что ее нельзя не любить. Дѣло теперь такъ. Ея положеніе мучительно, и оно можетъ быть облегчено тобой, и ты ничего не потеряешь. Но я рекапитюлирую.[1725] Она просила тебя по нашей просьбѣ 6 мѣсяцевъ тому назадъ. Ты отвѣчалъ ей, обѣщая. Она переѣхала въ Москву, ожидая рѣшенія своей судьбы. До этаго она жила въ деревнѣ. И она безъ этаго бы не переѣхала въ Москву, гдѣ ей каждый шагъ, каждая встрѣча ножъ въ сердцѣ.
— Я обѣщалъ и готовъ сдержать.
— Да, но тутъ явился вопросъ о сынѣ, котораго она страстно любитъ.
— Вопросъ о сынѣ есть вопросъ не моей личной жизни, какъ разводъ, но вопросъ долга. Я не могу отдать его.
— Ну хорошо, она просила сына, ты не соглашаешься. Но этимъ самымъ вопросъ о разводѣ не рѣшенъ отрицательно.
— Но она повторила черезъ тебя желаніе имѣть сына. Я не считаю нужнымъ отвѣчать, такъ какъ отвѣтъ былъ бы повтореніе перваго.
— Да, но почему же ты отказалъ и въ разводѣ? Надо бы подумать о ней.
— Я не отказалъ, но по нѣкоторымъ причинамъ и указаніямъ, — и произнося слова: «некоторымъ причинамъ и указаніямъ», взглядъ Алексѣя Александровича, принявъ задумчивое, таинственное выраженіе, остановился на двери, — я просилъ дать мнѣ время вновь обдумать это рѣшеніе.
— Да, но, Алексѣй Александровичъ, ты добрый человѣкъ. Войди на мгновенье въ ея положеніе. Вопросъ развода для нея въ ея положеніи — вопросъ жизни и смерти. Обольстивъ ее ожиданіями, приведя ее въ то состояніе нетерпѣнія, что вотъ вотъ рѣшится, ты мучаешь ее такъ 3 мѣсяца. Вѣдь это все равно, что приговореннаго къ смерти держать мѣсяцы съ петлей на шеѣ, обѣщая, можетъ быть, смерть, можетъ быть, помилованіе.
— Вы видите одну свою сторону дѣла, — спокойно сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Можетъ быть, это тяжело, можетъ быть, я виноватъ, что я обѣщалъ то, чего не имѣлъ права дать.
— Какъ, ты отказываешь? Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, ты пожалѣй ее. Я не хочу вѣрить этому. Алексѣй Александровичъ, подумай. Для нея это вопросъ жизни и смерти. Искренно говорю тебѣ, что она въ такомъ положеніи, что я всего боюсь за нее.
— Надо смотрѣть на вещи со всѣхъ сторонъ, — продолжалъ спокойно Алексѣй Александровичъ, и Степанъ Аркадьичъ, забывая то, что Алексѣй Александровичъ давно ужъ былъ внѣ вліянія Анны, удивился на то равнодушіе, съ которымъ онъ говорилъ. — Я сказалъ, что обѣщалъ того, чего не могу дать. Vous professez d’être un libre penseur,[1726] хотя я этому не вѣрю, и мнѣ хотѣлось бы поговорить съ тобой объ этомъ, но я не буду тебѣ приводить доводовъ религіозныхъ, которые прямо отрицаютъ разводъ, я написалъ объ этомъ записку, но они не могутъ понять того свободнаго отношенія христіанина къ церкви.
— Такъ что же?
— Да, но и практически, какъ я доказываю въ запискѣ, эта мѣра почти невозможная. Мы, допуская разводъ, впадаемъ въ то же заблужденіе, въ которомъ бы былъ человѣкъ, пустившій барку по теченію рѣки и достигнувшій цѣли передвиженія, если бы онъ, чтобы доставить барку вверхъ по рѣкѣ, также бы пустилъ ее на воду.
— Я не понимаю, — недовольно сказалъ Степанъ Аркадьичъ. — И не понимаю, теперь отказываешь ты...
— Сравненіе мое показываетъ то, что не въ религіозномъ, а въ чисто общественномъ смыслѣ бракъ есть какъ бы освященіе религіей и государствомъ естественнаго явленія соединенія половъ для семьи, и на этомъ только основана успѣшность этаго учрежденія, но если мы будемъ, какъ въ Европѣ, освящать обратное естественному ходу, то мы встанемъ въ рядъ неразрѣшимыхъ затрудненій.
— Но теперь, въ твоемъ случаѣ, я прямо прошу, умоляю тебя спасти ее. Пожалѣть. Отказываешь ты.
— Я не отказываю и не соглашаюсь, но я долженъ обдумать и поискать указаній, — сказалъ Алексѣй Александровичъ съ тѣмъ же таинственнымъ взглядомъ.
— Когда же я получу отвѣтъ?
— Когда ты ѣдешь?
— Послѣ завтра.
— Завтра. Нѣтъ не завтра, — сказалъ онъ съ улыбкой. — A пріѣзжай нынче къ графинѣ Лидіи Ивановнѣ, и я дамъ рѣшительный отвѣтъ.
— Одно помни, ради Бога, что она несчастна теперь, какъ только могутъ быть несчастны люди, и что въ твоихъ рукахъ находится ея спасеніе, избавленіе. Она въ ужасномъ положеніи.
Итакъ, обѣщавшись въ 8 часовъ быть у графини Лидіи Ивановны, Степанъ Аркадьичъ простился съ Алексѣемъ Александровичемъ и вышелъ. Уже надѣвая шинель, онъ вспомнилъ про просьбу сестры повидать Сережу и зашелъ къ нему. Онъ поласкалъ мальчика, но былъ пораженъ его сконфуженностью. Мальчикъ хотѣлъ и не смѣлъ спросить дядю про мать.
* № 184 (рук. № 99).
Во французскомъ театрѣ, въ которомъ онъ засталъ послѣдній актъ, и потомъ у татаръ за шампанскимъ Степанъ Аркадьичъ отдышался немножко свойственнымъ ему воздухомъ и, все-таки никакъ не сообразивъ, очень ли умно или очень глупо то, что онъ видѣлъ, но стараясь не думать объ этомъ, пошелъ спать.
Къ радости и удивленію своему, онъ на другое утро получилъ отъ Алексѣя Александровича запечатанное письмо къ Аннѣ и записку, въ которой было сказано, что съ нынѣшняго же дня Алексѣй Александровичъ приступаетъ къ разводу.
Такъ какъ дѣла Степана Аркадьича не были еще кончены и онъ долженъ былъ оставаться въ Петербургѣ еще три дня, онъ послалъ письмо въ тотъ же день по почтѣ. Но на второй день онъ получилъ телеграмму изъ Москвы такого страшнаго содержанія, что, не дожидаясь конца дѣлъ, онъ тотчасъ же уѣхалъ.
* № 185 (рук. № 99).
Была уже вторая половина мая, а Вронской съ Анной не переѣзжали ни на дачу, ни въ деревню, а продолжали жить въ Москвѣ, хотя въ Москвѣ имъ дѣлать было нечего. Они не переѣзжали потому, что въ продолженіи всего послѣдняго мѣсяца у нихъ не было ни однаго мирнаго дня. Для того чтобы предпринять что-нибудь въ семейной жизни, необходимы или совершенный раздоръ между супругами, тогда воля-власть однаго рѣшаетъ за другаго и другой подчиняется, или любовное согласіе, подъ вліяніемъ котораго предпринимается общее дѣло. Когда же отношенія супруговъ неопредѣленны, нѣтъ ни того, ни другаго — дѣло ждетъ, пока разрѣшится положеніе, и все остается въ statu quo.[1727] Многіе семьи по годамъ остаются на старыхъ мѣстахъ, постылыхъ обоимъ супругамъ, только потому, что нѣтъ ни полнаго раздора, ни согласія. Такъ было и съ Вронскими.
И Алексѣю Кириллычу и Аннѣ Московская жизнь въ жарѣ и пыли, когда солнце свѣтило по весеннему и всѣ деревья и кусты были въ листьяхъ и цвѣтахъ, была невыносима, и они прежде рѣшали уѣхать въ Воздвиженское тотчасъ послѣ Святой; но они продолжали жить въ Москвѣ потому, что уже больше мѣсяца между ними было раздраженіе, которое оба сдерживали, зная, какъ они необходимы другъ другу, какъ они любятъ другъ друга. Но раздраженіе было, и не видно было конца ему, такъ какъ раздраженіе было внутреннее, не зависящее отъ какой нибудь внѣшней причины. Началось это раздраженіе давно прежде, но выразилось съ того вечера, въ который Алексѣй Кириллычъ высказалъ свое мнѣніе о ея обществѣ, о воронахъ, слетѣвшихся на трупъ. Она съ несвойственной ей раздражительностью защищалась и напала на него именно потому, что она чувствовала, что онъ былъ правъ и что онъ попалъ прямо въ сердцѣ ея выдуманной высоты и разрушилъ ее. Но не то было ей обидно и досадно. Ей было больно то, что это зданіе новой жизни, честной, трудовой, съ новыми людьми, было ею построено не для себя, а для него, такъ она думала. Она устроила себѣ эту жизнь для того, чтобы онъ не мучался мыслью о томъ, что она тяготится своимъ уединеннымъ отъ общества положеніемъ, главное же затѣмъ, чтобы его привлечь опять къ себѣ, къ своему дому, и отвлечь его отъ той свѣтской жизни внѣ дома, въ которую онъ больше и больше втягивался.
Основа всего была ея ревность къ нему, та самая ревность, про которую она такъ хорошо говорила когда то съ Кити и которую она за собой не признавала. «Я не ревную, но мнѣ просто непріятно, что онъ находитъ удовольствіе внѣ дома. Я не ревную, — говорила она себѣ. — Je ne suis point jalouse si je l’étais jamais»,[1728] говорило ея сердце.
Она вспоминала Долли, какъ она прямо признавалась въ своей ревности ей и самому мужу. Ей, безукоризненной женщинѣ, законному мужу можно было говорить это. «Но чтожъ могу сказать я? — думала Анна. — Сказать ему — ты долженъ понимать, что для меня въ жизни остался одинъ ты; что ты имѣешь право бросить меня, какъ я бросила своего мужа; но ты пожалѣешь меня. Нѣтъ, я не могу говорить ему про свою ревность: я не могу унизиться до этаго!» говорила она себѣ. A, вмѣстѣ съ тѣмъ она уже давно ревновала всѣми силами своей души. Она ревновала его не къ какой нибудь одной женщинѣ — ревность ея: долго съѣдала ея сердце, и, не имѣя еще предмета, она ревновала его къ уменьшенію его любви. Весь онъ, со всѣми его привычками, мыслями, желаніями, со всѣмъ его душевнымъ и физическимъ складомъ, былъ для нея одно — любовь къ женщинамъ, и женщина была одна она.
Любовь эта уменьшилась или ей такъ казалось; слѣдовательно, онъ часть любви перенесъ на другихъ или на другую женщину. Вмѣстѣ съ тѣмъ его любовь къ ней была вся ея жизнь. Если ушла часть его любви, ушла и часть ея жизни. Уйдетъ вся любовь, уйдетъ и вся жизнь. Эта мысль была такъ страшна, что она отгоняла ее и отъискивала захваты въ жизни, которые бы держали ее помимо ея любви. Одно изъ такихъ средствъ ухватиться за жизнь помимо его было все ея устройство московской жизни. Вся эта жизнь съ[1729] занятіями наукой, съ умными, либеральными недовольными людьми, съ школами, съ дѣтскими садами и заботливость о дочери было только средство спастись отъ страшной угрозы ревности. Онъ пришелъ и однимъ словомъ разрушилъ, завалилъ все это зданіе, и она осталась опять одна съ своимъ ужасомъ. Заботливость о дочери завалилась вмѣстѣ со всѣмъ зданіемъ. Она никогда не могла заставить себя любить эту дочь въ сотую долю такъ, какъ она любила сына. Онъ былъ выкормленъ ею, былъ первенецъ, рожденъ въ условіяхъ семьи; эта была причиной физическихъ и нравственных страданій, она не кормила ее и даже видъ ея только больно напоминалъ ей отсутствіе Сережи. Все опять разрушилось, и она осталась одна съ своей безпредметной ревностью и другимъ чувствомъ, совершенно особеннымъ отъ ревности, но которое всегда соединялось съ нею, — чувство раскаянія за все зло, которое она сдѣлала Алексѣю Александровичу. «Погубила его и сама мучаюсь. Сама мучаюсь и его погубила».
Такъ соединялись въ ея душѣ эти два чувства. «Мою жизнь онъ разрушилъ, а самъ развѣ перемѣнилъ свой образъ жизни? — думала она. — Нѣтъ. Цѣлый день его нѣтъ дома. Каждый день почти онъ ѣздитъ на дачу къ матери. И тутъ есть женщина». Если бы не было женщины, ей бы нужно было выдумать...
Во время спора ихъ въ тотъ вечеръ онъ сказалъ одно слово, которое она безъ слезъ гнѣва не могла вспомнить и вспоминала всякую минуту; онъ сказалъ: «Я всѣмъ, кажется, пожертвовалъ и жертвую для тебя». Она видѣла въ его глазахъ, что онъ устыдился этихъ словъ, какъ только произнесъ ихъ. «Но онъ сказалъ, онъ сказалъ ихъ». Онъ сказалъ, что теперь жертвуетъ всѣмъ для нея. Она была одна дома; онъ поѣхалъ на какой то холостой пиръ на Воробьевыхъ горахъ; какая то гонка лодокъ, и дама какая то будетъ плавать. Она была одна,[1730] не велѣла зажигать лампъ и свѣчей и ходила взадъ и впередъ по гостиной, изрѣдка останавливаясь и прижимая руки къ горячимъ вискамъ. Услыхавъ стукъ подъѣхавшей коляски, она остановилась. «Это онъ. Что я могу сказать ему? — подумала она. — Онъ все можетъ сказать мнѣ». Она такъ раздражала себя, воображая его любящимъ другую женщину и тяготящимся ею, что она уже забыла его, какой онъ былъ, а воображала себѣ его, какимъ онъ былъ въ ея воображеніи.
«Онъ можетъ сказать мнѣ: я васъ не держу, вы не хотѣли расходиться съ вашимъ мужемъ, вы можете идти куда хотите. Я обезпечу васъ, если мужъ васъ не приметъ». Она придумала себѣ эту ужасную фразу и, вообразивъ себѣ ее, упала на колѣни передъ диваномъ, передъ которымъ стояла, прижалась головой къ сидѣнью и зарыдала. Когда онъ вошелъ, она успѣла встать, отереть глаза и сѣсть къ столу съ книгой. Она едва удерживала новыя слезы при мысли, какъ она жалка, что должна лгать передъ нимъ.
Онъ вошелъ въ лѣтнемъ свѣтломъ платьѣ, съ слѣдами холостого обѣда на раскраснѣвшемся лицѣ, подошелъ и поцѣловалъ въ лобъ.
— Что же ты не пріѣхала? — Ее звали тоже, и онъ совѣтовалъ пріѣхать за нимъ. — Стива былъ тамъ.
— Не хотѣлось. Чтожъ, весело было? — сказала она спокойно.
— [1731]Да, глупо. Какая то учительница Шведской Королевы плавала въ нанковомъ капотѣ. Ridicule.[1732] Но обѣдъ прекрасный. Чтожъ и огня нѣтъ?
— Я тебя ждала.
— Анна, — сказалъ онъ съ веселой улыбкой, — за что ты на меня? Если я виноватъ, прости.
Онъ взялъ ея руку, цѣлуя и лаская.
— Ничего, ничего, — поспѣшно сказала она. — Нечего прощать. Все хорошо. Иногда мнѣ скучно,[1733] но и давно пора уѣхать.
Онъ позвонилъ и велѣлъ подать чаю. И они, какъ въ первое счастливое время, любовно говорили и дѣлали планы. Но вдругъ зазвенѣла цѣпь, которая ихъ сковывала, и все испортилось. Разговаривая объ отъѣздѣ въ деревню, Анна предложила уложиться завтра и ѣхать послѣзавтра.
— Да нѣтъ, постой. Въ воскресенье мнѣ надо быть у maman, — сказалъ Вронскій, и Аннѣ показалось, что она замѣтила смущенье на его лицѣ.
Онъ всегда былъ смущенъ, когда при ней говорилъ про мать, которая не хотѣла принимать ее. Она вдругъ вспыхнула и отстранилась отъ него.
— Если такъ, то мы не уѣдемъ совсѣмъ, — сказала она.
— Да отчего же?
— А оттого, что не уѣдемъ. Если ѣхать, то ѣхать послѣзавтра. Развѣ ты не можешь поѣхать завтра?
— Да нѣтъ, она просила.....
— Я не поѣду въ воскресенье. Завтра или никогда.
— Анна, — укоризненно сказалъ Вронскій. — Зачѣмъ? Ну что это? Вѣдь это не имѣетъ смысла.
— Ты всѣмъ пожертвовалъ для меня, а не можешь...
— Да нѣтъ, никогда...
— Нѣтъ, ты сказалъ это, а не можешь исполнить моей просьбы.
— Да если бы это было резонно. А то я не знаю, что будетъ послѣ, какое требованье? Вѣдь это не имѣетъ смысла. Ну что сдѣлаютъ два дня?
— Для тебя это ничего, тебѣ очень весело. Но...
Она остановилась; ей показалось унизительнымъ говорить о томъ, какъ тяжелы были для нея эти одинокіе дни.
— Анна, я понимаю, какъ тебѣ тяжело, но вѣдь это все кончится. Я даже ѣду къ maman объ этомъ. Если она напишетъ Алексѣю Александровичу, онъ сдѣлаетъ.
— Я не хочу этаго, вскрикнула Анна. — Ты не затѣмъ ѣдешь. Отчего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правду?
— Я никогда не говорилъ неправды. И очень жаль, если ты не уважаешь человѣка, который... для котораго... своего мужа, — выговорилъ онъ.
— Уваженье выдумали для того, чтобы скрывать пустое мѣсто, гдѣ должна быть любовь. А если ты не любишь меня, то лучше и честнѣе это сказать.
Вронской вскочилъ съ мѣста съ энергическимъ отчаяннымъ жестомъ, и брови его мрачно сдвинулись.
— Нѣтъ, это становится невыносимо, — вскрикнулъ онъ и, стараясь успокоиться, выговорилъ медленно:
— Чего ты хочешь отъ меня?
— Чего я могу хотѣть? Я могу хотѣть только того, чтобы вы не покинули меня. Но я этаго не хочу, какъ вы думаете. Я хочу любви, и ея нѣтъ. Стало быть, все кончено.
Она направилась къ двери.
— Постой, пос...той, — сказалъ Вронской, не раздвигая мрачной складки бровей. — Въ чемъ дѣло? Я сказалъ, что отъѣздъ надо отложить на 3 дня, ты мнѣ сказала, что я лгу и не честный человѣкъ.
— Да, и повторяю, что человѣкъ, который попрекаетъ мнѣ, что онъ всѣмъ пожертвовалъ для меня, что это хуже, чѣмъ нечестный человѣкъ, это человѣкъ безъ сердца.
— Нѣтъ, есть границы терпѣнію, — вскрикнулъ онъ. — Ничего не понимаю, — и невольно отбросилъ руку, которую держалъ въ своей рукѣ.
Она ушла къ себѣ, раздѣлась, легла и взяла книгу. Лицо ея было холодно и злобно, также, какъ было у нея на душѣ. «Онъ тяготится мною, онъ любитъ другую женщину», говорилъ въ душѣ ея голосъ, который она хотѣла не слышать. Она лежала и читала, и изрѣдка воспоминанія о немъ всплывали у нея въ душѣ. Вдругъ она почувствовала себя въ прошедшемъ, въ домѣ Каренина, въ Петербургѣ, со всѣми подробностями минуты: также стояла свѣча, та же книга, та же кофточка съ шитымъ рукавомъ, тѣ же[1734] подавляемыя мысли и одна, ясно выражаемая мысль: «зачѣмъ я не умерла», и другая страшная мысль. «Какая мысль?» спросила она себя. Да, это была страшная мысль, даже не мысль, a желаніе — желаніе, чтобы онъ, Алексѣй Александровичъ, умеръ. Какъ часто приходила ей тогда эта мысль и какъ желанная смерть эта уясняла все. Теперь ужъ этаго не нужно. «Мнѣ не нужна смерть Алексѣя Александровича, теперь я несчастлива не отъ Алексѣя Александровича, а отъ него. Что же, ему умереть? Нѣтъ,[1735] его смерть сдѣлала бы меня еще болѣе несчастливой, если возможно. — Она положила книгу на колѣни и стала думать, снимая и надѣвая кольцо на тонкомъ бѣломъ пальцѣ. — Такъ чья же смерть нужна теперь? Ничья», — вслухъ сказала она себѣ, несмотря на то, что въ душѣ все оставался вопросъ — чья смерть?
И опять взяла книгу и стала читать и читать, понимая, что читала, несмотря на то, что въ душѣ, независимо отъ чтенія, происходила своя работа. Она читала, что невѣста его измѣнила ему и пришелъ къ ней.[1736] И тутъ вдругъ въ одно и тоже время въ душѣ Анны голосъ отвѣтилъ на вопросъ: чья смерть? И женихъ, и невѣста въ книгѣ, и окно, у котораго она стояла, — все это изчезло и замѣнилось трескомъ и потомъ тишиной и темнотой. Свѣча догорѣла, затрещала и вдругъ потухла. Анна съ открытыми глазами лежала въ темнотѣ и[1737] понимала, что ей отвѣтилъ внутренній голосъ.[1738]
«Да, и стыдъ и позоръ Алексѣя Александровича и Сережи, и мое несчастье, и его, его страданья, да, все спасается моей смертью. Мнѣ умереть, моей свѣчѣ потухнуть,[1739] да, тогда все бы было ясно. Всѣмъ бы было хорошо.[1740] Но умереть, потушить свѣчу свою. Она задрожала отъ физическаго ужаса смерти. — Нѣтъ, все, только жить, не умереть. Вѣдь я люблю его, вѣдь онъ любитъ меня. Это такъ, минутное». Слезы текли ей по щекамъ, губамъ и шеѣ.[1741] Она быстро надѣла халатъ и пошла искать его. Онъ спалъ крѣпкимъ сномъ въ кабинетѣ. Она поцѣловала его въ лобъ, не разбудивъ, — онъ только заворочался, почмокавъ губами, — и вернулась къ себѣ. «Нѣтъ, я безсмысленно раздражительна, — сказала она себѣ. — Этаго не будетъ больше. Завтра я примирюсь съ нимъ». И она заснула успокоенная и совершенно забывъ о томъ, что ее успокоило.
Вронскіе не уѣхали ни на 3-й день, ни послѣ Воскресенья. На другой день послѣ ихъ ссоры Анна не исполнила своего намѣренія. Еще она не выходила къ кофею, какъ она услыхала отъ дѣвушки, что отъ старой Графини пріѣхала барышня и вызвала Алексѣя Кириллыча на крыльцо. Анна неодѣтая перебѣжала въ гостиную и увидала изъ окна, какъ ей казалось, объясненіе всего. Вронской стоялъ у коляски, въ которой сидѣла свѣженькая, вся въ веснушкахъ миловидная дѣвушка (это была воспитанница графини) и улыбаясь говорила съ нимъ что то.
«Это она», сказала себѣ Анна, замѣтивъ то пустое мѣсто ревности, которое въ ней было къ этой воспитанницѣ, и за кофеемъ произошло столкновеніе болѣе непріятное, чѣмъ наканунѣ.
Алексѣй Кириллычъ уѣхалъ раздраженный и сдержанный съ какимъ-то, какъ ей казалось, строгимъ и рѣшительнымъ видомъ.[1742]
Вопросъ объ отъѣздѣ въ деревню остался нерѣшеннымъ. Она требовала отъѣзда нынче.
— Если нынче ты не ѣдешь, то я и совсѣмъ не хочу ѣхать, — сказала она въ раздраженіи спора, хотя, очевидно, слова эти ничего не значили кромѣ того, что пока не будетъ согласія, мы не уѣдемъ, и теперь мы не ѣдемъ.
Раскаяніе въ томъ, что она не могла удержаться, и безпокойство въ томъ, что будетъ, мучали ее все утро. Она ждала его, надѣясь объясниться и загладить вину, если была (была или же не была вина, было все равно). Нужно было загладить раздраженіе. Въ 3-мъ часу вернулась коляска шагомъ. Его не было. Она послала Аннушку узнать, гдѣ остался Алексѣй Кириллычъ. Аннушка пришла съ отвѣтомъ, что Алексѣй Кириллычъ остался на Нижегородской дорогѣ и велѣлъ пріѣзжать къ вечернему поѣзду. Анна поблѣднѣла, и руки ея затряслись, когда она получила это извѣстіе. «Такъ и есть, онъ и нынче поѣхалъ туда, къ матери, жаловаться на меня (Анна забывала, какъ это непохоже было на него). Но нѣтъ, онъ поѣхалъ къ ней».
Цѣлый день этотъ до поздняго вечера Анна просидѣла неподвижно на одномъ мѣстѣ съ неподвижными глазами. Когда онъ вернулся и сталъ спрашивать ее, что съ ней, она сказала ему, что онъ самъ знаетъ, и, наконецъ, не въ силахъ удерживаться, истерически зарыдала и между рыданіями высказала ему все, что она думала.
— Брось меня, брось. Уѣзжай. Оставь меня. Кто я? Развратная женщина. Камень на твоей шеѣ.
Видя, какъ она страдаетъ, Вронской умолялъ ее успокоиться и увѣрялъ, что нѣтъ признака основанія ее ревности, что онъ ѣздилъ къ матери только за тѣмъ, чтобы просить ее написать то письмо, которое должно было убѣдить Алексѣя Александровича дать разводъ. Что онъ только о ней думаетъ. Онъ самъ плакалъ, умоляя ее успокоиться.
И мгновенно отчаянная ревность перешла въ отчаянную, страстную нѣжность. Она обнимала его, покрывая поцѣлуями его голову, руки, шею. Она плакала отъ нѣжности и признавалась ему въ томъ, что на нее иногда находятъ минуты сумашествія. Примиреніе, казалось, совершилось полное, но на другое утро, когда Вронской, пользуясь хорошими отношеніями, установившимися между ними, началъ говорить о предметѣ, постоянно занимавшемъ его, именно о разводѣ, вдругъ опять на нее нашло раздраженіе, еще больше прежняго. Вронской сказалъ, что мать написала письмо Алексѣю Александровичу и что, вѣроятно, Алекеѣй Александровичъ согласится.
— И тогда я буду совершенно счастливъ, — сказалъ Вронской. — Всѣ эти размолвки у насъ происходятъ отъ этаго.
— Отчего? — спросила она спокойно.
— Оттого, — сказалъ Вронской, находившійся въ самомъ хорошемъ расположеніи духа и желая быть вполнѣ откровеннымъ, — оттого, что положеніе наше неопредѣленно и неясно, и мы чувствуемъ это, и другіе чувствуютъ, и это на насъ дѣйствуетъ.
— Что же неяснаго въ томъ, что мущина и женщина любятъ другъ друга? Никакіе обряды не могутъ сдѣлать этаго серьезнымъ, если это несерьезно, — сказала Анна подъ вліяніемъ уже того либерализма, которымъ она напиталась въ обществѣ Юркина и его protégé.
— Ахъ, зачѣмъ нарочно не понимать, — говорилъ Вронской, желая высказать всю правду и забывая то, что правда есть самое непріятное зрѣлище для тѣхъ, кто внѣ ея. — Вопервыхъ, дѣти, которые будутъ.
— Ахъ, ихъ и не будетъ, можетъ быть, — съ раздраженіемъ сказала Анна.
— Ну, потомъ — ты извини меня — но я увѣренъ, что большая доля твоей безсмысленной ревности происходитъ отъ того, что я незаконный твой мужъ.
— Вопервыхъ, я и не ревнива и не ревную, это разъ на меня нашло сумашествіе, и то не ревность, а оттого, что ты былъ неделикатенъ.
Уже тонъ ея голоса говорилъ, что это не она говоритъ, а злая сила, овладѣвшая ею, но Вронской не замѣтилъ.
— Ну, положимъ, — продолжалъ онъ съ упорствомъ, желая высказать свою новую, какъ ему казалось, мысль, — но дѣло въ томъ. Я переношу на себя, что если бы я жилъ съ дѣвушкой, то мнѣ могла бы приходить мысль, и не то (онъ тонко сжалъ губы) чтобы она думала выдти за другого замужъ, но чтобъ другіе, глядя на нее, думали, что она можетъ выдти замужъ.
Анна неподвижно слушала, и глаза ея блестѣли.
— Да что, ты можешь жениться! — сказала она.
— Я знаю, что ты не думаешь обо мнѣ, чтобы я думалъ объ этомъ, но тебѣ непріятно знать, что другіе это думаютъ.
Анна, казалось, нелогически, но въ сущности совершенно логически перескочила къ самому ядру разговора.
— Насчетъ этаго ты можешь быть совершенно спокоенъ, — сказала она. — Мнѣ совершенно все равно, что думаетъ твоя мать и какъ она хочетъ женить тебя.
— Но, Анна, мы не объ этомъ говоримъ.
— Нѣтъ, объ этомъ самомъ. Я знаю, и повѣрь, что для меня женщина безъ сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, не интересна, и я знать не хочу.
Тонъ презрѣнія, съ которымъ она говорила о его матери, оскорблялъ его.
— Что съ тобой? Съ какой стати? И потомъ говорить о комъ же? О моей матери?
— Женщина, которая не угадала сердцемъ, въ чемъ лежитъ счастье и честь ея сына, у той женщины нѣтъ сердца.
— Анна, ты какъ будто нарочно оскорбляешь меня въ самыя больныя мѣста, но я все перенесу, но...
— Ну, довольно, довольно. Я вѣдь вижу, что ты меня не любишь.
Она встала и хотѣла выдти, но онъ побѣжалъ и остановилъ ее. Онъ взялъ на себя не сердиться. Онъ со вчерашняго дня рѣшилъ, что она жалка и что ему надо все переносить.
Теперь борьба была трудная, но ему не удалось успокоить ее. Послышался звонокъ, стукъ ногъ, и человѣкъ пришелъ доложить, что пріѣхалъ Грабе изъ Петербурга. Вронской ждалъ его и просилъ остановиться у него. Грабе вошелъ, и при немъ Анна и Вронской не договорили своего, а, притворяясь при немъ, разговаривали и распрашивали его.
Такъ прошелъ весь день. Вронской вернулся поздно ночью и не вошелъ къ ней. Она не спала всю эту ночь, ожидая его. На другое утро опять было объясненіе. Онъ вошелъ одинъ разъ въ ея уборную, и онъ всю жизнь потомъ, какъ самое ужасное воспоминаніе, помнилъ одну минуту. Она сидѣла за туалетомъ одна и чесалась.
— Зачѣмъ ты? — спросила она сдержаннымъ голосомъ, быстро выговаривая слова. Она оглянулась. У него было строгое, холодное лицо.
— Я взять атестатъ на Гамбету, я продалъ его, — сказалъ онъ, самъ не зная, какъ онъ сказалъ эти слова. Какъ будто кто то внутри его сказалъ эти слова такимъ тономъ, который выражалъ яснѣе словъ: «Объясняться мнѣ некогда, и ни къ чему не поведетъ. Прощайте».
— А! — сказала она или не сказала это «А».
Онъ оглянулся.
— Что, Анна? — сказалъ онъ съ участіемъ.
— Я ничего.
Онъ повернулся и пошелъ, но, выходя, онъ оглянулся и увидалъ ея бѣлую прелестную шею и черные волосы, курчавившіеся на затылкѣ, и въ зеркалѣ, — онъ не зналъ, видѣлъ ли онъ или показалось ему, — ея лицо блѣдное, виноватое, съ дрожащими губами. Онъ не повернулся и вышелъ, ноги его несли вонъ изъ комнаты. Грабе съ Воейковымъ ждали въ кабинетѣ. Онъ и забылъ тотчасъ про это выраженіе. Цѣлый этотъ день онъ провелъ внѣ дома и, пріѣхавъ поздно, не вошелъ къ ней.
Воскресенье 28 Мая Вронской съ утра уѣхалъ къ матери. Если бы она не ссорилась съ нимъ, если бы согласилась, то они бы ѣхали теперь въ Воздвиженское, и все бы это кончилось. Они бы были одни. «Зачѣмъ я не согласилась, зачѣмъ я говорила все то, что я говорила», думала Анна. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она чувствовала, что въ ту минуту не могла не говорить. И мало того, она даже не жалѣла, что не уѣхала въ Воздвиженское. Разсуждая, она видѣла, что въ Воздвиженскомъ они бы были одни и все бы кончилось, но она не вѣрила въ Воздвиженское, не могла себѣ представить Воздвиженское. Ей казалось, что прежде всего должно было развязаться, рѣшиться что то такое, что было теперь между ними. Послѣднія ночи она провела одна и не спала, всякую минуту ожидая его. Но онъ не приходилъ. Что она передумала въ эти ночи! Всѣ самыя жестокія слова, которыя могъ сказать жестокій, грубый человѣкъ, онъ сказалъ ей въ ея воображеніи, и она не прощала ихъ ему, какъ будто онъ дѣйствительно сказалъ ихъ.
На 3-ю ночь, съ 27 на 28 Мая, она заснула тѣмъ тяжелымъ, мертвымъ сномъ, который данъ человѣку какъ спасенье противъ несчастія, тѣмъ сномъ, которымъ спятъ послѣ свершившагося несчастія, отъ котораго надо отдохнуть. Она проснулась утромъ неосвѣженная сномъ. Страшный кошмаръ, нѣсколько разъ повторявшійся ей въ сновидѣніяхъ еще до связи съ Вронскимъ, представлялся ей опять. Старичокъ мужичокъ съ взлохмаченной бородой что то дѣлалъ, нагнувшись надъ желѣзомъ, приговаривая по-французски: «il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...»[1743] и она опять чувствовала съ ужасомъ во снѣ, что мужичокъ этотъ не обращаетъ на нее вниманія, но дѣлаетъ это какое то страшное дѣло въ желѣзѣ надъ ней, что то страшное дѣлаетъ надъ ней. И она просыпалась въ холодномъ потѣ.
Она встала, чувствуя себя взволнованной и спѣшащей. Аннушка замѣтила, что барыня нынче была красивѣе и веселѣе, чѣмъ давно.
[1744]Анна вышла въ уборную, взяла ванну, одѣлась, быстро,[1745] причесала свои особенно вившіеся и трещавшіе подъ гребнемъ, отросшіе уже до плечъ волоса. Она все дѣлала быстро и поспѣшно.[1746]
— Что NN, — спросила Анна у Аннушки про Грабе.
— Кажется, встаютъ.
— Скажи, что я прошу его вмѣстѣ пить кофе.
«Да, что еще дѣлать? — спросила она себя. — Да, несносно жить въ городѣ, пора въ деревню. Ну чтожъ, онъ не хотѣлъ ѣхать въ пятницу, когда же онъ теперь хочетъ ѣхать?»
Она сѣла за письменный столъ.
— Постой, Аннушка, — сказала она дѣвушкѣ, хотѣвшей уходить. Ей страшно было оставаться одной. — Сейчасъ записку снесешь.
Она сѣла и написала: «Я рѣшила ѣхать какъ можно скорѣе въ деревню, пріѣзжайте, пожалуйста, пораньше, къ обѣду ужъ непремѣнно, чтобы успѣть уложиться и завтра выѣхать. Надѣюсь, что теперь не будетъ препятствій». Она запечатала и послала кучера съ этой запиской къ Алексѣю Кириллычу на дачу къ матери. Въ то время какъ она писала ему, она чувствовала, что демонъ ревности приступалъ къ ней, но она не позволила себѣ остановиться на своихъ мысляхъ.
— Что Лили? — (такъ звали дочь).
— Онѣ въ полисадникѣ съ мамзелью.
— Позови ихъ, пожалуйста.
Когда Аннушка вышла, Анна осталась неподвижною съ устремленными на[1747] бронзовую собаку-пресспапье глазами. «Нѣтъ, не надо, не надо», сказала она себѣ. Быстро встала на своихъ упругихъ ногахъ и скинула кофточку, чтобы надѣвать платье. «Да, да чесалась я или нѣтъ?» спросила она себя. И не могла вспомнить.[1748] Она ощупала голову рукою. «Да, я причесана, но когда, рѣшительно не помню». Она даже не вѣрила своей рукѣ и подошла къ трюмо, чтобы увидать, причесана ли она въ самомъ дѣлѣ, когда? Она не могла вспомнить, когда она чесалась. Она удивилась, увидавъ себя въ зеркалѣ съ обнаженной шеей и плечами и блестящими глазами,[1749] испуганно смотрѣвшими сами въ себя. «Кто это? Да это я. Однако я красива![1750] Да, это тѣ плечи, тѣ руки». Она почувствовала на себѣ его поцѣлуи, она подняла руки, она двинула плечомъ. Она подняла руку къ губамъ,[1751] прижалась губами къ своей рукѣ и почувствовала рыданія, подступавшія къ горлу. «Нѣтъ, это нельзя». Она быстро повернулась, надѣла платье и, застегивая на послѣдній крючокъ, вышла навстрѣчу къ шедшей Англичанкѣ съ ребенкомъ.
«Чтожъ, это не онъ! Это не то! Гдѣ его голубые глаза, милая, робкая и нѣжная улыбка?» — была первая мысль Анны, когда она увидала свою пухлую, румяную дѣвочку съ черными агатовыми глазами и черными волосами. Она ждала видѣть Сережу. Она поцѣловала дѣвочку, отвѣчала Англичанкѣ, что она совсѣмъ здорова и что завтра уѣзжаютъ въ деревню, и вышла въ столовую почти въ одно и тоже время съ Грабе, котораго высокая фигура въ разстегнутомъ кителѣ съ бѣлымъ жилетомъ появилась въ двери.
— Вотъ это такъ, Анна Аркадьевна, — сказалъ онъ своимъ тихимъ, спокойнымъ голосомъ, относя это такъ къ легкой, энергической походкѣ, которой она вошла въ комнату, къ виду ея синихъ бантиковъ на черномъ платьѣ и въ особенности блестящимъ веселымъ на его взглядъ глазамъ, съ которыми она крѣпко, по своей привычкѣ, своей маленькой рукой пожала и потрясла большую костлявую и сухую руку.
— Все цвѣтетъ ужъ давно, я все ждалъ, когда вы распуститесь, какъ прошлаго года въ Воздвиженскомъ. Вотъ вижу, и вы нынче за ночь распустились.
— Однако я вижу, что вы не въ однихъ лошадяхъ и пикетѣ толкъ знаете, — отвѣчала она улыбаясь.
— Поживешь, всему научишься.
— Но что ваше дѣло? — спросила она.
Дѣло это былъ большой карточный долгъ Москвича, проигравшаго Грабе все свое состояніе, и долгъ, который Грабе пріѣхалъ въ Москву вытаскивать.
— Да clopin-clopant,[1752] — отвѣчалъ Грабе. — Получу ли, не получу, завтра надо ѣхать.
— И мы завтра ѣдемъ, — сказала она, — я послала записку Алексѣю.
За кофе, разговаривая о томъ и другомъ, Анна предложила Грабе ѣхать на цвѣточную выставку, куда она давно сбиралась.
— А потомъ поѣзжайте куда вамъ нужно, а къ обѣду пріѣзжайте. Алексѣй будетъ. Я ему такъ писала. А не будетъ, то постараюсь, чтобы вамъ не было со мной скучно.
— Я постараюсь, но мнѣ далеко ѣхать; если я не буду, вы меня извините, — отвѣчалъ Грабе, приглядываясь недовѣрчиво къ странной происшедшей въ ней перемѣнѣ.
«Что же это, она со мной кокетничаетъ, — подумалъ онъ. — Нѣтъ, матушка, — подумалъ, — укатали Бурку крутыя горки». Грабе никогда никому такъ не завидовалъ, какъ Вронскому, и признался ему въ томъ, что если бы не онъ, то онъ бы влюбился въ Анну. И Вронскій разсказалъ это когда то Аннѣ. Женщины никогда не забываютъ этаго, и теперь совершенно неожиданно для самой себя Анна вспомнила это и всѣ силы своей души положила на то, чтобы заставить высказаться Грабе. Щегольской экипажъ Вронскаго былъ поданъ, и Анна въ щегольскомъ туалетѣ съ Грабе поѣхала на выставку.[1753]
Начавшійся за кофеемъ разговоръ продолжался въ коляскѣ.[1754]
— Неужели же вамъ не жалко этаго мальчика, — спросила Анна про Г-на, котораго объигралъ Грабе.
— Никогда не спрашивалъ себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно какъ на войнѣ не спрашиваешь, жалко или не жалко. Вѣдь мое все состояніе тутъ, — онъ показалъ на боковой карманъ, — и теперь я богатый человѣкъ, а нынче поѣду играть и, можетъ быть, выду нищимъ. Вѣдь кто со мной сядетъ, знаетъ, что у меня все состояніе на картѣ, и онъ хочетъ оставить меня безъ рубашки. Ну, и мы боремся, и въ этомъ-то удовольствіе.
— Удовольствіе!
— Не удовольствіе, а интересъ жизни. Надо во что нибудь играть. Въ лошадки, въ пикетъ.
— Но вѣдь это дурно.
— Я люблю дурное, — сказалъ онъ весело.
— Но я часто думаю о васъ, — сказала Анна. — Неужели вы никогда не любили?
Грабе засмѣялся.
— О, Господи, сколько разъ, но, понимаете, одному можно сѣсть въ карты, но такъ, чтобы всегда встать, когда придетъ время rendez-vous.[1755] A мнѣ можно любовью заниматься, но такъ, чтобы вечеромъ не опоздать къ партіи. Такъ и устраиваю.
— Нѣтъ, полноте. Вѣдь я знаю, что у васъ есть сердце. Любили ли вы такъ, чтобы все забыть?
Грабе нахмурился.
— Ну съ, Анна Аркадьевна, если было дѣло, то давно прошло и похоронено, и поднимать нечего.
— Разскажите мнѣ.
— Да, право, нечего разсказывать. Похоронено.
— А часто бываетъ, говорятъ, что хоронятъ живыхъ мертвецовъ, — сказала она, и такая тонкая и ласковая улыбка заиграла на концахъ ея губъ, и такой странный, вызывающiй блескъ былъ въ искоса смотрѣвшемъ на него глазѣ, что онъ смутился. Какъ онъ не опытенъ былъ, по его словамъ, въ женской любви, онъ видѣлъ, что она кокетничаетъ съ нимъ, что она хочетъ вызвать его. Но для Грабе, любившаго порокъ и развратъ, нарочно дѣлавшаго все то, что ему называли порочнымъ и гадкимъ, не было даже и тѣни сомнѣнія въ томъ, какъ ему поступить съ женой или все равно что съ женой товарища. Если бы ему сказали ............. и убить потомъ, то онъ бы непремѣнно постарался испробовать это удовольствіе; но взойти въ связь съ женой товарища, несмотря на то, что онъ самъ признавался себѣ, что былъ влюбленъ въ нее, для него было невозможно, какъ невозможно взлетѣть на воздухъ, и потому онъ только поморщился, и его лицо приняло то самое выраженіе, которое оно имѣло, когда партнеръ хотѣлъ присчитать на него, — непріятное и страшно холодное, твердое и насмѣшливое. Онъ ее поправилъ также, какъ если бы она хотѣла записать на него лишнее.[1756] Но ему жалко было ее, какъ ему бы жалко было неопытнаго и честнаго игрока, который нечаянно приписалъ лишнее, но надо было поправить.
— Если бы я сталъ разсказывать, то ужъ не вамъ — сказалъ онъ.
— Отчего?
И она обернулась къ нему, блеснувъ на него глазами, и улыбнулась; но въ туже минуту она увидала его лицо, и ей такъ стало стыдно за себя, что она все въ мірѣ отдала бы за то, чтобы воротить назадъ всѣ эти слова и улыбки; она знала впередъ все, что онъ скажетъ; но нельзя было остановить его, потому что, останавливаясь, она бы показала, что признаетъ свою ошибку. Можетъ быть, еще пройдетъ незамѣченнымъ. Но онъ не оставилъ этаго незамѣченнымъ; съ лицомъ, съ которымъ онъ смарывалъ лишнее, на него записанное, онъ сказалъ спокойнымъ, тонкимъ голосомъ, не глядя на нее:
— Не оттого, что вы думаете, Анна Аркадьевна, а оттого, что вы для меня все равно что жена моего друга и товарища.
— Да, почти все равно что жена, — подхватила она, краснѣя за то, что она сказала прежде, но ухватываясь за эти его слова, какъ будто они оскорбляли ее.
— Отчего же? Я на васъ смотрю болѣе, въ тысячу разъ болѣе какъ на жену Алексѣя, чѣмъ если бы онъ 20 разъ былъ перевѣнчанъ съ вами, — отвѣчалъ Грабе теперь уже спокойнымъ тономъ, какъ бы говоря: «теперь счеты въ порядкѣ, продолжаемъ играть».
— Ну, оставимъ это, — поспѣшно сказала Анна, стараясь перемѣнить разговоръ и заглушить чувство нетолько стыда, но и разочарованья въ томъ, что она не можетъ уже нравиться, которое тяжелымъ гнетомъ легло ей на сердцѣ. — Ну, оставимъ это. Я говорила, что мы, женщины, никогда не поймемъ вашихъ мужскихъ страстей внѣ нашей сферы.
— Какже не понять, Анна Аркадьевна? У каждаго изъ насъ, кромѣ женскаго міра, есть какая-нибудь страсть, и такая, безъ которой жизнь не въ жизнь. И этихъ страстей много разныхъ.
— Ну, какая же[1757] у Алексѣя? Лошади?
— Да, и лошади, — продолжалъ Грабе, совсѣмъ успокоившись и развеселившись, — но у него одна была страсть, онъ скрывалъ ее; но я знаю, это въ крови. И братъ его тоже. Какъ вамъ это сказать. Онъ бы разозлился, еслибъ я ему сказалъ. Но это такъ — дворъ, почести, честолюбіе. Я замѣтилъ, — началъ было Грабе, но тутъ только замѣтилъ, какъ неловко было говорить объ этомъ при ней, которая могла упрекать себя въ томъ, что она погубила всѣ его честолюбивые планы. Онъ замѣтилъ это по ея быстрому, серьезному взгляду и молчанію и остановился. — Однако много народа уже собралось, — сказалъ онъ.
Анна ничего не отвѣчала, и Грабе замѣтилъ, что лицо ея странно задумчиво. Она какъ будто забыла совсѣмъ, гдѣ она, когда коляска остановилась у подъѣзда экзерсисъгауза, гдѣ была устроена выставка.
—————
Анна со времени Петербургской оперы избѣгала публичныхъ мѣстъ. Даже избѣгая ихъ, она въ магазинахъ, въ театрахъ невольно, встрѣчая знакомыхъ, испытывала оскорбленіе, или ей такъ казалось. Во всякомъ случаѣ страхъ оскорбленія отравлялъ ей всю жизнь внѣ своего дома. Нынче отъ потребности двигаться, жить она рѣшилась ѣхать на цвѣточную выставку, гдѣ была толпа, и ѣхать въ обществѣ посторонняго и замѣтнаго мущины, что могло вызвать еще худшіе толки. Только выходя изъ коляски, опомнившись отъ тяжелыхъ мыслей, на которыя навелъ ее разговоръ съ Грабе, она вспомнила, увидавъ множество экипажей и входящихъ и выходящихъ по насыпи въ огромныя двери, она поняла, что ее ждетъ, и ужаснулась на мгновенье. Но нынче она была въ такомъ расположеніи духа, что чѣмъ хуже, чѣмъ больше волненія, тѣмъ лучше. Она рѣшила бравировать всѣхъ и[1758] потребовала, чтобы Грабе подалъ ей руку. Высокая, красивая фигура гвардейца съ красивой и элегантной женщиной не могла не обратить вниманія. Ужъ у Анны составилась извѣстная, новая для нея манера держать себя въ публичныхъ мѣстахъ за этотъ годъ новой жизни. Прежде у нея именно не было никакой манеры. Она поражала своей непринужденностью. Теперь у ней была манера быстрыхъ, живыхъ движеній и разсѣянности, при помощи которой она могла обходить неловкія встрѣчи. Она обошла половину выставки, встрѣтивъ нѣсколько знакомыхъ, поздоровавшихся съ ней, и одну только знакомую даму, княгиню Мещерскую, которая видѣла или не видала ее, не было замѣтно. Какое простое дѣло ходить по цвѣточной выставкѣ, а у Анны замирало при каждой встрѣчѣ сердце, и ей хотѣлось, испытывая себя, встрѣтить знакомую, и она радовалась, когда издалека казавшаяся ей знакомой оказывалась чужая. У Акваріума, подлѣ игравшей музыки, Анна остановилась на минуту, забывшая свое безпокойство и заинтересованная устройствомъ животныхъ акваріума. У ней былъ свой и любимыя ящерицы, и она сама занималась имъ. Она смотрѣла нагибаясь, какъ вдругъ услыхала женскій голосъ и, оглянувшись, въ двухъ шагахъ увидала Кити, которая съ мужемъ подходила къ акваріуму, видимо заинтересованная. Но въ ту минуту, какъ Анна оглянулась на нее, Кити уже узнала ее и успѣла отвернуть свою прелестную, похорошѣвшую головку съ особеннымъ, ей одной свойственнымъ, высокимъ и загнутымъ постановомъ головы. Левинъ приподнялъ шляпу и хотѣлъ, видимо, сказать что-то, но жена его шла впередъ, и онъ[1759] ускорилъ шаги, чтобы догнать ее. Глаза Анны невольно нѣсколько разъ обратились въ сторону Кити, но Кити ни разу не оглянулась и не отвернулась, а спокойно шла, разговаривая съ дѣвочкой племянницей. Левинъ подошелъ, поговорилъ что-то и вернулся къ Аннѣ. Анна какъ будто слышала разговоръ мужа съ женой, такъ она вѣрно догадалась о томъ, что они сказали другъ другу.
— Ты ничего не имѣешь противъ того, чтобы я подошелъ къ Аннѣ Аркадьевнѣ?
— Ахъ, ничего, напротивъ. Но ты понимаешь, что я не могу узнать ее.
— Т. е. отчего же?
— Да оттого, что эта встрѣча минутная была тяжела ей и мнѣ, а если бы мы видѣлись, то это непріятное чувство было бы еще больше.
— Что-то она ужасно, ужасно жалка, — сказалъ Левинъ, и Кити увидала тотъ блескъ нѣжности, доброты, который она болѣе всего любила въ своемъ мужѣ.
— Да поди, поди къ ней. Но и неловко...
Но Левинъ ужъ вернулся къ Аннѣ Аркадьевнѣ. Она вспыхнула, увидавъ его, но протянула ему руку.
— Давно вы не видали Стиву? — спросила она.
— 5 минутъ, онъ здѣсь. А я думалъ, что вы[1760] нынче уѣхали, — сказалъ Левинъ, и съ тѣмъ всегдашнимъ заблужденіемъ счастливыхъ людей онъ началъ разсказывать свое счастье, что ребенку ихъ теперь лучше, что они для его здоровья жили въ Москвѣ и теперь ѣдутъ въ деревню. — А вы когда ѣдете? Долли опять собирается къ вамъ, — говорилъ онъ.
— Я думаю, мы завтра ѣдемъ. У Алексѣя Кирилыча есть дѣла, — проговорила Анна.
— Да, онъ говорилъ намъ.
— Вы гдѣ его видѣли?
— Онъ вчера былъ у насъ.
— Да, правда, сказала Анна, — и, наклонивъ голову, пошла дальше съ Грабе. Левинъ вернулся къ женѣ.
«Онъ у Левиныхъ, и мнѣ ни слова. Да, à ses premiers amours»,[1761] думала Анна, и лицо ея было строго и блѣдно.
— Сюда, Анна Аркадьевна, — сказалъ Грабе, указывая ей дорогу, такъ какъ она шла впередъ себѣ, не зная куда.
Степанъ Аркадьичъ разбудилъ ее.
— Браво! — закричалъ онъ, оставивъ свою даму съ Туровцинымъ и подходя къ Грабе и Аннѣ. Степанъ Аркадьичъ былъ уже позавтракавши, и глаза его блестѣли, какъ звѣзды, и шляпа, и бакенбарды, и пальто, и щеки — все лоснилось отъ удовольствія.
— А я нынче вечеромъ хотѣлъ къ вамъ. Ты не можешь себѣ представить, какъ я хохоталъ. Ты видалъ Горбунова? — обратился онъ къ Грабе. — Это удивительно. Онъ вчера былъ въ клубѣ, и я непремѣнно его привезу къ вамъ. Алексѣй дома будетъ?
— Да, привези, пожалуйста, онъ будетъ дома, — отвѣчала Анна, не зная, что говоритъ. У ней столько было въ головѣ необдуманныхъ и въ сердцѣ не улегшихся чувствъ, что ей одной хотѣлось быть дома.
Степанъ Аркадьичъ, разсказывая одну изъ лучшихъ сценъ Горбунова о мировомъ судьѣ и представляя ее въ лицахъ, проводилъ ее до коляски.[1762] Грабе оставался, и она ѣхала одна.
— Это прелесть, этотъ пьяненькій Вашскородіе... — представлялъ Степанъ Аркадьичъ, стоя у коляски. — Ахъ, да, — вскрикнулъ онъ, останавливая кучера и перегибаясь въ коляску ближе къ Аннѣ. — Я могу поздравить тебя.
— Съ чѣмъ? — вздыхая спросила Анна.
— Ты развѣ не получила письма отъ Алексѣя Александровича? Онъ согласенъ.
— Какое письмо? Я ничего не получала.
— Это я немножко, моя душа, виноватъ. Повинную голову не сѣкутъ, не рубятъ. Видишь ли, я уже[1763] съ недѣлю получилъ это письмо на имя Долли, тамъ сказано: «для передачи Аннѣ Аркадьевнѣ». Я не разсмотрѣлъ, да и переслалъ въ деревню къ Долли, а вчера она ужъ мнѣ назадъ прислала. Я нынче велѣлъ къ тебѣ отнести. Да, поздравляю. Я, душа моя, такъ искренно радъ, что всѣ твои мученья, моей бѣдняжки милой, кончатся. И въ самомъ дѣлѣ, что за глупость съ его стороны не соглашаться. Ну, прощай, душа моя, à ce soir, [1764] сказалъ онъ, тронувъ пальцемъ въ перчаткѣ кучера и рукою дѣлая жестъ поклона.
Сѣрые кровные рысаки дружнымъ ходомъ, безъ секундъ версту, несли щегольскую, чуть покачивавшуюся на мягкихъ рессорахъ игрушку коляску. Анна, прислонясь къ углу и закрывшись зонтикомъ, представляя видъ довольства, красоты и счастья, катилась къ дому и не думала, а съ ужасомъ прислушивалась къ тому безсмысленному и страшному клокотанію, которое происходило въ ея душѣ и угрожало ей чѣмъ то ужаснымъ. «Кити Левина боится меня, чтобы не заразиться той грязью, въ которую я упала, а онъ у нея бываетъ и не говоритъ мнѣ. Я дѣлала avances[1765] Грабе, и онъ сказалъ мнѣ, что мое время прошло. Онъ былъ честолюбивъ. Онъ погубилъ карьеру и не любитъ меня. Онъ влюбленъ въ Машу, воспитанницу. Онъ влюбленъ въ Кити по прежнему, — она не замѣчала, что вмѣстѣ это не могло быть, — онъ скрываетъ отъ меня, онъ лжетъ, я ненавижу. Я рада, что я погубила его. Я бы желала убить его».
Пріѣхавъ домой, она увидѣла, что его нѣтъ, но спросила:
— Алексѣй Кириллычъ не пріѣзжалъ? Какой отвѣтъ?
Ей подали записку: «Я не могу измѣнить своего обѣщанія провести день у maman; вечеромъ я буду». Не снимая шляпы, она[1766] сидѣла въ гостиной съ этой запиской въ рукахъ, когда вошла Аннушка и напомнила:
— Неугодно ли снять шляпу и переодѣться? Да вотъ письмо отъ Степана Аркадьича, принесъ кучеръ.
— Аннушка, что мнѣ дѣлать?[1767]
Анна взяла письмо и, какъ наказанное дитя, съ изогнутымъ отъ готовыхъ рыданій ртомъ,[1768] сидѣла неподвижно.
— Чтожъ объ этомъ такъ сокрушаться, матушка? — сказала Аннушка,[1769] какъ будто понимая.
Анна вскочила.
— Ступай,[1770] уйди, уйди.
[1771]Аннушка вышла.
«Да, что мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать? Когда это было, что все было такъ ясно? Давно. Нѣтъ, нынче». Она взглянула на письмо. «Что мнѣ читать! Что мнѣ за дѣло! Да, но Стива говоритъ, что Алексѣй Александровичъ согласенъ на разводъ. Можетъ быть, и точно я не была права! Зачѣмъ я отказалась, зачѣмъ я мучала его? Можетъ быть, возможно еще. Смириться, помириться, выйти замужъ, уѣхать!»
И вдругъ она ясно поняла на мгновенье, что все то, что ей представлялось, есть выдумки ревности. «Можетъ быть, онъ любитъ еще? Да, но какже онъ не понялъ, какъ я мучаюсь, и не пріѣхалъ? Какъ же онъ обманывалъ меня, не сказалъ, что былъ у Кити? Нѣтъ, все кончено. Да и меня нельзя любить. Грабе напомнилъ мнѣ, что я стара. И все, что было во мнѣ, онъ взялъ. Онъ гордится, онъ хвасталъ мною, и теперь я не нужна ему. Нѣтъ, я ненавижу его. Нѣтъ, все кончено. Но что же дѣлать? Что дѣлать? Я пропала».
Чтобы спасти себя отъ злобы и отчаянія, которыя душили ее, чтобы развлечься, она распечатала письмо Алексѣя Александровича и стала читать.[1772] «Но письмо сейчасъ прочтется, и тогда дѣлать нечего». Она позвонила.
— Скажи, чтобы лошадей не отпрягали. Мнѣ надо ѣхать. Или, если они устали, чтобы запрягли другихъ, разгонныхъ. Мнѣ надо ѣхать.
Она хотѣла ѣхать къ Долли.[1773] Когда лакей ушелъ, она стала читать письмо знакомаго, четкаго почерка Алексѣя Александровича. Только что она прочла первыя строки — «съ разныхъ сторонъ я слышу намеки и даже выраженные упреки въ томъ, что я отказывалъ въ разводѣ», только что она прочла эти строки, она, какъ живаго, увидала передъ собой Алексѣя Александровича съ его голубыми, кроткими глазами, съ его напухшими синими жилами и звуками его интонацій и треска пальцевъ. Она читала дальше: «Еще прошлаго года я передалъ вамъ, что, потерявъ столь многое въ томъ несчастіи, которое разлучило меня съ вами, потерять еще немногое — свое уваженіе къ самому себѣ, пройти черезъ унизительныя подробности развода я могу и согласенъ, если это нужно для вашего счастья. И тогда вы передали мнѣ, что не хотите этаго. Если рѣшеніе ваше измѣнилось, потрудитесь меня о томъ увѣдомить. Какъ ни тяжело это для меня будетъ, я исполню ваше желаніе, тѣмъ болѣе что тѣ, которые говорили мнѣ теперь объ этомъ предметѣ, выставляли причину, вполнѣ заслуживающую вниманія, — именно то, что будущіе дѣти ваши при настоящемъ порядкѣ вещей должны незаконно носить мое имя или быть лишены имени. Какъ ни мало я имѣю надежды на то, чтобы вы обратили вниманіе на тѣ слова, которыми я намѣренъ заключить это письмо, я считаю своимъ долгомъ сказать вамъ ихъ и прошу васъ вѣрить, что они сказаны искренно и вызваны[1774] воспоминаніемъ тѣхъ чувствъ, которыя я имѣлъ къ вамъ. Никогда не бываетъ поздно для раскаянія. Если бы, что весьма возможно съ вашей любовью къ правдѣ и природной честностью, чтобы вы убѣдились, что жизнь, которую вы избрали, не удовлетворяетъ и не можетъ удовлетворить васъ, и вы почему нибудь захотѣли вернуться ко мнѣ, къ прежней жизни, похоронивъ все прошедшее, я приму васъ съ ребенкомъ вашимъ, котораго я люблю, и никогда, ни однимъ словомъ не напомню вамъ прошлаго и буду дѣлать все отъ меня зависящее, чтобы сдѣлать ваше счастье. Прощеніе, которое я отъ всей души далъ вамъ во время вашей болѣзни, я никогда не бралъ и не беру назадъ. Я считаю своимъ долгомъ написать это теперь, такъ какъ отъ вашего отвѣта будетъ зависѣть разводъ и вступленіе ваше въ новый, по моему мнѣнію, незаконный бракъ, и тогда ужъ соединеніе ваше со мною было бы невозможно. Въ ожиданіи вашего отвѣта остаюсь Вашъ покорный слуга А. Каренинъ».
Читая это письмо, съ Анной случилось странное: она читала письмо и понимала его, но въ головѣ сдѣлался туманъ. Она чувствовала, что толпится рой мыслей, но ни одну она не могла сознать ясно. Въ сердцѣ же была тревога тоже неопредѣленная. И то и другое было страшно и требовало отъ нея движенья. Она пошла, поспѣшно переодѣлась и, когда ей сказали, что лошади поданы, поспѣшно сѣла и велѣла ѣхать къ Облонскимъ. Но только что она сѣла въ коляску и поѣхала, въ головѣ ея вдругъ стало все такъ ясно, какъ никогда не было. Она вновь въ воображеніи читала письмо, понимая не только каждое написанное слово, но понимая всѣ тѣ слова, изъ которыхъ выбиралъ Алексѣй Александровичъ, когда писалъ письмо, понимая весь ходъ его мыслей, такъ, какъ никогда не понимала, какъ будто она сама писала это письмо, какъ будто душа его была обнажена передъ нею, и ей даже страшно дѣлалось.[1775] Она понимала, что онъ надѣется на ея возвращеніе и желаетъ его потому, что она физически нужна для него, но что вмѣстѣ съ тѣмъ онъ это свое чувство одѣвалъ въ христіанское прощеніе, и она понимала, что онъ былъ не виноватъ и что физическое чувство привычки и христіанское прощеніе были искренни. Она понимала и то, что онъ дѣйствительно любилъ не свою дочь Лили именно потому, что ея рожденіе было связано съ счастливымъ и высокимъ для него чувствомъ умиленія и что онъ любилъ Лили потому самому, почему она не любила ее: ея рожденіе было связано для нея самой съ воспоминаніемъ зла, которое она сдѣлала ему. Она все понимала это теперь, всѣ закоулки его и своей души, и это пониманіе не размягчило ее: напротивъ, она видѣла все это и многое другое въ холодномъ и жестокомъ, пронзительномъ свѣтѣ. Мысли ея, какъ будто пользуясь этимъ вдругъ сдѣлавшимся свѣтомъ, съ необычайной быстротой переносились съ одного предмета на другой.[1776] Она взглянула на лошадей, и, замѣтивъ, что кучеръ не переложилъ разгонныхъ, она перенесла ту же проницающую ясность мысли на мгновеніе на Филиппа, лошадей и лакея. «Филиппу не хотѣлось трудиться закладывать, а онъ знаетъ, какъ и всѣ въ домѣ, что у ней несогласіе, и отъ этаго онъ позволяетъ себѣ. Онъ знаетъ, какъ Алексѣй Кириллычъ жалѣетъ сѣрыхъ. А потомъ онъ скажетъ, что я велѣла. Ну, да теперь все равно. И Петръ лакей пришелъ самъ доложить, чтобы посмотрѣть, что я дѣлаю. Онъ видитъ по своему, что я въ горѣ.[1777] И разумѣется, ему не объ чемъ печалиться. Всякій дѣлаетъ свою постель. И моя жестка. И точно также не виноватъ Вронской».[1778] И точно также душа Вронского теперь была совершенно обнажена передъ нею, и при этомъ холодномъ, пронзительномъ свѣтѣ она въ его душѣ и въ своей въ отношеніи къ нему въ первый разъ [видала] то, чего она никогда не видала прежде: «честолюбіе, сказалъ Грабе. Разумѣется, blood will tell.[1779] Какъ его отецъ, какъ его братъ, это главная его длинная, не короткая, вспыхивающая и потухающая, но на всю жизнь страсть. Она лежала въ немъ, готовая распуститься, когда мы встрѣтились».
Она безжалостно вспоминала его слова, выраженіе лица въ первое время ихъ связи. «Да, въ немъ было торжество честолюбиваго успѣха. Разумѣется, была любовь, — больше, чѣмъ тщеславіе успѣха, но большая доля была гордость успѣха. Теперь это прошло. Гордиться нечѣмъ. Не гордиться, а стыдиться. Онъ что то считаетъ себя осрамленнымъ своимъ отказомъ отъ поѣздки въ Ташкентъ. Онъ хмурится и краснѣетъ и никогда не говоритъ про это. Чтожъ ему осталось? Не быть безчестнымъ въ отношеніи меня. Онъ и старается. Онъ проговорился третьяго дня — онъ хочетъ развода и женитьбы, чтобъ сжечь свои корабли. Онъ любитъ меня; это неправда, что онъ разлюбилъ. Но the zest of the thing is gone.[1780] Я дразню себя, выдумываю Машу (воспитанницу), Кити. Онъ былъ вчера и не успѣлъ сказать мнѣ. Вѣрно, такъ. Мнѣ и спрашивать нечего. Онъ честный, онъ хорошій человѣкъ, и онъ любитъ. Но какъ?[1781] Это ѣдетъ женихъ съ невѣстой — купцы, — подумала она, встрѣтивъ карету. — Да, онъ любитъ, но какъ? Такъ, какъ я люблю Лили. Она дочь, надо любить, я знаю, но я не люблю ее. Если бы она умерла, мнѣ было бы все равно. А если бы я умерла, все равно ли ему было бы? Нѣтъ, онъ бы былъ въ отчаяніи, но черезъ 3 дня былъ бы радъ, не признаваясь себѣ».
Это было не предположеніе, но она ясно видѣла это въ томъ пронзительномъ, безъ рѣшетки, свѣтѣ, который открывалъ ей все. Она знала это вѣрно, и это не огорчило ее. Она продолжала думать. «Онъ любитъ такъ, что если бы Алексѣй Александровичъ любилъ меня въ половину также, то я никогда бы не измѣнила ему, но тотъ не могъ, не умѣлъ любить; онъ выучился отъ другихъ, по своему высокому образованію, какъ любить женщинъ. Главное же то, что я не люблю его. A мнѣ мало любви Вронскаго, такой, какая она теперь, потому что я люблю его. Моя любовь все дѣлается страстнѣе и себялюбивѣе, а его все гаснетъ и гаснетъ, и вотъ отчего мы расходимся. И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобы онъ весь больше и больше отдавался мнѣ. Мы именно шли на встрѣчу до связи, а потомъ неудержимо расходились больше и больше. Измѣнить этаго нельзя. Онъ говоритъ мнѣ, что я безсмысленно ревнива, и я говорила себѣ, что я безсмысленно ревнива. Но это неправда; я чувствую вѣрнѣе, чѣмъ думаю; я вижу, что мы погибаемъ, и хватаюсь за него. Если бъ онъ могъ быть семьяниномъ; если бы я могла быть чѣмъ нибудь кромѣ любовницы, страстно любящей однѣ его ласки, но я не могу и не хочу быть ничѣмъ другимъ. И я возбуждаю въ немъ отвращеніе, а онъ во мнѣ злобу и бѣшенство ревности, и это не можетъ быть иначе. Но... — она открыла ротъ и перемѣстилась въ коляскѣ отъ волненія, возбужденнаго въ ней пришедшей ей вдругъ мыслью. Отчего же нѣтъ? Если съ нимъ жизнь не возможна, отчегожъ мнѣ не вернуться къ Алексѣю Александровичу? Счастья. Не то что счастье, но жизнь будетъ несчастная, жалкая, но безъ злобы, безъ этаго яда, который душитъ меня, — сказала она себѣ. — Я вхожу въ Петербургскій домъ на Мойкѣ, Алексѣй Александровичъ встрѣчаетъ меня, — видѣла она въ воображеніи уже сцену своего возвращенія. — И онъ, съ увѣреностью, что онъ деликатенъ, что онъ скрылъ весь стыдъ моего униженія принимаетъ и невольно (жалкій человѣкъ) оскорбляетъ меня каждымъ словомъ, каждымъ движеніемъ. Но я пропала все равно. Отчего жъ мнѣ не перенести униженья? Я заслужила ихъ. Я перенесу. Это пройдетъ. Но вотъ онъ приходитъ въ халатѣ, съ своей улыбкой, игнорирующій все прошедшее, на тѣ минуты, когда я нужна ему, хрустятъ его пальцы, добротой свѣтится искуственный взглядъ голубыхъ глазъ. Нѣтъ, это невозможно».
Коляска остановилась у подъѣзда Степана Аркадьича. Лакей позвонилъ, и Анна рада была, узнавъ, что Дарьи Александровны давно нѣтъ въ городѣ, а Степанъ Аркадьичъ выѣхали. Нѣтъ, даже и Долли не могла помочь. И ей надо самой дѣлать свою постель и спать на ней.
Въ тотъ короткій промежутокъ, который она простояла у подъѣзда, она обдумала всю Долли, со всѣми подробностями ея характера, и перебрала всѣ воспоминанія съ нею. «Она любитъ теперь немного свое положеніе. То, что ей нужно, у ней есть — дѣти. A положеніе заброшенной, несчастной жены, трудящейся для семьи, есть ореолъ, который она не промѣняетъ даже за то, чтобы не быть несчастной, заброшенной женой. И она и любила меня и завидовала мнѣ, когда была въ Воздвиженскомъ, и радовалась случаю показать мнѣ свою благодарность и прочность дружбы. А какая дружба, когда 5 дѣтей и свои интересы! Всѣ мы заброшены на этотъ свѣтъ зачѣмъ то, каждый для себя, съ своими страданіями и запутанностью душевной и съ смертью, и всѣ мы притворяемся, что мы любимъ, вѣримъ».
— Куда? — переспросила она вопросъ лакея. — Да домой.
Аннѣ теперь ничего и никого не нужно было. Ей хотѣлось только, чтобы ее не развлекали, пока не потухъ этотъ пронзительный свѣтъ, освѣщавшій и объяснявшій ей все, что было такъ запутано прежде. «Потухнетъ, и опять останусь въ темнотѣ. — Она опять подняла главную уроненную нить мысли. — Но возвратиться къ Алексѣю Александровичу невозможно; не отъ униженія, а оттого, что послѣ Вронскаго. Я физически ненавижу его. Такъ что же? — И воображенію ей представилась ея первая жизнь въ Воздвиженскомъ и свиданія въ Петербургѣ. — Вѣдь это было».
На этихъ мысляхъ ее застала остановка у крыльца своего дома. Она вышла. Но какъ только она вошла въ комнату и прекратилось движеніе экипажа, свѣтъ потухъ, она не могла ужъ ясно видѣть всего. Она чувствовала, что не справедливо то, что она думала теперь, но она всетаки думала.
«Да, вѣдь это было, — думала она о прошедшемъ съ Вронскимъ. — Отчего этому не быть опять? Вѣдь Алексѣй Александровичъ пишетъ, что онъ дастъ разводъ. Послѣднее, что мучало Вронскаго, уничтожается. Мы женаты, наши дѣти — Вронскіе. Мы живемъ въ деревнѣ. Мои оранжереи и акваріумы. Вечеромъ его глаза, его руки... Нѣтъ, нѣтъ все это безуміе ревности... Я должна опомниться. Я должна примириться. Онъ будетъ счастливъ, узнавъ про это письмо. Мать его желала этаго. И она хорошая женщина. Я ей скажу, я ему скажу».
Свѣтъ, проницающій все, потухъ. Она не видѣла, не понимала ничего и не думала, а чувствовала только его, того, котораго она любила.[1782] И опять вмѣстѣ съ этимъ чувствомъ, поднималось въ ней навожденіе ревности и злобы, и опять захватывало дыханье, и въ головѣ толпились не разобранныя, неясныя мысли.
«Да, надобно ѣхать скорѣе», — сказала она себѣ, еще не зная, куда ѣхать. Но ей хотѣлось опять той ясности мысли, которую вызывали въ ней качка и движеніе экипажа: «Да, надо ѣхать къ старой Графинѣ на дачу. Вѣдь Алексѣй (Вронской) говорилъ мнѣ, что она будетъ рада меня видѣть, только сама не можетъ пріѣхать. Да, надо прямо ѣхать къ ней».
Она[1783] посмотрѣла въ газетахъ росписаніе поѣздовъ. Вечерній отходитъ въ 8 часовъ, 2 минуты. «Да я поспѣю». Она позвонила Аннушку, велѣла заложить теперь ужъ разгонныхъ. И взяла свой любимый красный мѣшочекъ съ бронзовыми пряжками и вмѣстѣ съ Аннушкой, объяснивъ ей, что она, можетъ быть, останется ночевать у Графини, уложила всю чистую перемѣну бѣлья и съ раздраженіемъ, что съ ней рѣдко бывало, сдѣлала Аннушкѣ выговоръ за то, что она не положила чистые чулки, и сама съ досадой достала эти чулки и положила и, что было ея самый строгій выговоръ, сказала: «я сама сдѣлаю, если ты не хочешь сдѣлать», и сама уложила, застегнула пряжки и сложила пледъ.[1784] Обѣдъ стоялъ на столѣ, но она подошла, понюхала хлѣбъ, сыръ и, убѣдившись, что запахъ всего съѣстнаго ей противенъ, она сказала, что не будетъ обѣдать, и велѣла подавать коляску. Домъ уже бросалъ тѣнь черезъ всю улицу и былъ ясный, еще жаркій на солнцѣ вечеръ. Петръ положилъ мѣшочекъ въ ноги, закрылъ ей ноги пледомъ.
— Мнѣ тебя не нужно, Петръ. Если хочешь, оставайся.
— А какъ же билетъ?
— Ну поѣдемъ, правда. А то мнѣ совѣстно, я тебя замучала.
Петръ весело, какъ бы награжденный годовымъ жалованьемъ, вскочилъ на козлы и, подбоченившись, приказалъ ѣхать на вокзалъ, какъ любятъ называть лакеи.
«Вотъ онъ опять. Опять все ясно», с улыбкой радости сказала себѣ Анна, какъ только коляска тронулась, и направила свой электрическій свѣтъ на то, куда она ѣхала и что будетъ тамъ съ матерью и съ нимъ. При яркомъ свѣтѣ она тотчасъ же увидала, что старая Графиня тутъ посторонняя, что про нее и думать нечего, а вопросъ только въ немъ. Возможно ли все измѣнить, выдти за него замужъ и быть ему и ей счастливой? «Нѣтъ и нѣтъ», отвѣтила она себѣ спокойно, безъ грусти. Радость видѣть всю правду заслонила горе того, что она открывала. Нѣтъ, невозможно; вѣдь это уже рѣшено, мы расходимся, и я дѣлаю его несчастіе, и передѣлать ни его, ни меня нельзя. Всѣ мы брошены на свѣтъ зачѣмъ то, чтобы мучаться и самимъ дѣлать свои мученія и не въ силахъ быть измѣнить ихъ». И она перебирала всю жизнь, и все ей грубо, просто и ясно было, и, какъ ни мрачно все было, ясность, съ которой она видѣла свою и всѣхъ людей жизнь, радовала ее. «Такъ и я, и Петръ, соскакивающій съ козелъ, и этотъ артельщикъ съ бляхой, — думала она, когда уже подъѣхала къ низкому строенію Нижегородской станціи. — Зачѣмъ они живутъ, о чемъ они стараются? Сами не знаютъ».
— Прикажете до Обираловки? — сказалъ Петръ.
Она хотѣла было сказать, что не нужно. Но если не ѣхать на дачу къ Графинѣ, надо домой ѣхать. И также трудно. И потомъ, развѣ не все равно?
— Да, — сказала она ему, подавая кошелекъ съ деньгами и мѣшочекъ, и, развернувъ пледъ, вышла за нимъ.
Какъ только она ступила на землю, выйдя изъ коляски, эта ясность мысли, освѣщавшая ей все, опять исчезла. Опять она думала о томъ, какъ она пріѣдетъ къ Графинѣ, о томъ, что она скажетъ ему и какъ жизнь ихъ еще можетъ хорошо устроиться. Она сѣла на звѣздообразный диванъ по середи комнаты и, опустивъ свое закрытое вуалемъ лицо, ждала. Раздался звонокъ. Какіе то мущины, молодые и шумные, торопливые, развязные и вмѣстѣ внимательные къ тому впечатлѣнію, которое они производятъ, прошли черезъ залу. Петръ въ пелеринѣ прошелъ проводить до вагона. Шумные мущины затихли, когда она проходила мимо ихъ по платформѣ, и одинъ что то шепнулъ о ней другому. Она поднялась на высокую ступеньку и сѣла одна въ купѣ на пружинный грязно бѣлый диванъ. Мѣшокъ, вздрогнувъ на пружинахъ, улегся, и кондукторъ захлопнулъ дверь и щеколду. Дама въ шляпкѣ и дѣвочка смѣясь пробѣжали внизу. «У Катерины Андреевны, все у нея», прокричала дѣвочка. Потомъ все затихло, и на Анну нашелъ ужасъ. Она вскочила и бросилась къ двери, чтобы выскочить, но кондукторъ отворялъ дверь, впуская мужа съ женой — вѣрно, помѣщиковъ.
— Вамъ выйти угодно?
Анна не отвѣтила. Кондукторъ и входившіе не замѣтили подъ вуалью ужаса на ея лицѣ. Она вернулась въ свой уголокъ и сѣла. Чета сѣла съ противоположной стороны [и] съ трудомъ, изъ учтивости, удерживались отъ желанія оглядѣть ея кружева и платье и вообще выказывавшее принадлежность къ высшему, что они, свѣту. Мужъ спросилъ, позволитъ ли она курить? Она сказала «да» и рада была, что въ вагонѣ была не одна. Ужасъ ея прошелъ, но тотъ же туманъ былъ въ головѣ, какъ и дома, какъ и при выходѣ изъ коляски. Мужъ съ женой говорили по французски о томъ, что имъ не нужно было говорить, — для нея. 2-й звонокъ, шумъ, крикъ, смѣхъ, продвиженье багажа, 3-й звонокъ, свистокъ, визгъ паровика, рванула цѣпь, и покатился мимо смотритель въ красной шапкѣ, дама въ лиловой шляпкѣ, мужикъ въ ситцевой рубахѣ и уголъ станціи, и плавно, масляно зазвучали по рельсамъ колеса, и чуть выкатились вагоны на свѣтъ, какъ Анна опять почувствовала присутствіе свѣта и опять стала думать: «Да, на чемъ я остановилась? Что жизнь наша невозможна, потому что мы идемъ въ разныя стороны, и поправить дѣло не можетъ ничто. Да и поправлять чувство нельзя. Прежде я говорила себѣ, что все спасла бы смерть Алексѣя Александровича, потомъ и этаго не нужно стало, и я говорила себѣ, да, я помню, когда свѣча потухла, что моя смерть развязала бы все. Но теперь я вижу, что зачѣмъ же мнѣ развязывать ихъ. Ихъ нѣтъ для меня. Я одна есть. И я запутана, я гадка, жалка самой себѣ».
— Какой ты эгоистъ однако, — сказала по французски дама, особенно грасируя, потому что она думала, что это особенно хорошо. — Ты только для себя, стало быть, хочешь удобства.
И эти слова какъ будто отвѣтили на мысль Анны. «Да, только для себя, — сказала она себѣ, — потому что я только себя чувствую». И вмѣстѣ съ тѣмъ она, глядя на краснощекаго мужа и жену, поняла, что жена считаетъ себя непонятой женщиной, болѣзненной, а мужъ обманываетъ ее и поддерживаетъ въ ней это мнѣніе о себѣ. Она какъ будто видѣла ихъ исторію и всѣ закоулки ихъ души, перенеся свѣтъ на нихъ. «Да, только для себя. Но я, живая и просящая у него, какъ милости, любви, я противна; но я умершая, сама умершая по своей волѣ, потому что я поняла ложь своего положенія и не хочу въ ней быть, я прекрасна, я жалка. И надо умереть по своей волѣ, — совершенно спокойно продолжала она думать. — Свѣчѣ потухнуть, и отчего же ее не потушить, когда смотрѣть больше нечего, когда гадко смотрѣть на все это? Зачѣмъ этотъ кондукторъ пробѣжалъ по жердочкѣ? Зачѣмъ они кричатъ, эти молодые люди, въ томъ вагонѣ? Зачѣмъ эти все говорятъ? Все неправда, все ложь, все обманъ. Но какъ?»
Когда поѣздъ подошелъ къ станціи, Анна вышла и подошла къ Начальнику станціи.
— Далеко въ имѣнія Вронской?
— Близко съ. Вамъ туда угодно? Экипажъ есть. Петровъ, посмотри, есть коляска? Графъ Вронской тутъ сейчасъ были; они опоздали на поѣздъ въ Москву. Сейчасъ будетъ коляска.
— Благодарю васъ.
Анна вышла на платформу въ то время, какъ поѣздъ отходилъ дальше. Опять у ней все спуталось въ головѣ, и она смутно помнила послѣднюю мысль, на которой она остановилась: «Какъ?» Она, къ удивленію сторожа, прошла платформу впередъ и стала возвращаться. Вдругъ затряслась платформа. Аннѣ показалось, что она ѣдетъ опять. Опять все освѣтилось; подходилъ товарный поѣздъ. Она быстрымъ, легкимъ шагомъ подошла къ краю платформы, прошла локомотивъ. Машинистъ въ курткѣ посмотрѣлъ на нее. Большое колесо ворочало рычагомъ. Она вспомнила первую встрѣчу съ Вронскимъ и смерть раздавленнаго человѣка. Она смотрѣла подъ рельсы. «Туда, и свѣча потухнетъ, и я прекрасна и жалка».
Первый вагонъ прошелъ, второй только сталъ подходить. Она перекрестилась, нагнулась и упала на колѣни и поперекъ рельсовъ. Мужичекъ что то дѣлалъ въ желѣзѣ, приговаривая. Она хотѣла вскочить, но свѣча, при которой она читала книгу, исполненную тревогъ, счастья, горя, свѣча затрещала, стемнѣла, стала меркнуть, вспыхнула, но темно, и потухла.
* № 186 (рук. № 100).
«Нѣтъ, я безсмысленно раздражительна, — сказала она себѣ. — Этаго не будетъ больше. Сейчасъ же я примирюсь съ нимъ». Она надѣла халатъ и хотѣла идти къ нему, когда услыхала его приближающіеся шаги. Но какъ только она услыхала его шаги, она уже почувствовала торжество побѣды и удержала свое чувство. Когда же она увидала его искательный взглядъ, она объяснила себѣ это тѣмъ, что онъ былъ виноватъ, а виноватъ онъ могъ быть только тѣмъ, что онъ не любилъ уже ее, а любилъ другую. И, опять похолодѣвъ къ нему сердцемъ, она сѣла у туалета, какъ бы занятая укладываніемъ своихъ колецъ и какъ бы не желая замѣтить его.
Вронской, уйдя отъ Анны, ходилъ взадъ и впередъ по своей комнатѣ, стараясь утишить свой гнѣвъ на нее. Жизнь съ ней становилась адомъ. Она дѣлала все, чтобы отравить его жизнь. Она злоупотребляла силою своей слабости. Она знала, что онъ, лишившій ее общественнаго положенія, не броситъ ее, но она злоупотребляла этимъ. Уже давно онъ понялъ все то, что онъ потерялъ этою связью, и готовъ былъ перенести многое; но отдать всю свою свободу, покориться женщинѣ онъ не могъ. Она злоупотребляла той властью, которую она въ минуты нѣжности имѣла надъ нимъ. Но она не довольствовалась этимъ. Въ послѣднее время она стала угрожать чѣмъ то. Вчера она сказала, что раздоръ между ними страшенъ для меня. Эта неопредѣленная угроза была такое орудіе, которымъ она могла взять его въ рабство, если онъ только поддастся ему. «Но я не поддамся этой угрозѣ, — думалъ онъ, — я сдѣлаю все для нея, потому что я чувствую, что я обязанъ не оставить ее, и потому что я люблю ее. Разумѣется, я люблю ее. Она не можетъ понять того различія любви, когда она была цѣль моей жизни, и теперь, когда она соединена со мною, и цѣли у меня другія. Ей тяжело, она одинока, она больна. И о чемъ мы спорили? Ну, я готовъ ѣхать послѣ завтра. Покорюсь, она оцѣнитъ это». И въ этомъ расположеніи онъ вошелъ къ ней.
Она сидѣла, перебирая кольца, и не оглянулась на него, но по лицу ея онъ видѣлъ, что она страдаетъ, и былъ радъ тому, что она чувствуетъ свою вину.
* № 187 (рук. № 100).
Вронской стоялъ у коляски, въ которой сидѣла свѣженькая, вся въ веснушкахъ миловидная дѣвушка, передававшая ему свертокъ чего то (это была воспитанница Графини Вронской), и, улыбаясь, говорилъ съ ней что то.
«Это она», сказала себѣ Анна, замѣстивъ то пустое мѣсто ревности, которое въ ней было, этой воспитанницей, и, когда Вронской пришелъ къ ней, она не сказала того, что хотѣла, не сдѣлала даже попытки примиренія, а холодно спросила:[1785]
— Кто это былъ?
— Это Лиза заѣзжала отъ maman звать меня[1786] и привезла шпинату. Maman гордится своимъ садовникомъ.
Она внимательно посмотрѣла на него. «Неужели онъ ничего больше не имѣетъ сказать ей?»
Говорить съ нимъ она не могла, она раскаивалась даже за то, что сдѣлала этотъ вопросъ. Но она ждала отъ него какого нибудь слова, имѣющаго отношеніе къ происшедшему. Но онъ угрюмо равнодушно ѣлъ свой бифстекъ, не обращая на нее вниманія. Онъ рѣшилъ себѣ, что только рѣшительностью и main de fer[1787] можно положить конецъ этому. Она не могла и ждать. Это было унизительно. Она встала и направилась къ себѣ.
— Да, кстати, — сказалъ онъ, поднявъ голову отъ тарелки. — Завтра мы ѣдемъ, рѣшительно. Имѣете вы что нибудь противъ этаго?
— Вы, но не я, — сказала она, останавливаясь въ дверяхъ.
— Анна, этакъ невозможно жить.
Она перебила его:
— Вы, но не я, — повторила она.
Но эта неприличная, какъ онъ находилъ, угроза чего то, которая была въ ея тонѣ, раздражила его.
— Я не знаю и не понимаю и не хочу понимать. Вечеромъ я буду. Прощайте.
Онъ всталъ и вышелъ съ строгимъ и рѣшительнымъ видомъ.
Какъ только онъ вышелъ, ей стало такъ страшно за себя, что она готова была все въ мірѣ сдѣлать, чтобы какъ нибудь вернуться къ прежнему,[1788] но идти къ нему или дожидаться его въ столовой, черезъ которую онъ пройдетъ, было невозможно. Она вышла въ свой кабинетъ и сѣла къ столу,[1789] открывъ тетрадь, въ которой писала свою дѣтскую повѣсть. Она перечитывала, перелистывая и жадно прислушиваясь: онъ забылъ перчатки, велѣлъ отпустить лошадь Воейкову, что то сказалъ, чего не разслышала, и сошелъ внизъ.[1790] Говоръ его голоса, отворенная дверь, грохотъ колесъ, и все затихло.
* № 188 (рук. № 103).
Она ревновала его не къ какой нибудь женщинѣ, а къ уменьшенію его любви. Не имѣя еще предмета для ревности, она отъискивала его безпрестанно по малѣйшему намеку, перенося свою ревность съ одного предмета на другой. То она ревновала его къ тѣмъ грубымъ женщинамъ, съ которыми, благодаря своимъ холостымъ связямъ, онъ такъ легко могъ войти въ сношенія, то она ревновала его къ свѣтскимъ женщинамъ,[1791] съ которыми онъ могъ встрѣтиться, то она ревновала его къ дѣвушкамъ, на которыхъ онъ могъ желать жениться.[1792] И эта послѣдняя воображаемая ревность болѣе всего мучала ее, въ особенности потому, что она знала, его мать желала этаго.[1793]
Перебирая мысленно все то, чѣмъ она пожертвовала для него, — и положеніе и несчастіе добраго Алексѣя Александровича и сына, о которомъ она не могла вспомнить безъ слезъ, сводя съ нимъ свои счеты, она болѣе и болѣе чувствовала его неправоту[1794] и жестокость. Разлюбить ее и полюбить другую тогда, когда она всего лишилась для его любви. И онъ еще имѣлъ духъ[1795] упорно съ нею, убитою и несчастною, бороться, отстаивая какую то свою мужскую свободу. То мучительное состояніе ожиданія, которое она между небомъ и землею прожила въ Москвѣ, ту медленность и нерѣшительность Алексѣя Александровича, которая такъ томила ее, она приписывала тоже ему. «Если бы онъ любилъ, онъ бы понималъ всю тяжесть моего положенія и давно кончилъ это».[1796] Въ томъ, что она жила въ Москвѣ, а не въ деревнѣ, онъ же былъ виноватъ. «Онъ не могъ жить зарывшись въ деревнѣ, какъ я того хотѣла. Ему необходимо было общество, и онъ поставилъ меня въ это ужасное положеніе, тяжесть котораго онъ не хочетъ понимать». Она знала, что упреками ему[1797] она только удаляется отъ своей цѣли,[1798] и она пыталась удерживаться, но онъ уже такъ много былъ виноватъ передъ нею въ ея глазахъ, что она не могла быть съ нимъ естественна: она или очевидно удерживалась или начинала невольно противурѣчить ему, упрекать его по первому попавшемуся предлогу и вступала съ нимъ въ борьбу, въ которой онъ оставался почти всегда побѣдителемъ и потому еще болѣе виноватымъ въ глазахъ ея. Даже тѣ рѣдкія минуты нѣжности, которыя наступали между ними, не успокоивали ее: въ нѣжности его теперь она видѣла оттѣнокъ спокойствія, увѣренности, которыхъ не было прежде и которыя раздражали ее.
Вронскій съ своей стороны никакъ не могъ понять, для чего она отравляла[1799] ихъ и такъ тяжелую жизнь[1800] и для чего наказывала, мучала его, пожертвовавшаго столькимъ для нея и продолжавшимъ быть ей на дѣлѣ и въ мысляхъ вполнѣ вѣрнымъ.[1801] Онъ не могъ простить себѣ и ей ту ошибку, въ которую она увлекла его, — соединиться внѣ брака.
Онъ теперь только понялъ всю тяжесть этаго положенія для него, честнаго и деликатнаго человѣка. Она практически была въ его власти, но эта самая беззащитность ее, ея слабость давали ей огромную власть надъ нимъ. И она злоупотребляла этой силой своей слабости. «Я твоя любовница. Ты можешь бросить меня». Она даже говорила ему это. Это было страшное оружіе въ ея рукахъ, и она была неправа, употребляя его для борьбы съ нимъ, которой она искала теперь какъ будто нарочно, чтобы искушать его и отравлять ему жизнь. Въ столкновеніяхъ съ нею онъ во всемъ готовъ былъ покориться и покорялся ей, но не въ той борьбѣ, на которую она вызывала eго. Онъ не могъ уступить ей тамъ, гдѣ дѣло шло о всей его жизни. Нельзя было понять хорошенько, чего она требовала; то это было совершенно невозможное, какое-то смѣшное (ridicule) отрѣченіе отъ всѣхъ интересовъ жизни, то какое то вѣчно влюбленное присутствованіе при ней, которое ему становилось противно, потому что оно требовалось отъ него. Хотя и нѣсколько разъ онъ говорилъ себѣ, что она жалка въ своемъ положеніи и больна, и надо быть сколько возможно мягкимъ и уступчивымъ къ ней, онъ забывалъ это намѣреніе, какъ только вступалъ въ отношенія съ ней.[1802] Его раздражала ея несправедливость и увѣренность въ силѣ своей слабости, и онъ становился въ положеніе отпора и часто, вызываемый ея неразборчивыми оскорбительными нападками, самъ раздражался и говорилъ ей то,[1803] чего бы не долженъ былъ говорить ей, помня ея зависимость. Кромѣ того, это очевидное теперь для него желаніе постоянно физически нравиться ему, кокетство съ нимъ, забота о позахъ, о туалетахъ, вмѣсто того чтобы привлекать, странно охлаждали его къ ней,[1804] отталкивали даже.
XXIV.
[1805]Анна была одна дома и во всѣхъ подробностяхъ передумывала выраженія вчерашняго жестокаго разговора; какъ и всегда, она[1806] долго не могла вспомнить того, съ чего началась ссора: только самыя жесткія слова, когда поводъ уже былъ забытъ, живо, со всѣми подробностями выраженія его лица представлялись ей.
Но нынче она была въ хорошемъ, справедливомъ расположеніи духа и хотѣла разобрать все дѣло[1807] и хладнокровно обсудить и найти свою вину, если она была, съ тѣмъ, чтобы признаться въ ней. Возвращаясь все назадъ отъ оскорбительныхъ словъ спора къ тому, что было имъ поводомъ, она добралась наконецъ до начала разговора и была такъ удивлена тѣмъ, что было началомъ всего, что долго не могла вѣрить. Но дѣйствительно это было такъ. Началось все съ того, что за обѣдомъ, при Яшвинѣ, который, пріѣхавъ въ Москву, жилъ у нихъ, Вронской сказалъ, что онъ завтра ѣдетъ обѣдать къ Бринку, на Воробьевы горы.
[1808]Все началось съ этаго. Анна вспомнила, что ей не понравилось то, что Вронской, ничего прежде ей не сказавъ о приглашеніи на этотъ обѣдъ, сказалъ теперь, при Яшвинѣ. «Съ женою онъ такъ не поступилъ бы», подумала она и стала холодно разспрашивать о подробностяхъ этаго обѣда. Ей сказали, что тамъ будетъ гонка лодокъ Ягтъ-клуба и что будетъ очень красиво. Даже и не понимая того, какъ было неделикатно то, что онъ сказалъ, Вронской предложилъ ей поѣхать. Онъ сказалъ:
— Будетъ очень красиво, ты бы тоже поѣхала посмотрѣть.
Потомъ въ спорѣ онъ утверждалъ, что онъ прибавилъ с той стороны рѣки. Но она не слыхала этаго, и это приглашеніе взорвало ее. Послѣ обѣда, когда Яшвинъ уѣхалъ, она сказала ему:
— Я думала, что у васъ достанетъ такта не приглашать меня на пиръ, гдѣ никого, кромѣ потерянныхъ женщинъ, не будетъ.
— Я вѣдь сказалъ — «на той сторонѣ рѣки», — отвѣтилъ онъ съ тѣмъ выраженіемъ холодной правоты, которая еще болѣе оскорбила ее. — Тамъ всѣ будутъ.
— Тѣмъ болѣе я не могу ѣхать, — отвѣтила она.[1809] И тутъ началось. — Я не требую уже того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, какъ можетъ ихъ помнить любящій человѣкъ, но я требую просто деликатности, — сказала она, зная,[1810] какъ этотъ упрекъ всегда бываетъ ему чувствителенъ. И дѣйствительно, онъ покраснѣлъ отъ досады и не сталъ оправдываться, а сталъ обвинять.
— Я не могъ оскорбить васъ, потому что не хотѣлъ этаго, — сказалъ онъ, — и теперь повторяю, что вы можете ѣхать. Но не въ томъ дѣло. Я знаю, что что бы я ни сказалъ, мнѣ будутъ противурѣчить и искать обвинить меня.[1811] Я стараюсь пріучить себя къ этому, но есть предѣлъ всякому терпѣнію. И я человѣкъ, — сказалъ онъ съ какимъ то значительнымъ видомъ, какъ будто могъ бы сказать еще многое, но удерживался. И въ глазахъ его, когда онъ говорилъ это, выражалась уже нелюбовь, а что-то холодное, похожее на ненависть.[1812]
— Что, что вы хотите этимъ сказать? — вскрикнула она.
Онъ видимо затаилъ тогда то, что хотѣлъ сказать.
— Я хочу сказать то, что нѣтъ ничего, въ чемъ бы вы согласились со мною. Я хочу ѣхать въ деревню, вы не хотите, я хочу...
— Неправда, я хочу ѣхать въ деревню, я только желала пристроить Ганну... Разумѣется, для васъ интересны только лошади, вино и я не знаю, что еще.
И хотя она мелькомъ упомянула про свою Англичаночку, онъ нарочно, чтобы оскорбить ее, сейчасъ же сказалъ:
— Мнѣ не интересно это ваше пристрастіе къ этой дѣвочкѣ, это правда,[1813] потому что я вижу, что это ненатурально.[1814]
— Ради Бога, ни слова еще, — вскрикнула она тогда, испуганная этой его жестокостью.
Онъ разрушалъ тотъ міръ, который она съ такимъ трудомъ состроила себѣ, чтобы переносить эту жизнь. Онъ ее, съ ея искренностью чувства, обвинялъ въ ненатуральности. Она чувствовала себя такъ больно оскорбленной и чувствовала такой приливъ ненависти къ нему, что она боялась себя.
— Безъ раздора мы не можемъ говорить, а раздоръ между нами страшенъ, — сказала она и вышла изъ комнаты.
Вечеромъ онъ пришелъ къ ней, и они говорили мирно, но не поминали о бывшей ссорѣ, и оба чувствовали, что ссора заглажена, но не прошла.
Теперь онъ былъ на этомъ обѣдѣ, а она оставалась дома и передумывала эту ссору, желая найти свою вину, но не находила ее и невольно возвращалась къ тѣмъ самымъ чувствамъ, которыя руководили ею во время спора.[1815] «Ненатурально», повторяла она себѣ болѣе всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намѣреніе сдѣлать ей больно. «Я знаю, что онъ хотѣлъ сказать. Онъ хотѣлъ сказать: ненатурально, не любя свою дочь, любить чужаго ребенка. Что онъ понимаетъ въ любви къ дѣтямъ, въ моей любви къ Сережѣ, которымъ я для него пожертвовала? Но это желаніе сдѣлать мнѣ больно. Нѣтъ, онъ любитъ другую женщину.[1816] Это не можетъ быть иначе».
И увидавъ, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько разъ уже пройденный ею кругъ и вернулась къ еще большему раздраженію, она ужаснулась на самое себя. «Неужели нельзя? Неужели я не могу взять на себя, — сказала она себѣ и начала опять сначала. — Онъ правдивъ, онъ честенъ, онъ любитъ меня. Я люблю его, на дняхъ выйдетъ разводъ, чего же еще нужно? Нужно спокойствіе, довѣріе, и я возьму на себя. И теперь, какъ онъ пріѣдетъ, я скажу, что я была виновата,[1817] хотя я и не была виновата, и мы уѣдемъ поскорѣе, поскорѣе въ деревню;[1818] тамъ мы будемъ одни».
И чтобы не думать болѣе и не поддаваться раздраженію, она позвала дѣвушку и занялась распоряженіями для переѣзда въ деревню.[1819]
* № 189 (рук. № 103).
XVIII.
Куда? зачѣмъ она ѣхала? — она не знала. Она оказала къ Облонскимъ потому, что прежде она имѣла это намѣреніе. Но дѣлать надо было что нибудь. Надо было во чтобы то ни стало не оставаться на мѣстѣ и уйти отъ самой себя.
Погода была блестящая, ясная. Все утро шелъ дождикъ, потомъ туманъ, и теперь недавно только прояснило. Желѣзныя крыши подъѣздовъ, плиты тротуаровъ, голыши мостовой, колеса и кожанные верхи пролетокъ извощиковъ — все ярко блестѣло на сверкавшемъ изъ тучъ солнцѣ. Было 3 часа и самое оживленное время на улицахъ.
Покойная, легенькая игрушечка коляска, скрывая своими рессорами тряскость мостовой, чуть покачиваясь, быстро двигалась на ровномъ ходу кровныхъ сѣрыхъ. Прислонившись къ стѣнкѣ коляски въ той привычной, но столь несвойственной ей теперь позѣ довольства и праздности, Анна, прикрываясь шитымъ кружевнымъ зонтикомъ, оглядывала встрѣчающіеся лица, экипажи, дома, мимо которыхъ она быстро проносилась, и все вызывало въ ней рядъ мыслей чрезвычайно ясныхъ, неимѣющихъ ничего общаго съ мыслями, мучавшими ее дома. Испугавшее ее внутреннее клокотаніе страсти вдругъ затихло: она думала только о томъ, что видѣла, и испытывала неожиданное облегченіе. «Вотъ Albert кондитеръ и молодая дѣвушка съ красной рукой, на которую она надѣваетъ перчатку, улыбаясь выходитъ и говоритъ что то мущинѣ съ бородкой. Она не сестра, a невѣста. — Что у нея за путаница въ головѣ, у бѣдной. — Везутъ мебель вѣ огромномъ рыдванѣ съ надписью. Когда я жила въ дѣвушкахъ въ Москвѣ, этаго еще не было. Это способъ передвиженія и реклама. Американцы выдумали это; но какъ наша Москва ne se marie pas[1820] со всѣмъ Американскимъ. Впрочемъ, Филиповъ: говорятъ, они въ Петербургъ возятъ тѣсто. Вода московская такъ хороша. Вотъ здѣсь я танцовала, когда мнѣ было 17 лѣтъ. Я была совсѣмъ не я тогда. А я была только то семячко, изъ котораго выросла я теперяшняя».
Такъ думала она, съ чрезвычайной быстротой переносясь отъ одной мысли къ другой и особенно ясно, свѣтло все понимая и не позволяя себѣ останавливаться на тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя бы ввели ее въ тотъ кругъ мыслей, которыми она мучалась дома. Вспомнивъ о себѣ, какою она была теперь, она не подумала о своемъ положеніи, а только о себѣ какъ о женщинѣ и тотчасъ же, занятая новыми впечатлѣніями, перенеслась дальше. «Какъ славно онъ заворотилъ на бульваръ, — думала она про толстаго Ѳедора кучера. — Онъ, вѣрно, гордится лошадьми и мною, и также Петръ. Съ какой онъ гордостью смотритъ на пѣшеходовъ съ высоты своихъ козелъ. Все тоже, что чины и мѣста и ордена. Для него эта ливрея тоже, что для Алексѣя Александровича была первая лента». Вспомнивъ объ Алексѣѣ Александровичѣ, она безъ всякаго отношенія къ своему положенію представила его себѣ, какъ живаго. И хотя это продолжалось только мгновеніе, она съ наслажденіемъ вглядывалась въ его физіономію, въ физическую и нравственную, которую она всю такъ очень, какъ никогда, увидала теперь. Она видѣла его съ его тусклыми и кроткими глазами, напухшими синими жилами на бѣлыхъ рукахъ. «Стива телеграфируетъ, что онъ въ нерѣшительности. Разумѣется, въ нерѣшительности. Если бы онъ зналъ, любитъ ли онъ меня или нѣтъ, проститъ ли или нѣтъ? Ненавидитъ ли теперь или нѣтъ? А онъ ничего не знаетъ. Онъ жалкій». И опять, избѣгая возвращенія къ своимъ мыслямъ, она [занялась][1821] наблюденіями надъ гуляющими на буль[варѣ], виднѣющимися ей сквозь деревья.
«[Дѣвуш]ка съ картонкой, эта женщи[на] въ голубомъ. И тѣ двѣ и эти мущины [?] черный рой около нихъ, почти [?] — думала она, — изъ десяти девять здѣсь [зан]ятые одними гадкими чувствами, [га]дко смотрѣть на нихъ. Оттого гадко, [о]тъ того я знаю это, что сама тѣмъ же занята». Мущина поклонился ей у Никитскихъ воротъ. Когда она уже проѣхала, она вспомнила, что это былъ мужъ Аннушки. «Наши паразиты», подумала она, вспомнивъ, какъ все это семейство понемногу пристроивалось около нихъ и какая странная семейная жизнь была Аннушки. Прежде она никогда не думала объ этомъ, но теперь живо поняла, что Аннушка съ мужемъ не жила, а готовилась жить, наживая деньги по паразитски, выбирая сокъ изъ нихъ. «А все таки она душевно мне сказала: молитесь Богу», вспомнила Анна и, вспомнивъ свой отчаянный призывъ, на который такъ отвѣтила Аннушка, она удивилась, но не стала вспоминать, что привело ее въ это состояніе. «Она сказала: молитесь Богу. И какъ часто это говорятъ. И какъ мало это имѣетъ смысла». Анна вспомнила, какъ она по дѣтски молилась Богу, потомъ какъ Алексѣй Александровичъ и Лидія Ивановна нарушили ея дѣтское отношеніе къ молитвѣ, какъ она пыталась войти въ ихъ духъ и не могла и какъ она потомъ при связи съ Вронскимъ откинула это и какъ потомъ въ разговорахъ [съ] братомъ, съ Вронскимъ, съ Воркуевымъ еще [нед]авно послѣ чтенія Ренана ей ясно стало, [ка]кой это былъ смѣшной, ненужный обманъ. Вся жизнь ея была теперь любовь къ нему. «Къ чему же тутъ былъ Богъ?» подумала она, и, чувствуя, что она приближается опять къ той области, отъ которой она ушла, она тотчасъ же обратила вниманіе на извощика, обливавшаго водою блестящія колеса пролетки. «Точно онъ не запачкаетъ ихъ сейчасъ же, но ему надо прельстить красотою своего экипажа и, можетъ быть, чтобъ и заниматься чѣмъ нибудь. Мы всѣ ищемъ, чѣмъ бы занять время, только бы не [думать] о томъ, что страшно. Такъ [я] ѣду теперь къ Долли, чтобы не думать. А что мнѣ нужно отъ Долли? Ничего. Спросить, не пол[учила] ли она извѣстій отъ Стивы. Но это [только] предлогъ. Мнѣ не нужно этаго».
И [она] стала думать о Долли. Она поняла [те]перь такъ, какъ никогда не пони[мала] прежде. Всѣ закоулки ея души ей [были] теперь видны въ томъ холодномъ [прон]зительномъ свѣтѣ, въ которомъ [она] видѣла теперь все. Эта ясность [пони]манія доставляла ей большое на[слаж]деніе. Ясность эта не размя[гчала] ее, а, напротивъ, ожесточая ее, доставляла ей успокоеніе... Она теперь видѣла Долли со всѣми подробностями ея физическихъ и нравственныхъ свойствъ, видѣла всѣ закоулки ея души. «Она притворяется теперь, что любитъ свое положеніе, — думала она про нее, — но она ненавидитъ это положеніе и завидуетъ мнѣ. Она дѣлаетъ что можетъ, пользуется своимъ положеніемъ заброшенной, несчастной жены, трудящейся для семьи, и носитъ этотъ ореолъ какъ можно больше къ лицу. Она и любитъ меня немножко, и боится, какъ чего то страшнаго, и завидуетъ, и рада случаю показать мнѣ свою твердость дружбы. Но это неискренно. Какая дружба, когда пятеро дѣтей и несчастная страсть къ мужу, которая душитъ ее. Она занята собой, какъ и всѣ мы. Всѣ мы заброшены на этотъ свѣтъ, зачѣмъ то каждый [самъ на] себя съ своей запутанностью ду[шевной], страданіями и смертью нако[нецъ], и всѣ мы притворяемся, что вѣримъ, любимъ, жертвуемъ. А ничему не вѣримъ кромѣ того, что больно или радостно. Ничего не любимъ кромѣ себя и своихъ страстей и ничѣмъ никогда не жертвуемъ».
Какъ будто пользуясь тѣмъ пронзительнымъ свѣтомъ, который освѣщалъ все ей теперь, она съ необыкновенной быстротой переносила свои мысли съ однаго предмета на другой. Въ это время какъ она думала о Долли, она успѣла подумать объ чувствахъ старичка извощика, котораго чуть не задавилъ Ѳедоръ съ его клячей и которому Петръ же погрозилъ, сомнѣваясь въ его виновности, и о Яшвинѣ, недовольномъ тѣмъ, что Пѣ[вцовъ], проигравшій все свое состояніе, не платилъ, [потому что] у него нѣтъ.
* № 190 (рук. № 101).
ЭПИЛОГЪ.
Славянскій вопросъ, начинавшій занимать общество съ начала зимы, все разростаясь и разростаясь, дошелъ къ серединѣ лѣта до крайнихъ своихъ размѣровъ. Были сербскія спички, конфеты князя Милана и цвѣтъ платьевъ самый модный Черняевскаго волоса. Въ средѣ людей главный интересъ жизни есть разговоръ печатный и изустный; ни о чемъ другомъ не говорилось и не писалось, какъ о славянскомъ вопросѣ. Кружки столичныхъ людей взаимно опьяняли другъ друга криками о славянахъ, какъ перепела, закросивающія [?] до полусмерти. Издавались книги въ пользу славянъ, чтенія, концерты, балы давались въ пользу славянъ. Собирали деньги добровольно и почти насильно въ пользу славянъ. Болѣе всѣхъ производили шума газетчики. Имъ, живущимъ новостями, казалось, что не можетъ быть не важно то, что даетъ такой обильный плодъ новостей. Потомъ шумѣли всѣ тѣ, которые любятъ шумѣть и щумятъ всегда при всякомъ предлогѣ.[1822] Предлоги для шума никогда не переводятся въ цивилизованномъ обществѣ, гдѣ есть газеты, раздувающія всякія событія, но иногда эти предлоги маленькіе, коротенькіе, но имѣющіе приличныя вывѣски, и тогда эти предлоги быстро смѣняются одинъ другимъ; такіе бываютъ — пріѣзды иностранцевъ: американцевъ, пруссаковъ, выставки, и болѣе длинные и съ хорошими словами — голодъ гдѣ нибудь въ Россіи, Общество Краснаго Креста, и теперь явился уже самый большой предлогъ и съ самыми хорошими словами. Какъ бываютъ маленькіе грибы и иногда нѣсколько маленькихъ сростутся въ одинъ большой, такъ теперь нѣсколько вздоровъ маленькихъ срослись вдругъ въ одинъ большой вздоръ — славянскій вопросъ. Шумѣли всѣ любящіе шумѣть, но громче всѣхъ шумѣли обиженные и недовольные. Слышнѣе всѣхъ были голоса главнокомандующихъ безъ армій, редакторовъ безъ газетъ, министровъ безъ министерствъ, начальниковъ партій безъ партизановъ. Комокъ снѣга все наросталъ и наросталъ, и тѣмъ, кто перекатывалъ его, т. е. городскимъ, въ особенности столичнымъ жителямъ, казалось, что онъ катится съ необычайной быстротой куда то по безконечной горѣ и долженъ дойти до огромныхъ размѣровъ. А въ сущности налипъ только снѣгъ тамъ, по городамъ, гдѣ перекатывали комъ, а когда они устали перекатывать, шаръ остановился и растаялъ и развалился отъ солнца. Но это стало замѣтно уже гораздо послѣ. Въ то же время какъ запыхавшiеся, разгоряченные въ азартѣ, они, возбуждая себя крикомъ, катили этотъ шаръ, нетолько имъ самимъ, но и постороннимъ самымъ спокойнымъ наблюдателямъ казалось иногда, что тутъ совершается что то важное. Если же кому и казалось, что все это есть вздоръ, то тѣ, которые такъ думали, должны были молчать, потому что опасно было противурѣчить бѣснующейся толпѣ и неловко, потому что все бѣснованiе это было прикрыто самыми высокими мотивами: рѣзня въ Болгарiи, человѣчество, христiанство.
Ошалѣвшимъ людямъ, бѣснующимся въ маленькомъ кружкѣ, казалось, что вся Россiя, весь народъ бѣснуется вмѣстѣ съ ними. Тогда какъ народъ продолжалъ жить все той же спокойной жизнью, съ сознанiемъ того, что судьбы его историческiе совершатся такiя, какiя будутъ угодны Богу, и что предвидѣть и творить эти судьбы не дано и не велѣно человѣку.[1823]
Послѣднiй годъ былъ очень тяжелый годъ для Сергѣя Ивановича. Никто кромѣ его не зналъ всего, что онъ перенесъ въ этотъ годъ. Для знавшихъ его онъ былъ точно такой же, какъ всегда, умный, прiятный собесѣдникъ, полезный, образцовый общественный дѣятель, знаменитый ораторъ и даже ученый, написавшiй какую то очень ученую книгу. Но никто не зналъ, что эта то книга и была источникомъ его затаенныхъ страданiй. «Опытъ обзора основъ и формъ государственности» была книга, надъ которой онъ работалъ 6 лѣтъ. Многiя части этой книги были напечатаны въ повременныхъ изданiяхъ и получили одобренiе знающихъ людей. Другiе части были читаны Сергѣемъ Ивановичемъ людямъ своего круга, и тоже все это было признано «замѣчательнымъ». Книга эта послѣ тщательной отдѣлки была издана въ прошломъ году и разослана книгопродавцамъ. Ни съ кѣмъ не говоря про свою книгу, ни у кого не спрашивая о ней, неохотно, равнодушно отвѣчая своимъ друзьямъ, незнавшимъ о томъ, какъ идетъ его книга, не спрашивая даже у книгопродавцевъ, покупается ли она, Сергѣй Ивановичъ тайно отъ всѣхъ, однако зорко, съ напряженнымъ вниманiемъ слѣдилъ за впечатлѣнiемъ, которое произведетъ его книга въ обществѣ и въ литературѣ. Въ обществѣ она не произвела никакого. Никто не говорилъ съ нимъ про нее. Даже друзья его, встрѣтивъ его равнодушное отношеніе къ вопросамъ о книгѣ, перестали его о ней спрашивать. Иногда онъ объяснялъ себѣ это равнодушіе тѣмъ, что книга была слишкомъ высока, иногда тѣмъ, что она не нехороша, — нехороша она не могла быть, — но не нужна еще. Въ литературѣ тоже не было ни слова цѣлый мѣсяцъ. Сергѣй Ивановичъ расчитывалъ до подробности время полученія книги и писанія рецензій, но прошелъ другой, было тоже молчаніе. Только въ «Сѣверномъ Жукѣ», въ шуточномъ фельетонѣ о пѣвцѣ, спавшемъ съ голоса, было кстати сказано нѣсколько презрительныхъ словъ о книгѣ Кознышева, показывающихъ, что книга эта уже давно осуждена и предана на посмѣяніе. Наконецъ на 3-й мѣсяцъ въ серьезномъ журналѣ была критическая статья. Сергѣй Ивановичъ зналъ и автора статьи. Онъ встрѣтилъ его разъ у Голубцева. Это былъ неокончившій курсъ въ гимназіи фельетонистъ, очень бойкій какъ писатель, но ужасно робкій въ отношеніяхъ личныхъ. Сергѣй Ивановичъ помнилъ, что онъ старался его покровительствовать и развязать, но что за это фельетонистъ разсердился. Статья была ужасна. Очевидно, нарочно фельетонистъ понялъ всю книгу такъ, какъ невозможно было понять ее. Но онъ такъ ловко подобралъ выписки, что выходило похоже, и все это было остроумно въ высшей степени. Такъ зло остроумно, что Сергѣй Ивановичъ самъ бы не отказался отъ такого остроумія, — но это то было ужасно. Послѣ этой статьи наступило мертвое и печатное и изустное молчаніе о книгѣ, и Сергѣй Ивановичъ видѣлъ, что его 6-тилѣтній трудъ, выработанный имъ съ такой любовью и трудомъ, прошелъ безслѣдно. Онъ пережилъ тяжелое время, онъ переносилъ свое горе совсѣмъ одинъ, но положеніе его было еще тяжелѣе оттого, что окончаніе книги и неудача ея отнимали у него цѣлую отрасль занятій.
Онъ былъ уменъ, образованъ, здоровъ и дѣятеленъ и не зналъ, куда употребить теперь всю свою дѣятельность. Разговоры занимали въ Москвѣ большую часть времени, но онъ, давнишній городской житель, не позволялъ себѣ уходить всему въ разговоры, какъ это дѣлалъ его неопытный братъ. Оставалось еще много досуга и умственныхъ силъ. Часть этаго досуга онъ посвящалъ на общественную дѣятельность; онъ говорилъ и въ съѣздѣ, и въ собраніи, и въ комитетахъ, и въ обществахъ, но и этаго было мало. Онъ не зналъ, куда положить свою дѣятельность. Поэтому возникшій Славянскій вопросъ былъ для него находка. Онъ взялся за него и составилъ одинъ изъ центровъ деятельности въ Москвѣ. Проработавъ всю весну и часть лѣта, онъ только въ Июлѣ мѣсяцѣ собрался поѣхать въ деревню къ брату. Онъ ѣхалъ и отдохнуть на двѣ недѣли, и еще была у него цѣль — на мѣстѣ, въ деревенской глуши, видѣть тотъ подъемъ народнаго духа, въ которомъ онъ былъ убѣжденъ. Котовасовъ, давно сбиравшійся побываетъ у Левина, звавшаго его къ себѣ, поѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.
II.
Небольшая московская станція желѣзной дороги была полна народа. Богатые экипажи привозили дамъ и мущинъ. Вслѣдъ за Сергѣемъ Ивановичемъ и Котовасовымъ подъѣхали добровольцы на 3-хъ извощикахъ. У входа дамы съ букетами встрѣтили ихъ и толпою пошли за ними.
— Вы тоже пріѣхали проводить, — сказала по французски дама, сопутствуемая лакеями.
— Нѣтъ, я самъ ѣду, Княгиня. Сколько нынче?
— Пять; стало быть, уже около 300. И пожертвованій, знаете, ужъ до сотни тысячъ отъ графини Лидіи Ивановны прислано. И одинъ молодой человѣкъ прекрасный просилъ. Не знаю, почему его не приняли. Я хотѣла просить васъ, я его знаю, напишите.
Сергѣй Ивановичъ тутъ же, въ тѣснотѣ перваго класса, написалъ записочку и только засталъ послѣднюю рѣчь, которую съ бокаломъ въ рукахъ прочелъ имъ Сѣверовъ.
— Vous savez, le comte Vronsky part aussi,[1824] — сказала Княгиня.
— Я не зналъ, что онъ ѣдетъ. Гдѣ же онъ?
— Онъ здѣсь. Одна мать провожаетъ его. Онъ, говорятъ, ужасно убитъ. И избѣгаетъ людей. Все таки это лучшее, что онъ могъ сдѣлать.
— О да, разумѣется.
— Вы знаете, что послѣ этаго несчастья онъ былъ какъ сумашедшій; его насилу вывели изъ этаго состоянія torpeur.[1825] Но теперь боятся больше всего вида станцій желѣзныхъ дорогъ.
— А, Княгиня! какъ я радъ, что не опоздалъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, поспѣшно входя и отдуваясь. Онъ былъ очень красенъ, очевидно послѣ завтрака. — Пріятно жить въ такое время. А, Сергѣй Ивановичъ, вы куда?
— Я въ деревню къ брату, — холодно отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ.
— А какъ я завидую вамъ.
— Что, вы говорите, Алексѣй здѣсь? Я пойду къ нему.
— Какъ онъ становится несносенъ, — сказала Княгиня. — И все одна фраза. И тамъ ему не рады. Такъ и есть. Я думаю, ему непріятно видѣть его. Вотъ и выпроводили.
— Какое однако общее движеніе народное.
— Parlez lui en route.[1826]
— Да, можетъ быть, если придется. Я никогда не любила его. Но это выкупаетъ многое. Онъ не только ѣдетъ самъ, но эскадронъ ведетъ на свой счетъ.
Послышался звонокъ. Всѣ затолпились къ дверямъ. Добровольцы, изъ которыхъ замѣтны были особенно 3 — высокій кирасирскій офицеръ въ большихъ сапогахъ, въ Австрійской мундирной фуфайкѣ съ сумкой черезъ плечо, и худой съ ввалившейся грудью юноша въ войлочной безъ полей шляпѣ, и очень пьяный и акуратный артилеристъ, прошли впереди. За ними бросилась толпа.
— Le voilà[1827] — проговорила Княгиня, и Сергѣй Ивановичъ увидалъ Вронскаго въ длинномъ пальто и широкой шляпѣ (ничего не было въ немъ военнаго), съ опущенными блестящими глазами и нахмуренными бровями.
Онъ шелъ подъ руку съ матерью. Впереди лакей очищалъ имъ дорогу. Вронскій узналъ Княгиню и Сергѣя Ивановича и приподнялъ имъ шляпу. Постарѣвшее лицо его казалось окаменѣлымъ, одни глаза блестѣли. Выйдя на платформу, они видѣли, какъ онъ молча, не оглядываясь, пропустивъ мать, скрылся въ отдѣленіи вагона.
На платформѣ раздалось «Боже Царя Храни», потомъ крики ура, живіо. Высокій молодой человѣкъ особенно замѣтно кланялся, махая надъ головой шляпой и букетомъ, и другіе, высовываясь, благодарили и принимали что то подаваемое имъ въ вагонъ.
Сергѣй Ивановичъ простился съ Княгиней и, сойдясь съ Котовасовымъ, вошелъ въ биткомъ набитый вагонъ. Положивъ денегъ въ кружку для Сербовъ, они сѣли у окна и, провожаемые криками, тронулись.
На Царицынской станціи поѣздъ встрѣтилъ стройный хоръ молодыхъ людей, пѣвшихъ «Славься» и потомъ «Боже Царя храни». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергѣй Ивановичъ, вышедшій съ Котовасовымъ изъ вагона, не видѣлъ Вронскаго. Онъ, очевидно, даже нарочно задернулъ свое окно. Котовасовъ нашелъ тутъ много знакомыхъ изъ пѣвцовъ. Они были очень веселы и хвалились, что они спѣлись особенно хорошо и еще лучше, чѣмъ «Славься», поютъ хороводныя пѣсни.
На слѣдующихъ двухъ станціяхъ были опять встрѣчи, и, только отъѣхавъ верстъ 100, гдѣ не было городовъ, поѣздъ принялъ свой обычный видъ. Котовасовъ перешелъ во второй классъ и разговорился съ добровольцами, a Сергѣй Ивановичъ, встрѣтившись въ коридорѣ съ Графиней Вронской, разговорился съ нею.
* № 191 (рук. № 103).
ЭПИЛОГЪ.
Въ средѣ людей, вслѣдствіи достатка лишенныхъ физическаго труда и не имѣющихъ внутренней потребности умственнаго труда, никогда не переводятся общіе модные интересы, иногда быстро смѣняющіеся одинъ другимъ, иногда подолгу останавливающіе вниманіе общества. Интересы никогда не касаются лично тѣхъ людей, которыхъ они занимаютъ, a имѣютъ всегда предлогомъ общее благо и относятся къ самымъ сложнымъ и непонятнымъ явленіямъ жизни; а такъ какъ непонятнѣе непонятной жизни отдѣльнаго человѣка есть только жизнь и дѣятельность народовъ и изъ періодовъ жизни народовъ самый непонятный, какъ неимѣющій еще окончанія, есть не выразившій еще своей цѣли періодъ современный, то модные эти интересы большей частью относятся къ этому самому, къ современной исторіи, иначе къ политикѣ.
Таковый модный интересъ былъ Славянскій вопросъ, съ начала зимы начавшій занимать общество, и къ серединѣ лѣта, не смѣняясь другимъ вопросомъ, какъ снѣжный катимый шаръ, дошелъ до самыхъ большихъ размѣровъ, достигаемыхъ такими модами. Онъ имѣлъ размѣры соединенныхъ въ одно Американскихъ друзей Болгарской церкви, пріѣзда Славянскихъ братьевъ и Самарскаго голода.
Въ средѣ людей, главный интересъ жизни которыхъ есть разговоръ печатный и изустный, ни о чемъ другомъ не говорили и не писали, какъ о Славянскомъ вопросѣ и Сербской войнѣ. Балы, концерты, чтенія, обѣды давались, книги издавались въ пользу Славянъ. Собирали деньги добровольно и почти насильно въ пользу Славянъ. Были Славянскія спички, конфеты князя Милана, самый модный цвѣтъ былъ Черняевскій.
Все, что дѣлали люди достаточныхъ классовъ, убивая своего прирожденнаго врага — скуку, дѣлали теперь въ пользу Славянъ. Шумѣли болѣе всѣхъ тѣ, которые любятъ шумѣть, шумятъ всегда при всякомъ предлогѣ; изъ дѣланья шума сдѣлали свое призваніе и даже имѣютъ соревнованіе между собой о томъ, кто лучше и больше и громче шумитъ.
Таковы были во главѣ всѣхъ люди, занимающіеся газетами. Для нихъ, избравшихъ себѣ профессію сообщенія важныхъ новостей и сужденіе объ этихъ новостяхъ, не могло не быть желательно то, чтобы то, что даетъ такой обширный плодъ новостей, разросталось какъ можно больше. Вся цѣль ихъ состояла только въ томъ, чтобы перекричать другихъ кричащихъ. При этомъ вообще крикъ, т.е. распространеніе всякихъ напечатанныхъ въ большомъ количествѣ фразъ и словъ, они считали безусловно полезнымъ и хорошимъ, такъ какъ это означало подъемъ общественнаго мнѣнія. Они перекрикивали другъ друга съ сознаніемъ, что этотъ крикъ вообще полезенъ.[1828]
Потомъ шумѣли всѣ неудавшіеся и обиженные. Громче всѣхъ были слышны послѣ газетъ голоса главнокомандующихъ безъ армій, редакторовъ безъ газетъ, министровъ безъ министерствъ, начальниковъ партій безъ партизановъ. Комокъ снѣга все наросталъ и наросталъ, и тѣмъ, кто перекатывалъ его, т. е. городскимъ, въ особенности столичнымъ жителямъ, казалось, что онъ катится съ необычайной быстротой куда то по безконечной горѣ и долженъ дойти до огромныхъ размѣровъ. А въ сущности налипалъ снѣгъ только тамъ, по городамъ, гдѣ перекатывался комокъ, и когда наступило время, шаръ остановился, растаялъ и развалился отъ солнца. Но это стало замѣтно уже гораздо послѣ. Въ то время какъ запыхавшіеся, разгоряченные въ азартѣ, они, возбуждая себя крикомъ, катали этотъ шаръ, не только имъ самимъ, но и постороннимъ, самымъ спокойнымъ наблюдателямъ казалось иногда, что тутъ совершается что то важное. Если же кому и казалось, что все это есть вздоръ, то тѣ, которые такъ думали, должны были молчать, потому что опасно было противурѣчить.
Одурманенная своимъ крикомъ толпа дошла уже до состоянія возбужденія, при которомъ[1829] теряются права разсудка и которое въ первую, французскую революцію называлось терроромъ.
Были даны поводы къ возбужденію — рѣзня въ Болгаріи, сочувствіе къ геройству воюющихъ Славянъ, въ особенности Черно-горцевъ, и была дана программа чувствъ, которыя эти событія должны были возбуждать, — негодованіе, желаніе мести Туркамъ, сочувствіе и помощь воюющимъ, и внѣ этаго все остальное исключалось.[1830] Если въ то время кто говорилъ, что бываютъ Турки и добрые, его называли измѣнникомъ. Если кто говорилъ, что бываютъ Сербы трусы, его называли злодѣемъ и безчестнымъ. Если кто бы сказалъ, что почти также, какъ дѣйствовали Турки, дѣйствовали и другія правительства, его бы растерзали.
Говорить завѣдомо ложь и утаивать истину, если такъ нужно для общаго возбужденія, считалось политическимъ тактомъ. Повтореніе все однаго и тогоже, не давая никому высказывать не подходящее подъ общій тонъ мнѣніе, торжествовалось какъ новое пріобрѣтеніе обществомъ — общественное мнѣніе.
Опьяненіе доходило до такой степени, что самыя безсмысленныя, противурѣчивыя, невозможныя извѣстія принимались за истину, если они подходили подъ программу, и дѣйствія самыя безобразныя, дикія, если они были въ общемъ теченіи, считались прекрасными.[1831] Были три сряду телеграммы о томъ, что Турки разбиты на всѣхъ пунктахъ и бѣгутъ, и на завтра ожидают рѣшительного сраженія. Никто не спрашивалъ, съ кѣмъ ожидается и съ кѣмъ будетъ сраженіе, когда Турки бѣжали послѣ перваго дня.
Были описанія мѣстностей, которыхъ никогда не было. Были описанія такихъ подвиговъ, которые не могли быть[1832] и которыхъ было бы лучше чтобы не было.
Недоставало солдатъ и денегъ, и потому дамы ѣхали жить въ Бѣлградъ, и всѣмъ казалось это цѣлесообразно.
Война объявлялась не правительствомъ, a нѣсколькими людьми,[1833] и всѣмъ казалось это очень просто.
Въ войнѣ за христіанство слышалось только то, что надо отомстить Туркамъ.[1834] Барыни въ соболяхъ и шлейфахъ шли къ мужикамъ выпрашивать у нихъ деньги и набирали меньше, чѣмъ сколько стоилъ ихъ шлейфъ.
Спасали отъ бѣдствія и угнетенія Сербовъ, тѣхъ самыхъ угнетенныхъ, которые, по словамъ ихъ министровъ, отъ жира плохо дерутся. Этихъ то жирныхъ въ угнетеніи Сербовъ шли спасать худые и голые русскіе мужики. И для этихъ жирныхъ Сербовъ отбирали копейки подъ предлогомъ Божьяго дѣла у голодныхъ русскихъ людей.
Люди христіане, женщины христіанскія для цѣлей христіанскихъ объявляли войну, покупали порохъ, пули и посылали, подкупая ихъ, русскихъ людей убивать своихъ братьевъ — людей и быть ими убиваемы.
Ошалѣвшимъ людямъ, бѣснующимся въ маленькомъ кружкѣ, казалось, что вся Россія, весь народъ бѣснуется съ ними. Тогда какъ народъ лродолжалъ жить все той же спокойной жизнью, съ сознаніемъ того, что у него только затѣмъ и есть Царь, Правительство, чтобы оно рѣшало за него его государственныя дѣла, и что давно, еще когда онъ по преданіямъ призвалъ братьевъ съ Рюрикомъ, теперь униженіемъ, лишеніями всякаго рода имъ куплено дорогое право быть чистымъ отъ чьей бы то ни было крови и отъ суда надъ ближнимъ.[1835]
* № 192 (кор. № 122).
Славянскій вопросъ былъ одинъ изъ тѣхъ модныхъ вопросовъ, которые, смѣняясь одинъ другимъ, постоянно занимаютъ общество. Онъ имѣлъ общій признакъ всѣмъ такого рода вопросамъ. Онъ не касался личныхъ интересовъ тѣхъ, которые имъ занимались (кромѣ какъ тѣмъ, что онъ давалъ имъ занятіе). Онъ имѣлъ своей задачей благо большаго количества людей и, главное, по сущности своей былъ совершенно непонятенъ; онъ касался не только непонятной человѣку жизни отдѣльных людей, но еще болѣе непонятной жизни совокупности людей, народовъ и не только жизни народовъ въ прошедшемъ, но въ настоящемъ и будущемъ. И знающіе и незнающіе, и образованные и необразованные могли говорить о немъ что хотѣли, и ни одинъ не былъ правѣе другого.
Сергѣй Ивановичъ, полагавшій, также какъ и другіе, что онъ одинъ съ нѣкоторыми людьми своего круга видитъ настоящее громадное значеніе этаго вопроса, отдавшись разговорамъ объ этомъ дѣлѣ, съ удовольствіемъ слѣдилъ за разроставшимъ съ зимы и дошедшемъ къ лѣту до всеобщаго энтузіазма, какъ ему казалось, интересомъ къ этому дѣлу.
* № 193 (кор. № 122).
И чѣмъ болѣе Сергѣй Иванычъ занимался этимъ дѣломъ, которому онъ посвятилъ всего себя, тѣмъ очевиднѣе ему казалось, что этотъ комъ снѣга, катаемый имъ вмѣстѣ съ другими городскими жителями, самъ катится съ необычайной быстротой куда то по безконечному пространству. Одурманенный крикомъ толпы, среди которой онъ находился, и своей собственной дѣятельностью, Сергѣй Иванычъ не видѣлъ, что то самое общественное мнѣніе, которому онъ приписывалъ такую важность, было только мнѣніе сотенъ и что это частное мнѣніе, обладая печатью, все возбуждая и возбуждая себя взаимнымъ крикомъ, довело уже давно этотъ малый кругъ, на который оно дѣйствовало, до того состоянія одуренія, при которомъ теряются права разсудка и которое въ первую французскую революцію называлось терроромъ.
Сергѣй Иванычъ и самъ не замѣчалъ, какъ принимались за истину самыя безсмысленныя, невозможныя извѣстія только потому, что всѣ хотѣли, чтобъ это была правда. Сергѣю Иванычу казалось очень естественно, что въ армію, гдѣ нѣтъ одеждъ и пищи, гдѣ дорогъ каждый кусокъ хлѣба, ѣдутъ толпами дамы, что Генералъ Черняевъ производитъ князя въ короли и что отъ этаго восторжествуетъ славянское дѣло; что три дня сряду получаютъ телеграммы о томъ, что Турки разбиты на всѣхъ пунктахъ и бѣгутъ и на завтра ожидаютъ рѣшительнаго сраженія.
Ему казалось также естественно и не противно чувству то, что люди христіане, женщины христіанскія, для цѣлей христіанскихъ покупали порохъ, пули и посылали людей убивать себѣ подобныхъ и быть убиваемы; что въ войнѣ за христіанство слышалось только то, что надо отмстить Туркамъ; что отбирали деньги у Русскихъ бѣдняковъ почти насильно для того, чтобы посылать въ Сербію спасать отъ бѣдствія и угнетенія Сербовъ, тѣхъ самыхъ угнетенныхъ, которые, по словамъ ихъ министровъ, отъ жира плохо дерутся.
И Сергѣю Иванычу вмѣстѣ со всѣми, принимавшими участіе въ производимомъ террорѣ, казалось, что это не могло быть ошибочно и дурно, потому что въ этомъ самомъ выражалась душа всего народа. Сергѣю Иванычу и не приходило въ голову, что народъ, всегда готовый на всѣ труды, лишенія и на смерть для совершенія своихъ судебъ, продолжая жить все тою же молчаливою и могучею жизнью, смиренно ждалъ, не заботясь ни о Сербахъ, ни о Черногорцахъ, твердо зная то, что у него только затѣмъ и есть правительство, Царь, чтобы оно рѣшало за него его государственныя дѣла, и что давно, еще, когда онъ по преданіямъ призвалъ братьевъ съ Рюрикомъ, имъ куплено дорогое ему право быть чистымъ отъ суда надъ ближнимъ и отъ чьей бы то ни было крови.
* № 194 (кор. № 123).
И вдругъ мгновенно представилась ему та минута, когда онъ увидалъ на столѣ казармы, посреди рабочихъ и станціонныхъ, ея прелестное, полное недавней жизни, безстыдно растянутое на столѣ, окровавленное тѣло и маленькую, энергическую руку ея, какъ она лежала на трупѣ съ подогнутыми пальцами и осторожно, чопорно отодвинутымъ мизинцемъ; увидалъ закинутую назадъ голову и кроткое, жалкое въ своей уцѣлевшей красотѣ лицо, ясно, какъ словами, говорившее ему: «Ты раскаешься, ты раскаялся; но мнѣ жалко и тебя и себя. Но не воротишь...» И тотчасъ вслѣдъ за этимъ онъ вспомнилъ ту минуту, когда съ этою же самой старухой матерью, теперь глядящею въ окно, онъ въ первый разъ встрѣтилъ ее тоже въ вагонѣ. И онъ видѣлъ ее, какою она была тогда для него, неприступною, таинственною и прелестною, когда, оборотивъ на него свое незабвенное лицо, обвязанное бѣлымъ оренбургскимъ платкомъ, она быстро пошла навстрѣчу брату.
* № 195 (кор. № 123).
— Какъ хорошо въ лѣсу, — сказалъ Сергѣй Иванычъ, отставая отъ другихъ и оставаясь съ братомъ. — Ну, что ты дѣлаешь? — спросилъ онъ у брата.
— Да ничего особеннаго, какъ всегда, занимаюсь хозяйствомъ, — отвѣчалъ Левинъ. — Что же ты, надолго? Мы тебя давно ждали.
— Недѣльку, двѣ. Очень много дѣла въ Москвѣ. Что, ты такъ, какъ князь, смотришь на славянское дѣло? — сказалъ онъ, улыбаясь и возвышая голосъ.
И довольно было этихъ словъ, чтобы то не враждебное, но холодное отношеніе другъ къ другу, котораго Левинъ такъ хотѣлъ избѣжать, опять установилось между братьями.
— А чтожъ князь? — сказалъ Левинъ, чувствуя, что ему неловко смотрѣть въ глаза брату.
— Да папа ужъ началъ спорить объ Сербахъ, — сказала Долли.
— Я не спорю, я говорю, что не понимаю, — сказалъ князь,[1836] отставая и смѣющимися глазами глядя на Левина, очевидно ожидая отъ него поддержки. — Я вотъ очень радъ встрѣтиться съ вами, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Сергѣй Иванычу, — вы мнѣ объясните то, что я не понимаю.
— То есть что же вы не понимаете?
— Я вотъ у Константина спрашивалъ, но онъ не умѣлъ мнѣ растолковать, что такое братья Славяне и почему мы ихъ такъ страстно любимъ.
— Братья Славяне — это народы однаго съ нами происхожденія, одной вѣры, находящіеся подъ властью Турокъ, — совершенно серьезно отвѣчалъ Сергѣй Иванычъ.
— Но отчего же мы до сихъ поръ никогда ничего не слыхали про нихъ, только въ географіи учили?
— А это оттого, что мы всегда знали всѣ подробности о томъ, чего намъ не нужно знать. Мы знаемъ басковъ и ирландцевъ, а нуждъ своихъ братій не знаемъ.
Серьезный и спокойный тонъ, съ которымъ отвѣчалъ Сергѣй Иванычъ, смутилъ князя. Онъ не находилъ болѣе мѣста для возраженій и, главное, для шутки, которая въ его разговорахъ всегда бывала главнымъ орудіемъ.
— Да такъ, но отчего же мы такъ вдругъ всѣ возгорѣлись любовью? — сказалъ онъ.
— Оттого что узнали своихъ братьевъ и оттого что ихъ страданія возбудили наше сочувствіе, — сказалъ Сергѣй Иванычъ, взглянувъ на брата.
— То есть я думаю, — сказалъ Левинъ, которому было жалко смущеннаго князя, — что князь хочетъ сказать, что трудно предположить, чтобы мы вдругъ полюбили людей, которыхъ мы не знаемъ, и что тутъ есть много ненатурального.
— То есть почему же ты находишь, что ненатурально то, что народъ почувствовалъ свою кровную связь съ братьями и встрепенулся какъ одинъ человѣкъ?
— Я жилъ за границей, читалъ русскія газеты и думалъ, что въ самомъ дѣлѣ вся Россія съ ума сошла отъ любви къ Славянамъ, и очень огорчался, что я ничего не испытываю, но, пріѣхавъ сюда, я успокоился. У насъ въ деревнѣ никакого нѣтъ сочувствія.
— Нѣтъ, папа, какже нѣтъ? А воскресенье въ церкви, — сказала Долли, прислушивавшаяся къ разговору.
* № 196 (рук. № 101).
Въ комнатѣ было прохладно, тихо. Въ далекѣ, въ саду, были слышны вскрики Доллиныхъ дѣтей. Но Кити не хотѣлось спать. Напротивъ, какъ большей частью съ ребенкомъ у груди, она чувствовала всю свою душу, и самыя ясныя, несомнѣнныя чувства поднимались в ней.
«Разумѣется, онъ все понимаетъ, — думала она про него. — Вотъ именно все то, что понимаетъ, старается съ такимъ трудомъ понять теперь Костя. Да, гости! Я и рада, что они пріѣхали, и боюсь за Костю», думала она.
Съ тѣхъ поръ какъ она полюбила Левина, она узнала его — узнала всю его душу. И она полюбила ее, потому, что знала и видѣла, что эта душа была хорошая. Но съ тѣхъ поръ какъ она вышла за него, по мѣрѣ того какъ она болѣе и болѣе сближалась съ нимъ, она болѣе и болѣе удивлялась на[1837] тѣ странныя черты, которыя были въ этой душѣ и такъ противурѣчили самой душѣ. Почему то онъ не вѣрилъ, говорилъ, что не можетъ вѣрить, иногда съ какой то злобой и гордостью говорилъ, почему это невозможно ему. Но зачѣмъ же онъ говорилъ про это, если это мучало его? И какже онъ могъ, бывши такимъ, какимъ онъ былъ, не вѣрить? Во что же онъ вѣрилъ? Всѣ эти вопросы много разъ приходили ей, но она никогда не дѣлала ихъ ему. Она считала себя до такой степени мало умной и образованной, что она не позволяла себѣ ни съ кѣмъ, тѣмъ болѣе съ нимъ, котораго она считала такимъ умнымъ, говорить про это. Кромѣ того, ей говорило внутреннее чувство, что про это не надо говорить. «Про это надо молчать, — говорила она себѣ. — Онъ такой же, какъ я, еще лучше, гораздо лучше меня. Стало быть, онъ христіанинъ. А если онъ говоритъ, что нѣтъ, то это дурная привычка, желанье спорить. Но это пройдетъ, это не важно, — думала она, — тѣмъ болѣе что въ послѣднее время, въ особенности послѣ родовъ, онъ сталъ больше и больше измѣняться».
Это противурѣчіе съ самимъ собою мучало его больше и больше. Онъ безпрестанно говорилъ съ нею (она знала, что говорить съ нею было для него тоже, что говорить съ самимъ собою) о томъ, почему онъ не можетъ вѣрить, и о томъ, какъ это мучаетъ его, и даже говорилъ ей тѣ доводы, по которымъ онъ хочетъ заставить себя вѣрить. Она не возражала ему, не подтверждала его и не противурѣчила ему. Она избѣгала этихъ разговоровъ, но съ твердой увѣренностью, что онъ придетъ къ ней, слѣдила за нимъ. Она видѣла, что и въ Москвѣ и особенно первое время весны, когда они вернулись въ деревню, онъ былъ поглощенъ чтеніемъ и мыслями, которые занимали его и прежде, но теперь страстно занимали его. Она не могла понять путей, по которымъ ему нужно было читать философію Шопенгауера, Вундта и сочиненія Хомякова, но она видѣла, что все это имѣло одну и ту же цѣль, и страстно слѣдила за нимъ, хотя и поражала и огорчала его своимъ равнодушіемъ къ доводамъ, съ которыми онъ приходилъ къ ней. Она не понимала, къ чему ему нужно было знать, гдѣ сказано въ Евангеліи, что Богъ есть любовь, и почему ему казалось это столь важнымъ и почему потомъ онъ пересталъ говорить объ этомъ. Не понимала она тоже, почему онъ радовался, говоря ей, что матерьялисты — точно дѣти, которыя разрушаютъ то, чѣмъ живутъ. Что безъ вѣры нельзя жить ни минуты, а когда полонъ вѣры отцовъ, проникающей всю душу, тогда,[1838] какъ дѣти, матерьялисты отвергаютъ все; какъ дѣти, ломаютъ, увѣренные, что они всетаки будутъ одѣты и сыты. Почему эта и другая мысль о томъ, что стоитъ только направить умъ на что нибудь, и все разлетится въ прахъ, почему эти мысли казались имъ такъ важны и нужны. Она знала, зачѣмъ онъ борется, но не знала съ чѣмъ. И всей душой сочувствовала его отчаянію, но не могла помочь ему. Она видѣла, что онъ въ эту весну былъ близокъ къ отчаянію, и знала, что она сама счастлива и спокойна и что онъ можетъ быть столь же счастливъ и спокоенъ, какъ и она, но что привести его къ этому спокойствію она не можетъ, а онъ долженъ притти самъ, и она ждала его. Это была задушевная мысль ея за это время. И теперь, съ ребенкомъ у груди, она стала думать объ этомъ. Не разстроилъ бы Сергѣй Иванычъ и Котовасовъ матерьялистъ, какъ говорилъ Костя, его въ послѣднее время устанавливающагося спокойствія.
Послѣднее время она видѣла, что онъ уже переставалъ тревожиться и какъ будто въ тишинѣ вслушивался въ таинственные звуки. Еще вчера онъ ей только сказалъ мысль, болѣе всѣхъ другихъ понравившуюся ей. Онъ сказалъ:[1839] «ты знаешь, первое мое сомнѣніе въ своемъ невѣріи было умирающій братъ.[1840] Николай пріѣхалъ ко мнѣ. На меня, отъ того что я любилъ его, нашелъ такой ужасъ передъ пошлостью жизни и что нельзя никуда подняться выше. Второй разъ отъ тебя, когда я передъ сватьбой говѣлъ. Мнѣ такъ хотѣлось тогда, — тогда я сильно, ново любилъ, — такъ хотѣлось имѣть общеніе не съ людьми, а выше, и вмѣстѣ съ тѣмъ я пришелъ въ церковь и почувствовалъ, что я не выше, а ниже. И потомъ не столько твои роды, хотя я молился тогда, сколько когда я изъ Москвы уѣхалъ одинъ сюда и на меня ночью нашелъ ужасъ за тебя, за Митю, и я почувствовалъ, что я одинъ. Это ужасно. Отчего, когда я съ тобой, на меня не находитъ этотъ ужасъ? Отъ того, что съ тобою я вѣрю съ помощью тебя. Но тутъ я былъ одинъ надъ пропастью».
Хотя Кити и не понимала, надъ какой пропастью онъ былъ, она по лицу его, выражавшему то страданіе, которое онъ испытывалъ, понимала его. Но болѣе всего она поняла его послѣднія слова: «такъ что же наконецъ, — сказалъ онъ, — это подлость. Я не вѣрю, говорю, что не вѣрю, и не вѣрю разсудкомъ, а придетъ бѣда, я молюсь. Это подло».
Это она понимала и одобряла и видѣла, что тотъ миръ вѣры, надежды и любви, въ которомъ она жила, не то что строится, но отчищается въ его душѣ отъ всего засорившаго его. «Теперь, какъ бы онъ не сталъ спорить, и онъ бы не разстроилъ его, — думала она, — не задержалъ бы. А онъ, невѣрующій, — думала она, — онъ, который всю жизнь только ищетъ, какъ бы быть лучше и выше, этаго ничего не ставитъ. Вся жизнь есть что: служить для брата, для сестры. Всѣ эти мужики, которые совѣтуются съ нимъ. И все это невольно, не думая объ этомъ и все тяготясь, что онъ ничего не дѣлаетъ».
* № 197 (рук. № 101).
Несмотря на то, что, увидавъ нешуточную опасность для себя той праздной, исполненной однихъ разговоровъ жизни, которую другіе вели такъ безвредно, Левинъ послѣ родовъ уже почти не выѣзжалъ изъ дома, онъ всетаки все время въ городѣ чувствовалъ себя не на мѣстѣ и какъ бы на станціи или подъ наказаніемъ, живя только ожиданіемъ, когда это кончится.
Вернувшись же въ началѣ Іюня въ деревню, онъ съ новымъ наслажденіемъ вернулся и къ согласію съ самимъ собою и къ занятіямъ, которыя казались такъ незамѣтны, но которыя занимали почти все его время, и занимали такъ, что [рѣшеніе] каждого вопроса имѣло для него несомнѣнную важность. Онъ чувствовалъ себя на своемъ мѣстѣ и спокойнымъ.
Хозяйство сельское, невольныя отношенія съ мужиками и сосѣдями, домашнее хозяйство, отношенія съ женою, родными, забота о ребенкѣ наполняли и поглощали все его вниманіе и такъ наполняли его время, что онъ нетолько никогда не испытывалъ безпокойства о томъ, какъ онъ употребитъ время, но почти всегда не успѣвалъ всего передѣлать и уже рѣдко, рѣдко дѣлалъ что нибудь для удовольствія и забылъ думать о своей книгѣ, которая теперь уже была отнесена къ удовольствіямъ.
Хозяйство его, со времени женитьбы все болѣе и болѣе принимавшее другое направленіе, теперь совершенно измѣнилось. Всѣ прежнія начинанія хозяйственныя, имѣющія общія цѣли, понемногу оставлялись и теперь были совершенно оставлены. Общіе планы[1841] въ хозяйствѣ, какіе у него бывали прежде, тоже были оставлены: онъ не держался ни старыхъ пріемовъ, утверждая, какъ прежде, что они самыя цѣлесообразные, ни исключительно научныхъ, новыхъ Европейскихъ, но кое гдѣ вводилъ машины и Европейскія усовершенствованія, кое гдѣ держался старины, не имѣя никакой предвзятой мысли. Прежде, при каждомъ представлявшемся хозяйственномъ вопросѣ, онъ свѣрялся съ своей теоріей и бывалъ въ сомнѣніи, какъ поступить, теперь же, хотя у него не было никакой теоріи, у него никогда не было сомнѣній. Онъ, руководствуясь только личной выгодой и совѣстью, твердо зналъ, что надо и что не надо дѣлать. Такъ, дальнія земли, которыя были въ общемъ артельномъ владѣніи, онъ, хотя и противъ теоріи, зная, что такъ надо, отдалъ въ наймы. Ближнія земли, несмотря на продолжавшійся убытокъ, онъ пахалъ самъ и продолжалъ навозить и жалѣть. За порубки лѣсовъ онъ строго преслѣдовалъ мужиковъ, и совѣсть его не упрекала; за потравы онъ, къ огорченію прикащика, всегда отпускалъ загнанную скотину. Постоялый дворъ и питейный домъ онъ уничтожилъ, хотя это было выгодно, только потому, что это ему было почему то непріятно; въ кабалу мужиковъ брать онъ никогда не соглашался. За водку брать работать онъ не позволялъ прикащику, но устройство новаго рода барщины, при которомъ мужики обязывались за извѣстную плату работать, извѣстное число мужиковъ пѣшихъ и конныхъ и бабьихъ дней, за которое его называли ретроградомъ, онъ считалъ хорошимъ. На школу, на больницу онъ не давалъ ни копейки, но взаймы, и часто теряя свои деньги, онъ давалъ мужикамъ, считая съ нихъ 5 процентовъ. Непаханная земля, неубранный клочекъ сѣна возбуждали въ немъ досаду, и онъ выговаривалъ прикащику, но по посадкѣ лѣса на 80 десятинахъ не косилъ траву и не пускалъ скотину, чтобы не испортить саженцовъ, и не жалѣлъ этой пропажи.
* № 198 (рук. № 103).
Еще послѣ этаго, когда въ Москвѣ прошли слухи о самоубійствѣ Анны и Левинъ поѣхалъ на ту станцію и увидалъ ея изуродованное тѣло и прелестное мертвое лицо и тутъ же увидалъ шатающагося Вронскаго съ завороченной панталоной безъ шапки, какъ его повели вонъ изъ казармы, на Левина нашло[1842] чувство ужаса за себя. «Организмъ разрушенъ, и ничего не осталось, — подумалъ онъ. — Но почему же онъ разрушенъ? Всѣ части цѣлы, сила никуда не перешла. Куда же она дѣлась?» началъ думать онъ. И вдругъ, взглянувъ на прелестное въ смерти лицо Анны, онъ зарыдалъ надъ своей жалкостью съ своими мыслями передъ этой тайной, безъ разрѣшенія которой нельзя жить. И съ этой минуты мысли, занимавшія его, стали еще требовательнѣе и поглотили его всего. Всю эту весну онъ былъ не свой человѣкъ и пережилъ ужасныя минуты. Онъ сталъ читать философскія книги, но чѣмъ больше онъ читалъ, тѣмъ невозможнѣе для него представлялась жизнь. Онъ, счастливый семьянинъ и счастливый, здоровый человѣкъ, былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что онъ спряталъ снурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить одинъ съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться. «Въ вѣчности по времени, въ безконечности матеріи и пространства выдѣляется пузырекъ организмъ. Я пузырекъ, подержится и лопнетъ.[1843] И другаго ничего нѣтъ и не можетъ быть. А и это неправда, мучительная неправда. И такъ нельзя жить».
Но, видно, была какая то другая правда въ душѣ Левина, потому что онъ жилъ и зналъ, какъ и зачѣмъ жить. И только изрѣдка, иногда слабѣе, иногда сильнѣе, эти настроенія находили на него. Но мысли эти никогда не покидали его въ послѣднее время. Онъ и читалъ и самъ придумывалъ опроверженія матеріалистовъ, и опроверженія были несомнѣнны и сильны, но это не помогало, опроверженія ничего не давали. Онъ и читалъ Шопенгауэра, подставляя на мѣсто его воли любовь, и одно время эта новая философія утѣшала его, но потомъ онъ увидѣлъ, что это были только мысли, а не знаніе, не вѣра, что это была тоже кисейная, негрѣющая одежда. И онъ не переставая искалъ. Ученіе Хомякова о Церкви, «возлюбимъ другъ друга, да единомыслимъ и единоисповѣмъ», поразило его сначала, но полемика, исключительность Церкви опять оттолкнула его. Хотя и легче было, онъ понималъ, повѣрить въ существующую Церковь, имѣющую во главѣ Бога и заключающую весь сводъ вѣрованій людей, и отъ нея уже принять вѣрованіе въ Бога, твореніе, паденіе, Христа, чѣмъ начинать съ далекаго, таинственнаго Бога, творенія и т.д., но онъ не могъ вѣрить и въ Церковь.
Мысли и вопросы эти не покидали его ни на часъ.
«Подло наконецъ, — говорилъ онъ себѣ, — молиться въ минуты горя и отвергать потомъ». Разговаривая съ женой, съ Долли, съ няней, глядя на сына, въ разговорахъ съ прикащикомъ, съ мужиками онъ думалъ о томъ и находилъ указанія на занимавшіе его вопросы.
Вскорѣ послѣ пріѣзда въ деревню, поѣхавъ въ имѣніе сестры, онъ разговорился съ старикомъ мужемъ кормилицы объ отдачѣ земли. Левинъ предлагалъ другому старику взять землю и настаивалъ на цѣнѣ, даваемой дворникомъ.
— Онъ не выручитъ, Константинъ Дмитричъ, — отвѣтилъ старикъ.
— Да какже тотъ?
— Да вотъ также, какъ вы. Вы развѣ обидите человѣка. Такъ и онъ. Судить грѣхъ, какъ тотъ, онъ не выручитъ.
— Да отчего?
— Другой человѣкъ только для своихъ нуждъ живетъ — ѣсть, пить, спать. A Ѳоканычъ правдивый старикъ. Его попросить, онъ спуститъ. Тотъ для себя, для нужды, а этотъ для Бога, для правды живетъ, душу спасаетъ, человѣкъ, одно слово.
Церковь, по ученію Хомякова, живетъ для правды, а не для нуждъ. Его собственная жизнь послѣднее время и общій взглядъ его, общій съ мужиками, подлость отрекаться отъ молитвы — все вдругъ сошлось къ одному и освѣтило его.
— Ну такъ прощай, потолкуете и заходите ко мнѣ, — сказалъ онъ мужику, — а я пойду домой.
— Счастливо, Константинъ Дмитричъ. Что это вы пѣшкомъ ходите?
— Я люблю.
— Я вамъ лошадку запрегу.
— Не надо.
— Жара же страсть.
— Да, пересохло все. Ну, прощай, — сказалъ Левинъ, желая поскорѣе уйти и остаться одному съ своими мыслями.
— Страсть томитъ. Дождичка бы надо для зеленей. Такъ сухая матушка и лежитъ, ровно не сѣянная. Счастливо, Константинъ Дмитричъ.
Левинъ пошелъ домой большими шагами, не чувствуя ни жары, ни усталости, прислушиваясь не столько къ своимъ мыслямъ, сколько къ душевному состоянію, прежде никогда имъ не испытанному. Прежде, когда онъ придумывалъ себѣ точки опоры, эти его мысли, долженствовавшія быть точками опоры, дѣйствовали на него, какъ капля горячей воды, налитая въ бочку. Капля была горяча, но только пока она была отдѣльна, но стоило влиться — погрузиться въ общее, чтобы ихъ не видно было тамъ. Но теперь вдругъ въ первый разъ онъ почувствовалъ, что эта одна мысль, высказанная мужикомъ, вызвавшая цѣлый градъ мыслей, сходившихся къ одному центру, была уже не капля.
Всѣ эти прежнія мысли, всѣ вдругъ какъ будто ждали какой то искры, чтобы скинуть съ себя покровы и собраться въ одну массу, и такую массу утѣшительныхъ мыслей, что онъ чувствовалъ, что перевѣсъ уже былъ на ихъ сторонѣ. Онъ чувствовалъ уже теплоту отъ влитой горячей влаги. Онъ чувствовалъ, что все его прежнее миросодержаніе уже измѣнилось въ душѣ его, поднялось таинственно согрѣвающее броженіе, и онъ съ наслажденіемъ прислушивался къ нему.
«Не для нуждъ своихъ жить, а для правды. Чтоже онъ сказалъ этимъ, какъ не то, что одно составляетъ самый глубокій внутренній мотивъ, побужденіе мое къ жизни, то самое, безъ котораго (т. е. когда я ищу и не сознаю его, я боюсь веревки и ружья) жить нельзя, но которымъ я только и живу, сознаніемъ, что во всей этой сложной пошлости жизни есть цѣль вѣчно достойная жизни человѣка, и цѣль эта есть любовь. И чтоже онъ сказалъ? Онъ только выразилъ то самое ученіе, которому поучаетъ насъ та самая Церковь, во главѣ которой Богъ, про которую говоритъ Хомяковъ. И что же есть въ этомъ ученіи, съ чѣмъ бы я не былъ согласенъ? Я подставлю только другія слова и шире понятія, но будетъ то же. Сила, управляющая міромъ, проявленіе ея, выразившееся въ этикѣ». Грѣхъ, объясненіе или названіе зла и смерти и сотни мыслей съ чрезвычайной быстротой и ясностью представились ему. «И чѣмъ это держится? Однимъ сознаніемъ Бога, котораго я не могу опредѣлить такъ, какъ я опредѣляю электричество и тяготѣнія, и потому говорю, что его нѣтъ; тогда какъ онъ именно то, что не опредѣляется тѣми путями, которыми опредѣляются силы природы. И говорю, что нѣтъ, а только что душа моя не спитъ въ каждомъ поступкѣ моемъ. Когда я изъ двухъ выбираю то, что есть любовь и самопожертвованіе, я слѣдую только тому, что мнѣ открылъ Богъ.[1844] Потому что откудова же я бы могъ узнать это? Я знаю это отъ того, что всѣ это знаютъ. А кто эти всѣ? Собраніе вѣрующихъ въ это, т. е. Церковь. И что же я знаю о томъ, что желаю знать, что нибудь полнѣе, чѣмъ знаетъ это Церковь? Я ничего не знаю. Я знаю то, что ведетъ меня или къ животной жизни — ѣсть, пить, или ничего не знаю и такъ ужасаюсь передъ этимъ исканіемъ, что не могу жить, хочу убить себя. И что даетъ философія? Только тоже самое. Всякая теорія — Гегеля — ставитъ того же Духа вмѣсто Бога, котораго безъ умственнаго труда знаетъ мужъ кормилицы, Шопенгауэра — отреченіе отъ воли, состраданіе, жизнь для правды. Всякая теорія, какъ бы сама признавая высоту и истинность ученія Церкви, какъ бы задачей своей ставитъ то, чтобы въ выводахъ своихъ совпасть съ ней. Она знаетъ, къ чему стремиться, и знаетъ только благодаря откровенію. И главное, главное, что же это значитъ — эта подлость, съ которой я молюсь Богу и вѣрю и потомъ отрекаюсь отъ него? Чтоже такое эта молитва моя?» подумалъ онъ и, живо вспомнивъ то довѣріе, которое онъ имѣлъ тогда къ Богу, ту твердость, которую онъ испытывалъ тогда, онъ почувствовалъ такую же теперь. «Да, надо разобрать это теперь. Я не боюсь разобрать это теперь. Это должно», сказалъ онъ себѣ, чувствуя такой приливъ къ сердцу, что не могъ идти дальше. Это было на бугрѣ, поднимаясь отъ рѣки. Онъ отошелъ отъ дороги, легъ тутъ же на руки и сталъ думать, завязывая узелки травы.
«Я молился и чувствовалъ Бога въ минуты исключительныя, при родахъ. Чтоже это значитъ?[1845] То, что Богъ есть и дѣйствуетъ на меня, или то, что мое невѣріе не есть невѣріе, а самообманываніе, и я вдругъ нахожу опять связь съ Богомъ, когда поднимаюсь до него, или что это минуты слабости, когда умъ мой затмѣвается. Но въ первомъ случаѣ я долженъ признаться себѣ въ томъ, во что вѣрю, во второмъ — найти, въ чемъ моя ошибка, что я называю Богомъ. Силы природы? Нѣтъ, я ихъ знаю и въ тѣ минуты. Что нибудь ложное, противурѣчащее. Или мнѣ нужно всегда или никогда не нужно его.
И онъ живо вспомнилъ ту минуту, когда онъ молился, и ту дилемму, которая тогда казалась ему неотразимою и которую онъ обѣщался обдумать и не обдумалъ. Въ ту минуту, какъ онъ, чувствуя себя во власти Бога, обращался къ нему, эта дилемма была такая: или я кощунствую, не понимая того, къ кому я прибѣгаю, a прибѣгая къ нему наравнѣ съ ворожбой и докторомъ, и тогда это мое обращеніе къ Богу только удаляетъ меня отъ Него, или все то, что я считалъ своимъ убѣжденіемъ, которое мѣшало мнѣ вѣровать, есть чепуха, которая соскочила, какъ только я сталъ передъ Богомъ, и тогда я долженъ повѣрить эти свои убѣжденія, сличить ихъ въ спокойныя минуты съ теперешними моими вѣрованіями и рѣшить, что положительное и что отрицательное».
Но когда прошла минута отчаянія и безпомощности, онъ не сдѣлалъ ни того, ни другаго. Не отдавая себѣ въ томъ отчета, просто не думая болѣе объ этомъ, онъ рѣшилъ, что вся дилемма неправильна, что обращеніе его къ Богу было только данью умственной слабости въ минуту раздраженія. Такое рѣшеніе онъ нашелъ по крайней мѣрѣ въ своей душѣ, когда теперь спрашивалъ себя, какъ онъ могъ уйти отъ той дилеммы. Но теперь онъ видѣлъ, что обманывался. Дилема была безвыходна при чувствованіи себя въ рукахъ Бога, и онъ выпалъ изъ нея только потому, что пересталъ себя чувствовать въ его власти. Но и того онъ не могъ сказать. Онъ все это время не переставалъ чувствовать Его руку. Всѣ его душевныя страданія имѣли только одно основаніе — вопросъ, зачѣмъ я тутъ? Кто, зачѣмъ меня пустилъ на свѣтъ искать и выстрадывать какого то разрѣшенія? Стало быть, и теперь онъ послѣ того толчка не переставалъ чувствовать ту силу, во власти которой онъ находился. И обманывать себя тѣмъ, что это были силы природы, онъ не могъ. Не силы природы интересовали его, не тѣ силы, вслѣдствіи которыхъ совершается естественный подборъ и совершается химическими, физическими и физіологическими законами обмѣнъ[1846] матеріи въ его тѣлѣ. Эти силы, если бы они всѣ были открыты ему, ни на волосъ бы не разрѣшили его вопроса.
То, что онъ искалъ, онъ позналъ только вслѣдствіи любви и состраданія, и это было, какъ бы сказать, несоизмѣримо съ тѣми, эта сила была познана любовью, и она должна была отвѣчать на любовь, и она должна была быть проста и понятна, и это былъ Богъ. Нѣтъ, онъ не могъ выйти изъ дилеммы, и онъ вспоминалъ то чувство, когда онъ молился, и испытывалъ теперь подобное же чувство; онъ зналъ, что онъ не кощунствовалъ, а онъ чувствовалъ близость Бога, и на вѣсахъ его ничего не вѣсили тѣ сомнѣнія, та невозможность по разуму вѣрить, которую онъ считалъ преградою между имъ и Богомъ. И онъ по лѣни не разобралъ этаго вопроса. И не по лѣни только. Тутъ была и гордость, нежеланіе быть наравнѣ съ толпой, съ такъ глупо про Божество говорившей толпой, и сожалѣніе за всѣ такимъ трудомъ[1847] пріобрѣтенныя разумныя попытки объясненій. «Теперь ли я ошибаюсь, ощущая радость сознанія опоры, или ошибаюсь тогда, когда вижу безсмыслицу всего выдаваемаго религіей за истину?» Онъ только улыбнулся при этомъ вопросѣ и, перевернувшись, сталъ глядѣть на ясное, безъ одного облачка, небо. «Теперь я знаю себя, все свое прошедшее, будущее, настоящее, что хорошо и дурно, я чувствую себя вмѣстѣ со всѣми соединеннымъ одной любовью и чувствуя міръ таинственный, непостижимый умомъ, одинаково для всѣхъ выраженный Церковью, а тогда я смотрю съ ужасомъ на ружье и веревку. Но почему же я нѣсколько разъ послѣ попытокъ вѣры возвращаюсь въ него? Съ грустью зная, что это тяжело, но возвращаюсь».[1848]
Это возраженіе такъ смутило его, что опять онъ сталъ, уныло глядя передъ собой, завязывать узелки. «А пьяница, а игрокъ, а распутникъ развѣ не возвращается съ той же грустью къ своей страсти», вдругъ пришло ему въ голову, и онъ, вскочивъ, пошелъ дальше по дорогѣ къ дому, перебирая, испытуя это сравненіе и со всѣхъ сторонъ находя его вѣрнымъ.
«Да, это страсть ума, страсть Котовасова и моя страсть, страсть гордости ума. Возвращеніе къ ней есть только rechute[1849] гордости ума. И не только гордости ума — плутовства, мошенничества ума», вдругъ ясно пришло ему въ голову и, несмотря на то, что пастухъ, къ которому онъ подходилъ, видѣлъ его, онъ опять сѣлъ на корточки и, глядя на пыль, сталъ разъяснять себѣ эту поразившую болѣе всѣхъ другихъ мысль.
* № 199 (рук. № 101).
Онъ вспомнилъ, что было для него первымъ толчкомъ, заставившимъ его провѣрить свои убѣжденія: это была ясная очевидная мысль о смерти при видѣ любимаго умирающаго брата. Когда ему ясно пришла мысль о томъ, что впереди ничего не было, кромѣ страданія, смерти и вѣчнаго забвенія, онъ удивился тому, какъ онъ могъ 14 лѣтъ жить на свѣтѣ съ такими мыслями, какъ онъ давно не застрѣлился. A вмѣстѣ съ тѣмъ онъ жилъ и женился и продолжалъ жить и мыслить и чувствовать. Чтожъ это значило? Теперь ему ясно было, что онъ могъ жить только благодаря тѣмъ вѣрованіямъ, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Еслибы онъ не имѣлъ этихъ вѣрованій, онъ бы давно перерѣзалъ всѣхъ тѣхъ, которые ему были чѣмъ нибудь непріятны, и его бы давно зарѣзали. А этаго ничего не было. И ему жизнь представилась въ видѣ круглаго сосуда, какой онъ видалъ въ лабораторіяхъ, съ двумя противулежащими узкими отверстіями. Одно было входъ въ жизнь, другое — выходъ. Ни того, ни другаго нельзя было сдѣлать, не идя по прямому пути. Но въ серединѣ излишекъ простора позволяетъ избирать всякія направленія, и тѣмъ, которые отклоняются отъ прямаго пути, кажется, когда они въ серединѣ, что направленіе входа было ложное и что онъ найдетъ лучшій, но неизбѣжная смерть приведетъ опять къ первому прямому пути[1850] — сознанія того, что мы во власти Его и ничего не знаемъ болѣе того, что онъ хотѣлъ открыть намъ. «И тѣмъ легче найти этотъ прямой путь, — думалъ онъ, продолжая сравненіе, — чѣмъ энергичнѣе будешь биться о края,[1851] думая найти новые выходы».[1852]
* № 200 (кор. №124).
— Ты знаешь, Костя, съ кѣмъ Сергѣй Ивановичъ ѣхалъ сюда? — сказала Долли, обращаясь къ Левину, — съ Вронскимъ. Онъ ѣдетъ въ Сербію.
— А! — сказалъ Левинъ. — Все ѣдутъ добровольцы.
— Да еще какъ! Вы бы видѣли оваціи. Нынче вся Москва сошла съ ума отъ вчерашнихъ телеграммъ. Теперь же 3-я тысяча добровольцевъ. Что, васъ не подмывало? Я увѣренъ — не будь вы женаты, поѣхали бы.
— Вотъ ужъ ни въ какомъ случаѣ, — улыбаясь сказалъ Левинъ.
— Т. е. въ военную службу, такъ какъ ты не служилъ, понимаю, но въ общество Краснаго Креста я бы пошелъ.
— Ни туда, ни сюда.
— Отчегожъ?
— Да я ничего не понимаю во всемъ этомъ дѣлѣ съ самаго начала.
— Т. е. чегожъ ты не понимаешь?
— Да я не понимаю, что такое значитъ братья Славяне. Я ихъ не знаю и никто не зналъ до прошлаго года. Вдругъ мы возгорѣлись любовью, — говорилъ Левинъ, начавши говорить спокойно и начиная увлекаться своими словами и горячиться.
— Такъ ты не знаешь исторіи и всей нашей кровной связи съ Славянами. Если ты не знаешь, то ты, какъ русскій, долженъ чувствовать то, что чувствуетъ теперь всякій мужикъ изъ тѣхъ, которые бросаютъ семью и приходятъ проситься въ добровольцы. Нашихъ бьютъ. За Христа бьютъ Агаряне. A тѣ, которые несутъ послѣдніе гроши, — это народное чувство.
— Да я живу въ деревнѣ, этаго нѣтъ ничего.
— Ну, это ты слишкомъ. Какъ нѣтъ, — сказала Долли. — А воскресенье въ церкви.
— Да они чтобъ душу спасти. Имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло.
— Да вѣдь они знаютъ на что, — утвердительно говорилъ Сергѣй Ивановичъ, хотѣвшій въ деревнѣ увидѣть, какъ смотритъ на дѣ[ло] народъ. Это голосъ всей Россіи.
— Прессы, а не Россіи. Мы здѣсь, въ деревнѣ, совершенно въ томъ положеніи, какъ если бы люди сидѣли смирно въ комнатѣ, а ихъ бы всѣ увѣряли, что они бѣснуются; такъ насъ, народъ, увѣряютъ, что мы сочувствуемъ, а мы ничего не знаемъ.
— Это вѣчная страсть противурѣчить. Мы видимъ это сочувствіе, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ, — когда толпы идутъ, бросая все.
— Но его нѣтъ. Еслибъ оно было, то я его не понимаю.
— Нѣтъ, Костя, ты Богъ знаетъ что говоришь, — сказала Долли, по мужу сочувствовавшая.
— О, спорщикъ. Право, изъ желанія спорить, — сказалъ Котовасовъ. — Но я это то и люблю. Ну съ, ну съ, какая ваша теорія?
— Да моя теорія та, что война есть жестокое, ужасное дѣло и по чувству и по наукѣ. Объявляетъ войну Государство, власть, теперь вдругъ войну объявляютъ сотни людей. Берутъ на себя отвѣтственность. Я этаго не понимаю. Дамы христіане даютъ деньги на порохъ, на убійство.
— Да позвольте, — сказалъ Котовасовъ, — убиваютъ братьевъ, единокровныхъ, ну не братьевъ — единовѣрцевъ, дѣтей, стариковъ. Чувство возмущается, требуетъ мщенія. Я понимаю Графа К., который говоритъ, что онъ плѣнныхъ Турокъ не признаетъ.
— Этаго я не понимаю, такъ мы отдаемся чувству такому же животному.
— Да потомъ, сдѣлай милость, скажи, развѣ ты не понимаешь исторической судьбы Русскаго народа, развѣ ты не видишь, что это только дальнѣйшее шествіе его по пути къ своимъ судьбамъ? И развѣ ты не видишь въ этомъ внезапномъ подъемѣ чувства народнаго признакъ?
— Вопервыхъ, я не вижу. И потомъ, что за поспѣшность, почему эти судьбы должны совершаться въ нынѣшнемъ году непремѣнно? Они совершатся. Богъ найдетъ эти пути и приведетъ народъ.
— Да вотъ онъ и ведетъ.
— Нѣтъ, не онъ, а гордость, поспѣшность. Объявленіе войны.
— Да этакъ вы велите сидѣть сложа руки и ждать судьбы, — сказалъ Котовасовъ. — Это Турки дѣлаютъ и досидѣлись.
— Нѣтъ, зачѣмъ ждать сложа руки. А личная дѣятельность? У каждаго есть свое опредѣленное дѣло.
— Какое же?
— А то, чтобы жить по правдѣ, для Бога, спасать душу, — сказалъ Левинъ.[1853]
— Да если кто идетъ теперь пострадать за правое дѣло — не спасаетъ душу? — сказалъ Сергѣй Ивановичъ.
— Онъ идетъ не страдать, а убивать.
— «Я не миръ, а мечъ принесъ», говоритъ Христосъ.
Они уже давно дошли до пчельника и, боясь пчелъ, зашли за тѣнь избы и сидѣли на вынесенныхъ старикомъ обрубкахъ. Спокойствіе Левина уже совсѣмъ изчезло. Высказавъ въ спорѣ свою задушевную, новую мысль, онъ теперь, прислушавшись къ тому, что дѣлалось у него въ душѣ, уже далеко не нашелъ въ ней прежняго спокойствія. Несмотря на то, что вызванный вопросомъ Дарьи Александровны о томъ, далъ ли онъ въ церкви денегъ на Сербскую войну, старикъ пчельникъ подтвердилъ мысль Левина, сказавъ: «какъ же не дать, на Божье дѣло», Левинъ чувствовалъ, что въ душѣ его теперь опять все смѣшалось. Не прошло полчаса, какъ, продолжая разговоръ, онъ уже сцѣпился съ Котовасовымъ спорить о философскихъ предметахъ и доказывалъ уже ему (лишая ея этимъ для себя всякой убѣдительности) самую дорогую свою мысль о томъ, что, думая матеріалистически, надо думать только до конца, и тогда придешь къ гораздо худшей безсмыслицѣ, чѣмъ религіозныя вѣрованія.[1854] Матерія, сила — все ничто, и нѣтъ конечнаго смысла. Мысль эта, казавшаяся ему столь побѣдительною, даже ни на минуту не остановила вниманія Котовасова.
— Да зачѣмъ же мнѣ думать? — сказалъ онъ совершенно искренно, спокойно (это видѣлъ Левинъ).
— Мнѣ нужны формы, въ которыхъ я могу мыслить, и такія формы — матерія, силы, организмъ, а что это само по себѣ — мнѣ и дѣла [нѣтъ].
— Какъ, вамъ и дѣла нѣтъ, что будетъ съ вашей душой?
— Вотъ уже никакого, — смѣясь сказалъ Котовасовъ, и это было такъ искренно, что послѣ этаго и говорить нечего было.
Левинъ почувствовалъ изчезнувшимъ все строившееся и былъ почти въ отчаяніи. Котовасовъ былъ очень веселъ.
— Будетъ, будетъ дождикъ, Дарья Александровна.
Дѣйствительно, стало хмуриться, и всѣ пошли скорѣй домой. У самаго дома уже было совсѣмъ темно отъ страшной черной и потомъ бѣлой тучи. Кити не было дома.[1855] На душѣ у Левина было также мрачно теперь, какъ и на небѣ. Онъ, оставивъ гостей, побѣжалъ на гумно. Ему сказали, что она прошла по другой дорогѣ. Онъ побѣжалъ, и вдругъ его ослѣпило, и треснулъ сводъ небесъ, и ударило въ дубъ, и пошелъ сплошной дождь, въ туже секунду измочившій его до тѣла. Исполненный ужаса, онъ побѣжалъ въ Колокъ, и, подумавъ о томъ, что было съ Кити и ребенкомъ, онъ прямо опять сталъ молиться. Несмотря на волненіе, онъ спрашивалъ себя, кому онъ молится, и зналъ и опять чувствовалъ близость его.
Это была короткая туча. Ужъ проясняло, и виденъ былъ свѣжій и черный осколокъ разбитаго дуба и дымъ. Недалеко подъ другимъ онъ увидалъ двухъ мокрыхъ съ облипшими платьями женщинъ, нагнутыхъ надъ телѣжечкой съ зеленымъ зонтикомъ. У няни подолъ былъ сухъ, но Кити была вся мокра. Когда онъ подбѣгалъ къ нимъ, шлепая сбивавшимися по неубравшейся водѣ ботинками, она оглянулась на него мокрая, съ шляпой, измѣнившей форму, и улыбалась. Митя былъ цѣлъ и даже сухъ.
Въ продолженіи всего дня Константинъ Левинъ ужъ ни разу не спорилъ. И за разговорами и суетой онъ радостно слышалъ полноту своего сердца, но боялся и спрашивать его. Онъ чувствовалъ одно: возможность удерживать свой умъ, не направлять его на то, на что не нужно, и удерживалъ его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, онъ началъ было ей разсказывать свое религіозное чувство, но, замѣтивъ ея холодность, тотчасъ же остановился. Но когда Кити, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ дѣтскую и онъ остался одинъ, онъ сталъ думать: «Молитва исполнена? Чудо? Нѣтъ. Зачѣмъ такъ грубо. Силы, природа, и той мы приписываемъ самые простые пути (экономію силъ природы), а Богъ — онъ измѣняетъ мое сердце, молитва сама измѣняетъ и воздѣйствуетъ». И цѣлый рядъ мыслей еще съ большей силой, чѣмъ утромъ, поднялся въ его душѣ.
Къ двери подошли шаги женскіе, но не женины. Это была няня.
— Пожалуйте къ барынѣ.
— Что, не случилось что нибудь?
— Нѣтъ, они радуются и вамъ показать хотятъ. Узнаютъ.
Дѣйствительно, придя въ дѣтскую, Левинъ убѣдился, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сіяла счастьемъ. Левинъ радовался зa нее, и весело ему было смотрѣть на то, какъ ребенокъ улыбался, смѣялся, увидавъ мать. Но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было тоже, которое становилось у него всегда на мѣсто ожидаемой имъ любви къ сыну, — чувство большей плоскости, уязвимости и тяжести и трудности предстоящаго. «Сербы! говорятъ они. Нетолько Сербы, но въ своемъ крошечномъ кругу жить не хорошо, а только не дурно. Это такое [счастье], на которое не могу надѣяться одинъ, а только съ помощью Бога, котораго я начинаю знать», подумалъ онъ.
Конецъ.
* № 201 (кор. № 125).
Левинъ покраснѣлъ отъ досады не за то, что онъ былъ разбитъ, а за то, что онъ не удержался и сталъ спорить. Онъ чувствовалъ, что братъ его нетолько раздраженъ, но озлобленъ на него, какъ человѣкъ, у котораго отнимаютъ его послѣднее достояніе, и видѣлъ, что убѣдить его нельзя, и еще менѣе видѣлъ возможность самому согласиться съ нимъ. Дѣло тутъ шло о слишкомъ важномъ для него. Все его воззрѣніе на жизнь зиждилось теперь на томъ, чтобы жить для Бога — по правдѣ, т. е. управлять тѣмъ не перестающимъ въ живомъ человѣкѣ и не зависимымъ отъ него рядомъ желаній, чувствъ, страстей, изъ которыхъ слагается вся жизнь, такъ, чтобы выбирать то, что добро. А по понятіямъ брата добро можно было опредѣлить. Было рѣшено разумомъ, что защитить Болгаръ было добро, и потому война и убійство уже не считалось зломъ, а оправдывалось.
То, что они проповѣдывали, была та самая гордость и мошенничество ума, которыя чуть не погубили его. Въ послѣднее свиданіе свое съ Сергѣемъ Ивановичемъ у Левина былъ съ нимъ споръ о большомъ политическомъ дѣлѣ русскихъ заговорщиковъ. Сергѣй Ивановичъ безжалостно нападалъ на нихъ, не признавая за ними ничего хорошаго. Теперь Левину хотѣлось сказать: за что же ты осуждаешь коммунистовъ и соціалистовъ? Развѣ они не укажутъ злоупотребленій больше и хуже болгарской рѣзни? Развѣ они и всѣ люди, работавшіе въ ихъ направленiи, не обставятъ свою дѣятельность доводами болѣе широкими и разумными, чѣмъ сербская война, и почему же они не скажутъ того же, что ты, что это, навѣрное, предлогъ, который не можетъ быть несправедливъ. У васъ теперь угнетеніе славянъ, и у нихъ угнетеніе половины рода человѣческаго. И если общественное мнѣніе — непогрѣшимый судья, то[1856] оно часто склонялось и въ эту сторону и завтра можетъ заговорить въ ихъ пользу. И какъ позволять себѣ по словамъ десятка краснобаевъ добровольцевъ, которые пришли къ нимъ въ Москвѣ, быть истолкователями воли Михайлыча и всего народа?
* № 202 (кор. № 123).
Въ продолженіе всего дня Левинъ за разговорами и суетой продолжалъ радостно слышать полноту своего сердца, но боялся спрашивать его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, только на одну минуту ему пришло сомнѣніе о томъ, не сказать ли ей то, что онъ пережилъ нынѣшній день; но тотчасъ же онъ раздумалъ. Это была тайна, для одной его души важная и нужная и невыразимая словами.
— Вотъ именно Богъ спасъ, — сказала она ему про ударъ въ дубѣ.
— Да, — сказалъ онъ, — я очень испугался.
Онъ еще былъ одинъ у себя въ кабинетѣ, когда къ двери подошли шаги женскіе, но не женины. Это была няня.
— Пожалуйте къ барынѣ.
— Что, не случилось ли что-нибудь?
— Нѣтъ, онѣ показать вамъ хотятъ объ Митенькѣ.
Кити звала его, чтобы показать ему, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сіяла счастьемъ. Левинъ радовался за нее, и весело ему было смотрѣть на то, какъ ребенокъ улыбался и смѣялся, увидя мать; но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было то же, которое становилось у него всегда на мѣсто ожидаемой имъ любви, — чувство страха за него и за себя. Но не было никакой поразительности, никакой сладости, ничего того, что въ молодости считается признакомъ сильнаго чувства, а тихо, незамѣтно, то онъ и самъ не зналъ, когда ему въ сердце [вошло] это новое чувство и уже неискоренимо засѣло въ немъ.
Оставшись опять одинъ, когда она, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ дѣтскую, онъ сталъ вспоминать главную радость нынѣшняго дня. Онъ не вспоминалъ теперь, какъ бывало прежде, всего хода мысли (это не нужно было ему), но чувство, которое руководило имъ, чувство это было въ немъ еще сильнѣе, чѣмъ прежде.
«Новаго ничего нѣтъ во мнѣ, есть только порядокъ. Я знаю, къ кому мнѣ прибѣгнуть, когда я слабъ, я знаю, что яснѣе тѣхъ объясненій, которыя даетъ церковь, я не найду, и эти объясненія вполнѣ удовлетворяютъ меня. Но радости новой, сюрприза никакого нѣтъ и не можетъ быть и не будетъ, какъ и при каждомъ настоящемъ чувствъ, какъ и при чувствѣ къ сыну».
Графъ Левъ Толстой.
КОММЕНТАРИИ
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ».
I.
В тетради «Мои записи разные для справок» С. А. Толстая под 24 февраля 1870 г. отметила зарождение замысла «Анны Карениной»: «Вчера вечером он [Толстой] мне сказал, — записывает она, — что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».[1857]
Но к реализации своего замысла Толстой приступил лишь через три года. А тогда Толстого заинтересовала эпоха Петра I, из истории которой он начал писать роман (первый набросок этого романа был написан на следующий день после того, как Толстой поделился с женой мыслью о сюжете будущей «Анны Карениной» — 24 февраля 1870 г.), затем он усиленно стал заниматься греческим языком, работой над «Азбукой», педагогической работой в Ясной поляне и вновь романом из эпохи Петра I. Этот роман, для которого, по свидетельству С. А. Толстой, было написано десять начал, подвигался вперед однако очень туго. В письмах к Страхову и Фету от первой половины марта 1873 года Толстой жалуется на то, что работа его над этим романом «не двигается». И вот, 19 или 20 марта 1873 г. С. А. Толстая пишет своей сестре Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого» (Архив Т. А. Кузминской в Госуд. Толстовском музее). Тогда же, 19 марта, Софья Андреевна записывает в своей тетради: «Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка, и, кажется, хорошо»... Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой».[1858]
Литературная манера, в которой был начат роман, традиционно связывается с чтением в ту пору Толстым пятого тома сочинений Пушкина в издании Анненкова, где были помещены «Повести Белкина» и отрывки и наброски незаконченных повестей. В цитированной записи 19 марта относительно начала работы над «Анной Карениной» С. А. Толстая пишет: «И странно он на это напал. Сережа[1859] все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись итти вниз отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л[евочка] взял эту книгу и стал перелистывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал мне вслух о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под впечатлением Пушкина стал писать».[1860]
Ф. И. Булгаков, вероятно со слов Т. А. Кузминской, точно указывает, какой именно отрывок Пушкина определил собой начальные страницы «Анны Карениной». Машинально раскрыв том прозы Пушкина в издании Анненкова и пробежав первую строку отрывка «Гости съезжались на дачу», Толстой невольно продолжал чтение. Тут в комнату вошел кто-то. «Вот прелесть-то — сказал Лев Николаевич. — Вот как нам писать. Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу».[1861] И, по словам Булгакова, Толстой в тот же вечер принялся за писание «Анны Карениной».
На основании этих указаний стало обычным утверждение, что Толстой начал роман словами: «Всё смешалось в доме Облонских...» — по образцу отрывка Пушкина сразу же вводя читателя в действие. П. А. Сергеенко, весьма неточно передавая эпизод с чтением Толстым пятого тома анненковского издания сочинений Пушкина, сообщает: «Начата была «Анна Каренина» при следующих обстоятельствах. Вечером в 1873-м году Лев Николаевич вошел в гостиную, когда его старший сын Сергей читал вслух своей тетке пушкинские «Повести Белкина». При появлении Льва Николаевича чтение прекратилось. Он спросил, что они читают, раскрыл книгу и прочитал: «Гости съезжались на дачу». «Вот как всегда следует начинать писать, — сказал Лев Николаевич. — Это сразу вводит читателя в интерес». Родственница Толстых сказала, что как бы хорошо было, если бы Лев Николаевич написал великосветский роман. Придя в свой кабинет, Лев Николаевич, в тот же вечер написал: «Всё смешалось в доме Облонских». И потом уже, когда начал писать роман, поместил в начале: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».[1862]
Однако полная недостоверность такого рода указаний на то, с чего и какими словами начал свой роман Толстой, обнаруживается в результате ознакомления по рукописям с процессом работы Толстого над «Анной Карениной». В действительности, по первоначальному замыслу роман начинался с эпизода, соответствующего VI и VII главам второй части окончательного текста романа, где идет речь о приеме гостей княгиней Бетси Тверской после оперного спектакля во Французском театре.
Самый ранний приступ к роману озаглавлен: «Молодец-баба» (см. вариант № 1). В нем идет речь о съезде гостей после оперы у княгини Мики Врасской (по первоначальному варианту — Кареловой). Только что княгиня Мика успела вернуться из театра, как стали съезжаться гости. Удаляясь на время в уборную, чтобы напудриться и привести в порядок свою прическу, Мика распоряжается приготовить в большой гостиной чай и вызывает из кабинета мужа, занятого своими гравюрами.
В гостиной общество, сгруппировавшееся около круглого стола с серебряным самоваром, пока еще не собрались все гости, занято незначительными светскими разговорами. Говорят о певице Нильсон, кто-то из гостей спрашивает, будет ли Кити, о которой хозяйка говорит, что она «душа в кринолине» и которая оказывается сестрой Каренина и затем упоминается еще раз, но уже по имени Мари. В числе гостей — молодой дипломат, человек острый и злой на язык, и графиня, полная дама, резкая и бесцеремонная в своих речах, прообраз княгини Мягкой в окончательном тексте романа (она, очевидно, и есть та «молодец-баба», которая фигурирует в заглавии).
Разговор, наконец, устанавливается, гости злословят об общих знакомых и преимущественно о тех, кто сейчас должен приехать. Это муж и жена. Фамилия их неустойчива: Гагины, Пушкины,[1863] наконец Каренины. Имя жены — Анастасья (Ана, Нана), затем — Анна; имя и отчество мужа — Алексей Александрович. Про Анну говорят, что она некрасива, но завлекательна, об ее муже отзываются пренебрежительно-покровительственно.
Является брат Анны — Облонский, который зовется то Михаилом Аркадьичем, то Степаном Аркадьичем. Краткая характеристика его вполне согласуется с той характеристикой, которая будет дана ему в окончательном тексте романа. В разговорах упоминается его жена — «вся в хлопотах, в детях, в классах», словом, будущая Долли, и «прелестная свояченица» Кити, лечащаяся за границей от тяжелой болезни.
Вскоре в гостиную входит Вронский (первоначальная его фамилия Гагин), внешне напоминающий Вронского окончательного текста, но обращающий на себя внимание своей сильной плешивостью. Он «не в своей тарелке» и поминутно оглядывается на дверь в ожидании приезда Карениной, за которой он, по словам толстой дамы, ходит «как тень». Анна изображена некрасивой женщиной: у нее низкий лоб, короткий, почти вздернутый нос, чрезмерно полная фигура, настолько полная, «что еще немного, и она стала бы уродлива». При всем том она привлекательна.[1864] Внешние недостатки ее искупают красивые глаза, стройность стана и грациозность движений, добрая улыбка и очень приятный голос. Муж ее — Алексей Александрович — «прилизанный, белый, пухлый и весь в морщинах», человек очень добрый, целиком ушедший в себя, рассеянный и не блестящий в обществе, производящий на общающихся с ним впечатление «ученого чудака или дурачка».
На характеристике супругов обрывается первый набросок. Он написан стилистически очень небрежно, в полном смысле слова начерно.
Вслед за этим наброском последовал второй, сходный с ним в ряде частностей, но доведенный лишь до приезда Карениных к княгине Тверской («Врасская» здесь исправлено на «Тверская») (см. вариант № 2). Толстой начал его фразой: «Гости после оперы собрались у княгини Врасской», но зачеркнул эту фразу, как и начало новой: «Приехав из оперы, княгиня Мика, как ее звали в свете», и начал так: «Приехав из оперы, хозяйка только успела в уборной опудрить свое худое, тонкое лицо...»
Наконец, Толстой конспективно, очень бегло, особенно к концу, набросал весь костяк романа, ограничившись для отдельных глав лишь краткими пометками в несколько слов об их содержании (см. вариант № 3). Позднее, приспособляя часть этого материала к новому тексту романа со значительно изменившимся планом, Толстой сделал в нем ряд существеннейших исправлений и изменил имена персонажей. Кроме того, он сделал много заметок на полях. Последующие исправления с большой долей точности распознаются по цвету чернил. В этом наброске отсутствуют еще семья Щербацких, Левин. Они фигурируют лишь в планах, приписанных позднее на полях, где будущий Левин большею частью зовется Ордынцевым. Семья, которая в окончательном тексте получит фамилию Облонских, лишь упоминается, и то также большею частью в позднее приписанных на полях пометках. Героиня романа зовется Татьяна Сергеевна Ставрович, муж ее — Михаил Михайлович, возлюбленный — Иван Петрович Балашев. Вместо графини Лидии Ивановны выступает сестра Михаила Михайловича, носящая здесь имя Кити.
Как и первые два наброска, этот текст начинается с эпизода съезда гостей после оперы у молодой хозяйки. Среди собравшихся заходит разговор о чете Ставрович. О жене уже говорят как о красавице, которая имеет мужа, какого заслуживают «красавицы жены»; она «слишком хороша, чтоб у нее был муж, способный любить». Одна из дам-собеседниц удивляется, почему госпожу Ставрович везде принимают: у нее нет ни имени, ни манеры держать себя; она дурно кончит. О муже ее отзываются как о человеке тихом, кротком, наивном, ласковом к друзьям жены, должно быть, очень добром. И в дальнейшем он изображается с явным авторским сочувствием, гораздо привлекательнее, чем в окончательной редакции.
В гостиной появляется Леонид Дмитрич — будущий Облонский, брат Татьяны Сергеевны (несмотря на то, что отчества у них разные, быть может, потому, что у них были разные отцы, если тут дело не в простой рассеянности автора). Он приехал из Буффа, который предпочитает опере, потому что в Буффе весело, а в опере скучно. В позднейших редакциях речь идет о приезде из Буффа не Леонида Дмитриевича, а Вронского, который и произносит слова в защиту Буффа.
Наконец, появляются Ставровичи. Жена одета вызывающе, и вместе с тем в ее красивом лице отражается ее простота и смирение. На полях тут же о ней замечено: «Застенчива. Скромна», хотя, с другой стороны, она во всеуслышание, не смущаясь и шокируя хозяйку, заявляет, что задержалась с мужем потому, что они заехали домой: надо было написать записку Балашеву, который приедет сюда. Фигура ее тут совсем не похожа на ту, какая дана в первом наброске: она «тонкая и нежная»; беседу ведет она изящно, умно и непринужденно.
Внешность мужа Татьяны Сергеевны попрежнему очень неказиста: лицо у него «белое, бритое, пухлое и сморщенное», морщится в добрую улыбку; говорит он невнятно, с усилием, некстати и не во время, так что его и не слушают. На полях о нем приписано: «Что-то противное и слабое». Он увлекается миссионерскими делами, то есть занят тем, что потом приписано было его сестре, вместо которой позднее была выведена графиня Лидия Ивановна.
В двенадцатом часу появляется Балашев. Его «фигурка», невысокая и коренастая, всегда обращала на себя внимание. Он — «черный и грубый», — несмотря на свои 25 лет, уже плешив. В левом ухе, по старинному семейному преданию, он, как и все Балашевы, носит серебряную кучерскую серьгу. Сразу же, сказав несколько слов хозяйке, он подходит к Татьяне Сергеевне, и они вплоть до разъезда гостей остаются вдвоем за круглым столиком в углу гостиной. Это настолько шокирует общество, что с тех пор Татьяна Сергеевна не получает ни одного приглашения на балы и вечера большого света; муж же, уехавший неожиданно для жены ранее ее, знал уже, что «сущность несчастия совершилась».
Проходит три месяца. Ставрович — муж стремится найти отвлечение от своего семейного несчастия в любимой работе — устройстве миссий на Востоке, несмотря на то, что здоровье его сильно расшатано и его домашний врач настоятельно советует ему уехать для лечения за границу. И доктор и старый приятель Ставровича, директор департамента, — оба с возмущением и осуждением говорят и думают об его жене, «дьявольском наваждении», причине горестей и расстройства здоровья мужа.
Далее рассказывается о приготовлении Балашева к скачкам, о свидании его перед скачками с Татьяной Сергеевной, во время которого она сообщает ему о своей беременности и, наконец, о самих скачках. В основном всё это довольно близко к соответствующим эпизодам окончательного текста, хотя стилистически далеко еще не отделано.
Ставрович-муж приезжает на скачки для того, чтобы окончательно разрешить свои сомнения. Он решает поговорить с женой в последний раз, а также с сестрой, «с божественной Кити», горячо привязанной к брату. Со скачек он возвращается на дачу один, без жены. С ним сестра, к которой он обращается зa поддержкой и за советом, как ему быть дальше. Он чувствует, что он «несчастное, невинное, наказанное дитя». Вскоре приезжает жена. В душе ее «дьявольский блеск» и решимость ни перед чем не останавливаться. Ни одной искры жалости не было у нее к этим двум «прекрасным (она знала это) и несчастным от нее двум людям». Она лжет, говоря, что была у своей приятельницы, полна мыслями о скором свидании с любовником и как бы радуется своей способности лгать и гордится ею. Внешне непринужденно и спокойно, с рассчитанным притворством, она разговаривает с мужем, с аппетитом пьет чай, много ест. В ответ на вопросы мужа, намекающие на ее отношения к Балашеву, она отделывается ничего не значащими фразами и со счастливым, сияющим, спокойным, «дьявольским» лицом целует мужа в лоб. Только один раз, когда муж, передавая ей чашку, сказал: «еще, пожалуйста», она вдруг покраснела так, что слезы выступили у нее на глаза, и потом, когда коляска с мужем отъехала, она «страдала ужасно».
О неверности жены Михаил Михайлович узнает от сестры, сообщающей ему об этом на другой день в письме. С тех пор он не виделся с женой и вскоре уехал из Петербурга.
Весь этот материал разбит на шесть глав. Для следующих четырех глав лишь намечен очень краткий план. В седьмой главе речь должна была итти о беременности Татьяны Ставрович. В восьмой главе должно было говориться о поездке Михаила Михайловича в Москву и о посещении им дома Леонида Дмитриевича, будущего Облонского. План главы девятой определяется следующей записью: «В вагоне разговор с нигилистом». Еще раньше, в плане, набросанном на полях рядом с текстом шестой главы, в связи с Михаилом Михайловичем отмечено: «нигилисты утешают». Судя по тому, что нигилисты в данном наброске упоминаются и тогда, когда речь идет о Татьяне Ставрович, они должны были — по замыслу Толстого — принимать какое-то участие — видимо, своими советами, высказываниями своих взглядов — в семейной драме Ставровича; однако нигде, если не считать упоминания в первом плане о встрече Каренина с нигилистом, в черновых материалах романа, так же как и в окончательном его тексте, они не фигурируют по связи с судьбой Михаила Михайловича. Но о них, как увидим сейчас, несколько яснее говорится применительно к судьбе Татьяны Сергеевны и Балашева. Для десятой главы записано: «Роды, прощает», т. е. прощает Михаил Михайлович.
Дальнейшее развитие романа намечено в двух главах — одиннадцатой и двенадцатой — очень конспективно. В главе одиннадцатой смирение, доброта и кротость Михаила Михайловича подчеркиваются безучастным и даже враждебным отношением к нему его жены и Балашева, который раньше (ср. главу четвертую) думал о нем уважительно и относился к нему сострадательно: когда Татьяна говорит о муже: «он глуп и зол», Балашев думает: «Ах, если б он был глуп, зол. А он умен и добр».
Двенадцатая глава изображает полную душевную потерянность Ставровича, его неприкаянность. Татьяна Сергеевна в разводе со своим первым мужем. У нее и Балашева двое детей. Балашева и Татьяну притягивает свет, «как ночных бабочек». Они оба ищут признания себя в нем, но тщетно. Те, признанием которых они дорожат, отворачиваются от них, а признание людей свободомыслящих, ездящих к ним и принимающих их у себя, — дурно воспитанных писателей, музыкантов, живописцев, не умеющих благодарить за чай, не радует их. К тому же Балашев, «слишком был твердо хороший, искренний человек, чтобы променять свою гордость, основанную на старинном роде честных и образованных людей, на человеческом воспитании, на честности и прямоте, на этот пузырь гордости какого-то выдуманного нового либерализма». Чутье ему тотчас подсказывает «ложь этого утешения» презираемых им людей.
Речь идет здесь, видимо, о тех слоях общества, которые Толстой склонен был отожествлять с нигилистами. (Ср. еще относящуюся к Татьяне Ставрович запись на полях рядом с текстом четвертой главы: «Нигилизм не помогает».)
Татьяна испытывает всё время внутреннюю ложь своего положения; она, кроме того, ревнует Балашева. Чтобы спасти себя от одиночества, она придумывает разные выходы: пробует блистать красотой и нарядами и привлекать молодых людей и блестящих мужчин, пробует «построить себе высоту, с которой бы презирать тех, которые ее презирали», но всё это оказывается ей не по натуре. Остаются одни голые животные отношения и роскошь жизни да еще «привидение» Михаил Михайлович, «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья на своем сморщенном лице». Обоим жизнь в тягость.
Развязка наступает в результате посещения Михаилом Михайловичем Татьяны Сергеевны. Жизнь Михаила Михайловича становилась с каждым часом тяжелее. «Одинокая комната его была ужасна». Однажды в комитете миссии, куда он пошел, говорили о ревности и убийстве жен. Михаил Михайлович медленно встал и поехал к оружейнику. Тут он заряжает пистолет, и далее Толстой, видимо, заколебался: сначала написал «и поехал к себе»,[1865] затем, зачеркнув «к себе», написал «к ней». Татьяна Сергеевна сидела одна, перебирая свою жизнь и мучаясь ревностью к Балашеву, который в это время был в театре. Она задумывается о том, почему бы ей, для того чтобы выйти из заколдованного круга, не отдаться другу Балашева, не бежать с ним и не сжечь таким образом свою жизнь. То, что Михаил Михайлович говорит Татьяне Сергеевне, никак не вяжется с появлением его у нее с заряженным пистолетом. Он является к ней, по определению Татьяны Сергеевны, как «духовник», призывая ее к религиозному возрождению. Между тем Балашев возвращается, и Михаил Михайлович, столкнувшись с ним лицом к лицу, удаляется. Балашев возмущен и рассержен поведением Ставровича. Татьяна Сергеевна, оставив Балашеву записку, уходит, и через день ее тело находят «под рельсами» (первоначально было написано «в Неве»). Балашев, отдав детей сестре, уезжает в Ташкент; Михаил Михайлович продолжает служить.
В набросках планов, написанных позже, на полях только-что рассмотренной рукописи, а также поперек ее текста, намечены дальнейшие проекты развития сюжета романа. Тут фигурируют Левин, большей частью пока под фамилией Ордынцева, а также Кити Щербацкая. Ордынцев ненавидит Удашева (т. е. Вронского в oкoнчатeльнoм тексте романа). ІЦербацкие едут на воды. Туда же едут и Михаил Михайлович Ставрович и Ордынцев (записи на полях в начале текста второй главы). Балашев сообщает на скачках Анне об устраивающемся браке Кити с Левиным (запись на полях в начале пятой главы). Против начала текста третьей главы, где речь идет о приготовлениях Балашева к скачкам, записано: «Его приятель Ордынцев», т. е. приятель Балашева.
Сопоставление уже самого раннего приступа к «Анне Карениной» с отрывком Пушкина «Гости съезжались на дачу» убеждает в явной зависимости первого от второго. Сходство обнаруживается с первых строк. У Толстого набросок начинается словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской»; у Пушкина — «Гости съезжались на дачу графини ***. Зала наполнилась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу». В пушкинском отрывке гости группируются около круглого стола, как и в наброске Толстого. Фраза Пушкина — «Мало-по-малу порядок установился» — соответствует фразам Толстого: «Разговор ...начинает устанавливаться в разных группах» и «Разговор установился в ближайшем уголке к хозяйке». У Пушкина отмечается разговор двух мужчин на тему о петербургских женщинах, принимающий «самое сатирическое направление»; у Толстого говорят преимущественно о Карениной, причем «говорят зло». Дальнейшее движение повествования у Пушкина обусловливается появлением в гостиной Вольской, замужней женщины, влюбленной в Минского, присутствующего здесь же в гостиной, у Толстого — появлением Карениной с мужем, после чего первый набросок «Анны Карениной» обрывается.
Во втором наброске толстая дама говорит о Карениной: «Вы увидите, что Анна дурно кончит». В конспекте романа другая дама говорит об Анне (Татьяне Ставрович): «Она дурно кончит, и мне просто жаль ее». Сопоставим эти реплики со словами дамы в отрывке Пушкина, сказанными о Вольской: «Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят».
О Вольской у Пушкина сказано: «Правильные черты, большие черные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание». В конспекте о Карениной (Ставрович), которая Толстым изображена теперь красивой женщиной, говорится: «Было что-то вызывающее, дерзкое в ее одежде и быстрой походке и что-то простое и смирное в ее красивом, румяном лице с большими черными глазами...» И далее у Толстого идет речь об уединенной беседе Карениной (Ставрович) с Вронским (Балашевым), точно так же как у Пушкина говорится о беседе на балконе с глазу-на-глаз Вольской с Минским. В обоих случаях беседа длится очень долго и прекращается лишь с разъездом гостей, и в обоих случаях она обращает на себя неблагожелательное внимание присутствующих.
Таковы очевидные совпадения ранних набросков романа Толстого с отрывком Пушкина. Когда эпизод съезда гостей у княгини Бетси Тверской переместился во вторую часть романа, связь его с неоконченной пушкинской повестью стала естественно менее ощутима и перестала замечаться, несмотря на то, что и при новом положении эпизода она продолжает быть довольно явственной.
Как указано выше, в варианте № 3 Толстым сделана пометка: «Его [т. е. Балашева, Вронского] приятель Ордынцев».
В такой ситуации Ордынцев-Левин выступает в варианте, печатающемся нами под № 4. В дальнейшем ходе работы над романом он никак не был использован; Толстой его отбросил. Фамилия «Ордынцев» фигурирует здесь лишь в одной записи, сделанной поверх текста; обычно же вместо нее читается фамилия «Нерадов». Фамилия «Балашев» заменена фамилией «Гагин».
Старуха Марья Давыдовна Гагина, приехав с сыном в свой московский дом, видит в сенях оборванные чемоданы и от сына узнает, что они принадлежат его самому любимому другу Константину Нерадову, приехавшему из деревни и остановившемуся у Гагина. Нерадов — стройный, широкоплечий атлет, очень подвижной, экспансивный человек. Очередное его увлечение — земская деятельность, в связи с чем он пишет какое-то сочинение. Приехал он в Москву на выставку скота, на которую привез телят своей выкормки, и нынче же, по его словам, собирается возвратиться в деревню, откуда он вернется лишь после того, как напишет книгу. Мимоходом он говорит: «А знаешь, Каренина необыкновенно мила. Ты ее знаешь?» Гагин не отвечает ничего на этот вопрос и предлагает Нерадову ехать завтра, после того, как они пообедают вдвоем: сегодня он должен обедать со своей матушкой. Нерадов отказывается. Он думает о другом и, краснея, говорит о том, что нынче они — он и Гагин — обещались Щербацким приехать на каток. Не замечая волнения друга, когда он начал говорить о Щербацкой, Гагин отвечает, что ему надо остаться с матушкой, да он и не обещал быть сегодня на катке. Взволнованность и рассеянность Нерадова сказываются в том, что он, только что сказавший, что ему нынче нужно ехать, говорит теперь о необходимости завтра встретиться с каким-то Стаюниным и соглашается завтра обедать с Гагиным.
По уходе Нерадова у Гагина с матерью происходит задушевный разговор о предстоящей женитьбе Гагина на Кити Щербацкой, ради которого мать, по просьбе сына, приехала в Москву. Мать одобряет его выбор. Но ее смущает некоторое его колебание в своем шаге: он благодарит ее за то, что она «одобрила бы» его выбор. «Как бы? — спрашивает она строго. — Что это значит?» Сын объясняет, что это значит только то, что она не должна об этом говорить никому и предоставить ему возможность всё сделать самому. Насторожившаяся мать предостерегает сына от легкомысленного отношения к девушке, на что он успокаивающе заявляет, что был с ней осторожен. Неполная решимость Гагина жениться на Кити обнаруживается и в заключительных строках варианта: он загадал, что если на скачках послезавтра его Грозный возьмет приз, он сделает предложение.
Видимо, вскоре же после этого написан был первый план будущего романа. План открывается прологом, судя по положению его в рукописи, приписанным позднее. В этом прологе, видимо, очень кратко, должно было быть рассказано о замужестве Анны и затем о том, как она, поехав утешать свою невестку, огорченную изменой мужа, встретила Гагина (Вронского). Самый роман Толстой первоначально предполагал разбить на четыре части, заключив его эпилогом.
Первая глава первой части, как она намечена в плане, находит себе соответствие в обоих ранних набросках. Дальнейшие главы плана представляют собой схему, в большей части начерно уже развитую в напечатанном под № 3 наброске всего романа. Часть записей этого плана была развита в дальнейших рукописях, относящихся к роману. Такова запись «Обед у Карениных с Гагиным», записи о посещении Карениным в Москве семьи Степана Аркадьича, о сне Анны и др.; некоторые же записи в работе над романом вовсе не были использованы. Таковы: «Степан Аркадьич успокоивает и насчет немецкой партии и насчет жены», «о чем ни заговорят нигилисты — дети, состояние, — всё приводится к неясным положениям», «сплетница — экономка», «болтун, ревность». Из зачеркнутых в плане записей наиболее существенна следующая: «Алексей Александрович шляется, как несчастный, и умирает. Его братья».
Судя по отражению своему в рукописях, относящихся к начальной стадии работы над романом, вскоре после первого плана написаны были и следующие четыре. Во втором плане, в конце его, последние семь фамилий нигде в рукописях не фигурируют. В третьем плане — опять упоминание о нигилистах — «Нигилисты в Петербурге», лишь бегло отраженное в дальнейших рукописях. То же нужно сказать о записи, говорящей о посещении Вронским Левина (см. вариант № 185). Кроме того, тут находим запись «Смерть ребенка», т. е. ребенка, родившегося у Анны и Вронского. Эта запись, как известно, не была использована Толстым в развитии сюжета романа. Не использована и запись, говорящая о поездке Левина (Ордынцева) в Петербург к старику отцу, находящемуся в параличе. Третий план, так же как и первый, предусматривает деление романа на четыре части с эпилогом.
Четвертый план намечает пять частей романа и эпилог. В нем между прочим читаем записи: «Степан Аркадьич устраивает развод», «Брак Удашева с Анной», «Смерть ребенка в Москве», «Нигилисты», «Любовь Грабе». Все эти записи, кроме третьей, нашли себе большее или меньшее отражение в черновых рукописях романа.
Хронологическое приурочение остальных планов затруднительно. Из относящихся к ним записей следует особенно отметить следующие: «Вронский о земледелии», «Общество земледелия» (№ 8) и «Увидав Анну, Кити мелка», «Доли мелка» (№ 9).
Следующим этапом в работе Толстого над романом был текст, напечатанный здесь под № 5. Тут ему уже дано заглавие — «Анна Каренина». Тексту предшествуют эпиграфы. Один из них в двух вариантах заключает в себе мысль о том, что для одних женитьба — важнейшее и труднейшее дело жизни, для других — забава, легкое увеселение. Второй эпиграф читается: «Отмщение мое» и представляет собой сокращенный перевод с немецкого библейского изречения — «Mein ist die Rache, spricht der Herr, und ich will vergelten», которое Толстой вычитал в немецком тексте книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление».[1866] Впоследствии, как известно, Толстой привел в качестве эпиграфа точный библейский текст в церковно-славянском переводе: «Мне отмщение, и Аз воздам».
Развитие сюжета в этом тексте уже значительно ближе к соответствующей части текста окончательного, чем в предыдущих началах, хотя все же значительно отличается от него и лишено целого ряда подробностей, в нем присутствующих. Линия Левин-Кити здесь уже налицо. Фамилии, впрочем, еще не всюду, те же, какие находим в окончательном тексте; иногда они неустойчивы. Степан Аркадьич зовется не Облонским, а Алабиным; вместо фамилии «Левин» вначале стоит фамилия — то «Ордынцев», то «Ленин»; граф Вронский вначале фигурирует под именем графа Кубина, Удашева, Гагина.
Роман сперва начат был с описания появления Степана Аркадьича Алабина в Зоологическом саду на выставке скота. Затем приписано было новое начало, в котором кратко рассказано об «ужасном положении», в котором оказался Степан Аркадьич: он, известный всей Москве, отец четырех детей, уже с проседью в голове и в бакенбардах, стал вдруг предметом разговора всех: открылась его связь с гувернанткой в его же доме. Жена — Дарья Александровна — переехала с детьми к своей матери. Ко всему этому — кредиторы стали предъявлять к Степану Аркадьичу требованья, так что стало ясно, что, не продавши женина именья, нельзя было поправить дел. Но он не теряет ни присутствия духа, ни веселости, улаживает затруднения с кредиторами и почти убеждает жену вернуться домой.
В Зоологический сад он приходит слегка навеселе в сопровождении легкомысленной дамы Натальи (Анны) Семеновны и известного кутилы Лабазина (первоначально его фамилия — Красавцев). В Зоологическом саду Алабин встречает своего друга Сергея Ордынцева,[1867] «высокого черного молодого барина, с выражением силы, свежести и энергии», выставляющего вместе со «своим мужиком» Елистратом телку и быка, радостно приветствует его и знакомит со своими спутниками. Наталья Семеновна вызывает в Ордынцеве — человеке «чистой и строгой нравственности» — отвращение, несмотря на то, что сама она восхищена его внешностью. Ордынцев на двенадцать лет моложе Алабина; ему двадцать шесть лет; он влюблен в княжну Щербацкую, свояченицу Алабина, и уж давно ждут, что он сделает ей предложение. Влюбленность Ордынцева в Кити Щербацкую заставляет его особенно остро воспринимать поведение Алабина, которого он, несмотря на свое расположение к нему, не может оправдать, тем более что он уже слышал об его семейной истории.
Алабин не понимает или не хочет понять отношения к себе в данный момент своего приятеля и приглашает его вечером к Щербацким. Передав затем свою даму Лабазину, Степан Аркадьич берет под руку Ордынцева и делится с ним своим семейным огорчением, раскаиваясь особенно в том, что сам признался жене в своей измене. Ордынцев отказывается понимать увлечения, подобные увлечениям Алабина; он считает, что разрушенный брак не может быть починен.
Друзья расстаются. Ордынцев (Ленин) остается еще некоторое время на выставке, любуясь своей телкой и вступая с купцом-посетителем выставки в разговор о том, как выводить хорошую скотину.
Вернувшись в свой номер на Петровке, Ордынцев предается мыслям о семейной жизни, о своей любви к Кити Щербацкой. На тему о женитьбе он говорит с крестьянином Елистратом, который к этому шагу барина относится очень одобрительно.
Переодевшись, он отправляется в Хлебный переулок, где жили Щербацкие (первоначально написано было «Алабины»: в предшествующем тексте колебание: Степан Аркадьич зовет Ордынцева то к Щербацким, то к себе домой, где должна быть вечером Кити). Те полчаса, в течение которых Ордынцев шел по слабо освещенным улицам с Петровки в Хлебный переулок, были наполнены у него самыми волнующими переживаниями; страх отказа чередовался у него с ожиданием огромной радости. Предела это его волнение достигло тогда, когда он позвонил у подъезда дома Щербацких.
Следует характеристика семьи Щербацких. Щербацкие когда-то были очень богатые люди, но старый князь шутя проиграл и всё свое состояние и часть состояния своей жены. Тяжелый удар нанесла князю смерть двенадцать лет назад его единственного любимого сына, которая привела к тому, что он опустился, жил тяжелым гостем в своем доме, под опекой жены, без дела, если не считать номинальной службы при императрицыных учреждениях, без интереса к чему бы то ни было, презирая и ненавидя всё новое. Единственная его отрада — дочь Кити, сама нежно любящая его и заботящаяся о нем.
Живут Щербацкие очень небогато, но вдвое выше средств, живут в Москве, потому что княгиня хочет выдать дочь Кити замуж. Кити двадцать лет; она не только хороша, но так привлекательна, что ей уже сделано было несколько предложений, на которые она однако ответила отказом. Теперь на ее руку два претендента — граф Кубин (граф Вроцкой, Удашев) и Левин (Ордынцев). Мать на стороне первого, отец покровительствует Левину. Основание для симпатий и антипатий к обоим претендентам у отца и у матери в основном то же, что и в окончательном тексте романа.
Приехав в дом Щербацких, Ордынцев застает в гостиной уже целое общество: старую княгиню, Дарью Александровну, Алабина, Удашева, Кити и графиню Нордстон, а не одну лишь Кити, как в окончательной редакции. Эпизод предложения здесь отсутствует, но Ордынцев с самого же начала понимает, что Кити неравнодушна к Удашеву и что его, Ордынцева, дело проиграно. Он озлоблен против Удашева, в своем поведении развязен и в то же время обидчив и несдержан; он заметно нервничает, задирает своих собеседников, особенно графиню Нордстон. Удашев по отношению к нему утончен, учтив и презрителен. Кити он предан вполне и всё любуется ею. О чем бы он ни говорил, он про себя думал: «да, это она, она, и я буду счастлив с нею» — существенная подробность, отсутствующая в окончательной редакции.
Придя к себе в номер, Ордынцев, как и в окончательной редакции, предается невеселым размышлениям о своей судьбе и на следующее утро уезжает к себе в деревню. Эпизод посещения им своего брата-неудачника здесь пока еще отсутствует. Деревенская обстановка жизни вводит Ордынцева в привычную колею, и он утихает.
Душевное волнение Кити в связи с огорчением, которое она причинила Ордынцеву, подчеркивается здесь значительно сильнее, чем в окончательном тексте: как она ни убеждала себя в том, что любит Вронского (Удашева), «ей было так жаль того, что наверное потеряла, что она закрыла лицо руками и заплакала горькими слезами». Удашев же после этого вечера у Щербацких испытывает радостно-торжественное чувство: проезжая мимо гостиницы, где его ждали, он сначала было не в силах был заехать туда, но, заехав и придя, «как чужой и царь», удалился оттуда, «стряхивая прах ног».
В окончательной редакции романа Вронский после этого вечера, хотя и почувствовал, что духовная тайная связь, существовавшая между ним и Кити, в этот раз стала еще сильнее, так что нужно что-то предпринять, — всё же не задумывается о необходимости женитьбы на Кити и даже не хочет об этом думать. В данной же редакции Вронский (Удашев), хотя ничего и не было сказано, сознает вполне ясно, что он связал свою судьбу с судьбой Кити. От вечера у Щербацких до приезда Анны проходит не одна только ночь, как в печатном тексте, а целых три дня, и в течение этого времени Удашев ездит к Щербацким каждый день, и все знают, что он «неизменно жених». «Он перешел уже ту неопределенную черту. Уже не боялись компрометировать ни он, ни она».
В тот же вечер происходит объяснение Степана Аркадьевича с женою, в результате которого она переезжает с квартиры родителей домой. Окончательное устройство внутренних отношений между супругами должно наступить с приездом к Алабиным любимой петербургской сестры Степана Аркадьича Анны Аркадьевны Карениной.
Эпизод встречи на вокзале Степаном Аркадьичем сестры Анны Карениной и Удашевым (Вронским) матери в основном близок к окончательной его редакции, хотя сильно отличается от него в деталях. Степан Аркадьич с восторгом говорит Удашеву о том, как всё отлично делает Анна: «Муж, сын, свет, удовольствия, добро, связи — всё она успевает, легко, без труда». Мать Удашева здоровается со Степаном Аркадьичем, как со знакомым, справляется у него о Долли и о Кити, просит поцеловать их, в то время как в окончательной редакции даже не сказано о том, что Степан Аркадьич поздоровался со старухой, матерью своего приятеля, что, очевидно, должно было быть на самом деле.
Эпизод смерти человека под колесами вагона также имеет здесь свои варианты. Первоначально задавленный поездом был молодой человек в пальто с собачьим воротником и в лиловых штанах. Но затем молодой человек заменен был старым мужиком в сапогах. Какой-то чиновник рассказывал, что тот, кто убит, сам бросился, когда стали отводить поезд. В ответ, на чье-то замечание, что смерть была мгновенная, Анна спрашивает: «Мгновенная?»
Обе последние детали, исключенные в окончательном тексте, введены были здесь Толстым, очевидно, для того, чтобы с самого начала теснее связать конечную судьбу Анны с трагическим происшествием на вокзале во время ее приезда в Москву. Это происшествие неожиданно зарождает у Анны и Удашева чувство симпатии и близости друг к другу.
Когда Анна приходит в себя от пережитого на вокзале впечатления, у нее с братом по дороге завязывается разговор о его семейных делах. При этом Анна уверенно заявляет, что если бы ее муж оказался неверен ей, она не бросила бы сына.
Разговор Анны с Долли в общем очень близок к тому, что мы имеем в окончательной редакции, иногда до буквальных совпадений. То же нужно сказать и о последовавшей беседе Анны с Кити. Сравнительно с окончательной редакцией здесь имеется лишь суждение Кити о Левине (Ордынцеве). Текст рукописи оканчивается эпизодом первого дня пребывания Анны в семье брата.
Вслед за текстом, содержащимся в варианте № 5, написан был, очевидно, текст, читаемый в вариантах №№ 6 и 7. После того как вариант № 6 был написан полностью, начало его, взятое нами в ломаные скобки, было зачеркнуто, а остальной текст составил продолжение текста варианта № 7. В зачеркнутом начале варианта № 6 сказано сначала, что Степану Аркадьичу 41 год, затем 37 лет (вместо 34 лет окончательной редакции). Анна приезжает в Москву к Облонским (здесь — Алабиным) не по вызову Степана Аркадьича, как в окончательной редакции, а по собственной инициативе: муж ее уезжает на ревизию, ей скучно без него, несмотря на свет, и в письме к брату она спрашивает, примут ли ее Алабины: она приехала бы к ним на неделю. Текст обоих вариантов, в совокупности соответствующий тексту первых трех глав «Анны Карениной» в окончательной редакции, в основных моментах повествования (но не в подробностях и не в художественных деталях) приближается к окончательному тексту романа. В варианте № 7 о Долли сказано, что она беременна шестым ребенком. Рукопись № 7, заключающая в себе вариант № 6, имеет дату, написанную чужой рукой по-французски, с обозначением старого и нового стиля — 27 марта — 8 апреля 1873 г. Следовательно, Толстой в начале очень энергично принялся за работу, и приблизительно в течение недели у него накопился большой черновой материал, относившийся к роману.
30 марта 1873 г. в письме к П. Д. Голохвастову он писал: «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытанным, читал это последнее время, после вас, — «Повести Белкина» в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие. Я работаю, но совсем не то, что хотел».[1868] Толстой, очевидно, хотел сказать, что он работает не над романом из эпохи Петра I, а над «Анной Карениной».
В письме от 9—14 апреля того же года к Т. А. Кузминской Толстой сообщает, что он «очень занят работой», разумея под этим работу над «Анной Карениной». 17 апреля С. А. Толстая записывает в своем дневнике: «Левочка пишет свой роман, и идет дело хорошо».[1869] Из письма к Толстому H. H. Страхова, написанного через месяц после этого, 17 мая, в ответ на несохранившееся письмо Толстого, узнаем, что «Анна Каренина» вчерне уже написана Толстым: «Почему-то я всё думал, — пишет он, — что вам пишется, но такой радостной вести, что у вас вчерне готов целый роман, не ожидал».[1870] Разумеется, до окончания романа даже вчерне было еще очень далеко: Толстой после этого не только неоднократно радикально перерабатывал его, но и значительно дополнял; всё же очень показательно то, что меньше чем через два месяца после начала работы остов романа был уже готов.
Затем почти до конца сентября Толстой к роману не притрагивался; значительная часть времени в эту пору занята у него была работой на самарском голоде. Однако 23 сентября он пишет Фету: «Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю начатой роман». 4 октября С. А. Толстая записывает в дневнике: «Роман Анна Каренина, начатый весною, тогда же был весь набросан. Всё лето, которое мы провели в Самарской губернии, он [Толстой] не писал, а теперь отделывает, изменяет и продолжает роман».[1871] Но вскоре, 16 октября, она сообщает Т. А. Кузминской, что «роман совсем заброшен» (Архив Т. А. Кузминской). Около 13 декабря Толстой пишет Страхову: «Моя работа над романом на днях только пошла хорошо в ход. А то всё был нездоров и не в духе». Об усиленной работе над романом сообщает С. А. Толстая в письмах к Т. А. Кузминской, от 18 декабря 1873 г. и от 9 января 1874 г. Тут же она пишет и о том, что очень много переписывает «Анну Каренину» (Архив Т. А. Кузминской).
Приехав 15 января 1874 г. в Москву, Толстой вступает в переговоры с типографией М. Н. Каткова относительно печатания «Анны Карениной» отдельным изданием.[1872] В связи с этим С. А. Толстая усиленно переписывает роман, о чем она сообщает Т. А. Кузминской в письме от 6 февраля, добавляя при этом, что Толстой «по своей всегдашней привычке перемарывает без конца» (Архив Т. А. Кузминской). Судя по письму H. Н. Страхова от 11 февраля 1874 г. в ответ на недошедшее до нас письмо Толстого, Толстой к этому времени считал свой роман готовым к печати. Страхов писал Толстому: «Вы пишете, что всё готово; ради бога берегите же рукопись и сдавайте ее в типографию».[1873]
В самом начале марта 1874 г. Толстой поехал в Москву сдавать в печать первую часть романа. С. А. Толстая в связи с этим писала к Т. А. Кузминской: «Левочка повез отдавать в печать свой новый роман, первую часть, а мне оставил переписывать уже вторую, которой много написано» (Архив Т. А. Кузминской). Незадолго до того, 1 марта, Толстой писал Каткову: «Что касается до предложения печатания в «Русском вестнике», то если я решусь печатать в журнале вообще, то весьма охотно отдам в «Русский вестник». Условия мои — 500 рублей зa лист». Речь идет, очевидно, о печатании «Анны Карениной». Следует думать, что это письмо является ответом на сделанное в недошедшем до нас письме Каткова к Толстому предложение печатать роман не отдельным изданием, а в издававшемся им журнале «Русский вестник». Но всё же Толстой решил выпустить «Анну Каренину», минуя журнал, отдельной книгой. 6 марта он пишет своей двоюродной тетке гр. А. А. Толстой: «... я пишу и начал печатать роман, который мне нравится, но едва ли понравится другим, потому что слишком прост». 15—20 марта он обращается к Т. А. Кузминской с просьбой получить разрешение у ее брата Александра Андреевича Берса воспользоваться рассказанной им историей о двух офицерах «разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели» (речь идет об эпизоде, рассказанном в V главе второй части романа).
Но печатание романа, корректуру которого в листах вели H. Н. Страхов и частично Ю. Ф. Самарин, на пятом листе приостановилось: Толстой отвлекся педагогическими вопросами. В ответ на недошедшее до нас его письмо к Страхову Страхов пишет 20 июня 1874 г.: «Я с ужасом прочитал, что вы приостановили печатание — вы нас замучите ожиданием».[1874] 23 июня Толстой сообщал А. А. Толстой: «Я нахожусь в своем летнем расположении духа, т. е. не занят поэзией, и перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится, а занят практическими делами, а именно педагогией...» В первых числах июля того же года Толстой пишет П. Д. Голохвастову: «Мое печатание стоит, и не могу себя заставить заниматься им летом».
В начале июля 1874 г. в Ясной поляне гостил Страхов, восторженно относившийся к «Анне Карениной» даже в той стадии работы над ней, далекой от завершения, в которой роман тогда находился. В письме к Толстому от 23 июля этого года он подробно говорит о высоких художественных достоинствах романа и настаивает на том, чтобы Толстой продолжал работать над ним: «Всею душою желаю вам бодрости и силы, — пишет он. — Для меня теперь очень ясна история вашего романа. Вы сгоряча написали его, потом развлеклись, и он стал вам скучен... По некоторым из ваших слов я вижу, что вы размышляете о разных вещах, в сравнении с которыми предмет вашего романа вам кажется иногда незначительным (сам по себе он имеет существенную, первостепенную важность!). Тут одно средство — взяться за дело и не отрываться от него, пока не кончите. Если вы не допишете вашего романа, я обвиню вас просто в лености, в нежелании немножко себя приневолить».[1875]
Но и эта высокая оценка труда Толстого, сделанная его другом, которому он очень доверял, не подвинула работу над романом вперед: 28—29 июля Толстой писал Голохвастову: «На днях у меня был Страхов, пристрастил меня было к моему роману, но я взял и бросил. Ужасно противно и гадко». А через день, приехав в Москву, Толстой урегулировал свои счеты с типографией Каткова по печатанию «Анны Карениной» отдельным изданием. В письме к жене от 30 июня он писал: «С типографией окончил всё по согласию».[1876] Смысл этой фразы не совсем ясен: неясно, совершенно ли ликвидировал Толстой издание или только пришел к соглашению с типографией о временной приостановке издания. На второе предположение наталкивает, во-первых, пометка H. Н. Страхова на сверстанной корректуре пятого листа дожурнального текста: «Выправил Н. Страхов 17 сентября» (см. Описание рукописей и корректур, относящихся к «Анне Карениной», стр. 675; речь идет, конечно, о сентябре 1874 г.), а также его сообщение в письме к Толстому от 22 сентября: «Я продержал корректуру 5-го листа»;[1877] во-вторых, в пользу второго предположения говорит фраза Толстого в письме его к П. Д. Голохвастову от 15 августа 1874 г.: «Корректуры мои, как они мне ни постыли, теперь к вашим услугам». В данном случае имеются в виду, очевидно, корректуры «Анны Карениной».
II.
Теперь нам предстоит определить, какая часть работы над «Анной Карениной» и в каком направлении была Толстым проделана за время от рассмотренных уже выше первых черновых набросков к роману до ликвидации его печатания отдельным изданием в типографии Каткова. В определении объема и характера текста, написанного в этот период Толстым, в виду трудности хронологического приурочения отдельных этапов его работы (об этом см. в Описании рукописей и корректур, относящихся к «Анне Карениной»), нам прежде всего придется исходить из материала сохранившихся корректур предполагавшегося в 1874 г. издания романа отдельной книгой, непосредственно восходящих к тексту первой части наборной рукописи (№ 103). Эта первая часть наборной рукописи была уже готова к началу марта 1874 г., когда Толстой повез ее в Москву для сдачи в типографию Каткова. Сверстанные первые пять листов текста романа и корректурные гранки того же текста (см. Описание рукописей и корректур, №№ 11З и 114, и, в частности, описание сборника Ленинградской публичной библиотеки, стр. 670 и 675), по заключающемуся в них материалу, соответствуют тексту глав I—XXXI первой части романа применительно к его окончательной редакции, т. е. кончая эпизодом встречи Карениным Анны на вокзале по возвращении ее в Петербург.
Существенные отличия дожурнального корректурного текста от текста, напечатанного позднее в «Русском вестнике», и от текста отдельного издания романа 1878 г. (об обоих последних текстах см. ниже) будут указаны позже. Здесь же укажем на то, что в корректурных материалах первой части дожурнального текста, так же как и в тексте первой части наборной рукописи, характеры главных персонажей, в том числе Анны и ее мужа Каренина, а также развитие сюжета и отдельных ситуаций в основном и самом главном уже совпадают с тем, что имеется в журнальном и в окончательном текстах. Поэтому есть все основания утверждать, что в тех случаях, когда мы по рукописям наблюдаем значительное отличие от указанного корректурного материала в изображении характеров персонажей, выведенных в первой части, в развитии сюжета и ситуаций, во взаимоотношении отдельных персонажей, — эти рукописи относятся ко времени, предшествующему первой попытке печатания романа, следовательно и ко времени, предшествующему окончанию работы над первой частью наборной рукописи, другими словами — они датируются временем до начала марта 1874 г.
Способ работы Толстого над романом и процесс его писания были таковы, что точное определение основных стадий этой работы и последовательности в писании отдельных ее частей крайне затруднительно: не только копии черновиков, но и самые черновики часто через большой промежуток времени радикально переделывались, так что один слой помещался над другим, и размежевание этих слоев не всегда может быть сделано с абсолютной точностью; нередко в ранее написанный текст делались позднейшие вставки или из него изымались отдельные части. Некоторой опорой в различении текстов позднейших от более ранних дает смена фамилий и имен. Так, в ранних текстах вместо фамилии «Вронский» мы встречаем фамилию «Гагин», но затем фамилия «Вронский» чередуется большей частью с фамилией «Удашев», одна другую сменяя сплошь и рядом не только в соседних по времени текстах, но даже в одном и том же тексте. В самых поздних текстах фамилия «Левин» является установившейся, но в ранних она чередуется с фамилиями «Ордынцев», «Ленин». Кроме того, оба персонажа изредка фигурируют и под другими фамилиями. Муж Долли в ранних рукописях обычно именуется Алабиным, в позднейших — Облонским, но имя его в ранних редакциях — то Степан (Стива), то Михаил (Мишута, Мишенька, Мишука). Такая же, не всегда хронологически выдержанная, смена фамилий и имен наблюдается и в отношении других персонажей «Анны Карениной». Характерной особенностью текстов ранних рукописей романа является присутствие в нем сестры Каренина, которая зовется то Мари, то Кити, — персонажа, позднее замененного графиней Лидией Ивановной (последняя вместо сестры Каренина фигурирует уже в наборной рукописи). По первоначальному замыслу Каренин дает Анне развод, и Вронский женится на ней. Отсюда и заглавие романа в варианте № 8 (рук. № 17) — «Два брака» вместо первоначального «Анна Каренина», в следующей же рукописи восстановленного, и заглавие «Две четы» в варианте № 66 (рук. № 38), однако относящееся, видимо, только к первоначальной третьей части романа. Но эта ситуация была отброшена Толстым, очевидно, лишь незадолго до полного завершения им работы над романом.
Пристальное знакомство с рукописями романа дает основание думать, что с самого начала он писался не в строгой последовательности составлявших его эпизодов. Вероятно, работа над некоторыми из них сознательно откладывалась на известное время, с тем чтобы вернуться к ним позднее. Об этом свидетельствуют и слова Н. H. Страхова в письме к Толстому от 23 июля 1874 г. о том, что „многие части и не написаны, но уже Анна «убивает себя»“.[1878]
В ряде случаев более точные данные для определения хронологических моментов в работе над романом получаются не столько в результате группировки указанных выше внешних, так сказать, признаков, сколько в результате учета эволюции образов Анны и ее мужа — Каренина. В самой общей форме эта эволюция по мере развития творческого процесса сказывалась в том, что Анна постепенна Толстым морально повышалась, а Каренин — снижался. В известной мере такое снижение характерно и для образа Вронского (Гагина, Удашева).
Уже в выше пересказанном тексте варианта № 3 (рукопись № 4), как указывалось, Каренин изображен с явным авторским сочувствием, в противоположность с тем как изображена его жена. Несчастье Каренина — его семейная драма — является следствием не столько внутреннего несоответствия друг другу супругов, сколько несоответствия физического: он слишком неказист, внешне невзрачен, чтобы привязать к себе молодую, полную неизрасходованных жизненных сил женщину, инстинктивно тянущуюся к яркому и большому чувству. В нем совершенно отсутствует то специфически мужское начало, которое так определенно сказывается в его сопернике. В то же время у него нет тех отталкивающих душевных качеств, которыми он наделяется Толстым по мере развития работы над романом и которые в основном предопределили собой разрыв между Анной и мужем в последующих стадиях писания романа. Что же касается Анны (Татьяны Ставрович), то ее нравственный облик сам по себе, как он выступает в этом раннем варианте, не очень привлекателен: слишком сильна в ней эгоистическая жажда личного счастья; она заставляет ее совершенно безучастно относиться к страданиям мужа, беззастенчиво лгать и притворяться перед ним. В ее поведении проявляется экстравагантность, известная развязность тона и бравурность, очень мало согласующаяся с тем образом Анны, какой установится в окончательном тексте романа.
В таком освещении предстают перед нами образы Каренина и Анны и в хронологически ближайших черновиках. В варианте № 36 (рук. № 16) Толстой еще колеблется в характеристике внешних и внутренних качеств Каренина. Сначала об Алексее Александровиче, встречающем жену в Петербурге на вокзале, сказано так: «Высокая, полная фигура его с шляпой, прямо надвинутой на широкий умный лоб, и круглое, румяное, бритое лицо с остановившейся на нем невеселой, но спокойной улыбкой, и так обращало на него внимание, но не наружностью». Затем, зачеркнув эти строки, Толстой написал вместо них новые, также зачеркнутые: «Небольшая, слабая фигура его в круглой шляпе с большими полями и бритое всё лицо в очках и с доброй, безвыразительной улыбкой не имело ничего привлекательного». Наконец, Каренин изображается глазами Вронского: «Да, он умен, — думал он, глядя на его высокий лоб с горбинами над бровями, — и твердый, сильный человек, это видно по выдающемуся подбородку, с характером, несмотря на физическую слабость. Глаза его маленькие не видят из-под очков, когда не хотят, но он должен быть и тонкий, наблюдательный человек, когда он хочет, он добрый даже, но он непривлекательный человек, и она не может любить и не любит его». В варианте № 37 (рук. № 19) Каренин — слабый, робкий человек, растерявшийся под тяжестью сознания, что жена его увлечена Вронским (Гагиным), «красивым, умным и хорошим юношей». Он ищет нравственной поддержки у преданной ему сестры Мари, смолоду религиозной и добродетельной, но с тех пор, как она «отсикнулась» и стала напоминать перестоявшуюся простоквашу, — с головой ушедшей в салонные религиозные распри, в которых она принимала энергичное участие, думая, что ломает, хотя и тщетно, копья за правду. Слова Каренина, обращенные к Анне после возвращения ее с раута, где она встретилась с Вронским (Гагиным), здесь произносятся в тоне взволнованной мольбы человека, пришедшего в отчаяние от предчувствия, что нити, связывающие его с женой, порываются, тогда как в окончательной редакции Каренин произносит методически обдуманную речь, внешне спокойную, солидно-сдержанную и звучащую по-книжному. В отдельных зачеркнутых словах и строках этого варианта взволнованность Каренина и умоляющий тон его обращений к Анне подчеркнуты еще сильнее. Сам он теперь пытается проверить себя в своих отношениях к жене и сознает свое часто повторявшееся чувство «недостаточности» к ней, вспоминает, что «часто она как будто чего-то требовала от него такого, чего он не мог ей дать».
В образе Анны, как он рисуется в этом варианте, еще много таких принижающих ее черт, которые впоследствии Толстым были устранены. Хозяйка гостиной, в которой появляется Анна, обращает внимание на то, что Анна берет в рот жемчуг — «жест очень дурного вкуса». Алексей Александрович с ужасом убеждается в том, что душой Анны после возвращения ее из Москвы овладел дьявол (этим словом кстати озаглавлена первая глава раннего черновика второй части романа, см. вариант № 35, рук. № 18), что она становилась «мелочна, поверхностна, насмешлива, логична, холодна и ужасна для Алексея Александровича». На ее внутреннем облике лежит печать не то инфернальной женщины, не то светской львицы. Расставаясь с Вронским (Гагиным) после раута, в ответ на его признания в любви, она упрекает его за его настойчивость и говорит: «Я один раз сказала это... и то неправду. Поэтому я не скажу этого в другой раз» и далее, по первоначальному варианту, неожиданно бравурно продолжает: «потому что незачем говорить: я люблю тебя. Завтра в 4 часа». Но затем этот вариант зачеркивается и вместо него написана фраза, сохраняющая в себе всё же оттенок бравурности: «Я не скажу, но когда скажу... — и она взглянула ему в лицо. — До свиданья, Алексей Кириллыч». Думая об Анне, Каренин вспоминает, что все шесть лет замужества она была, «простою и довольно поверхностною натурою», вспыльчивой, неровной, причинявшей ему несправедливые досады. Сестра Каренина Мари считает Анну «мелкою и terre à terre». Наконец, холодное, насмешливое презрение и отвращение Анны к мужу во время их разговора перед сном подчеркивается здесь сильнее, чем в окончательной редакции.
В варианте № 38 (рук. № 22) Толстой заставляет Анну говорить слова, совершенно не вяжущиеся с ее обликом, как он предстает нам в окончательном тексте романа. В ответ на замечание одной дамы, сделанное всё на том же рауте, — «Нет, я думаю без шуток, что для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться», Анна со смехом подает такую реплику: «Вот именно, надо ошибиться и поправиться» и далее говорит о том, что ошибку надо поправить, даже если она произошла в браке и что никогда не поздно раскаяться. Услышав это, Вронский в зачеркнутой строке варианта «мрачно» думает об Анне: «Неужели это бездушная кокетка и только». В дальнейшем, как и в окончательной редакции, эта реплика вложена в уста Бетси Тверской, что, разумеется, психологически правдоподобнее, принимая во внимание то, как образ Анны окончательно определится в романе.
В варианте № 33 (та же рукопись), в зачеркнутых его строках, говорится о том, что Бетси, навестив Анну после ее возвращения из Москвы, рассказала ей «кучу новостей светских, браков, ухаживаний». И к этому добавлено: «В этих рассказах и разговорах Анна уже совершенно нашла себя. Особенно новость, что N выходит за Б живо заняла ее». Мало вяжется также с обликом Анны, как мы ее знаем по окончательной редакции романа, страсть ее к волнующим и возбуждающим зрелищам, о чем идет речь в варианте № 47 (рук. № 29). Там она говорит: «Если бы я была римлянка, я бы не пропускала ни одного цирка» и ниже, в ответ на замечание мужа, что любовь к подобным зрелищам есть «вернейший признак низкого развития», она отзывается: «Во мне есть этот признак». В окончательной редакции первую фразу произносит какая-то «другая дама», а вторая фраза вообще никем не произносится.
В нескольких вариантах, извлеченных из рукописей, хронологически предшествующих первой попытке печатания романа, подчеркивается еще религиозное ханжество Анны. Так, в варианте № 19 (рук. № 13) к похвалам Анне со стороны Степана Аркадьича, приехавшего встречать сестру на вокзале, Вронский относится недоверчиво, потому что терпеть не может тот фальшивый петербургский кружок, называемый им шуточно «утонченно-хомяковско-православно-женско-придворно-славянофильски-добродетельно-изломанным», главным украшением которого, по его словам, была Анна. В варианте № 22 (рук. № 17) зачеркнуты строки, в которых это мнение Вронского об Анне находит себе частичное подтверждение. Чувствуя себя бессильным помочь брату в его семейной размолвке, она говорит ему: «Один Тот, Кто знает наши сердца, может помочь нам», и далее говорится: «Облонский замолчал. Он знал этот выспренный, несколько приторный, восторженной тон религиозности в сестре и никогда не умел продолжать разговор в этом тоне. Но он знал тоже, что под этой напыщенной религиозностью в сестре его жило золотое сердце». В варианте № 23 (та же рукопись) Долли очень доброжелательно думает об Анне, от которой она видела по отношению к себе только ласку и дружбу, «правда, — добавлено к этому, — несколько приторную, с аффектацией какого-то умиления». И всё же Долли с ужасом и с отвращением представляет себе «те религиозные утешения и увещания прощения христианского, которые она будет слышать от золовки». Отзвуки этой характеристики Анны как приторно благочестивой женщины, с долей восторженной аффектации, мы встречаем еще и в наборной рукописи. Там графиня Нордстон высказывает удивление способности Анны «не только подделываться, но совершенно сливаться с тем кругом, в котором она живет». Круг этот опять характеризуется Вронским, до встречи его с Анной в Москве, на вечере у Щербацких, как «добродетельно-сладкий, хомяковско-православно-дамско-придворный». На замечание Кити, что Анна «необыкновенно религиозна, добра», Вронский отвечает, что эта религиозность и добро «принадлежность grande dame этого самого круга».
В последующем развитии сюжета романа, в ранней стадии его писания, в образах Каренина и отчасти Анны удерживаются в основном некоторые из отмеченных уже черт характера. В варианте № 66 (рук. № 38) Алексей Александрович внешне безропотно подчиняется создавшемуся положению, после того как жена сообщила ему о своих отношениях к Вронскому (Гагину). Он покидает на всё лето Петербург, устроив себе поездку для ревизии по губерниям. В конце дачного сезона, по возвращении его в Петербург, не он требует переезда жены с дачи на городскую квартиру, а она безапелляционно предлагает мужу распорядиться квартирой к ее приезду. Они живут вместе, но обособленно друг от друга, лишь при посторонних соблюдая видимость близких отношений. Вронский (Гагин) часто обедает в доме Карениных и все вечера, до поздней ночи, проводит в обществе Анны (здесь — Настасьи Аркадьевны). Она, казалось, одна «не чувствовала всего ужаса этого положения, никогда не тяготилась или не жаловалась и, казалось, не видела необходимости предпринять что-нибудь». Вариант № 68 (та же рукопись) изображает эпизод встречи Каренина с Вронским (Гагиным) у подъезда дома Карениных. И без того жалкая фигура стучащего калошами Алексея Александровича, худая, сгорбленная, с бледным, пухлым лицом, становится еще жалче, когда он при встрече с любовником жены насильно улыбается и в замешательстве, подняв руку к шляпе, роняет перчатку. Эта встреча сильно расстраивает Вронского, вызывает в нем чувство душевной боли и сознание своего бессилия, потому что ему нельзя требовать удовлетворения у Каренина и поставить под выстрелы человека «с этими глазами». В варианте № 69 (та же рукопись) Вронский (Гагин) в разговоре с Анной высказывает свое участливое отношение к страданиям Алексея Александровича, тогда как Анна «со злобной усмешкой» говорит о том, что муж ее «доволен» всем происшедшим.
Та же различная оценка Каренина со стороны Анны и Вронского имеется и в варианте № 45 (рук. № 29). Когда Анна говорит, что муж ее ничего не знает и не понимает дальше своего министерства, что разлука с женой ему нежелательна только потому, что это может испортить его карьеру, Вронский думает: «Ах, если бы это было так, но он, муж, понимает многое, и он любит и ее и сына, и она себя обманывает и заглушает свое раскаяние, говоря это».
По первоначальному замыслу Каренин вскоре после открывшейся измены жены уезжает в Москву, не будучи в состоянии продолжать жить с ней в одном доме и намереваясь вернуться в Петербург и поселиться отдельно — по одному варианту (№ 95, рук. № 39) — лишь начав дело о разводе и огласив всю историю, по другому (№ 96, рук. № 40) — после родов жены. Перед отъездом он пишет два письма — одно жене, другое Вронскому (Гагину) одинакового содержания, смиренно прося прекратить свидания обоих в его доме, ничем не угрожая и лишь предупреждая, что, в случае неисполнения его просьбы, он обратится к суду церкви, а если просьба его будет исполнена, бог наградит обоих. Но встретив после этого Вронского (Гагина) на своем крыльце и уверившись таким образом, что предостережение его оставлено без внимания, он решает начать дело о разводе, но не в Петербурге, где его все знали, а в Москве, куда он и отправляется. Там, прежде чем встретиться с адвокатом, он обращается к своему духовнику (варианты №№ 96 и 97, рук. № 40), советы которого однако его не успокаивают.
В период первоначальной работы над романом о пребывании Каренина в Москве рассказывается в варианте № 98 (рук. №41), в дальнейшем ходе работы никак не использованном. Здесь всё, что говорится не только о Каренине, но и об Облонских (Алабиных) и гостях на обеде у них и о разговорах во время обеда, не имеет ничего сходного с тем, что читается в окончательной редакции. Алексей Александрович, по приезде в Москву, отправляется в бедную квартиру Облонского (Алабина) во дворе пустынного переулка на Пресне. По дороге встреча с каждой нарядной молодой женщиной и особенно с мужчиной, чьим-нибудь мужем, или знакомым — доставляют ему страдание; радостные лица, попадающиеся ему по пути, заставляют его предаваться мрачным мыслям о тщете жизни.
Придя в дом Алабиных, Каренин застает Дарью Александровну зa уроком латыни с сыном. Вопрос Долли об Анне заставляет Алексея Александровича испытать глубокое волнение. Общение с несчастной Долли, неудовлетворенной жизнью с мужем и нравственно прекрасной в своей роли поглощенной семейными заботами матери, вызывает в Каренине мысли о его собственной судьбе — покинутого мужа, у которого разрушен семейный быт. Пользуясь тем, что застал ее одну, он делится с ней своими страданиями, сначала иносказательно, а затем прямо сообщая ей простыми, человеческими словами свою семейную драму. Ему было тридцать лет, а ей восемнадцать, когда они поженились. Через год у них родился сын. Затем прошло пять лет, и жена призналась ему, что она не любит его. В момент разговора с Долли Каренину, следовательно, тридцать шесть лет, а Анне — двадцать четыре, хотя в дальнейшем в том же варианте о Каренине говорится как о пожилом человеке. Долли старается убедить Каренина в том, что Анна не потеряна еще для него, но в душе Каренина вскипает — неожиданно для него — злоба против своей жены. Долли пытается его успокоить и предотвратить его семейную катастрофу: «Вы жалкий, вы добрый человек, — говорит она, — но вы неправы».
По просьбе Долли, Каренин остается обедать у Алабиных, хотя сначала решил было избежать этого. До обеда он проводит два часа с детьми, которые полюбили его. Основной темой беседы, ведущейся зa обедом, является неверность женщины в браке. Разговор происходит в связи с полемикой Дюма-сына с Жирарденом по вопросу о праве женщины на свободное распоряжение своим чувством в браке.[1879] На первых порах этот разговор очень волнует и занимает Каренина, который надеется найти в нем разрешение мучающих его вопросов его личной судьбы, но, убедившись в том, что говорящие говорят не на основании собственного опыта, а чисто теоретически, он охладевает к теме разговора. Главными участниками завязавшегося спора являются племянник Алабина, «сосредоточенный, мудреный студент, окончивший курс», Юрьев, защищающий право замужней женщины на свободу распоряжения собой, и «молодой сельский житель», атлет, гимнаст, известный своими «хотя умными, но резкими суждениями обо всем» и защищающий точку зрения Дюма — что женщину, нарушившую брачный обет, надо убить. Фамилия его неустойчива: Равинов, Равский, Ровский. Этот персонаж представляет собой, несомненно, вариант Ордынцева-Левина. Тут же, на обеде у Алабиных, присутствует сестра Долли — «с прелестными волосами и шеей красавица Китти, или Катерина, та самая, которая... должна была когда-то вытти за Ордина (Зачеркнуто: «Гагина»)».[1880] Ниоткуда из этого варианта не видно, чтобы Китти и Ровский когда-либо ранее встречались, тем более чтобы этой встрече предшествовало неудачное предложение, что имеет место в отношениях Левина (Ордынцева) и Кити, как эти отношения описаны еще в предшествующих черновых набросках. Судя по характеру изложения, в данном варианте Кити и Ровский впервые вводятся в сюжетную линию романа, и между ними устанавливается взаимная сердечная заинтересованность, очевидная и для Каренина, который в связи с этим задает себе вопрос о том, «кто из них будет несчастный», потому что с мыслью о браке у него теперь стало соединяться представление «о несчастии одного из супругов».
Таким образом весь эпизод посещения Карениным дома Облонских (Алабиных) в этом варианте, в согласии с первоначально задуманным Толстым обликом Алексея Александровича, написан так, что фигура Каренина продолжает оставаться всё той же жалкой, угнетенной его семейным горем и вызывающей сострадание. Тема спора о неверности жены, происходящего за обедом, еще сильнее подчеркивает душевную драму Алексея Александровича. Не находя выхода из создавшегося положения, он — по первоначальному плану варианта — решает послать своему сопернику вызов на дуэль, а по исправленному — энергично начать дело о разводе.
В следующей редакции (варианты №№ 100 и 101, рук. № 42) эпизод обеда у Облонских значительно приближен к тексту окончательной редакции, хотя далеко не во всем совпадает с ним. Среди гостей здесь уже присутствуют Кити и Левин в ситуации, какая в общем совпадает с ситуацией окончательной редакции, с той однако разницей, что Левин принимает участие в общем разговоре, тогда как в окончательной редакции сказано, что «все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина». На обеде присутствует и Сергей Левин, родной брат Константина Левина, в дальнейшем — Кознышев, лишь единокровный брат Левина. Присутствуют также старый князь Щербацкий, Туровцын, Каренин (как и в окончательной редакции) и Юркин, в окончательной редакции фигурирующий под фамилией Песцова. Разговор зa обедом ведется, как и в окончательном тексте, на темы о классическом образовании (однако не схоже с тем, что читается в окончательной редакции), о польском и о женском вопросах. Но тогда как в окончательном тексте суждения по женскому вопросу не идут дальше спора о правах и обязанностях женщины, в варианте № 101 они значительно расширены и захватывают область супружеских отношений, т. е. ту самую, в которой особенно заинтересован участвующий в споре Каренин. Эта часть разговора происходит лишь в мужском кругу, после того как дамы вышли. Юркин отстаивает полную свободу женщины в распоряжении своим чувством и заявляет, что «измена женщины своему мужу есть только заявление своего равного мужчине права», что «женщина сходится с мужем и расходится, когда она хочет». Дети, по его мнению, не могут препятствовать женщине распоряжаться своей свободой, потому что они «составляют обязанность государства».
Каренин с грустью понимает, что он не только не найдет здесь разрешения занимающего его вопроса, но что говорящие даже не знают того, что его занимает. С мыслями, приходившими раньше в голову Каренину, перекликается лишь реплика Туровцына: «А я думаю, что если жена изменила, надо дать пощечину ему и убить его или чтоб он убил — вот и всё».
В самом начале свидания с адвокатом, ведшим дело о разводе, Каренин получает телеграмму от Анны, извещающей о своей смертельной болезни и умоляющей его приехать домой (вар. № 103, рук. № 43), и уезжает в Петербург. После родов жены он проявляет полное самоотвержение и заботливость не только о больной и детях, но даже об удобствах для любовника, который целые дни проводит в доме Карениных и иногда там ночует (вариант № 104, та же рукопись). Он соглашается на развод с Анной и собирается, уступив ей свою квартиру, переехать с сестрой, сыном и гувернанткой на другую, меньшую. Через месяц развод состоялся. Вронский (Удашев) уезжает в имение Анны, чтобы там венчаться, а Алексей Александрович «с воспоминанием всего перенесенного позора продолжал свою обычную служебную, общественную жизнь» (вар. № 106, рук. № 45). В варианте № 155 (рук. № 95) говорится о том, что, соглашаясь на развод перед тем, как Анна должна была родить второго ребенка от Вронского, Каренин сделал то, что от него требовали: он принял на себя «постыдные улики прелюбодеяния», Анна же и Вронский обвенчались в имении Вронского, где они до этого жили, и для них наступило наконец «давно желанное и дорого купленное счастье».
С явным авторским сочувствием обрисован Каренин и в варианте № 107 (рук. № 46), который, представляя собой по первоначальному замыслу четвертую, заключительную часть романа, написанную в значительной части конспективно, очевидно, относился к той, очень ранней, стадии работы над концом «Анны Карениной», о которой писал Страхов Толстому в письме к нему от 17 мая 1873 г. (см. выше, стр. 591).
По этому варианту Каренин живет вместе с сестрой Катериной Александровной и сыном на своей старой квартире, обстановка которой угнетает его, напоминая ему его былой счастливый, налаженный семейный быт. Ему трудно общаться с сыном, потому что не стало той живой атмосферы, какая была при матери, и отец знал, что и сын это понимает. Особенно это почувствовалось в день рождения сына, когда Каренин вошел к нему, полусонному, в комнату и он обдал его «тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей». (В этом варианте эпизод свидания Анны о сыном отсутствует, и некоторые детали этого эпизода приурочены к посещению сына, в день его рождения, отцом). Алексей Александрович остро чувствует унизительность своего положения человека, презираемого всеми, и ему «менее унизительно было бы валяться в грязи улицы своей седой и лысой головой, чем развозить эту голову, наклоняя ее по дворцам, министерствам, гостиным». Его соблазняют два выхода — монашество и пьянство, но из-за сына он борется и с тем и с другим искушением. Он мало переменился наружно, но внутренно стал другим человеком, из «сильного, определенного и доброго» стал «слабый и неясный и злой». В глазах света он был смешон и жалок. О нем говорили, что любовник в Летнем саду поручил ему жену, как самому близкому знакомому. Забвение он находит в однообразной работе по министерству, тем более что, несмотря на закрадывающиеся у него сомнения, он убежден в важности своего дела. Эта работа заполняет его время и вводит жизнь в определенные рамки, но его тянет к жене, «как бабочку к огню», и, узнав, что она с любовником приехала в Петербург, он, предвидя, что встреча будет мучительна и для нее и для него, всё же идет на Невский в надежде встретить ее и, встретив, испытывает сильное волнение. Несмотря на это, так как «беспокойство бабочки» после встречи лицом к лицу с Анной и Вронским (Удашевым) стало еще сильнее, он едет на вечер в дом, где надеется еще раз встретить ее и где он проходит «сквозь строй насмешек».
Вслед за этим еще более конспективно набросан конец романа. «Молодые» — Анна и Удашев — второй месяц живут в Петербурге. Свет не прощает Анне ее разрыва с Карениным и не открывает ей своих дверей. На каждом шагу она испытывает уколы своему самолюбию. В театре ее оскорбляет чета Карлович, не ответившая ей на ее поклон. По настоянию Анны супруги уезжают в Москву, куда переезжает и влюбленный в Анну друг Удашева (Вронского) Граббе — персонаж, который позднее выступает под фамилией Яшвина. В Москве Удашев много играет в карты, Анна принимает у себя людей не своего круга — тех, кого можно было бы назвать нигилистами: она «построила другую высоту либерализма, с которой бы презирать свое падение, и казалось хорошо». Но ее тяжело оскорбляет мать Удашева (Вронского), к которой она обратилась с просьбой помочь ей наладить отношения с обществом. Это особенно угнетающе подействовало на Анну, тем более, что Удашев в отношении к ней проявляет обидную жестокость. Прежде она думала о том, что выход из ее положения был бы в том, чтобы умер Алексей Александрович. Теперь же она думает: «Зачем ему, доброму, хорошему, умереть несчастному? Кому умереть? Да мне». Она оделась, поехала на железную дорогу и бросилась под поезд.
Затем приписано несколько строк, намечающих как бы эпилог романа. Ордынцевы (Левины) тогда жили в Москве, и Кити с радостью думала о том, чтобы устроить примирение света с Анной. Она ждала Удашева, когда Ордынцев (Левин) прибежал с сообщением о самоубийстве Анны. Вариант заканчивается словами: «Ужас, ребенок, потребность жизни и успокоение».
В переработке эпизода встречи Каренина с Анной и с Вронским на Невском (вариант № 132, рук. № 83) рассказывается о том, что Каренин делал, вернувшись после этой встречи домой. Сначала он долго ходил по комнате, жестикулируя, затем стал позировать у зеркала: хмурясь, он вызывал Вронского на дуэль и, делая жесты, убивал его; улыбаясь, он с любовью умолял жену не покидать его и соображал в то же время, какое влияние на нее могла иметь его умоляющая улыбка, и спрашивал себя в зеркале, очень ли он стар.
И это жалкое поведение Каренина говорит о его совершенной растерянности, об отсутствии у него того чувства самообладания, которое большей частью характерно для него в окончательной редакции романа.
Беспомощность, жертвенность и великодушие Каренина подчеркиваются и в варианте № 155 (рук. № 95); он «в своей беспомощной растерянности» поверил Степану Аркадьичу, что дело развода очень просто, но оно оказалось далеко не так просто: согласившись отпустить свою жену к Вронскому и дав девочке, не от него рожденной, свое имя, он думал, что сделал всё, что от него требовалось, и что дальнейших жертв от него не потребуется. Но вскоре возник вопрос, какое имя будет носить второй ожидавшийся ребенок Анны и Вронского. Для Алексея Александровича «являлось три альтернативы»: или дети будут носить незаконно имя Каренина, или он должен будет уличить жену в преступной связи, или, наконец, он допустит развод, приняв в этом случае вину на себя. В первых двух случаях страдали бы дети, Анна и Вронский, в последнем — он один. И, несмотря на ужас ложных унижений, через которые нужно было пройти, Каренин выбрал третий путь. Анна и Вронский обвенчались, и для обоих их наступило «давно желанное и дорого купленное счастие».
И в дальнейшей стадии работы над романом, когда Толстой ввел в него главы, в которых идет речь о поездке Анны и Вронского за границу, о Каренине попрежнему говорилось в духе, сочувственном ему. Так, в варианте № 118 (рук. № 77) читаем: «Счастье Вронского и Анны должно бы было быть отравлено мыслью о том, что самое счастье куплено ценою несчастия не только доброго, но великодушного человека, душевную высоту которого они оба ценили и признавали; но это не было так».
Известному снижению по мере развития работы над романом — на ряду с образом Каренина — подвергся и образ Вронского. В ранних вариантах особенно подчеркивается обаятельность Вронского (князя Усманского, Уварина, Гагина, Удашева), моцартианское начало его характера. В варианте № 9 (рук. № 9) Облонский говорит о нем как об «очень замечательном человеке»; по словам Облонского, он «во-первых, очень хорош, во-вторых, джентльмен в самом высоком смысле этого слова, умен, поэт и славный, славный малый». В варианте № 19 (рук. №13), в зачеркнутых строках, он — «молодой, красивый юноша», конногвардейский поручик, «и такое еще с детства, очевидно, нетронутое веселье жизни и свежесть были во всех его чертах и движеньях, что в большинстве людей, которые видели его, двигаясь по зале станции, он возбуждал чувство зависти, но зависти без желчи». Анна, встретившись с ним, думает о нем: «Так вот он, этот необыкновенный сын, этот герой, этот феникс, который влюблен и которого всё-таки не может стоить ни одна женщина». В варианте № 15 (рук. № 17) Степан Аркадьич отзывается о нем как представителе нового сорта людей, как об очень образованном человеке, отличающемся от «классических приличных дурногвардейцев»; он либерален. «Разумеется, он не социалист, — говорит о нем Облонский (прибавляя к этому зачеркнутые затем автором слова: «но и то, пожалуй, немножко»), — но он как будто не дорожит теми преимуществами, которые ему сами собой дались как сыну графа Вронского». Он очень любит лошадей, увлекается спортом, живет вне Петербурга, «за ремонтами», и собирается выйти в отставку, пренебрегая теми благами, к которым все стремятся. Тут же, в зачеркнутых строках, говорится о том, что отец Вронского был «замечательно умный и твердый человек», из ничего, из бедных дворян ставший графом и «первым человеком», оставившим «память в истории». В варианте № 18 (та же рукопись) о Вронском говорится, что он кончил первым курс в артиллерийском училище и отличался большими способностями к математике, но не брал в руки книги — романа, кроме как на ночь; будучи блестящим светским человеком, он не ездил в общество; имея все данные для того чтобы итти по дороге честолюбия, он пренебрегал успехами и служил во фронте; будучи богат, он почти всё свое состояние отдал женатому брату. В жизни спустя рукава он находит удовольствие. Для иллюстрации того, как в процессе работы над романом в характере Вронского сбавлялись черты его простодушия, показательна и следующая деталь. В варианте № 28 (наборная рукопись) Левин, после отказа Кити с горечью думая о своих недостатках, противополагает себе Вронского-Удашева «счастливого, доброго, умного и наивного, никогда ни в чем нe сомневающегося». В окончательном же тексте слова «наивного, никогда ни в чем не сомневающегося» исправлены на «спокойного, наверное, не бывавшего в таком ужасном положении, в котором он был нынче вечером».
В окончательном тексте отношение Вронского к Кити не идет дальше легкого, неглубокого влечения к девушке «светской, милой, невинной», притом полюбившей его; он чувствует прелесть сближения с ней после роскошной и грубой своей петербургской жизни, но он вовсе не думает жениться на ней; женитьба вообще никогда не входила в его планы; он не только не любил семейной жизни, но в положении мужа видел для себя нечто чуждое, враждебное, больше всего — смешное. После вечера у Щербацких, он, правда, почувствовал, что духовная связь, установившаяся между ним и Кити, теперь стала так сильна, что надо что-то предпринять, но что именно предпринять — он не знал.
В ранней стадии работы над романом не одни лишь окружающие уверены в том, что Вронский женится на Кити, но и сам Вронский (Гагин, Удашев), хотя и колеблясь, думает о женитьбе на ней и переживает не только чувство влечения к Кити, но и влюбленности. В варианте № 17 (рук. № 21) сказано, что Вронский (Удашев) уезжает от Щербацких не только с обычным чувством чистоты, свежести и невинности, но и с чувством «поэтического умиления за свою любовь к Кити и ее любовь». Тут же, в зачеркнутых строках, говорится об усилившихся у Вронского тоске и унынии, соединяемых с чувством влечения к Кити. Он думает о том, что надо кончить прежнюю жизнь, ему хочется плакать и любить и быть любимым. Раньше, до тех пор пока не влюбился в Кити, он не помышлял о женитьбе, но теперь ему приходит эта мысль. Если он сразу и не решает ее осуществить, то потому прежде всего, что боится выпустить «тот заряд чего-то», который был у него в запасе и который он опасался растратить, введя себя в рамки семейной жизни. Но в зачеркнутых строках конца варианта он говорит самому себе: «Да, я люблю ее, выйду в отставку. Да и потом она любит меня, и я не мог, если бы и хотел, бежать теперь. Конец пьянству и полковой прежней жизни, и пора. А какая будет будущая — убей бог, не знаю и представить не могу. Но решено, так решено». И за этим следует авторское пояснение: «и когда у него было что решено, то это было решено совсем; это знал всякий, знавший его».
И в наборной рукописи (вариант № 24), в начальных зачеркнутых строках, сказано о том, что в последнее время Вронского (Удашева) занимала мысль, как и когда сделать предложение Кити, «на что он уже давно решился». Далее, также в зачеркнутых строках, говорится: «Слово не было сказано, но честная натура его не могла лгать самому себе; он знал, что хоть и не было ничего сказано, бросить ее теперь было бы дурно». В незачеркнутом тексте варианта Вронский, убеждая себя в том, что он ничем не связал себя с Кити, всё же чувствует, что к испытываемой им радости от встречи с Анной «примешивалось невольно сознание какого-то дурного поступка».
Не сразу установился в романе и образ старого князя Щербацкого. В варианте № 5 он изображен, как мы видели, опустившимся человеком, доживающим свои дни чуть ли не в качестве приживальщика в своем доме. Такой же жалкой фигурой выступает он и в варианте № 13 (рук. № 12) и в тексте рукописи № 17 (см. Описание рукописей). В дальнейшем однако старый князь Щербацкий изображается с явным авторским расположением: ему присущ здоровый юмор, он судит о людях и о жизни как человек здравого смысла, умеющий отличить настоящее, неподдельное от фальшивого и показного.
Из основных персонажей романа — Левин, Кити, Облонский, Долли, Сергей Иванович Кознышев с самого начала определились в существенных чертах своего характера очень схоже с тем, как они выступают и в окончательном тексте. Лишь в отношении наружности и возраста Левина и его занятий, а также в отношении возраста Облонского Толстой на первых порах обнаружил колебание. В варианте № 5 Левину (Ордынцеву) 26 лет, в варианте № 9 (рук. № 9) о Левине (Ленине, Ордынцеве), близко к тому, что о нем говорится в варианте № 5, сказано, что он был «красивый молодой человек лет тридцати, с небольшой черной головой и необыкновенно хорошо сложенный». Облонский (князь Мишута, Алабин), представляя его своим сослуживцам, говорит, что он мировой судья и земский деятель. В варианте № 10 (рук. № 16) Левин — «некрасивый, но чрезвычайно статный, невысокий молодой человек с маленькой бородкой, густыми бровями и блестящими голубыми глазами». Возраст его тот же — около тридцати лет. Он — недавно еще земский деятель, мировой судья — теперь подал в отставку и отдан под суд за то, что «хотел быть только справедливым» и поэтому стал жертвой шайки «уездных воров». В варианте № 11 (та же рукопись) о Левине сказано, что он «начинал разные деятельности: был в министерстве после выхода из университета, был мировым посредником, поссорился, был председателем управы, был мировым судьей, написал книгу о политической экономии, носил русскую поддевку и был славянофилом». Он считает себя некрасивым. Ему тридцать два года. В вариантах №№ 12 и 30 (наборная рукопись) говорится о том, что Левин, прекрасно кончив курс (по математическому факультету), теперь, в тридцать два года, по совету брата, бросил земскую деятельность, как раньше он бросил службу в министерстве, как затем бросил мировое посредничество и судейство и перестал быть славянофилом и светским человеком. Он страстно увлекался математикой, которая затем ему опротивела, потом он со страстью предался попеременно изучению естественных, философских и исторических наук, но занимался бессистемно, в конце концов придя к заключению, что всё им вычитанное и усвоенное — вздор. В последнее время он особенно интересовался физикой.
Возраст Облонского по ранним вариантам колеблется от сорока до тридцати пяти лет. В окончательном тексте ему тридцать четыре года. Столько же, приблизительно, лет в окончательном тексте и Левину.
III.
Ряд эпизодов романа, по мере того как работа над ним подвигалась вперед, в связи с углублением первоначального замысла, подвергался столь же существенной переработке, как и характеристики отдельных его персонажей.
Так, например, наиболее ранняя редакция эпизода бала в Москве (вариант № 25, рук. № 14), значительно исправленная уже в автографе и окончательно, не считая некоторых второстепенных деталей, установленная еще в наборной рукописи, при сравнении ее с текстом этой последней, очень наглядно показывает, как и в каком направлении шла у Толстого переработка первоначального чернового текста и какие результаты давала она в окончательном тексте.
В ранней редакции в нескольких словах сообщается в порядке, так сказать, осведомления читателя, о том, что Кити приехала на бал, когда только что начинали танцовать, и что в толпе, выделяясь среди окружающих не только для Кити, но и для посторонних, стоял Вронский (вначале — Гагин). В наборной рукописи эпизод начинается с описания доносящегося из зала на лестницу шороха движения и звуков музыки, а затем рисуется движение на лестнице в зал нескольких гостей, короткие зарисовки которых здесь же даются.
Очень бегло и психологически неразработанно сказано в ранней редакции о том, какова была Кити в момент появления на бале: «Кити была в голубом платье с белым венчиком на голове и, если бы она не знала, что она хороша, она бы уверилась в этом по тому, как она встречена была в залах». Далее сравнительно подробно говорится о переживаниях Кити: на лице ее было красившее ее оживление, но вместе с тем сдержанное волнение, почти отчаяние, скрывавшееся при помощи светской выучки. В течение восьми дней после отказа Левину она не видела Вронского у себя в доме, и ее мучают тревожные предчувствия, которые она старается прогнать от себя. После того как она протанцовала с ним первую кадриль, в зал вошла Анна, которая, поздоровавшись с хозяевами, направилась было к Кити, но дирижер бала Корсаков (Корнилин?) подхватывает ее для вальса, во время которого он выражает свое восхищение ее искусством танцовать и, продолжая вальсировать и укорачивая шаг, подводит ее к своей жене.
Всё это в тексте наборной рукописи подверглось коренной переработке. Тщательно описан, во всех подробностях, бальный наряд Кити, на редкость удавшийся и всячески в глазах посторонних и самой Кити подчеркивающий ее очарование и привлекательность. Кити — в одном из своих счастливых дней. Еще на лестнице ее приглашают на кадриль, а затем тотчас же при входе в зал ее приглашает на вальс лучший кавалер, знаменитый дирижер балов Корсунский, расточающий ей похвалы за легкость и точность ее движений и эффектно, вальсируя, приводящий ее к Анне, которая уже оказывается в зале. Эта подробность вальса с дирижером, отнесенная в первой редакции к Анне и в сущности несущественная в плане Анны, в тексте наборной рукописи отнесена к Кити, довершившая собой то впечатление праздничности и успеха, которые сопутствуют Кити при начале бала и которые тем резче контрастируют с горем, какое испытала она после того, как убедилась в том, что мазурку танцует она не с Вронским. Пока что ее еще не мучают подозрения насчет охлаждения к ней Вронского, как они мучают ее в ранней редакции. Только на короткое время ее смутило то, что Вронский не приглашает ее на вальс. Тут эпизод прекращения музыки, приуроченный ранее к моменту начала танца Вронского с Анной, перенесен на начало танца Вронского с Кити: досадная неловкость эта почти ничего не говорит в ситуации Анна — Вронский, но она получает определенное значение и свой смысл в ситуации Кити — Вронский. Внутренний подъем, испытываемый Кити, в тексте наборной рукописи находит себе выражение еще в том влюбленном восхищении, которое испытывает она, глядя на Анну в ее бальном наряде.
Далее — в наборной рукописи гораздо сильнее подчеркнуто горе Кити в связи с тем, что мазурку танцовать будет Вронский не с ней, а с Анной. В первоначальной редакции сказано лишь, что, поняв, что она не будет танцовать с Вронским, она отдала мазурку Корсакову, в тексте же наборной рукописи тяжесть положения Кити осложняется тем, что она отказала пятерым, надеясь на приглашение Вронского, и лишь благодаря участию подруги графини Нордстон, уступившей ей своего кавалера, она внешне вышла из неловкого положения не приглашенной на танец девушки. Растерянность и волнение Кити, когда она вошла в маленькую гостиную, первоначально выраженные словами: «Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана. Она держала веер и обмахивала свое разгоряченное лицо», в тексте наборной рукописи нашла себе гораздо более выразительные краски: «Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, несмотря на вид счастья бабочки, только-что уцепившейся за травку и готовой вот-вот, вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце».
В первоначальной редакции Кити, танцующая в паре с Корсаковым мазурку vis-à-vis с Вронским и Анной, производит очень жалкое впечатление, благодаря которому она как бы утрачивает свое недавнее очарование. Вронский был поражен ее некрасивостью; он почти не узнал ее. Психологически мало правдоподобно она, убитая, подавленная, обращается зачем-то к Вронскому с замечанием: «Прекрасный бал». (В тексте наборной рукописи эти слова произносит, обращаясь к Кити, Вронский, «чтобы сказать что-нибудь».) Унижение ее довершается тем, что Анна, сначала по ходу фигуры подозвавшая к себе одну даму и Кити, затем, спохватившись, прищурившись, виновато сказала: «Мне нужно одну, кажется, одну» и равнодушно отвернулась от вопросительного взгляда Кити. (В наборной рукописи эта бестактность Анны по отношению к Кити устранена.)
Наконец, существенное отличие первоначальной редакции эпизода бала от редакции наборной рукописи — в том, что в последней всё почти происходящее на балу, в том числе и отношения Вронского и Анны и их поведение, передается глазами и чувствами Кити, внутренний мир которой здесь находится в центре внимания автора. В первоначальной же редакции сложные психологические нюансы, возникающие в душе Анны и Вронского, изображаются сами по себе, независимо от того, как их воспринимает Кити, и благодаря этому и Кити, и Анна, и Вронский в общем являются одинаково самодовлеющими персонажами, тем более что тут внутреннему диалогу между Анной и Вронским, разработанному с явным психологическим излишеством, отводится очень большое место.
Вслед затем в данной черновой рукописи идет глава, в которой приводится разговор Анны с Долли перед отъездом Анны в Петербург и рассказывается об обратном путешествии ее и встрече в пути с Вронским. Глава эта соответствует главам XXVII—XXX первой части окончательного текста. Эпизод отъезда Анны лишь конспективно набросан, беседа же ее с Долли написана хоть и не конспективно, но значительно более сжато, чем в наборной рукописи. В ней, кроме того, сделано существенное исправление в том месте, где речь идет об отношении детей Долли к Анне перед ее отъездом. В ранней редакции они попрежнему не отходят от нее и очень жалеют об ее отъезде; в наборной же рукописи они к ней охладевают, и их совершенно не занимает то, что она уезжает. Из двух предположений автора, почему это так случилось, — потому ли, что дети вообще непостоянны, или потому, что они, будучи очень чутки, поняли, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они ее полюбили, что она не занята ими, — очевидно, более правдоподобным представляется второе, и таким образом потеря душевной ясности у Анны тотчас же вызывает соответствующую реакцию в детской душе.
Вторая часть романа, когда Толстой перешел к работе над ней, первоначально должна была начинаться с того, с чего Толстой в самом раннем своем приступе к работе над «Анной Карениной» начал самый роман, — со съезда гостей после спектакля во французском театре у княгини Тверской, т. е. с эпизода, в окончательном тексте, как сказано, составившего VI и VII главы второй части. Для этого Толстой вернулся к первым трем своим черновикам, скомбинировав их тексты и одновременно исправив их в процессе приспособления друг к другу и затем продолжив их. Прежде всего использован был второй из упомянутых выше черновых набросков, и вторая часть начиналась словами: «Приехав из оперы, хозяйка только успела в уборной опудрить свое худое, тонкое лицо...»
При переработке первых трех черновых набросков зачеркнуто прямое указание автора на то, что Анна была явно некрасива, но всё же красота ее для окружающих оказывается далеко не бесспорной. Если одна из присутствующих на вечере дам говорит относительно Анны: «Только некрасивые женщины могут возбуждать такие страсти», если затем один молодой человек, видевший Анну в театре, заявляет, что она «положительно дурна», то хозяйка утверждает, что она «положительно хороша», а молодой генерал, прислушивающийся к разговору, когда услышал, что про Анну говорят, что она «положительно дурна», улыбнулся, «как улыбнулся бы человек, услыхавший, что солнце не светит».
Образ мужа Карениной, Алексея Александровича, в переработке первых трех черновиков по сравнению с первоначальным текстом, так сказать, приближен к человеческой норме. Не подчеркивается уже его чудаковатость, не упоминается о его наивной доброте даже к друзьям его жены; внешность его теперь также гораздо менее неказиста и жалка. Но попрежнему основное в нем — робость, застенчивость, рассеянность, неспособность импонировать окружающим его; улыбка у него добрая, когда он смущается от невпопад сказанных им слов.
Продолжение текста, скомбинированного из материала первых трех черновых набросков, соответствует тексту большей части VII главы и главам VIII и IX окончательного текста второй части. Отличаясь от него в целом ряде деталей, черновая редакция этих глав особенно отличается тем, что в ней образ Алексея Александровича Каренина по сравнению с тем, что мы имеем в окончательном тексте, гораздо более симпатичен, как это мы видим и в других ранних черновых текстах. Каренин выступает здесь как глубоко несчастный муж, совершенно чуждый того педантически самоуверенного резонерства и холодно-сдержанного наставительного тона, какие характеризуют его в окончательном тексте.
К ранней стадии работы над романом, до попытки напечатания его в 1874 г., относится и вариант № 153 (рук. № 93), который первоначально должен был открывать собой первую часть второго тома романа и в котором идет речь о семейной жизни Левиных (Ордынцевых) вскоре после их женитьбы. Этот вариант соответствует тексту глав I—XV шестой части окончательной редакции. Фамилия «Ордынцев» в нем лишь позднее — и то не систематически — исправлена на «Левин», имя Ордынцева-Левина «Михаил» — на «Константин». Фамилия Степана Аркадьича — Алабин. Фамилия «Удашев» также лишь позже кое-где исправлена на «Вронский» (о нем говорится здесь уже как о муже Анны). Как и в окончательной редакции, рассказ начинается с сообщения о том, что Долли первое лето после замужества Кити проводила с детьми в деревне Левиных (в Клекотке, а не в Покровском, как в окончательной редакции). Кроме Долли, у Ордынцевых-Левиных гостит старуха Щербацкая, как и в окончательной редакции, и отсутствующая в окончательной редакции сестра Ордынцева-Левина, вдова Мария Николаевна, с двумя девочками. Кроме того, с ними живет старуха-тетушка Левина, в окончательной редакции также не упоминаемая. Позже на некоторое время приезжает Степан Аркадьич, привезший с собой «юношу, отличнейшего малого и охотника», затем фигурирующего под именем Васеньки Весловского, здесь лишь однажды упомянутого и не вызывающего, как в окончательной редакции, чувства ревности у Ордынцева-Левина. Сергей Иванович Кознышев и приятельница Кити по загранице Варенька в числе гостей отсутствуют. Упоминается гувернантка-англичанка, фамилия которой — Тебор — та же, что и гувернантка Толстых в те же годы. — Эпизод охоты здесь изложен значительно кратче, чем в редакции окончательной. На первых же страницах варианта говорится о шероховатостях в семейной жизни Ордынцевых-Левиных, что в окончательной редакции — с другими подробностями — передвинуто в пятую часть и выделено в особую главу (XIV). Как и в окончательной редакции, о Кити здесь говорится, что она беременна (но в одном месте зачеркнуты слова, где сказано, что Кити только-что уложила своего мальчика). Ордынцев-Левин мечтает о том, чтобы девять месяцев жить в деревне, в совершенном уединении, отдаваясь научной и физической работе, а три месяца в Москве — в свете. Средства к жизни ему доставляет винокуренный завод, которому он уделяет много внимания. К общественной деятельности он относится равнодушно и отстраняется от нее. Кити любит деревенскую жизнь, не хочет ехать ни в Москву, ни за границу, но скучает в уединении и хочет, чтобы к ней ездили друзья и родные. Винокуренный завод она ненавидит, но принимает большое участие в лесах, садах и породистых коровах. Сначала сказано было, что умственной работе мужа она не сочувствовала и не интересовалась ею, отстранение же его от общественной деятельности не одобряла и побуждала его стать председателем земской управы и предводителем. Затем это было зачеркнуто и написано как раз противоположное: и умственную работу мужа и пренебрежение его к общественной деятельности она одобряла, но сама для себя не любила ни умственной работы, ни филантропической деятельности, хотя и помогала нуждающимся в ее помощи, когда сердце прямо подсказывало ей, что это нужно делать.
Существенной особенностью текста данного варианта является рассказ Кити о том, как ей сделал предложение Ордынцев-Левин. Рассказ этот перебивается репликами женщин, с любопытством слушающих Кити. Судя по контексту, первоначально непринятого предложения Левина не было: он просто отстранился, когда понял, что Кити отдает предпочтение Удашеву-Вронскому. Предложение Кити Ордынцев-Левин делает во время поездки обоих в подмосковную к общим знакомым, когда они в обществе студента и старой девушки предприняли далекую прогулку.
Позднее, в варианте № 102 (рук. № 42), эпизод объяснения Левина с Кити, на этот раз уже после того, как позади был отказ Кити, написан близко к окончательной редакции, с той однако разницей, что вопросы начальными буквами слов, написанными мелком на карточном столе, задают друг другу и Кити и Левин, а не только Левин, как в окончательном тексте, причем инициатива в этом немом разговоре буквами принадлежит не Левину, как в окончательном тексте, а Кити; самые фразы, написанные обоими, не сходны с теми, какие читаются в окончательной редакции, и короче их.
Естественным продолжением текста варианта № 153 является вариант № 154 (рук. № 94), представляющий собой первую редакцию текста, разросшегося в окончательной редакции на десять глав (главы XVI—XXV шестой части). В окончательной обработке от этого раннего варианта почти ничего не осталось — настолько радикально он был переработан. Начинается он с описания имения Вронского (Удашева), в котором жили повенчавшиеся Удашев и Анна, и с рассказа о самочувствии Анны в новой обстановке и ее занятиях (увлечение конским заводом, постройками, аквариумом, женской школой).[1881] Далее лишь очень кратко рассказывается об основных моментах пребывания Долли у Удашевых, причем отсутствует тот прием, который применен в окончательной редакции, — во-первых, изображение жизни Анны и Вронского преимущественно так, как ее воспринимает Долли, и, во-вторых, повествование о душевном состоянии Удашева и особенно Анны не от лица автора, а от лица самих персонажей. В черновике варианта внутреннему миру Долли почти не уделено никакого внимания; ничего не сказано о размышлениях Долли о своей судьбе по сравнению с судьбой Анны, не упоминаются гости Удашевых, жившие у нее в момент приезда Долли; отсутствует эпизод, в котором Удашев знакомит Долли со своей работой в имении; нет разговора Удашева с Долли об его отношении к Анне, как и разговора Анны с Долли о деторождении. Естественно, нет и разговора с Долли Удашева и Анны о разводе, так как они, по этому варианту, уже повенчаны. Наконец, отсутствует имеющийся в окончательной редакции эпизод обеда. С другой стороны, в дальнейшей работе над текстом исключена имеющаяся в данном варианте тема проводов Удашевым Долли до большой дороги, встречи ее Кити и вспыхнувшей по этому поводу ревности у Левина.
К тому времени, когда прекращено было печатание задуманного Толстым дожурнального издания «Анны Карениной», было сверстано, как сказано, пять листов (описание их см. под № 113 и на стр. 675). Несверстанный текст готовившегося издания дошел до нас в гранках, описанных под №№ 106, 107, 109, 114. Текст в верстке и в гранках соответствует тексту глав I—XXXI первой части окончательного текста.
Существенные отличия текста всего этого материала от текста окончательной редакции сводятся к следующему. Облонскому 36 лет, Левину — 32 года. Левин по окончании курса в университете поступает в министерство, но, неудовлетворенный тем, что он там нашел, через полгода выходит в отставку и уезжает в деревню. Зимой он живет в Москве «отчасти светским человеком». В середине его светской жизни его застает освобождение крестьян; он возвращается в деревню и становится мировым посредником. Через два года он едет за границу и, возвратившись оттуда славянофилом, решает навсегда поселиться в деревне и берется за земскую деятельность, которую, разочаровавшись в ней, через два года бросает. (Эти биографические справки о Левине находим и в тексте романа, напечатанном в «Русском вестнике».) В деревне Левин живет с мачехой. В окончательном тексте, в главе VII первой части, сказано, что Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь в спорах его брата (здесь он родной брат Левина — Сергей Левин) с харьковским профессором, и, читая их, интересовался, как естественник по образованию, развитием знакомых ему основ естествознания, но «никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум». Здесь же говорится о том, что, по тем же основаниям, «Константин Левин не мог эти статьи прочесть от скуки, которая его одолела при этом чтении», и что вообще он не интересовался новейшей философией. О том же речь идет и в журнальном тексте романа.
Характеристика брата Николая, сделанная в связи с разговором о нем Константина и Сергея Левиных, сделана здесь в еще более мрачных красках, чем в журнальном и окончательном текстах. О нем сказано, что он игрок и пьяница. Слуга Прокофий видел его на улице «в ужасном виде», оборванным. По словам Сергея Левина, он сделал подлость — взял у одной барыни билеты, чтобы разменять, и украл их. Это сообщение наводит Левина на мысль о необходимости рассказать Кити Щербацкой о своем несчастном брате, «чтоб она знала все дурные стороны семьи ее мужа». «Да, — говорит себе Левин, — надо объяснить мои отношения к мачехе и к брату Николаю».[1882] Отношение Сергея к своему брату Николаю выступает здесь с более положительной для Сергея стороны, чем в журнальной и окончательной редакциях. Там он, чувствуя себя глубоко оскорбленным братом Николаем, проявляет по существу полное равнодушие к его судьбе, заявляя, что рад был бы помочь ему, да знает, что это невозможно сделать. Единственно, что он сделал для брата, — это то, что он оплатил его вексель. Здесь же он интересуется, где живет брат, и спрашивает его в письме, не может ли он чем-нибудь помочь ему. Несмотря на дерзкий ответ брата, он собирается следить за ним и помогать ему через третьи руки, так как знает, что от него брат ничего не возьмет. Сам Левин видит, что брат Сергей «не имел и тени досады на Николая и только жалел его и хотел ему помочь», несмотря на жестокие оскорбления, которые наносил Николай авторскому самолюбию Сергея. По совету брата, Левин не едет к Николаю, как предполагал это сделать раньше, а едет в присутствие к Облонскому, а из присутствия к Щербацким. Там он не застает никого дома и отправляется в Зоологический сад.
Сверстанный текст обрывается на эпизоде вечера у Щербацких. Дальнейший текст дожурнальной редакции, заключающей в себе окончание эпизода вечера у Щербацких и заканчивающийся рассказом о возвращении Анны в Петербург, сохранился в гранках, частично исправленных Толстым, частично не исправленных. В гранках, описанных под № 106, Толстым при правке их дописано, что Вронской не мог не видеть, что не только мать и отец Кити, но и сама Кити уже начала мучиться в ожидании того решительного слова, которое он должен был сказать ей, и всё же он чувствовал себя еще очень далеким, чтоб сказать это слово, и далее добавлено: «Ему становилось совестно за то, что он так мучает ее, не говоря того слова, которого она так робко и страстно ожидает». В журнальном и окончательном текстах, как мы знаем, Вронский вовсе не задумывается о том, что он мучает Кити. При встрече в вагоне с сыном старуха Вронская выражает искреннюю радость по поводу слухов о его намерении жениться и, встретив сдержанный отпор Вронского, с робостью говорит ему о том, что она не посмотрит ни на богатство, ни на знатность, только бы он был счастлив. В журнальном и в окончательном текстах мать Вронского по поводу этих слухов делает замечание в иронически-шутливой форме. Наконец, в тексте этих гранок подчеркнуто нерасположение Долли к возможным христианским увещаниям, которых она ожидала от Анны, судя по тому, что она знала об увлечении Анны настроениями высшего утонченно-православного петербургского круга, в котором она вращалась. В окончательном тексте читается лишь следующее: «Только бы не вздумала она утешать меня! — думала Долли. — Все утешения, и увещания, и прощения христианские — всё это я уже тысячу раз передумала, и всё это не годится».
В гранках, описанных под № 109, сделаны существенные исправления в эпизоде посещения Левиным его брата Николая, прообразом для которого здесь, как и в дальнейшем, до момента его смерти, послужил старший брат Толстого Дмитрий, умерший в 1856 г. от чахотки. В неисправленных гранках, восходящих в наборной рукописи (см. вариант № 28), ничего не сказано было о прошлом Николая. Внешность его описана так: «Маленький, нескладный рост, растрепанная, грязная одежда, невьющиеся густые, висящие на морщинистый лоб, взлохмаченные волосы, короткая борода, не растущая на щеках, усы и брови длинные и висящие вниз, на глаза и губы, худое, желтое лицо и блестящие, неприятные по своей проницательности глаза». У брата, кроме его подруги, женщины «молодой, рябоватой и некрасивой, но очень приятной», Левин застает старого, крашеного, молодящегося господина с стразовой булавкой в голубом шарфе. Этот господин, вызывающий в Левине сразу же чувство отвращения, оказывается адвокатом, которого Николай пригласил по своему карточному делу и которого он в его же присутствии третирует и называет «дельцом». Вопросы неустройства и несправедливости человеческой жизни волнуют Николая здесь преимущественно в общеморальном и религиозном плане. Он не уважает писаний своего брата Сергея потому, что он спокойно, без любви и без волнения, говорит о философии, которая должна разрешать вопросы жизни и смерти. Он сочувствует брату Константину в его разочаровании хозяйством и земской деятельностью. Это значит, по его мнению, что брат лгать не может, не может заниматься игрушками. Миром руководит, по словам Николая, один закон — закон насилия: «Сильнее ты другого — убей его, ограбь, спрячь концы в воду, и ты прав, а тебя поймают — тот прав. Ограбить одного нельзя, а целый народ, как немцы французов, можно». Разрешение всех противоречий и уяснение истины Николай Левин надеется найти в загробной жизни, и об этом он говорит восторженно и вдохновенно. Он переводит Библию, некоторые книги которой, особенно книгу Иова, очень высоко ценит.
В результате правки гранок текст их был коренным образом переработан. О прошлом Николая Левина, о его наружности и об отношении к его подруге рассказывается теперь близко к тому, что сказано о нем и в окончательном тексте и что соответствует тому, что о брате Дмитрии рассказал сам Толстой в его «Воспоминаниях» и в «Исповеди». В отличие от окончательного текста сказано лишь, что над внезапно обнаружившейся набожностью Николая смеялись не товарищи Николая, а его брат Сергей, который здесь впервые выступает не как родной брат Константина и Николая, а лишь как единоутробный (его фамилия — Кознышев). Далее добавлено, как это было и в биографии Дмитрия Николаевича Толстого, что, окончив курс, он поехал служить в Петербург, выбрав по календарю место в Отделении составления законов, «как самую разумную деятельность», над чем также смеялся Сергей Кознышев, и не сказано, как в окончательном тексте, что он попал под суд по службе в Западном крае за побои, нанесенные им старшине. Теперь Николай Левин занят планами социальных реформ. Он увлечен слесарной артелью, в которой прибыли и орудия производства — общие и при помощи которой он надеется уничтожить власть капитала над рабочими. Его сотрудником в этом деле является Крицкий. О Крицком здесь прямо сказано, что он — социалист, проповедующий коммунизм и, в отличие от Николая Левина, считающий, как и в журнальном тексте, что неправильно сравнивать коммунистов с апостолами и первыми христианами; он не интересуется тем, что проповедывали первые христиане, и предоставляет проповедывать любовь тем, которые довольны существующим порядком. «А мы, — говорит он, — признаем его прямо уродливым и знаем, что насилие побеждается только насилием». В окончательном тексте эти суждения Крицкого Толстым исключены. На первых порах, в тексте гранок, Левин обнаруживает к Крицкому нерасположение, выраженное значительно резче, чем в окончательном тексте. Это нерасположение еще больше проявляется в зачеркнутых местах текста. Но постепенно Левин смягчается и меняет свое мнение о Крицком: он понравился ему тем, что было «что-то напряженно-честное и искреннее и, главное, огорченное в его выражении и в его тоне».
IV.
Летом и осенью над романом Толстой не работал. Однако, побывав в начале сентября в Москве в связи с поисками гувернера для детей, Толстой, очевидно, пообещал печатать «Анну Каренину» в «Русском вестнике». Но работа над романом у Толстого, занятого попрежнему преимущественно педагогией, не двигалась вперед. 29—31 октября 1874 г. он пишет А. А. Толстой: «Роман мой действительно начат печатанием. Но вот уже месяца 4 стоит, и я не имею времени продолжать исправлять». О том же 1—2 ноября он пишет П. Д. Голохвастову: «За роман я не берусь». В начале ноября Толстой побывал в Москве, где вступил в переговоры с «Русским вестником» о печатании романа, потребовав 500 рублей за печатный лист с уплатой денег вперед. 8 ноября Страхов, отговаривая Толстого от соглашения с Катковым, сообщает Толстому, что Некрасов просил его, Страхова, посодействовать напечатанию «Анны Карениной» в некрасовском журнале «Отечественные записки».[1883] В неотосланном письме к Некрасову от того же 8 ноября Толстой, говоря о том, что он разошелся с Катковым из-за вопроса о гонораре, предлагал Некрасову печатать роман в «Отечественных записках» на тех же условиях, на каких он соглашался это сделать в «Русском вестнике», оговаривая, кроме этого, свое право выпустить его отдельным изданием после опубликования в журнале. Предположительно объем романа Толстой намечает в сорок листов. Писание романа всё же у Толстого не подвигалось. С. А. Толстая 26 ноября писала сестре: «Левочка взялся за школы и весь в них ушел, и я не могу, хотя желаю, ему сочувствовать. Если бы он писал свой роман, было бы лучше» (Архив Т. А. Кузминской). Как видно из письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 10 декабря, Толстой к тому времени получил еще от нескольких журналов предложения о напечатании на их страницах «Анны Карениной». Но, занятый педагогическими делами, он, видимо, не откликался никак на эти предложения. «Роман не пишется, — писала С. А. Толстая, — а из всех редакций так и сыплются письма: десять тысяч вперед и по пятьсот рублей серебром за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается» (Архив Т. А. Кузминской). По всей вероятности, в это время до Каткова дошли сведения о том, что Толстой собирается печатать роман не в «Русском вестнике», а в каком-то другом журнале. Судим так по следующему письму Толстого к Каткову, которое нужно датировать началом декабря 1874 г.: «Очень сожалею, многоуважаемый Михаил Никифорович, что слухи, не имеющие никаких оснований, потревожили вас. Я пользуюсь случаем повторить то, что писал Любимову. Я теперь одного только желаю — как можно скорее кончить роман, чтобы напечатать его в «Русском вестнике», но не могу этого обещать, так как продолжение зависит от независящей от меня способности к работе, а потому не обещаю. Что же касается того, что вы предполагаете во мне какую-нибудь обиду на вас, то это предположение не имеет никакого основания». Около 11 декабря, будучи в Москве, Толстой, очевидно, договорился с Катковым о печатании романа в «Русском вестнике». Вскоре после этого, во второй половине декабря, он писал A. A. Толстой: «Роман свой я обещал напечатать в «Русском вестнике», но никак не могу оторваться до сих пор от живых людей, чтобы заняться воображаемыми». «Живые люди» были дети-школьники, с которыми Толстой продолжал с увлечением заниматься.
Тем не менее соглашение о печатании романа с Катковым было заключено, и, нужно думать, в ближайшие дни вслед за этим Толстой занят был отделкой первых глав романа перед сдачей их в печать. Вскоре же он послал Каткову для набора начало романа. 21 декабря он ему писал: «Милостивый государь, Михаил Никифорович! Вероятно, племянник мой, которому я передал 1-й лист с поручением передать вам и просить, чтобы вы приказали набирать его, не исполнил моего поручения. Если так, то прикажите набирать 1-й лист. Следующие листы я вышлю завтра и самое позднее — послезавтра. Без радости не могу вспомнить о том, что вы будете читать корректуры». В конце декабря 1874 г. начало «Анны Карениной» было уже набрано для «Русского вестника», судя по письму Страхова к Толстому от 1 января 1875 г.[1884] Судя по тому же письму, в котором Страхов говорит о заплаченных за роман двадцати тысячах, Толстой договорился с Катковым не о двадцати, как раньше предполагалось, а о сорока листах.
К 4 января 1875 г. Толстой успел уже прочесть корректуры трех листов текста, о чем писал в этот день Каткову: «В тот самый день, как я хотел посылать вам листы, многоуважаемый Михаил Никифорович, я сделался болен и нынче только успел перечесть и окончить 3 листа. Следующие надеюсь выслать дня через три. Вся моя надежда на вашу корректуру. Листы эти передаст вам мой шурин правовед Берс, который уезжал в тот самый день, как получил вашу телеграмму».
Начало романа печаталось в первых четырех книжках «Русского вестника» за 1875 год. Здесь напечатаны были первая и вторая часть целиком и первые десять глав третьей части, после чего сделан был длительный перерыв, и печатание возобновилось лишь с первой книжки 1876 года.
Как это видно из ниже приводимого письма Толстого к Каткову, написанного в феврале 1875 г., Каткова смутила X глава второй части «Анны Карениной» (в отдельном издании XI), в которой идет речь о физическом сближении Карениной с Вронским (этой главой заканчивался текст романа в февральской книжке «Русского вестника» за 1875 г.). Толстой писал: «В последней главе не могу ничего тронуть. Яркий реализм,[1885] как вы говорите, есть единственное орудие, так как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то всё ложно». Кроме того, из этого письма явствует, что тогда, когда оно писалось, Толстой предполагал разбить свой роман на шесть частей.
С согласия Каткова и Толстого отрывок из «Анны Карениной» по корректурам февральской книжки «Русского вестника» был прочитан 16 февраля 1875 г. в Обществе любителей российской словесности при Московском университете членом Общества Б. Н. Алмазовым, и после заседания Толстому была послана от имени Общества приветственная телеграмма.[1886]
Несмотря на то, что «Анна Каренина» с самого же начала своего печатания вызвала к себе очень большое сочувствие среди читателей, о чем сообщал Толстому в своих письмах Страхов — сам восторженный ценитель романа, — Толстой относился к своему роману в лучшем случае равнодушно, чаще же всего работа над ним тяготила его. 30 января 1875 года С. А. Толстая пишет сестре о том, что Толстой «поневоле» засел за роман, в виду необходимости приготовить его продолжение для февральской книжки «Русского вестника» (Архив Т. А. Кузминской). 11 февраля сам Толстой пишет Фету: «Вы хвалите «Каренину», мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят, но, наверное, никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, si succès il у а,[1887] как я». В письме от 16 марта Толстой жалуется H. М. Нагорнову, что он всякий день получает телеграммы от Каткова, торопящего его с «Карениной», которая ему «противна».
Над материалом, печатавшимся в первых четырех книжках «Русского вестника за 1875 г.», Толстому приходилось усиленно работать, исправляя ранее написанное и дополняя его новыми главами. 29 марта С. А. Толстая сообщает Т. А. Кузминской, что Толстой «всё пишет» «Анну Каренину» (Архив Т. А. Кузминской). Как явствует из ответного письма Страхова от 22 апреля, Толстой очень бился над двумя главами «Анны Карениной», посланными в «Русский вестник».[1888] Около 5 мая он пишет А. М. и Т. А. Кузминским: «Мои же личные дела — роман, которого 4-ю часть я послал и который я больше до осени писать и печатать не буду». Здесь речь идет о тексте романа, в окончательном тексте соответствующем главам XXX—XXXV второй части и I—XII третьей части и посланном в редакцию «Русского вестника» в середине апреля.
Лето Толстой с семьей провел в своем самарском имении и над романом действительно не работал, о чем он говорит в сходных выражениях в письмах от 25 августа к Страхову и Фету. Первому он писал: «Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен своим летом. Берусь теперь за скучную, пошлую «Анну Каренину» и молю бога только о том, чтобы он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место — досуг очень мне нужный — не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий». В письме к Фету читаем: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, теперь же берусь за скучную, пошлую «Каренину» с одним желанием — поскорее опростать себе место — досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени». На следующий день С. А. Толстая сообщает сестре, что Толстой «налаживается писать», но 27 сентября ей же пишет: «Левочка еще совсем почти не занимается, всё охотится и говорит, что не идет» (Архив Т. А. Кузминской). В начале октября в письме к Фету Толстой писал: «Тот Толстой, который пишет романы, еще не приезжал, и я его ожидаю не с особенным нетерпением».
Позднее работа Толстого задерживалась его болезнью и болезнью домашних — жены и тетки П. И. Юшковой. В середине октября он пишет Фету: «Не писал вам так долго, дорогой Афанасий Афанасьевич, потому что всё время был и сам нездоров и мучался, глядя на нездоровье домашних. Теперь немножко поотлегло и им и мне. И я надеюсь — только надеюсь — приняться за работу. Страшная вещь наша работа. Кроме нас никто это не знает. Для того чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь материал и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Всё кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать — недостают руки, и сидишь, дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки, и засучиваю рукава».
Но вскоре последовало новое заболевание С. А. Толстой — воспаление брюшины и преждевременные роды, вновь отвлекшие Толстого от работы над романом, и только после окончательного выздоровления жены он как следует взялся за «Анну Каренину», о чем Софья Андреевна пишет своей сестре в письмах от 12 и 25 декабря (архив Т. А. Кузминской). Сам Толстой в первой половине января 1876 г. писал Н. М. Нагорнову: «После горести первой половины зимы теперь, славу богу, хорошо работается и не хочется терять времени, которого мне уже немного остается». Страхову около 25 января Толстой писал: „У меня «Анна Каренина» подвигается. Не печатаю только потому, что не имею известий из «Русского вестника»“.
Но 28 января С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка отдал в январскую книжку «Русского вестника» продолжение своего романа и продолжает работать дальше» (Архив Т. А. Кузминской).
И действительно, продолжение романа (главы XI—XXVIII) третьей части после большого перерыва появились в первой книжке «Русского вестника» за 1876 г. В этих главах, соответствующих главам XIII—XXXII последовавшего затем отдельного издания романа, речь шла о душевном состоянии Каренина после признания ему жены в неверности, об его служебных делах, о взаимоотношениях Анны и Вронского после признания Анны, о хозяйничаньи Левина у себя в деревне, о поездке его к Свияжскому, о приезде к Левину брата Николая и, наконец, об отъезде Левина за границу.
Толстому не очень по душе была эта часть романа. В письме к Страхову от 13—15 февраля он писал: «Я очень занят «Карениной». Первая книга суха, да и, кажется, плоха, но нынче же посылаю корректуры 2-й книги, и это, я знаю, что хорошо». Во второй книге «Русского вестника» напечатаны были главы I—XV четвертой части (соответствуют главам I—XVII отдельного издания). Здесь речь идет о планах Каренина относительно развода, о его поездке в Москву и обеде у Облонского, о новом, удачном предложении Левина Кити, о родах Анны и примирении Каренина с Вронским у постели жены. По поводу этих глав С. А. Толстая писала сестре в начале марта: «Ты пишешь, что у вас еще нет «Русского вестника» и «Анны Карениной». А уж теперь вышли два номера, последний, февральский, верно только-что, и по моему очень хорошо то, что во 2-й книге; теперь и на март уж готовится, но Левочка моим нездоровьем тревожится, и я ему мешаю часто этим заниматься» (Архив Т. А. Кузминской). 17 марта она вновь пишет ей же: «Читала ли ты «Каренину»? Январская книга не очень хороша, но февральская, по-моему, чудесна, а теперь Левочка не разгибаясь сидит над мартовской книгой, и всё не готово. Впрочем, скоро будет готово. Катков закидал телеграммами и письмами» (там же).
Еще раньше, около 1 марта, Толстой жаловался Фету на то, что болезнь жены задерживает его работу: «У нас всё не совсем хорошо. Жена не оправляется с последней болезни..., — писал он, — а потому нет у нас в доме благополучия и во мне душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны — мое самое рабочее время, да и надо кончить надоевший мне роман». Вскоре, 8—12 марта, он писал шутливо А. А. Толстой: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с нею вожусь как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то с menagement,[1889] она всё-таки усыновлена».
В мартовской и в апрельской книжках «Русского вестника» появилось продолжение «Анны Карениной», вплоть до XIX главы пятой части. Но, уже подготовляя материал для апрельской книжки журнала, Толстой почувствовал, что работа у него не идет. 6 апреля С. А. Толстая пишет К. А. Иславину, что роман «кажется, стал»,[1890] а в письме Толстого к Страхову около 9 апреля читаем такие строки: «Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Всё в них скверно, и всё надо переделать, и переделать всё, что напечатано, и всё перемарать, и всё бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уже не такое нескладное ни то ни семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень приятно... И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, которым он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. Докажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите про мой роман, или напишите мне только всё, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне. Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом. И не стесняйтесь только, что вы строгим осуждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше остановиться на «Войне и мире», чем писать «Часы»[1891] или т. п.».
В ответ на это письмо Страхов написал Толстому очень вдумчивое, ободряющее письмо, в котором он, тонко анализируя роман и отмечая некоторые менее удавшиеся автору места и второстепенные ошибки в роде тех, которые вкрались в описание венчания Левина, дает очень высокую оценку ему в целом, видя в нем произведение «великого мастера». Ему кажется, что Толстой приходит в уныние оттого, что борется с техникой и устал.[1892]
В свою очередь, отвечая на письмо Страхова, Толстой коснулся общих вопросов своего поэтического творчества — по связи с «Анной Карениной»: «Разумеется, — писал он около 26 апреля 1876 г., — мне невыразимо радостно ваше понимание; но не все обязаны понимать, как вы. Может быть, вы только охотник до этих делов, как и я, как наши тульские голубятники. Он турмана ценит очень дорого; но есть ли настоящие достоинства в этом турмане, — вопрос. Кроме того, вы знаете — наш брат беспрестанно без переходов прыгает от уныния и самоунижения к непомерной гордости. Это я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не всё, т. е. всё верно, но то, что вы сказали, выражает не всё, что я хотел сказать... Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман, тот самый, который я написал, с начала. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно — словами, описывая образы, действия, положения. Вы всё это знаете лучше меня, но меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого было для меня самоубийство Вронского, которое вам понравилось. Этого никогда со мной так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu’ils en savent plus long, que moi...[1893] То, что я сделал ошибки в венчаньи, мне очень обидно, тем более, что я люблю эту главу. Боюсь, не будет ли тоже ошибок в специальности, которой я касаюсь в том, что выйдет теперь в апреле. Пожалуйста напишите, если найдете или другие найдут».
«Ошибки в венчании» заключались в том, как указал Страхов в письме к Толстому от 12—15 апреля, что в журнальном тексте невеста приезжает в церковь до приезда жениха, а не после, как это принято, и что после венчания они не прикладываются к образам, вопреки предписанию церковного ритуала.[1894] В последующем отдельном издании романа первая ошибка была исправлена Толстым, вторую же он, очевидно, считал несущественной и потому не исправил ее. «Ошибки в специальности», которых опасался Толстой, говоря о тексте романа, предназначенном к печатанию в предстоящей апрельской книжке, — это те ошибки, которые могли быть допущены Толстым в вопросах живописи, в связи с изображением художника Михайлова, фигурирующего как раз в тексте, напечатанном в апрельской книжке «Русского вестника» за 1876 г. В письме от 8 мая Страхов писал Толстому, что он беседовал по этому поводу с известным художественным критиком и знатоком искусства В. В. Стасовым, и тот, высказав негодование по поводу изображения художника Михайлова, никаких промахов в самом существе дела не заметил, хоть и любит придираться к малейшим неточностям.[1895]
Насколько Толстой мало в ту пору вдохновлялся работой над «Анной Карениной» и в какой мере влекли его другие интересы — преимущественно философского и религиозного характера, — видно из следующих строк его письма к А. А. Толстой, написанного в середине апреля: «Теперь я, к несчастью, ничем не могу себе позволить заниматься, кроме окончания романа; но с весной чувствую, что необходимая серьезность для занятия таким пустым делом оставляет меня. И боюсь, что не кончу его раньше будущей зимы. Летом же буду заниматься теми философскими и религиозными работами, которые у меня начаты не для печатания, но для себя.[1896]
В письме к Страхову от 16—18 мая Толстой просит его прислать ему одну или две книги по педагогике, вроде «Антропологии» Ушинского, «самое новое, и искусственное и неглупое, сколько возможно, такие книги, которые должен был изучать А. А. Каренин, приступая к воспитанию оставшегося у него на руках сына». В том же письме он сообщает Страхову, что в майской книжке «Русского вестника» он не печатает романа, но мечтает продолжать его в июньской. Однако лето, как это бывало большей частью у Толстого, не располагало его к работе. 6—8 июня он пишет Страхову: «Пришло лето прекрасное, и я любуюсь и гуляю и не могу понять, как я писал зимою». Но в самом конце июля Толстой делает попытку вновь приняться за работу над романом. В письме от 31 июля, в шутку предлагая Страхову «вместо того, чтобы читать «Анну Каренину», кончить ее» и таким образом избавить его «от этого Дамоклова меча», он добавляет: «Я вчера попробовал заниматься и непременно хочу заставить себя работать».
Однако в течение ближайшего месяца Толстой над романом, видимо, не работал. Затем большую часть сентября он провел в поездках в Казань, Самару, Оренбург. Из Казани Толстой 5 сентября пишет жене, что ему «писать как будто очень хочется»,[1897] но, вернувшись в Ясную поляну 20 сентября, он долго еще не принимается за работу. С. Толстая сообщает T. A. Кузминской 10 октября: «Левочка за писание свое еще не взялся, и меня это очень огорчает. Музыку он тоже бросил и много читает и гуляет и думает, собирается писать» (Архив Т. А. Кузминской). 11 ноября ей же Софья Андреевна пишет: «Левочка совсем не пишет, в унынии, и всё ждет, когда уяснится у него в голове и пойдет работа» (там же). Сам Толстой в письме от 12 ноября жалуется Страхову: «Приехав из Самары и Оренбурга вот скоро два месяца (я сделал чудесную поездку), я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу — окончание романа — и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего — ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбою, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней — а уважение к ней дается только известного рода трудом — мучительно. Думать даже — и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы». В тот же день он писал Фету: «Сплю и не могу писать, презираю себя за праздность и не позволяю себе взяться за другое дело».
Однако уныние и бездеятельность у Толстого очень скоро после этого сменились напряженной и возбужденной работой над романом. 10 ноября С. А. Толстая записывает в свой дневник: «Всю осень он говорил: «Мой ум спит», и вдруг неделю тому назад точно что расцвело в нем: он стал весело работать и доволен своими силами и трудом. Сегодня, не пивши кофе, молча сел за стол и писал, писал более часу, переделывая главу Алекс. Алекс. в отношении Лидии Ивановны и приезд Анны в Петербург».[1898]
Эта запись предваряется справкой С. А. Толстой под тем же числом, дающей любопытный материал для уяснения некоторых деталей творческой работы Толстого: «Сейчас Лев Николаевич рассказывал мне, как ему приходят мысли к роману: «Сижу я внизу, в кабинете, и разглядываю на рукаве халата белую шелковую строчку, которая очень красива. И думаю о том, как приходит в голову людям выдумывать все узоры, отделки, вышиванья; и что существует целый мир женских работ, мод, соображений, которыми живут женщины. Что это должно быть очень весело, и я понимаю, что женщины могут это любить и этим заниматься. И конечно, сейчас же мои мысли[1899] (т. е. мысли к роману). Анна... И вдруг мне эта строчка дала целую главу. Анна лишена этих радостей заниматься этой женской стороной жизни, потому что она одна, все женщины от нее отвернулись, и ей не с кем поговорить обо всем том, что составляет обыденный, чисто женский круг занятий».[1900] Глава, о которой здесь говорится, — XXVIII пятой части (по счету отдельного издания). Кстати — она подверглась в процессе писания значительной переделке из-за того, что Толстой поместил первоначально Вронского и Анну после их приезда в Петербург в одном номере. На следующий день, 21 ноября, С. А. Толстая записывает: «Подошел и говорит мне: «Как это скучно писать». Я спрашиваю: «Что?» Он говорит: «Да вот я написал, что Вронский и Анна остановились в одном и том же номере, а это нельзя, им непременно надо остановиться в Петербурге по крайней мере, в разных этажах. Ну и понимаешь, из этого вытекает то, что сцены, разговоры и приезд разных лиц к ним будет врозь, и надо переделывать».[1901]
16—18 ноября Толстой пишет Страхову о том, что он «немножко ожил», перестает «презирать себя» и льстит себя гордой надеждой, что художественное творчество нашло на него эти последние дни. Ему же он пишет около 6 декабря: «Я, слава богу, работаю уже несколько времени и потому спокоен духом», а около 7 декабря сообщает Фету: «Я понемножку начал писать и доволен своею судьбой». Через два дня, 9 декабря, С. А. Толстая пишет сестре: «Анну Каренину» мы пишем, наконец, по-настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листочки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал третьего дня, умолял прислать несколько глав для декабрьской книжки, и Левочка сам на днях повезет в Москву свой роман» (Архив Т. А. Кузминской). Около 10 декабря Толстой пишет Фету: «Работа моя идет хорошо, и готово почти на книжку».
В середине декабря Толстой лично отвез в Москву Каткову новые главы романа, заканчивавшие пятую часть. Они были напечатаны в декабрьской книжке «Русского вестника» с указанием на то, что причиной перерыва в печатании романа были «обстоятельства, препятствовавшие автору заняться окончательной отделкой произведения».
Оставались не напечатанными еще две части и эпилог, который в процессе работы над ним вылился в самостоятельную, восьмую часть романа.
Как видно из писем Толстого, от 11—12 января 1877 г. к брату Сергею Николаевичу и к Страхову, он понемногу входил в работу над дальнейшим материалом романа. В январскую книжку журнала были посланы очередные начальные главы шестой части, но в работе над материалом для февральской книжки Толстой испытал значительные затруднения. В этой книжке были напечатаны главы, содержащие в себе рассказ о поездке Долли к Анне в имение Вронского Воздвиженское, о жизни Анны и Вронского в деревне и описание губернских выборов.
Во второй половине января С. А. Толстая пишет сестре: «Читали ли вы «Анну Каренину» в декабрьской книге? Успех в Петербурге и Москве удивительный... Для январской книги тоже дослано уже в типографию, но теперь Левочка что-то запнулся и говорит: «Ты на меня не ворчи, что я не пишу, у меня голова тяжела», и ушел зайцев стрелять» (Архив Т. А. Кузминской).
Сам Толстой в ответ на письмо Страхова от 16 января 1877 г., в котором сообщалось об общем восторге в петербургских кругах от глав «Анны Карениной», напечатанных в декабрьской книжке «Русского вестника», писал Страхову 25—27 января: «Успех последнего отрывка «Анны Карениной», признаюсь, порадовал меня. Я никак этого не ожидал и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать с плеча, что попало, а делаю какой-то, мне самому почти непонятный, выбор. Это я пишу искренно, потому что вам, и тем более, что, послав на январскую книжку корректуры, я запнулся на февральской книжке и мысленно только выбираюсь из этого запнутия».
На некоторое время после этого работа у Толстого над романом приостановилась. 4 февраля он писал Страхову: «Поверите ли, я нынче (я уже недели не могу работать) говорю жене, как дурно, что Страхов не пишет, а вместе с тем это меня утешает. Если он не пишет, и мне простительно».
Для правки корректур текста февральской книжки Толстой в конце февраля лично съездил в Москву.[1902] В мартовской книжке «Русского вестника» появились первые главы седьмой части. В марте Толстой много работал над романом, торопясь его закончить в апрельской книжке журнала, чтобы приступить к новой работе. 3 марта С. А. Толстая записывает в свой дневник: «Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и сказал: «Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман (т. е. «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Так в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года, а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей». И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.»[1903] Около 6 марта Толстой пишет Страхову о том, что он очень занят работой над «Анной Карениной», несмотря на приливы к голове, мешающие работать, и что писать ему очень хочется, и, сколько есть силы, он пишет, а около 12 марта сообщает Фету, что работа над романом не только приходит, но пришла к концу, и остается только эпилог, который его «очень занимает». Тогда же, 12 марта, С. А. Толстая пишет сестре о работе Толстого над романом: «Всё это время он много писал, и во всякой книге «Вестника» печатается его «Анна Каренина». В апрельской книге будет конец, и над ним теперь придется работать. И рада буду, когда он кончит этот роман и отдохнет» (Архив Т. А. Кузминской).
V.
Работая над материалом не подготовленных еще к печати частей романа, начиная со второй, Толстой коренным образом переработал всё то, что для этих частей заготовлено им было в период ранней работы над романом, до первой попытки его печатания в 1874 г. Очень многое было написано заново. Не говоря уже об эпилоге (восьмой части), почти целиком была заново написана седьмая часть; очень многое вновь было написано и для частей пятой и шестой; меньше сравнительно с другими частями, но безотносительно большой переработке подверглись и части вторая, третья и четвертая.
Остановимся на характеристике наиболее существенных черновых вариантов, относящихся к тексту романа от второй по седьмую часть включительно.
Первоначально эпизод примирения Вронским двух его товарищей с титулярным советником, вступившимся за честь жены, был рассказан от лица автора (см. вар. № 36, рук. № 24), но затем Толстой весь этот инцидент передал от лица Вронского. Кстати, материалом для эпизода послужил действительный случай. В упомянутом выше письме от 15—20 марта 1874 г. Толстой обратился к Т. А. Кузминской со следующей просьбой: «Спроси у Саши-брата, можно ли мне в романе, который я пишу, поместить историю, которую он мне рассказывал об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели, и как муж вытолкнул и потом они извинялись. Дело у меня происходит в кавалерийском гвардейском полку, имена, разумеется, не похожи, да я и не знаю, кто были настоящие, но всё дело так, как было. История эта прелестна сама по себе, да и мне необходима. Пожалуйста, напиши».
Главы, в которых идет речь о пребывании Щербацких на водах, подверглись нескольким существенным переработкам. Наиболее значительной переработке подвергся образ девушки, с которой сблизилась на водах Кити и которой она была увлечена. Вначале (вар. № 49, рук. № 30) это двадцативосьмилетняя англичанка мисс Флора Суливант (или Суливан), дочь пастора, живущая за границей с английским семейством. Она одета скромно, но безвкусно, у нее очень длинная, уродливая талия, маленькие голубые глаза и горбатый большой нос, но она импонирует Кити всем своим нравственным существом. Она христиански набожна, в духе протестантского пуританизма, и во всех своих филантропических поступках руководствуется «христианским законом». Однако она далеко не педантка: она любит читать, обо всем имеет понятие, любит рисовать, шить, хозяйничать и умеет вести разговор в гостиной. В следующей рукописи (№ 31) вместо англичанки Флоры Суливант выступает русская девушка — Варенька. Нравственный облик девушки не изменен с переменой ее национальности, но религиозность, доходящая до пиетизма, у нее значительно ослаблена (в окончательной редакции о религиозной настроенности Вареньки уже ничего не говорится, а подчеркивается лишь нравственная высота ее облика). В дальнейшем внешний облик Вареньки становится гораздо более привлекательным, чем это было в первом варианте. Характерно, что в первоначальном варианте о религиозной настроенности мисс Суливант Толстой говорит сочувственно, в сочувственном тоне говорится в раннем варианте (№ 55, рук. № 31) и о г-же Шталь, позже особенно иронически поданной Толстым.
Первоначально главой русского семейства, зa которым ухаживала Варенька и Кити, оказывался профессор; затем профессор был заменен художником. В варианте № 50 (рук. № 33) было зачеркнуто указание на связь Вареньки с г-жей Шталь и сказано, что она приехала на воды с семьей русского профессора, но затем Толстой восстановил прежнюю ситуацию — близость Вареньки с г-жей Шталь, по отношению к которой она является приемной дочерью.
В варианте № 71 (рук. № 51) семейная драма Каренина осмысляется им в терминах канцелярской практики: «факт как бы официально был зaявлен ему — поступило заявление в правильной, определенной форме и требовало, как входящее, своего соответственного исходящего». Главное успокоение Алексею Александровичу дает служебная деятельность с ее отчетливо налаженной, механической системой. В конце концов Каренин создает для себя утешительную философию фатализма, по которой «в этом мире не было и не могло быть сомнений, что нужно и не нужно, что хорошо и что дурно... Всё было ясно, просто, отчетливо, элегантно в своем отвлеченном роде и несомненно... Дан толчок, дано высшее распоряжение и, бесконечно дробясь, расходятся повеления, предписания и волны... Сомневаться в том, что хорошо или дурно, тоже нельзя, как сомневаться в явлениях высших сил. Идет свыше, и вопрос о том, хорошо или дурно, не существует». Если же действия исходят не свыше, и ты сам должен быть первым толчком, и тут не может быть сомнений, потому что существует теория, приложимая ко всем случаям, изложенная в книгах, и нужно только всегда ее держаться. Во всех случаях при своих сомнениях человек может получить «ответ точный, определенный за №, подписом компетентных лиц и изложенный одним определенным, пригодным для своей цели языком». В сфере личных интересов для человека, искушенного в тайнах жизни и стоящего на известной высоте, как Алексей Александрович, чередование хорошего и дурного, нужного и ненужного имеет свою определенную закономерность, свой глубокий смысл и подчинено стройной гармонии.
Очевидно, такой философский объективизм и убежденность в фатальной предопределенности событий нашей жизни помогает Каренину сдерживать прорывающиеся в нем порой чувства озлобления и ожесточения. В варианте № 72 (та же рукопись) говорится о том, что в первую минуту после объяснения с женой Алексей Александрович испытывал странное для него самого «животное чувство»: у него было одно страстное желание — бить ее по лицу, выдрать ей «эти вьющиеся везде наглые черные волосы», но он напряг все силы души, чтобы остановить в самом себе жизнь, зная, что «всякое выражение жизни будет животное и гадкое», и, высаживая Анну из кареты, сказал ей в приличной форме, как он мыслит дальнейшие отношения с ней.
Вариант № 75 (рук. № 47) заключает в себе материал, совершенно не использованный в окончательной редакции. В этом варианте прежде всего речь идет о той страсти, которая овладела Анной после объяснения с мужем: «для Анны наступила страшная по своему безумию пора cтрасти. — Она была влюблена». Далее кратко говорится о замужестве Анны: она вышла замуж за Каренина двадцати лет, не зная любви: за любовь она приняла тщеславное удовольствие сделать лучшую партию браком с губернатором. Теперь ей тридцать лет; она, мать восьмилетнего сына, жена сановника, «расцвела в первый раз полным женским цветом», и чувство ее «удесятерялось прелестью запрещенного плода и возрастного развития силы страстей». Она испытывала всю полноту счастья, до тех пор ею не испытанного; все вокруг ей казалось праздничным, ликующим ее счастьем. Она видела Вронского каждый день, и при каждой встрече с ним ее охватывало с той же силой чувство счастья и забвения.
Вслед затем рассказывается об обеде у нового финансового дельца барона Илена и его супруги, на котором присутствовали Анна и Вронский. Илены живут богато и изысканно. К ним ездят люди из светского общества, чтобы встречаться друг с другом, вкусно пообедать, смотреть их картины, но они относятся к Иленам как к людям, чуждым себе, с которыми они общаются лишь в строго очерченных границах. Анна прежде к Иленам не поехала бы больше всего потому, что близкое знакомство с ними роняло бы ее, но теперь, при ее новом положении, ей нравилось думать, что уже не существует пустых условных приличий, которые могли бы стеснять ее в ее удовольствиях, и таким удовольствием для нее представлялся вечер в ночной толпе, в обществе Вронского. Предубеждение светской женщины против людей чуждого ей, не аристократического круга сказывается в том, что ей гораздо приятнее было общаться с гостем Илена — нравственно нечистоплотным, истощенным развратом, пользовавшимся отвратительнейшей репутацией князем Корнаковым, чем со свежим, красивым, умным, образованным и прекрасно воспитанным Иленом. После обеда общество человек в двадцать (из гостей, кроме Анны, Вронского и Корнакова, названа еще Бетси) занялось игрой в крокет. Самая игра и ее участники описаны иронически. Анна играет в паре с Вронским, и оба они полны друг другом и счастливы своей близостью. Но когда они остались с глазу на глаз друг с другом, им стало невыносимо тяжело: Анне показалось, что любовь Вронского слабеет и что он испытывает пресыщение.
Об обеде у Иленов с участием Анны и Вронского речь идет и в вариантах № 76 (рук. № 47) и № 79 (рук. № 48). Оба эти варианта, также не использованные в окончательной редакции романа, написаны конспективно. В первом из них уже упомянуты (без названия имен) три из семи «merveilles» — каждая со своим любовником, — которые будут фигурировать и в окончательной редакции — в эпизоде крокета на даче у Бетси. После обеда хозяйка сама отводит Анну и Вронского на террасу, и там они остаются одни. Несмотря на волнение Анны, испытываемое ею от письма, полученного от мужа, они проводят вечер «счастливо и спокойно».
В варианте № 77 (рук. № 57) поездка Анны к Иленам (здесь Ильменам) предваряется визитом к ней на дачу суетливой, добродушной ее тетушки княгини Марьи Ивановны с сыном Петей — молодым человеком «с потным, налитым густой кровью лицом», неудачником, которого мать — при содействии Алексея Александровича — хочет определить в военное училище и который, при встрече с Анной, смотрел на нее нечистым, нескромным взглядом. Это та самая женщина, у которой жила Анна в том городе, где она вышла замуж за Каренина. Княгиня Марья Ивановна в наивно завистливом восторге от обстановки, в которой живет Анна и от самой Анны, и уверена, что она счастлива в своей супружеской жизни. Восторг тетушки перед тем, как сложилась жизнь ее племянницы, усиливает в Анне чувство сомнения — стоит ли расставаться с так хорошо внешне налаженной жизнью, тем более что только что полученное письмо от мужа давало ей уверенность в том, что отношения с Вронским могут продолжаться без разрыва формальных отношений с мужем и, следовательно, без нарушения сложившегося житейского уклада. Она решает не ехать на свидание с Вронским и плачет, зная, что «мечта ее уяснения, определения положения рушилась» и что всё остается по-старому. Но, в конце концов, по совету чуткой горничной Аннушки, которая, как поняла Анна, «прощает ее и всё знает, не желая пользоваться своим знанием», она уезжает к Иленам для свидания с Вронским.
В дальнейшем эпизод посещения тетушкой Анны был исключен и никак не отразился в окончательной редакции романа.
В варианте № 80 (рук. № 49) фамилия финансового туза не Ильмен, а Роландаки. К нему на обед и для игры в крокет Анна едет вместе с Бетси. Анна смущена своим предстоящим визитом к людям не ее круга, но Бетси, смотрящая на вещи более либерально, успокаивает ее. У Роландаки в числе гостей — пять женщин из «семи чудес», держащих себя подчеркнуто свободно, утонченно распутно. В числе этих «семи чудес» — и Лиза Меркалова, но без той поэтической характеристики ее, какая дана ей в XVIII главе третьей части окончательного текста. Тут же упоминается — в числе гостей — и «высочество», взамен которого в окончательном тексте XVIII главы третьей части, очевидно по цензурным условиям, является «важный гость», при встрече с которым, несмотря на его молодость, дамы встают. Анна с Бетси, приехав к Роландаки, попадают прямо на крокет, где уже играет Вронский. Вариант № 81 (та же рукопись) представляет собой продолжение текста варианта № 80. Анна вместе с Бетси вступает в игру, которая продолжается еще минут десять, после чего гостей приглашают к обеду. После обеда Лиза Меркалова подстраивает так, что Анна и Вронский остаются наедине, и между ними происходит разговор, близкий к тому, какой изложен в XXII главе третьей части окончательного текста.
В окончательной редакции общество партии крокета собирается на даче у Бетси, а о Роландаки лишь однажды упоминается в следующей фразе: « — Вы будете на празднике у Роландаки? — спросила Анна, чтоб переменить разговор» (часть третья, глава XVII). Анна, приехав к Бетси в надежде увидеться с Вронским и вспомнив, что Вронский предупредил ее о том, что не сможет быть у Бетси, уезжает до начала игры, отговорившись необходимостью навестить старуху Вреде. Свидание с Вронским происходит в саду дачи Вреде.
Первоначальная фамилия помещика, приятеля Левина, к которому он едет на охоту (см. главу XXIV третьей части окончательного текста) — не Свияжский, а Свентищев. В тексте варианта № 88 (рук. № 67) Толстой изображает его убежденным крепостником, утверждающим, что с освобождением крестьян наступило разрушение хозяйства, что защищаемый общественным мнением свободный труд бывает только на самой низкой степени образованности, у самоедов, или может быть на самой высокой степени — у коммунистов; по его словам, у нас «мужик дикий, он ненавидит всё образованное». Прежде он принуждал его к работе палкой и находит, что это было прекрасно, а теперь действует с ним хитростью, ростовщичеством; он сочувствует тому, что крестьян порют в волостном правлении и говорит, что этим он только и держится. В дальнейшем Свентищев-Свияжский у Толстого выступает как «чрезвычайно либеральный» человек, а в качестве убежденного крепостника является безымянный помещик с седыми усами, не договаривающийся однако до одобрения порки крестьян.
Эпизоду приезда к Левину больного брата Николая в черновых рукописях (№№ 70 и 71) предшествует рассказ о смерти старого слуги Парфена Денисыча и о том ужасе, который испытал Левин от встречи с бешеной собакой (см. вар. № 92, рук. № 70). И то и другое возбуждают в Левине жуткое чувство неизбежности смерти, как бы ни устраивалась его жизнь. Это чувство предваряет собой то еще более острое ощущение смерти, как неотвратимого конца, которое он испытывает при общении с безнадежно больным братом. Рассказ о смерти старика и бешеной собаке, наново отредактированный, сохранился и в журнальном тексте романа, но в окончательной редакции он был исключен, и здесь осталось лишь упоминание Агафьи Михайловны о смерти Парфена Денисыча: «Вон Парфен Денисыч, даром что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому. Причастили, соборовали» (часть третья, глава XXX).
В тексте варианта № 134 (рук. № 85) речь идет о воспитании сына Каренина — Сережи, за которое принялся отец после того, как его оставила Анна. Он больше любил девочку, увезенную от него, но и сына любил по-своему, и эта любовь выражалась теперь в заботах о нем. Прежде всего Алексей Александрович вырабатывает план воспитания, для чего предварительно изучает теорию, читая книги по педагогике, дидактике, антропологии. Составив план, он приглашает специалиста-педагога, чтобы с ним обсудить дело. Педагог в изображении Толстого — из числа тех, кого он причислял к нигилистам. Он заранее относится с презрением к Каренину и к его взглядам на воспитание. Держится он с ним высокомерно, не обнаруживая никакого уважения к его высокому служебному положению. Он против религиозного элемента в воспитании, на котором настаивает Алексей Александрович, и в деле воспитания не признает «чувственной стороны», считая, на основании новейших исследований, что «всё дело состоит в предметной эвристике» и что вся задача воспитания сводится к тому, чтобы в душе ребенка постепенно образовать правильные понятия, и потому следует избегать всего сверхъестественного. В конце концов педагог, поколебленный в своем упорстве ссылкой Каренина на самим же педагогом написанную книгу «Опыт предметной концепции этической эвристики с изложением основ методики и дидактики», соглашается на компромисс, состоящий в том, что обучение по светским предметам будет вести он, а по закону божию — сам отец. Но ни система отца, ни система педагога не способны приохотить Сережу к учению, потому что ни у того, ни у другого не было того «ключа любви», без которого бесполезно было пытаться воздействовать на душу ребенка. Дальше Толстой — в духе своих педагогических воззрений — подробно говорит о том, в чем заключалась ошибочность приемов обучения отца и педагога.
В окончательном тексте (главы XXVI и XXVII пятой части) из этого варианта удержаны были лишь самые общие соображения о недостатках обучения у отца и у педагога, все же подробности, в том числе и рассказ о подготовке Алексея Александровича к воспитательной работе и о беседе его с педагогом, были опущены.
В варианте № 151 (рук. № 90) презрение Вронского к посетителям театра не его — аристократического — круга значительно более подчеркнуто, чем в окончательном тексте. Его шокируют разбросанные по разным рядам в креслах между «настоящими» людьми люди «с бородами, или совсем без перчаток, или бог знает в каких перчатках», позволяющие себе «как-то по-своему любить оперу и певицу и тоже рассуждать об этом». Коробят его и «известные дамы из магазинов, вероятно, и разные несчастные, которые тоже воображали, что они дамы». Наверху, от райка до бельэтажа, он замечает тоже «знакомое стадо», а в бельэтаже и бенуаре ему бросаются в глаза «дамы полусвета», дамы банкиров, купцов и те, кто приехал из деревень и задают праздник «налитым кровью именинницам или невестам — барышням с красными руками», приехавшим в обществе «каких-то» офицеров, которые, очевидно, старались что-то представлять из себя, что-то доказать».
Вариант № 185 (рук. № 99), соответствующий тексту глав XXIII—XXXI седьмой части романа в окончательной редакции, заключает в себе изложение событий в жизни Анны и Вронского, непосредственно предшествовавших самоубийству Анны. Существенной его особенностью является прежде всего то, что в нем поводы для вспышек раздражения Анны против Вронского и причины разлада у обоих не в такой степени иррациональны и необоснованы, как это мы видим в окончательном тексте. Там Анна во всех своих жизненных тяготах и осложнениях, даже в медлительности и нерешительности Каренина в деле развода, обвиняет Вронского. Редкие минуты его нежности раздражают ее, потому что в них она видит тот «оттенок спокойствия и уверенности, которых не было прежде». Ссоры у нее с ним возникают, например, из-за того, что Вронский неуважительно отзывается о женских гимназиях, и в этом отзыве Анна видит неуважение Вронского к женскому образованию вообще и в частности к ее умственным занятиям. Анне кажется оскорбительным восклицание Вронского «Что я вижу! Вот это хорошо!», произнесенное им в связи с приготовлениями ее к отъезду в деревню: в этом восклицании она усматривает покровительственное отношение к себе как к ребенку, переставшему капризничать. Без всякого основания раздражается Анна на Вронского и по поводу телеграммы, полученной от Стивы в связи с хлопотами о разводе, и далее по поводу объяснений Вронского, для чего нужен развод. Вспоминая на следующий день страстные ласки Вронского, Анна в приступе ревности думает о том, что точно такие же ласки он расточал и будет еще расточать другим женщинам.
В варианте № 185 поводы для столкновений Анны с Вронским имеют все же большую видимость оснований. Первое столкновение здесь происходит из-за того, что Вронский отрицательно высказался об обществе, которым окружила себя Анна, — «о воронах, слетевшихся на труп». Анна, хотя и сознает правоту Вронского, раздраженно защищается от его попыток дискредитировать созданное ею «здание новой жизни, честной, трудовой, с новыми людьми», которые, как она думает, смогут отвлечь Вронского от светской жизни вне дома и в то же время рассеять у него беспокойство по поводу уединенного положения Анны в обществе. В варианте к этому добавлено: «Вся эта жизнь с занятиями наукой, с умными, либеральными недовольными людьми, с школами, с детскими садами и заботливость о дочери было только средство спастись от страшной угрозы ревности».
Помимо ревности, Анну мучает здесь и другое чувство — «чувство раскаяния за всё зло, которое она сделала Алексею Александровичу». «Погубила его и сама мучаюсь. Сама мучаюсь и его погубила», говорит она самой себе. Далее в варианте подчеркивается гораздо сильнее, чем в окончательном тексте, отчужденность Вронского от дома, еще более возбуждающая ревность Анны: он целый день отсутствует, почти каждый день ездит на дачу к матери, где живет молодая девушка, бывает у Левиных и встречается с Кити, как об этом говорится в конце варианта. С другой стороны, Анна здесь обнаруживает свою ревность далеко не так бурно, как в окончательном тексте. Там заключительным и решающим поводом, вызвавшим собой последующую катастрофу, оказывается приезд княгини Сорокиной с дочерью с поручением Вронскому от матери, на что Анна реагирует очень болезненно, с угрозами, вызывая этим раздраженный отпор Вронского, уезжающего на дачу к матери. В варианте соответствующий инцидент в конце концов улаживается, и поездка Вронского к матери вызывает у Анны лишь обычные ревнивые подозрения, но когда он возвращается, между ними происходит полное примирение, сопровождающееся обоюдными выражениями любви и нежности.
Эпизоду последней ссоры Анны с Вронским из за приезда Сорокиной с дочерью в окончательной редакции предшествует рассказ об ужасе, охватившем Анну, когда потухла свеча в ее комнате. Этот ужас — в окончательном тексте — высшее напряжение тревоги и смятения, овладевших душой Анны. Спасаясь от страха, она входит в комнату спящего Вронского, любуется им и, возвратившись к себе, принимает второй раз опиум, после которого засыпает тяжелым, неполным сном, во время которого не перестает чувствовать себя. Просыпается она в холодном поту от страшного кошмара, несколько раз повторявшегося у нее еще до связи ее с Вронским: ей видится во сне старичок с взлохмаченной бородой, делающий над ней в железе какое-то страшное дело. И в то же утро происходит тот инцидент с приездом Сорокиной с дочерью, который приводит к финальному столкновению Анны с Вронским. В данном варианте мотив потухающей свечи, разработанный пока еще наспех, приурочен не к моменту, непосредственно предшествовавшему катастрофе, а ко времени одной из очередных ссор Анны с Вронским, после которой между ними происходит кратковременное примирение. Поцеловав в лоб спящего Вронского, Анна сознает, что она «бессмысленно раздражительна», обещает себе, что «этого не будет больше», что она завтра примирится с Вронским, и после этого засыпает совершенно успокоенная. Здесь она еще не соединяет мысли о своей смерти с мыслью о наказании Вронскому и о победе в той борьбе, какую она вела с ним; она еще не предвкушает чувства раскаяния, которое охватит Вронского, когда он узнает о ее смерти.
Роковой развязке в варианте № 185 предшествует эпизод посещения Анной с другом Вронского Грабе цветочной выставки, куда Анна едет «от потребности двигаться, жить» (в окончательном тексте фамилия «Грабе» заменена фамилией «Яшвин»). При встрече с Грабе Анна, чтобы заглушить свое страдание, пытается кокетничать с ним, но, по чувству дружбы с Вронским, он пресекает эти попытки. В окончательном тексте эпизод посещения Анной выставки и мотив ее кокетства устранены, а беседа ее с Грабе, происходящая здесь у них с глазу на глаз, там происходит в присутствии Вронского, причем эта беседа кое-где в обоих случаях текстуально совпадает.
Посещение выставки вызывает в душе Анны тяжелое душевное настроение. Судя по тому, как отнесся к ее кокетству Грабе, ей кажется, что она уже не может нравиться мужчинам; из разговора с Грабе о Вронском она убеждается в том, что Вронский по натуре честолюбив и что она погубила его карьеру, и она уверена, что он ее не любит. Мимолетная встреча с Кити, отвернувшейся от нее, заставляет ее думать, что Кити боится ее, чтобы не заразиться той грязью, в которую она упала. Наконец, тут же она узнает от Левина, что Вронский бывает у Левиных, и она не сомневается в том, что он делает это потому, что неравнодушен к Кити. Тяжесть настроения у Анны усугубляется тем, что по возвращении домой она получает записку от уехавшего на дачу Вронского, который в ответ на ее просьбу приехать не позже чем к обеду, чтобы было время уложиться и завтра ехать в деревню, пишет, что он не может изменить своего обещания провести день у матери, и будет дома лишь вечером. Анну не успокаивает и чтение письма Каренина, в котором он дает согласие на развод, одновременно предлагая ей вернуться к нему, если она этого захочет. Во время поездки к Долли, которую она не застает дома, она обдумывает свою жизнь с Вронским и затем, на короткое время, задерживается мыслью на предложении Каренина, но, поколебавшись недолго, видит полную невозможность вернуться после Вронского к нелюбимому мужу. Вслед за тем ей приходит в голову, что жизнь с Вронским может быть еще налажена, тем более что Алексей Александрович дает развод и что мать Вронского желает женитьбы сына на Анне. И она решает ехать к его матери. Но по пути на вокзал и в вагоне Анна, вновь передумав свою жизнь с Вронским, решает, что ее жизнь с ним невозможна, что они идут в разные стороны, и поправить дело ничто не может. Ей запоминается фраза едущей в вагоне дамы, обращенная к мужу: «Ты только для себя, стало быть, хочешь удобства». Эти слова Анна применяет к себе и думает о том, что нужно поступать только «для себя», потому что она только себя чувствует. Выйдя в Обираловке из вагона и увидев подходящий товарный поезд, она бросается под вагон и гибнет.
В окончательном тексте мотивировка самоубийства Анны — убедительнее. Надежды на развод мало; отъезд Вронского на дачу к матери вызывает в Анне очень болезненный приступ ревности, сопровождаемый угрозами ему в том, что он раскается. Он, раздосадованный угрозами, решает не обращать внимания на выходку Анны и уезжает, не попрощавшись с ней и оставив ее в состоянии полного отчаяния. Она посылает ему в догонку в конюшни записку с мольбой приехать и с признанием своей вины, напряженно ждет его, высчитывая минуты, нужные для его возвращения. Узнав, что Вронского записка уже не застала в конюшнях, она посылает с запиской слугу к матери на дачу и одновременно посылает Вронскому телеграмму с просьбой сейчас же приехать. Возбуждение Анны так велико, что ей самой кажется, что она сходит с ума. Оно обнаруживается в том, что по дороге к Долли и затем по пути на вокзал она теряет нить своих мыслей, и они перескакивают с одного предмета на другой, мешая ей сосредоточиться на том, что особенно сильно ее гнетет. Благодаря своему возбуждению, вернувшись от Долли домой и застав там лишь ответ на ее телеграмму и не застав ответа на записку, она не соображает, что записка еще не могла быть получена и, испытывая гнев и ненависть к виновнику ее страданий, решает сейчас же ехать на дачу к его матери, чтобы там, перед окончательным расставанием, высказаться перед ним до конца. Фраза дамы, толкнувшая Анну на мысль о самоубийстве, здесь более подходит к душевному состоянию Анны, чем в только что анализированном варианте. Дама говорит: «На то дан человеку разум, чтоб избавиться от того, что его беспокоит». Наконец, окончательно толкает Анну на самоубийство сообщение артельщика, когда она приехала в Обираловку, что сейчас тут были от Вронского, встречали княгиню Сорокину с дочерью, а также сухой и небрежный ответ Вронского на умоляющую записку Анны, переданный через посланною Анной кучера.
Варианты №№ 186—189 (рукописи №№ 100 и 103) представляют собой дальнейшие этапы в работе над текстом варианта № 185, приближающие этот текст к окончательной редакции. В вариантах №№ 186 и 188 особенно подчеркивается страдание Вронского от сознания им того, что Анна злоупотребляет «силой своей слабости». Об этом говорится еще и в журнальном тексте романа, откуда это исключено при переработке журнального текста для отдельною издания «Анны Карениной».
В заключение не лишним будет привести свидетельство А. Д. Оболенского, который сообщает (24 июля 1877 г.), что в разговоре с ним Толстой сказал ему о том, что он беседу Левина со священником переделывал четыре раза, «чтобы не видно было, на чьей стороне автор».[1904]
VI.
Около 23 марта Толстой пишет Фету: «Март, начало апреля — самые мои рабочие месяцы, и я всё продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать». Через день приблизительно он извещает Страхова, что может сказать, что кончил роман, всё больше и больше его занимающий, и в апрельской книжке «Русского вестника» надеется напечатать конец его, а около 5-го апреля ему же сообщает, что он «всё, всё кончил, только нужно поправить». Тут же он говорит о том, что сжег две восторженные статьи об «Анне Карениной» (в том числе критика Е. Л. Маркова), напечатанные в газете «Голос» и присланные ему Страховым. Сделал он это потому, что боялся того расстройства, которое может это произвести в нем.
15—20 апреля Толстой пишет А. А. Толстой: «В ту минуту, как мы пишем, мы бываем очень щекотливы. Теперь же я не пишу. Всё отослано, и стоит только поправить». Тут же он просит А. А. Толстую не стесняться делать свои замечания о романе, и притом побольше и построже. «Меня слишком хвалят, — продолжает он, — или я не слышу, как меня бранят. А вашими замечаниями я дорожу. Вы говорите: «В. Весловского не надо высылать». А если во время обедни придет к вам в церковь англичанин в шляпе и будет смотреть образа, вы, верно, найдете очень справедливым, что камер-лакеи выведут его».
Из письма С. А. Толстой к сестре от середины апреля явствует, что в это время Толстой работал над эпилогом романа. Судя по письму его к Фету от 14 апреля, работа эта заключалась в чтении корректур эпилога. В нем, как и в выросшей из него восьмой части, одно из центральных мест отведено было участию русских добровольцев в сербско-черногорско-турецкой войне, начавшейся в июне 1876 г. Русское добровольческое движение вызвало у Толстого отрицательное или в лучшем случае равнодушное к себе отношение, особенно когда к осени выяснилась вероятность вмешательства России в турецко-славянские отношения. Как раз в пору, когда Толстой принялся зa работу над эпилогом, 12 апреля 1877 г., Россией была объявлена Турции война. В цитированном выше письме к А. А. Толстой 15—20 апреля он писал: «Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня».
Около 22 апреля Толстой сообщает Страхову о том, что теперь, после многих дней, он остался без работы: одни корректуры отосланы, другие еще не присланы, и не отправленных в журнал рукописей у него больше нет.
Толстой рассчитывал в апрельской книжке журнала совершенно закончить печатание романа, включая и эпилог, но вскоре же, видимо, выяснилось, что для этой книжки эпилог может не поспеть, и Катков не прочь был в ней дать лишь окончание седьмой части романа, перенеся эпилог на майскую книжку. К. А. Иславин, родственник Толстого, служивший тогда в редакции «Московских ведомостей» и взявший на себя роль делового и технического посредника между Толстым и редакцией и типографией «Русского вестника», писал Толстому в апреле 1877 г.: «Если эпилог не готов, то не задерживай посылкою ради эпилога: нам выгоднее поместить его в майской книжке, как говорит Катков — заключить несколькими дефинитивными аккордами, а то, может, и продлишь еще, чем много обяжешь всю читающую публику, которая жалеет расстаться с «Анной Карениной», узнав, что ей скоро капут. Каткова удивил твой резкий будто бы переход к концу романа» (АТБ). Однако вопрос о перенесении эпилога в майскую книжку окончательно Катковым не был решен. Вскоре, в апреле, К. А. Иславин писал Толстому: «Посылается тебе эпилог [т. е., корректура эпилога] по почте Ясенки. Все так заняты всеобщим энтузиазмом и ожиданием в Москве царской фамилии, что «Русский вестник» очутился как-то на втором плане. Тем не менее он должен выйти в конце месяца, и потому мы телеграфировали прислать скорее первую часть апрельской книжки [т. е., текст до эпилога], чтобы Катков успел ее хорошенько просмотреть, пока ты корректируешь эпилог. А того и гляди, что не успеем. Катков теперь бегло только просмотрел эпилог. Пришли, пожалуйста, первую часть, а то ведь тебе опять ее присылать. А то, может быть, ты сумел так исправить ее, что более тебе не нужно будет присылать ее на корректуру, что очень важно, потому что тогда мы начнем набирать, а тем временем подойдет исправленный эпилог» (АТБ).
В конце концов в апрельской книжке «Русского вестника» было напечатано лишь окончание седьмой части «Анны Карениной» (главы XVI—XXX по нумерации журнального текста), печатание же эпилога отложено было на майскую книжку.
В письме к Фету около 9 мая Толстой жалуется, что он «всё привязан к своей работе» над «Анной Карениной». Очевидно, речь здесь идет о переделке текста эпилога в корректурах. Переделка эта в значительной степени вызвана была несогласием Каткова печатать в своем журнале эпилог, содержавший в себе отрицательную оценку добровольческого движения в России в пользу сербов. 22 мая Толстой писал Страхову о том, что последняя часть романа, т. е. эпилог, уже дважды был исправлен и на днях его пришлют ему для окончательного просмотра; но он опасается, что эта часть выйдет не скоро. «Оказывается, — продолжает Толстой, — что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво просит смягчить то, выпустить это. Это ужасно мне надоело, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю». Далее Толстой просит совета у Страхова, как ему поступить — печатать ли последнюю часть отдельной брошюрой, что было бы удобнее всего, хотя и сопряжено с прохождением текста через цензуру, или поместить ее в бесцензурном журнале — в «Вестнике Европы» или «Ниве». Во всяком случае Толстой хотел бы напечатать последнюю часть «как можно скорее и не разговаривать про смягчение и выпущение». Мысль о возможности поладить с Катковым Толстого еще не оставляет, но ему очень хотелось бы знать, что делать в случае несогласия Каткова.
В ответном письме от 26 мая Страхов высказал мнение, что прямой выход — печатать последнюю часть без цензуры, но для этого нужно, чтобы книжка содержала в себе 10 печатных листов, т. е. 150 страниц, из расчета льготного minimum’a для страницы — около 1400 букв. Можно, если не хватит материала, прихватить часть того, что уже напечатано, а с журналами связываться не стоит прежде всего потому, что это задержит появление в свет окончания романа.[1905] Тут же Страхов предлагает свою помощь в хлопотах по печатанию книги.
Толстой согласился с соображениями Страхова и решил печатать восьмую часть «Анны Карениной» отдельной книжкой. Около 28 мая он уехал в Москву, получил обратно из «Русского вестника» оригинал последней части романа и договорился о печатании ее в типографии Риса отдельным изданием. 29 мая он писал Страхову: «Очень благодарен вам за совет и за предложенную помощь. Я следую совету и, выручив писание, отдаю печатать Рису в Москве. Он обещает, что в неделю будет готово. Помощь же вашу мне ужасно хочется, но не знаю, как быть. Сейчас приедет ко мне Рис взять оригинал, и я спрошу его, не задержит ли его послать вам корректуры. Кроме того, это зависит от того, когда вы выезжаете из Петербурга и поедете к нам... То есть, по правде, мне хочется и то, чтобы вы прочли в корректуре эпилог не у меня и выкидывали и исправляли всё, что найдете нужным, и приехали бы к нам как можно скорее». В тот же день он писал жене: «Печатаю отдельно у Риса без цензуры, добавляя из предыдущего то, что не достает до 10 листов».[1906] Однако в дальнейшем Толстой, очевидно, отказался от мысли таким искусственным образом довести размер книжки до десяти листов, и книжка, целиком содержа лишь новый текст, заключала в себе только 127 страниц, напечатанных очень разгонистым шрифтом, и потому должна была пройти через цензуру (цензурное разрешение 25 июня 1877 г.). Корректуру книжки держал Страхов, вскоре приехавший в Ясную поляну. Издание снабжено было следующей заметкой на стр. 5-й: «Последняя часть «Анны Карениной» выходит отдельным изданием, а не в «Русском вестнике» потому, что редакция этого журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на которые автор не согласился». Катков же в майской книжке «Русского вестника» сделал такое заявление от редакции: «В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено: «Окончание следует». Но со смертью героини роман, собственно, кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа». По поводу этой заметки Толстой 8—10 июня написал проект язвительного письма в редакцию «Нового времени», сохранившегося в двух черновых вариантах и в газету однако не отосланного.
В первом варианте письма, указав на отсутствие в заметке упоминания о том, что эпилог был уже набран в редакции «Русского вестника» и не напечатан потому, что автор не согласился исключить из него многие места, на исключении которых настаивал редактор, Толстой отмечает в этой заметке «три характерные и очень свойственные редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника» качества: добросовестность, деликатность и грациозная лаконичность или развязность изложения».
Добросовестность редакции «Русского вестника» в отношении подписчиков выразилась в том, что «редакция потрудилась этой заметкой заменить длинное чтение конца романа, который, по мнению редакции, уже кончился». Деликатность в отношении автора сказалась в том, что редакция, «не печатая самого текста окончания..., весьма развязно изложила однако содержание эпилога, который она не приняла к печатанию».
В особенности обращает на себя внимание «грациозная логичность изложения», заставляющая только сожалеть о том, что «редакция три года томила своих читателей печатанием длинного романа, когда она так просто могла бы в том же грациозном тоне, в котором сделана заметка, изложить его примерно так. Была одна дама, которая бросила мужа. Полюбив гр. Вронского, она стала в Москве сердиться на разные вещи и бросилась под вагон».
Во втором варианте письма, представляющем собой значительно исправленный текст первого варианта, особенно обращает на себя внимание конец его: «Но есть один недостаток в этой заметке. В ней пропущено, что последняя часть романа была уже набрана и готовилась к печати в майской книжке, но не напечатана только потому, что автор не согласился исключить из нее, по желанию редакции, некоторые места. Редакция же со своей стороны не соглашалась печатать без выпуска, хотя автор предлагал редакции сделать всякие оговорки, какие бы она нашла нужным». Последние строки подчеркивают, с одной стороны, большую уступчивость Толстого и, с другой — крайнее упорство Каткова.
Одновременно с этим письмом, судя по свидетельству С. А. Толстой («Моя жизнь», рукопись, хранящаяся в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. Ленина, т. III, стр. 496), Толстой послал Каткову следующую телеграмму: «Прошу обратно выслать оригинал эпилога. С «Русским вестником» вперед дела иметь никогда никакого не буду». (Черновой автограф этой телеграммы см. в Описании рукописей, № 102, стр. 664.)
О том, как Толстой реагировал на заметку «Русского вестника», мы узнаем из писем Т. А. Кузминской к мужу от 10 и 11 июня 1877 г. В первом письме она писала: „Тебя, верно, интересует, чем кончил Левочка с Катковым. Я целый день слышу эту историю и потому передаю ее тебе. Прочти в «Русском вестнике», стр. 472, что пишет Катков в майской книжке. Левочку, разумеется, это страшно взбесило. Написать содержание эпилога и не объяснить, что они отказались печатать эпилог, если он не выпустит некоторые фразы, и выставить Левочку теперь так, как будто он для своей выгоды и по своей воле печатает отдельно. Это, действительно, подло, и Левочка пишет объяснение очень остроумно, колко в «Новом времени»“ (ГТМ). Но вскоре возмущение Толстого поступком Каткова улеглось, и на следующий день Т. А. Кузминская сообщает мужу: «Я писала тебе, что Левочка отвечал в газете, а представь себе, он позлился 3 дня, не отсылая ответа, и потом решил, что смиренномудрие — главное, и разорвал, а Соня, не будь глупа, написала от себя объяснение, почему не печатается в «Русском вестнике», и очень обстоятельно заметила им о бестактности и нечестности рассказать сюжет прежде времени, подписалась: «Одна из читательниц» и отправила в одну из петербургских газет. Мы все одобряли, и Левочка остался доволен» (ГТМ).
Письмо С. А. Толстой, подписанное инициалами Г. С. ***, было послано ею в газету «Новое время» и напечатано в № 463 от 14 июня 1877 г. В этом письме разъяснены причины непоявления эпилога в «Русском вестнике», причем буквально использованы несколько строк из второго варианта чернового письма в редакцию, написанного Толстым.
Видимо задетый этим письмом С. А. Толстой, Катков в июльской книжке «Русского вестника» за 1877 г. напечатал полемически-тенденциозную статью о восьмой части романа, озаглавленную: «Что случилось по смерти Анны Карениной», в которой он, пытаясь оправдаться перед читателями в том, что не поместил в своем журнале эпилога, писал: «Роман остался без конца и при «восьмой и последней» части. Идея целого не выработалась. Для чего, всякий может спросить, так широко, так ярко, с такими подробностями выведена перед читателями судьба злополучной женщины, именем которой роман назван? Судьба эта остается мастерски рассказанным случаем очень обыкновенного свойства и послужила только нитью, на которую нанизаны прекрасные характеристики и эпизоды. Но если произведение не доработалось, если естественного разрешения не явилось, то лучше, кажется, было прервать роман на смерти героини, чем заключить его толками о добровольцах, которые ничем не повинны в событиях романа. Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель».
Уже прослышав о статье Каткова в «Русском вестнике» по поводу восьмой части «Анны Карениной», Толстой испытывал волнение. В письме к Страхову от 8—9 августа он жаловался на недостаток «крепкого спокойствия», на то, что его всё волнует, даже неизвестная ему еще статья Каткова. Познакомившись со статьей, он писал Страхову около 16 августа: «Прочел я статью «Русского вестника» и очень подосадовал на эту уверенность наглости и безнаказанности, на сознание своей ни перед чем не имеющей отступить наглости, но теперь успокоился».
Отличительной особенностью ранних редакций эпилога является крайне резкое, саркастическое отношение Толстого к славянскому вопросу и к участию в славянском движении русских добровольцев. В самой ранней редакции (вар. № 190, рук. №101) эпилог начинается не с сообщения о судьбе книги Сергея Ивановича Кознышева, как в редакциях, близких к окончательной и в окончательной, а с иронически-недоброжелательной трактовки славянского вопроса, дающейся от лица автора. Вопрос этот Толстой считает «большим вздором», который получился в результате срастания маленьких вздоров, как иногда один большой гриб получается от срастания нескольких маленьких грибов. Однако тем, кто сознавал вздорность движения, нельзя было высказываться, «потому что опасно было противуречить беснующейся толпе и неловко, потому что всё беснование это было прикрыто самыми высокими мотивами: резня в Болгарии, человечество, христианство». Люди, увлеченные славянским вопросом, характеризуются как «ошалевшие», «беснующиеся в маленьком кружке» и представляющие себе, что с ними беснуется вся Россия, весь народ, тогда как народ на самом деле к славянским делам относился совершенно спокойно, в сознании предуказанных свыше его исторических путей. Вслед затем говорится об участи книги Сергея Ивановича и о том, как вследствие неудачи с книгой он увлекся славянским вопросом, и т. д.
В копии начало эпилога было существенно переработано (см. вар. № 191, рук. № 103); он попрежнему начинался с характеристики и оценки славянского вопроса от лица автора, но всё это было сделано еще резче, чем в первоначальной редакции. Здесь говорится о том возбуждении «одурманенной своим криком» толпы, при котором теряются права рассудка, об официальной лжи в расценке поведения турок и сербов и в освещении событий войны, о тенденциозном извращении фактов в угоду определенной программе. Тут мы читаем такую тираду: «Спасали от бедствия и угнетения сербов, тех самых угнетенных, которые, по словам их министров, от жира плохо дерутся. Этих-то жирных в угнетении сербов шли спасать худые и чахлые русские мужики. И для этих жирных сербов отбирали копейки под предлогом божьего дела у голодных русских людей».
В этом переработанном виде эпилог был послан Каткову в «Русский вестник». В дальнейшем значительная часть того, что сказано было об отношении известной части русского общества к славянскому вопросу, сказано применительно к Сергею Ивановичу (см. вар. № 193, кор. № 122), который безоговорочно, без всякой критики, «одурманенный криком толпы», принимает на веру всё то, о чем кричит по поводу славянского движения эта толпа.
В последующих переработках, как и в окончательном тексте, отрицательная оценка славянскому вопросу дается почти исключительно устами Левина и старого князя Щербацкого, причем резкость этой оценки значительно смягчена. Сергей Иванович Кознышев, в основном сочувствуя движению русских в пользу славян, видит теперь в нем и ряд недостатков и отрицательных сторон, частично тех самых, которые указаны были от лица автора в ранних редакциях начала эпилога.
Возможно, что общее смягчение тона в отношении к славянскому вопросу вызвано было у Толстого стремлением договориться с Катковым, который отнесся к освещению этого вопроса Толстым очень отрицательно.
Из других отличий рукописных и корректурных текстов эпилога по сравнению с окончательным текстом его, составившим восьмую часть романа, следует отметить следующие. В варианте № 196 (рук. № 101) отведено значительное место уяснению отношения Кити к религиозным и философским исканиям Левина; в окончательном тексте об этом говорится гораздо меньше. В варианте № 198 (рук. № 103) сказано, что очень большую роль в усилении душевной тревоги у Левина сыграло самоубийство Карениной, изуродованное тело которой он видел на станции, куда он специально поехал, узнав о гибели Анны. Обо всем этом в окончательном тексте ничего не сказано. В варианте № 201 (кор. № 125) говорится о том, что у Левина с Сергеем Ивановичем был недавно спор о большом политическом деле «русских заговорщиков», причем Сергей Иванович очень нападал на них и не признавал зa ними никаких положительных качеств. В связи с этим Левину хочется спросить брата, за что же он, защищая сербскую войну, осуждает коммунистов и социалистов. «Разве они не укажут злоупотреблений больше и хуже болгарской резни? — спрашивает он мысленно. — Разве они и все люди, работавшие в их направлении, не обставят свою деятельность доводами более широкими и разумными, чем сербская война?... У вас теперь угнетение славян, и у них угнетение половины рода человеческого. И если общественное мнение — непогрешимый судья, то оно часто склонялось и в эту сторону и завтра может заговорить в их пользу» (первоначально фраза кончалась так: «то едва ли не будет больше голосов в их пользу, чем в вашу, если так же муссировать дело, как вы»). В окончательном тексте, быть может по цензурным соображениям, вместо всего этого сказано очень глухо: «Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?»
Наконец, в окончательном тексте заключительные слова о вновь найденном Левиным смысле жизни смягчают ту относительно пессимистическую ноту, которой заканчивается роман в черновых вариантах его концов (см. варианты № 200, кор. № 124 и № 202, кор. № 123).
—————
Здесь уместно будет в самых общих чертах, насколько это допускается характером и задачей данной статьи, указать на те связи «Анны Карениной» с реальными обстоятельствами жизни самого автора и окружавших его лиц, а также с исторической злободневностью, которые могут быть вскрыты в романе. Общеизвестно прежде всего, что в изображении Левина Толстой в значительной степени был автобиографичен и притом в иных случаях до такой степени, что почти точно воспроизводил события своей жизни, как, например, в эпизоде вторичного предложения Левина Кити и в эпизоде венчания и приготовления к венчанию, о чем рассказала С. А. Толстая, сама явившаяся прообразом Кити,[1907] а также ее сестра Т. А. Кузминская.[1908] Насколько Толстой, изображая венчание Левина и Кити, воспроизводил пережитое им самим, очень наглядно уясняется следующей опиской в варианте № 110 (рук. № 73). После слов: „Левин расслышал молитву «О ныне обручающихся рабе божьем»“ следовало сперва слово «Льве», затем зачеркнутое и замененное словом «Константине». В еще большей мере Толстой в образе Левина отразил особенности своего характера, свое мировоззрение и свои религиозные и философские тревоги, о чем он отчасти и сам говорил. В письме к Фету от 28—29 апреля 1876 г. он писал: „Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде... Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского вестника»“, (в этой книжке описано было умирание и смерть брата Левина Николая и отношения Левина к этому событию)».
Прототипность некоторых персонажей романа была ясна и современникам Толстого. Так, Фет писал Толстому 22 февраля 1875 г.: «Герой Левин — это Лев Николаевич — человек (не поэт), тут и В. Перфильев и рассудительный Сухотин, и всё и вся, но возведенные в перл созданья.[1909] В. С. Перфильев (1826—1900) послужил некоторыми чертами своего характера прототипом Степана Аркадьича Облонского. В пору писания романа московский вице-губернатор, Перфильев, кстати сказать, был посаженным отцом на свадьбе Толстого, как и Облонский на свадьбе Левина. Возможно, что до известной степени в образе Облонского отразились и черты характера приятеля Толстого кн. Д. Д. Оболенского (род. в 1844 г.), о чем свидетельствует и сходство фамилий. С. М. Сухотин (1818—1886), женатый на М. А. Дьяковой, которая в 1865 г. покинула его и вступила в новый брак, является вероятным прототипом Каренина на ряду с П. А. Валуевым (1814—1890), в пору писания романа министром государственных имуществ. О прототипности Анны Карениной и Николая Левина сказано было выше. Существуют догадки и о ряде других прототипов для тех или иных персонажей романа (для Кознышева, поручика Корсунского, графини Лидии Ивановны, старого князя Щербацкого, г-жи Шталь, приезжего иностранного принца, к которому был приставлен Вронский, художника Михайлова, Васеньки Весловского, медиума Ландау).[1910] Песцов, первоначально фигурирующий под фамилией Юркин, своим прототипом имел, очевидно, близкого знакомого Толстого — Сергея Андреевича Юрьева, московского литератора, музыкального и театрального критика, переводчика Шекспира, Кальдерона и др. Агафья Михайловна, живущая экономкой в доме Левина, сохранила не только имя и отчество, но и внутренний облик экономки, жившей в Ясной поляне до женитьбы Толстого.
Реальную подкладку имеют и некоторые эпизоды романа. На действительный случай, легший в основу эпизода примирения Вронским двух его напроказивших товарищей с титулярным советником, было указано выше. Кн. Д. Д. Оболенский сообщает, что он передал Толстому подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину» и что, в частности, эпизод падения Вронского на скачках и гибели Фру-фру был подсказан им, Оболенским, рассказавшим Толстому о сходном происшествии с кн. Д. Б. Голицыным, сломавшим во время красносельских скачек спину своей лошади. Тот же Оболенский утверждает, что победитель на скачках в романе штабс-капитан Махотин напоминает офицера А. Д. Милютина.[1911] Сказанное Оболенским подтверждается тем, что в черновом варианте № 3 в числе скачущих офицеров фигурируют фамилии и Голицына и Милютина.
Существеннее однако то, что в романе нашел себе отражение ряд злободневных вопросов, связанных с эпохой, когда писался роман. Таковы вопросы о границах между психологическими и физиологическими явлениями, об инородцах, которыми занят Каренин, о причинах падения Польши, о классическом образовании, о существе искусства и мн. др., не говоря уже о вопросах земельного устройства, особенно занимающих Левина, и славянского вопроса.[1912]
Так, постепенно развертываясь, роман вышел зa рамки первоначально намеченной морально-психологической задачи — показать «тип женщины, замужней из высшего общества, но потерявшей себя» и вобрал в себя ряд более широких и общих морально-философских и общественных проблем, тем самым отзываясь на живые вопросы современности.
VII.
Лето 1877 г., с начала июня по середину июля, с небольшим перерывом, Страхов провел в Ясной поляне и совместно с Толстым занялся исправлением журнального текста «Анны Карениной» и издания ее восьмой части особой книгой для отдельного издания всего романа, вышедшего в трех томах в 1878 году и напечатанного в Москве, в типографии Риса.
Когда Страхов на время отлучился из Ясной поляны, Толстой продолжал работу над подготовкой отдельного издания романа один. Около 10 июля, сообщая Страхову о том, что многое отвлекало его от работы, он писал: «и, несмотря на всё это, успевал перечитывать и переделывать Каренину, так что дня через три надеюсь кончить». К этому он добавляет: «Вчера был у меня Рис, привез последнюю часть. Есть ошибки, но издание хорошенькое... На днях мне придется ехать в Москву по делам печатания. Но я поеду только на один день» (Толстой ездил в Москву по делам печатания отдельного издания романа около 11—13 июля).
Наиболее существенные текстуальные отличия текста отдельного издания романа от текста журнального были указаны выше. В огромном же большинстве случаев исправления для отдельного издания преследовали стилистическое усовершенствование текста.[1913]
К хранящемуся в Ленинградской Публичной библиотеке РСФСР им. Салтыкова-Щедрина переплетенному экземпляру страниц «Русского вестника» с текстом первых семи частей «Анны Карениной» и отдельного издания восьмой ее части, с которых производился набор издания романа 1878 г., а также отпечатанных листов дожурнального издания и правленных Толстым корректур издания 1878 г. (о них см. ниже), приложена следующая пояснительная записка Страхова:
«Это тот экземпляр «Анны Карениной», с которого печаталось отдельное издание 1878 года. Он состоит из листов, вырванных из «Русского вестника», и содержит в себе поправки и перемены, сделанные рукою самого автора. Но так как тут встречается и моя рука, то считаю нужным рассказать, как это случилось. Летом 1877 года я гостил у гр. Л. Н. Толстого в Ясной поляне (июнь, июль) и подал ему мысль просмотреть Анну Каренину, чтобы приготовить ее для отдельного издания. Я взялся прочитывать наперед, исправлять пунктуацию и явные ошибки и указывать Льву Николаевичу на места, которые почему-либо казались мне требующими поправок, — преимущественно, даже почти исключительно, неправильности языка и неясности. Таким образом сперва я читал и наносил свои поправки, а потом Лев Николаевич. Так дело шло до половины романа, но потом Лев Николаевич, всё больше и больше увлекаясь работой, перегнал меня, и я исправлял после него, да и прежде всегда просматривал его поправки, чтобы убедиться, понял ли я их и так ли работаю, потому что мне предстояло держать корректуру.
Утром, вдоволь наговорившись за кофеем (его подавали в полдень на террасе), мы расходились, и каждый принимался за работу. Я работал в кабинете, внизу. Было условлено, что за час или за полчаса до обеда (5 часов) мы должны отправляться гулять, чтобы освежиться и нагулять аппетит. Как ни приятна была мне работа, но я, по свойственной мне внимательности, обыкновенно не пропускал срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Льва Николаевича. Он же почти всегда медлил, и иногда его было трудно оторвать от работы. В таких случаях следы напряжения сказывались очень ясно: был заметен легкий прилив крови к голове, Лев Николаевич был рассеян и ел за обедом очень мало.
Так мы работали каждый день больше месяца.
Этот упорный труд приносил свои плоды. Как я ни любил роман в его первоначальном виде, я довольно скоро убедился, что поправки Льва Николаевича всегда делались с удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты, казавшиеся и без того ясными, и всегда были строго в духе и тоне целого. По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, повидимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца. А вообще — как много он думает, как много работает головою, — этому я всегда удивлялся, это поражало меня как новость при каждой встрече, и только этим обилием души и ума объясняется сила его произведений.
Н. Страхов».
Набор отдельного издания начался в первых числах августа 1878 г. Около 21 декабря Страхов сообщал Толстому, что он дня три тому назад отослал в типографию последний лист корректуры, а в середине января 1878 г. вышли в свет все три тома «Анны Карениной».[1914]
Как видно из переписки Толстого со Страховым в период печатания отдельного издания романа 1878 г., корректуру его держал не Толстой, а Страхов.[1915] Несомненно, что лишь в двух случаях — в эпизодах венчания Левина с Кити и самоубийства Карениной — Толстой в процессе печатания этого издания принял личное участие дополнительными исправлениями, сообщенными им Страхову и сохраненными Страховым в составе указанного наборного текста, хранящегося в ленинградской Публичной библиотеке.
Но, ведя по просьбе Толстого корректуру текста романа, Страхов не ограничился исключительно технической правкой, а вносил порой и исправления стилистического и грамматического характера (и, кстати сказать, как он сам признавался Толстому, допустил в издании большое количество опечаток). В виду сказанного в основу окончательного текста «Анны Карениной» нами взят текст, исправленный Толстым и — с одобрения Толстого — Страховым летом 1877 г. по экземплярам «Русского вестника» и отдельного издания восьмой части, с дополнительными исправлениями двух указанных эпизодов, сделанных позднее Толстым. Самостоятельные исправления, сделанные Страховым в корректуре издания 1878 г., как правило, отвергаются, зa исключением тех немногих случаев, когда в исправленном недостаточно тщательно совместно Толстым и Страховым тексте оказались явные стилистические и смысловые погрешности. В ряде случаев эти самостоятельные страховские исправления оправдываются, впрочем, чтениями черновых автографов романа.[1916]
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ И КОРРЕКТУР, ОТНОСЯЩИХСЯ К «АННЕ КАРЕНИНОЙ».
Рукописи, относящиеся к «Анне Карениной», как сказано в предисловии, сохранились в значительной своей части, но не полностью. Из корректур романа сохранилась лишь очень небольшая часть. Почти весь рукописный и корректурный материал, относящийся к «Анне Карениной», хранится во Всесоюзной библиотеке им. Ленина (папки 4—10 и VIII) и только очень небольшая доля его хранится в Государственном Толстовском музее (ГТМ), в Институте литературы Академии наук СССР (ИЛИ), в Государственном литературном музее и в Публичной библиотеке РСФСР им. Салтыкова-Щедрина. В тех случаях, когда в настоящем описании место хранения рукописей и корректур романа не указывается, имеется в виду, как место хранения их, Всесоюзная библиотека им. Ленина.
Извлекаемые из рукописей и корректур варианты в основном печатаются в порядке развития сюжета романа в его окончательной редакции. Такой способ расположения вариантов обусловливается крайней трудностью приурочения их к отдельным редакциям в виду того, что Толстой в процессе работы над романом, как правило, возвращался к ранее написанным текстам, радикально перерабатывая их не только в копиях, но и в автографах — с целью приспособления их к новому, определявшемуся в процессе работы, контексту.
В тех случаях, когда отдельные варианты слишком малы по объему и при том место их в романе неясно без сопроводительных пояснений, они в виде исключения печатаютcя не особо, а при описании той рукописи, из которой они извлекаются.
—————
1. Планы и заметки к «Анне Карениной» — автографы на 12 листах разного размера, исписанных большей частью с одной стороны (2 листа чистых). Печатаются полностью (№№ 1—10) в отделе планов и заметок. Здесь же печатаются планы, извлеченные из рукописей, в основном содержащих в себе черновые тексты романа (№№ 11—13). План, печатаемый под № 1, написан на странице, в начале которой — зачеркнутое продолжение текста рукописи № 4: «но зналъ, что сущность несчастія совершилась»; следовательно, он написан был не ранее написания части рукописи № 4. Остальные планы и заметки были написаны позднее, в разное время, в процессе работы над романом.
2. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Самый ранний приступ к работе над романом. Заглавие — «Молодецъ-баба» и далее цыфра 1 для обозначения главы. Начало: «Гости послѣ оперы съѣзжались къ молодой Княгинѣ Врасской». Конец: «было очень естественно». В процессе дальнейшей работы над рукописью и приспособления ее к новой текстовой комбинации в ней сделаны исправления и дополнения; некоторые части текста зачеркнуты. На полях — несколько конспективных записей, намечающих дальнейшее развитие темы. Первый лист, текст которого в дальнейшем не был использован, не нумерован, остальные листы, приспособленные затем к новой текстовой комбинации, нумерованы цыфрами 4, 6, 7.
Печатается в отделе вариантов полностью под № 1, без учета позднейших зачеркиваний отдельных кусков текста, исключенных в дальнейшем контексте.
Впервые текст этого варианта был опубликован H. К. Гудзием в журнале «Красная новь», 1935, № 11, стр. 144—150.
3. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных с одной стороны. Второй приступ к работе. Для обозначения главы проставлена цыфра 1. Позднее над ней написано и зачеркнуто: «2-я часть». Начало: «Гости послѣ оперы собирались у Княгини Врасской». Конец: «зашелъ передъ клубомъ въ гостиную. Онъ». Третий лист, текст которого использован был позднее для новой текстовой комбинации, нумерован рукой Толстого цыфрой 3. Остальные листы — с неиспользованным текстом — не нумерованы. На полях — конспективные записи для дальнейшей работы. На последнем листе — проба пера рукой переписчика дальнейшего текста — Д. И. Троицкого.
Печатается полностью под № 2.
4. Автограф на 15 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Ранний конспективный набросок всего романа. Начало: «1. Молодая хозяйка только что, запыхавшись, вбежала». Конец (запись): «Онъ не истасканъ». Листы 2-й, 3-й и 6-й об., для обозначения их места в новой текстовой комбинации, нумерованы рукой Толстого соответственно цыфрами 8, 9, 13. Текст поделен на двенадцать глав, нумерованных римскими цыфрами, причем под цыфрами VII—X дана лишь очень краткая программа намечавшегося текста. В тексте и на полях очень много исправлений и конспективных заметок на полях. Отдельные страницы, при использовании рукописи в последующем контексте, сплошь перечеркнуты поперечной чертой или поперек их рукой Толстого написано: «не нужно».
Печатается полностью под № 3, без учета позднейших зачеркиваний отдельных кусков текста и с восстановлением первоначально написанного текстового слоя.
5. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. В дальнейшем ходе работы над романом он никак не был использован. Перед текстом проставлены буквы NN и далее начало: «Старушка Княгиня Марья Давыдовна Гагина, пріѣхавъ съ сыномъ». Конец: «А развѣ ты не мой сынъ?»
Печатается полностью под № 4.
6. Автограф на 14 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Рукопись озаглавлена: «Анна Каренина. Романъ». Вслед за тем — эпиграф: «Отмщеніе Мое». Первоначально текст начинался: «Въ Москвѣ была выставка скота». Затем вместо этого на полях написано новое начало: «Степанъ Аркадьичъ Алабинъ былъ въ самомъ ужасномъ положеніи». 14-й лист оканчивается словами: «Они стояли почти рядомъ. Анна Аркадьевна». Продолжение текста — на 8 листах, перенесенных позже Толстым в рукопись № 14. Начало этого продолжения: «Анна Аркадьевна подошла еще ближе». В тексте много исправлений и зачеркиваний, на полях — приписки и конспективные записи. Всё это в значительной степени сделано было в процессе дальнейшего приспособления части рукописи к новой текстовой комбинации.
Печатается полностью под № 5, без учета позднейших зачеркиваний отдельных кусков текста и с присоединением первоначального текста (до приспособления его к новой текстовой комбинации) восьми листов, переложенных позднее в рукопись № 14.
7. Автограф на 8 листах в 4°. 7 первых листов исписаны с обеих сторон, 8-й чистый; лишь на оборотной стороне его сделаны две конспективные записи. Заглавие: «Анна Каренина. Романъ». Далее — эпиграф: «Отмщеніе Мое». Начало: «Степанъ Аркадьичъ Алабинъ, несмотря на вчерашнюю сцену». Конец: «на Николаевскую дорогу». На предпоследнем листе посторонней рукой даты: «April, March, 8, 27, 1873». В 4 последних листах сделаны ножницами вырезки, но раньше, чем на изрезанных листах стал писаться текст, сохранившийся таким образом полностью. Текст на нескольких страницах зачеркнут сплошь в результате приспособления рукописи к новой текстовой комбинации.
Печатается полностью под № 6, без учета позднейших зачеркиваний.
8. Автограф на 5 листах в 4°. 4 листа исписаны с обеих сторон, 1 — с одной стороны. Заглавие — «Анна Каренина. Романъ». Вслед за этим — эпиграф — «Отмщеніе мое». Начало: «<Степанъ Аркадьевичъ Алабинъ, 37 лѣтъ отъ роду>». Конец: «отряхнулъ крошки калача съ жилета». Рукопись сильно испещрена исправлениями, зачеркиваниями и приписками и дополнениями на полях.
Печатается полностью под № 7.
9. Автограф на 14 листах в 4°. Листы 1—8 и 10—12 исписаны с обеих сторон, 9-й и 13-й — с одной, 14-й — чистый. Начало: «<Степанъ Аркадьичъ, благодаря протекціи>». Конец: «и ѣхать къ Щербацкимъ». Как и в предыдущих рукописях, в процессе позднейшей обработки данной рукописи в ней сделано много исправлений, зачеркиваний, приписок и конспективных записей на полях.
Печатается полностью под № 9, без учета позднейших зачеркиваний отдельных кусков текста.
10. Автограф на 1 листе в 4°. Исписана одна страница, до половины ее. Начало: «III. Когда Степанъ Аркадьичъ подъѣзжалъ къ Николаевской станціи». Конец: «Однако пойдемъ, скоро придетъ».
11. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон, со сравнительно небольшим количеством исправлений. Последняя страница исписана лишь наполовину. Начало: «Былъ ясный морозный день». Конец: «Ахъ, да вотъ и онъ». Текст заключает в себе описание встречи Левина и Кити на катке в Зоологическом саду.
12. Автограф на 6 листах в 4°, исписанных с обеих сторон, также с небольшим относительно количеством, исправлений. Последняя страница не дописана до конца. Начало: «Кити испытывала въ это послѣ обѣда». Конец: «и онъ, покраснѣвъ до ушей, побѣжалъ внизъ». В тексте идет речь о приезде Левина в дом Щербацких и об его неудачном предложении Кити. Продолжением текста данной рукописи является текст на листе 12 рукописи № 6, позднее приспособленный к тексту рукописи № 12.
Извлекаем отсюда вариант № 13.
13. Автограф на 19 листах в 4°, исписанных, кроме одного, с обеих сторон. Начало: «На другой день былъ морозъ еще сильнѣе». Конец: «А Пава! Отлично!» Текст заключает в себе следующие эпизоды: приезд Анны вместе с матерью Вронского в Москву, беседа Анны с Долли, приведшая к примирению Долли с мужем, встреча Анны с Кити, приезд вечером Вронского в дом Щербацких для переговоров со Стивой об обеде в честь знаменитости, наконец, приезд Левина в деревню. Рукопись составилась в результате комбинации ранее написанного текста, первоначально входившего в состав рукописи № 6, с новым текстом. Начало эпизода встречи Карениной на вокзале, написанное на листе 2-м и большей части 3-го, зачеркнуто, и вместо него написан новый текст, занимающий лист 1-й. Переложенные сюда 8 листов из рукописи № 6 приспособлены к новой текстовой комбинации и пополнены вставками на отдельных листах. Последний лист исписан Толстым взамен почти целиком зачеркнутой по строкам, исписанной рукой С. А. Толстой копии текста, находящегося на части 6-го листа рукописи № 12 и на 12-м листе рукописи № 6. Последние 16 листов нумерованы рукой Толстого (1—15; цыфрой 2 занумерованы две четвертушки согнутого пополам листа писчей бумаги).
Извлекаем отсюда вариант № 19.
14. Автограф на 6 листах, исписанных с обеих сторон; 5 первых листов в 4°, 1 — последний — большого почтового формата. 2-й лист — вставка. Начало: «У однаго изъ главныхъ лицъ Москвы былъ большой балъ». Конец: «и буря, бѣснующаяся на дворѣ». В тексте — обычные исправления и заметки на полях. Всё это частично сделано в процессе последующего приспособления части рукописи к новой текстовой комбинации. Часть текста (на л. 3 об. и на л. 4), в котором идет речь о горе Кити на балу, переложена впоследствии в рукопись № 15.
Печатается полностью под № 25, без учета позднейших зачеркиваний.
15. Автограф на 5 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<У однаго изъ главныхъ лицъ Москвы былъ> <Такъ думала Кити до бала>». Конец: «и они чувствовали это также, какъ и Кити». Лл. 2 об. и 5 об. не дописаны до конца страниц. Текст заключает в себе эпизод бала, наново написанный.
Извлекаем отсюда варианты 26 и 27.
16. Рукопись на 29 листах в 4°, написанная рукой С. А. Толстой и Толстого, большей частью с обеих сторон; один лист чистый. Вслед за заглавием «Анна Каренина. Романъ» — эпиграф: «Отмщеніе Мое» и начало: «Несмотря на то, что онъ спалъ уже 3-ю ночь». Конец: «и отошелъ отъ нея». Написанное рукой С. А. Толстой воспроизводит исправленную рукой Толстого копию материала предыдущих рукописей, предназначенного для первой части романа. Большая часть листов этой копии переложена в рукопись № 17 и в наборную рукопись (№ 103). Написанное сплошь рукой Толстого — вставки на отдельных листах в текст первой части романа. Текст на листах 1—12 представляет собой копию исправленного текста рукописей №№ 8 и 7. Далее на 8 листах следует сплошной автограф. Следующий лист — чистый; далее — на 3 листах остаток копии, большая часть которой, как сказано, переложена в рукописи № 17 и наборную (№ 103) и, наконец, — на 6 листах — вновь сплошной автограф, в котором на одной из оборотных страниц написан зачеркнутый вариант разговора Облонского (Алабина) с Анной, первоначально связанный с текстом рукописи № 13, а на другой — отрывок, не связанный с текстом «Анны Карениной», повидимому из какого-то письма.
Извлекаем из этой рукописи варианты №№ 10, 11 и 31.
17. Рукопись на 47 листах в 4°, написанная рукой С. А. Толстой и Толстого, большей частью с обеих сторон. По листам нумерация, частично рукой Толстого, частично постороннего. Первоначальное заглавие «Анна Каренина» зачеркнуто и вместо него рукой Толстого писано: «Два брака». Его же рукой эпиграф «Отмщеніе Мое» исправлен на «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ». Начало: «Дарья Алексардровна Облонская, считавшая 9 лѣтъ своего красавца мужа». Конец: «выраженіе когда-то красиваго лица». Текст первых 10-ти листов представляет собой исправленную копию текста первых 11-ти и 12-го листа рукописи № 16. Следовавшие затем в рукописи 2 листа, представлявшие копию другой части 12-го, 13-го и части 14-го листов рукописи № 16, переложены в наборную рукопись (№103). Лист 11-й данной рукописи — вставка-автограф. Текст листов 12—19 лицевого — копия текста остальной части 12-го, 13—17 листов рукописи № 16. Текст листов 19 об. — начала 21 листа лицевого — копия текста листов 3—4 рукописи № 9, первоначально входившая в состав рукописи № 16. Текст остальной части 21-го листа, 22-го, 23-го и части 24-го — копия текста листов 19—20 рукописи № 16. Текст остальной части 24-го листа и листа 25-го — копия большей части 1-го листа рукописи № 11. 3 следующие листа, представлявшие собой продолжение копии рукописи № 11, переложены в наборную рукопись (№ 103). Текст листа 28-го — копия конца текста рукописи № 11. Вслед за этим на том же листе — копия текста листа 7 об. рукописи № 9. Следующий текст, представляющий продолжение рукописи № 6, переложен в наборную рукопись (№ 103). Текст листов 29—33 — продолжение и окончание текста рукописи № 9. Текст листов 34-го и 35-го — копия текста листов 8—10 рукописи № 6. Лист, находившийся между этими двумя листами, переложен в наборную рукопись (№ 103). Далее шла копия текста рукописи № 12. Начало этой копии — на 11 листах — переложено в наборную рукопись (№ 103), конец — в рукопись № 13 (последний лист). Из этой копии в данной рукописи остались лишь листы 36-й и 37-й. Вслед за тем шла копия текста листа 12-го рукописи № 6, начало которой находится на переложенном отсюда последнем листе рукописи № 13. На 38-м листе данной рукописи — окончание копии текста 12-го листа рукописи № 6. На том же листе и на листах 39—45 — копия текста рукописи № 13, за исключением ее конца. В этой копии — вставка-автограф на 1 листе. 16 листов, недостающие в копии, переложены в наборную рукопись (№ 103). На листах 46—63 — копия текста последних 8 листов рукописи № 16. Между листами этой копии — 6 листов вставок-автографов. Один недостающий лист из копии переложен в наборную рукопись (№ 103). Все копии написаны рукой С. А. Толстой, и все они, исключая копий текста рукописи № 16, первоначально входили в эту последнюю. В рукописи несколько записей рукой Толстого для памяти. Наиболее существенные следующие: 1) относящаяся к самочувствию Анны Карениной после бала:
Она подумать не можетъ о томъ, что она надѣлала, какъ человѣкъ, застрѣлившій нечаянно товарища.
2) относящаяся к Каренину, в самом конце рукописи:
Исторія А[лексѣя] А[лександровича]. Его честолюбіе и семейная жизнь. Ревность и потомъ успокоеніе. Самолюбивъ ужасно.
Последние два слова подчеркнуты три раза, слово «успокоеніе» — один раз.
После слов «поверил в него вполне только когда увидел его» (т. 18 настоящего издания, стр. 112) в рукописи написано:
какъ путешественникъ вполнѣ повѣритъ въ существованіе Суматры только тогда, когда увидитъ съ корабля землю, дорогиг деревья, людей.
О старом князе Щербацком в рукописи сказано:
Старый князь теперь <опустился, ушелъ въ себя и отказался отъ жизни. Онъ> служилъ номинально при Императрицыныхъ учрежденіяхъ, ѣздилъ въ клубъ, играя по 3 копейки, иногда ѣздилъ въ свѣтъ, <но очевидно было, что онъ ничѣмъ не интересовался и какъ будто только ожидалъ смерти> интересовался политикой и не вступалъ въ семейныя дѣла. Одна только меньшая дочь Kити еще иногда вызывала его къ жизни. Онъ любовался ею и, казалось, любилъ ее и наблюдалъ искателей ея руки и, очевидно, интересовался тѣмъ, за кого она выйдетъ замуж.
Извлекаем далее из этой рукописи варианты №№ 8, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23.
18. Автограф на 3 листах в 4°, из которых 2 первые исписаны с обеих сторон, последний — чистый. Текст на 2-м листе зачеркнут. Начало: «Часть вторая. Дьяволъ. Прошло два мѣсяца». Конец: «<Въ концѣ зимы послѣ парада>». На оборотной стороне последнего листа проба пера рукой переписчика Д. И. Троицкого.
Печатается полностью под № 35, включая и зачеркнутое, кроме последней, начатой и неоконченной фразы.
19. Автограф на 6 листах в 4°, исписанных большей частью с обеих сторон. На 2-х листах — вставка. Начало: «Ну, такъ и есть». Конец: «она сама въ темнотѣ видѣла». Вставки в рукописи на полях и на отдельном листе сделаны, очевидно, при приспособлении ее к позже написанному тексту.
Печатается полностью под № 37.
20. Рукопись на 16 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Толстого и с двумя вставками-автографами (по одному листу каждая). Начало: «Знаменитая пѣвица пѣла второй разъ». Конец: «и что они оба теперь довольны и счастливы». Написанное рукой С. А. Толстой представляет собой копию текста рукописи № 3, кончая словами: «что солнце не свѣтитъ», далее — рукописи № 2, от слов: «— Я часто думалъ, — сказалъ дипломатъ», до конца (за исключением вторично зачеркнутых в этой рукописи частей текста) и рукописи № 4 — от слов: «Алексѣй Александровичъ, хотите чаю?», кончая: «глядя изъ подлобья на Вронскаго» (за исключением вторично зачеркнутых в этой рукописи частей текста). Автографический материал, послуживший оригиналом для этой части копии, после того как он был исправлен и объединен Толстым в связное повествование, перенумерован его рукой по листам цыфрами от 1 до 9. Продолжение, написанное рукой переписчицы, является копией текста рукописи № 19. 2 листа из этой рукописи переложены в рукопись № 21, 2 листа — в рукопись № 22. Исправления Толстого, сделанные в копии, сделаны в направлении к окончательной редакции соответствующего текста. В процессе исправления рукописи связность текста ее была нарушена, и часть текста отнесена к первой части романа, часть — ко второй.
21. Рукопись на 38 листах в 4°, из которых один — последний — чистый. Написана с обеих сторон рукой С. А. Толстой и Д. И. Троицкого. Сильно исправлена Толстым. Его же рукой написаны 3 вставки на обеих сторонах четвертушки. В рукописи недостает очень многих листов, переложенных большей частью в наборную рукопись (№ 103). Два листа сюда переложены из рукописи № 20. В первоначальном своем составе данная рукопись — копия рукописи № 17. Первоначальное заглавие «Два брака» здесь зачеркнуто и вместо него написано «Анна Каренина». К эпиграфу «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ» рукой Толстого приписано начало: «Всѣ счастливыя семьи похожи другъ на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему». Под этой записью, которая вначале мыслилась Толстым, очевидно, как второй эпиграф к роману, подпись «Л. H.», зачеркнутая и замененная буквами NN. Конец: «гдѣ то далеко припрятаннымъ». На полях рукописи ряд конспективных записей рукой Толстого. После слов «что он тут для того, чтобы быть там, где она» (т. 19, стр. 109) в рукописи читается вариант:
«Да, я знаю это, что если бы я захотѣла, то я могла бы возбудить одну изъ тѣхъ страстей, для которыхъ люди жертвуютъ жизнью», думала она, и противъ воли ея въ глазахъ и на губахъ ея засвѣтилась сдержанная радость.
Перед словами: «Она говорила учтиво, почтительно» (т. 19, стр. 109) в рукописи написано:
Одинъ разъ ей случилось быть въ такомъ же положеніи: одинъ господинъ влюбился въ нее и сдѣлалъ ей признаніе, но тотъ говорилъ такимъ испуганнымъ, виноватымъ тономъ, что ей легко было поставить его на мѣсто.
Извлекаем, кроме того, отсюда варианты №№ 17 и 32.
22. Рукопись на 25 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого и исправленная рукой Толстого. Начало: «<Она была хороша>. Анна любила ее». Конец: «въ ихъ уединеніи». На первых четырех листах — копия части рукописи № 21, от слов «Она была хороша» (л. 36), кончая: «гдѣ то далеко припрятаннымъ» (л. 38) (здесь одного листа недостает). Далее — копия рукописи № 18, начинающаяся словами: «Часть вторая. Глава 1. Дьяволъ». Вслед за тем — копия рукописи № 20 от слов «Знаменитая пѣвица пѣла второй разъ», кончая: «въ ихъ уединеніи». 2 листа, написанные рукой С. А. Толстой и исправленные рукой Толстого, переложены сюда из рукописи № 20. Рукой Толстого написаны две вставки — одна на двух листах, другая — на пяти. Последняя описывает примирение Вронским титулярного советника с офицерами. Рассказ ведется не от лица Вронского, а от лица автора.
Извлекаем отсюда варианты №№ 33 и 38.
23. Рукопись на 4 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Уѣзжая изъ Петербурга, Удашевъ оставилъ». Конец: «наполняли ея время». Копия текста части рукописи № 22.
24. Рукопись на 8 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «сплошные зубы, — сказалъ Вронской». Конец: «вышелъ изъ комнаты». Копия большей части второй вставки в рукопись № 22 (о примирении Вронским титулярного советника с офицерами). Большая часть текста перечеркнута косою чертой через страницы, и вместо него рукой Толстого на вставке из двух листов написан новый текст, более краткий, в котором рассказ о примирении ведется от лица Вронского.
Извлекаем отсюда вариант № 36, текст которого сначала Толстым был исправлен, а затем большей частью зачеркнут.
25. Рукопись на 4 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого и исправленная рукой Толстого. Начало: «— Вотъ именно, — сказала <Анна> Бетси». Конец: «<въ ихъ уединеніи>». Копия соответствующей части рукописи № 22.
26. Автограф на 4 листах (2 листа почтовых, обыкновенного формата, и 2 в 4°), исписанных с обеих сторон. Начало: «<послушайте, не говорите этаго>». Конец: «отпустилъ его». На первом листе, до половины его, написан текст, относящийся к эпизоду встречи Анны с Вронским на обратном пути Анны из Москвы в Петербург. Текст этот зачеркнут. Далее написано:
1) Ордынцевъ въ деревнѣ. <2) Кити несчастная больная.> <XII> 2-я часть. Черезъ двѣ недѣли послѣ отъѣзда Анны въ Петербургъ, въ самомъ началѣ весны, въ домѣ Щербацкихъ происходилъ послѣдній рѣшительный консиліумъ. и т. д.
Извлекаем отсюда вариант № 34.
27. Автограф на 9 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «1. Левинъ жилъ въ деревнѣ». Конец: «и готовилъ ее и себя къ скачкѣ».
Извлекаем отсюда варианты №№ 40, 42, 43.
28. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных, кроме одного, с обеих сторон. Начало: «Водки, ты думаешь?» Конец: «и сестра его Мари жила съ нимъ».
Извлекаем отсюда вариант № 44.
29. Автограф на 14 листах в 4°, исписанных, кроме двух листов, с обеих сторон. Начало: «Надѣясь застать ее одну». Конец: «отвѣчала Анна». Текст заключает в себе рассказ о посещении Вронским Анны на даче перед скачками и описание скачек.
Извлекаем отсюда варианты №№ 45—48.
30. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<Щербацкіе уже> Кити Щербацкая еще далеко не кончила». Конец: «накупилъ». Конец фразы: «мѣшокъ сухарей и пошелъ дальше, показывая дорогой свои покупки» — на листе, вошедшем в состав рукописи № 31. Здесь этот конец, после того как он был переписан, зачеркнут, и оставшаяся чистая часть листа заполнена новым текстом.
Извлекаем отсюда вариант № 49.
31. Рукопись на 63 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой, за исключением десяти листов — автографов-вставок. Один лист — чистый. Начало: «прочна и давала новыя трещины». Конец: «и московскія горести ея стали воспоминаніемъ». В рукописи недостает в начале и в середине нескольких листов, которые, видимо, большей частью были переложены в наборную рукопись, в этой части до нас не дошедшую. Рукопись представляет собой исправленную и дополненную Толстым вставками копию последовательно листов 3 об. — 4 рукописи № 26, рукописи № 27, листа 4-го рукописи № 4, рукописей №№ 28 и 29, листов 12—13 рукописи № 4, рукописи № 30.
Извлекаем отсюда варианты №№ 39, 41, 51, 54, 55, 57.
32. Рукопись на 8 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого и исправленная рукой Толстого. Начало: «(Слѣдующая по порядку глава). <Левинъ жилъ въ деревнѣ>». Конец: «и господина въ шубѣ». Рукопись перенумерована рукой переписчика по полулистам писчей бумаги цыфрами 57, 58, 60, 62. В ней в середине недостает таким образом двух полулистов. Копия соответствующей части рукописи № 31.
33. Рукопись на 29 листах в 4°, написанная, почти всюду с обеих сторон, рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Толстого и его же рукой написанными вставками на 3 листах. Начало: «Внѣшнія отношенія Алексѣя Александровича съ женою». Конец: «горести ея стали воспоминаніемъ». Копия части рукописи № 31. Нескольких листов в рукописи недостает.
Извлекаем отсюда варианты №№ 50 и 52.
34. Рукопись на 17 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого, неизвестного, С. А. Толстой и (три последних листа) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Какъ и во всѣхъ мѣстахъ, где собираются люди». Конец: «задушевные разговоры». Копия соответствующей части рукописи № 33. В рукописи недостает нескольких листов, написанных переписчиком, а также одного листа, написанного рукой Толстого. На первых листах — нумерация, большей частью по полулистам писчей бумаги, рукой Толстого и рукой переписчика (6—9).
Извлекаем отсюда варианты №№ 53 и 58.
35. Рукопись на 6 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и Д. И. Троицкого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Несмотря на разницу лѣтъ». Конец: «<Князь съ Кити пошли на воды>». Копия соответствующей части рукописи № 34. Рукопись нумерована по полулистам писчей бумаги цыфрами 7, 8, 12. В ней недостает таким образом по крайней мере 6 листов (в середине), переложенных в рукопись № 36.
36. Рукопись на 24 листах в 4°, написанная, кроме последнего, с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого, неизвестного и С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «и догадка о томъ, кто кто». Конец: «Московскія горести стали воспоминаніемъ». Копия текстов рукописей №№ 32—34. В рукописи недостает многих листов, очевидно переложенных в недошедшую до нас часть наборной рукописи. Часть материала перенумерована, в большинстве по полулистам писчей бумаги, рукой переписчика цыфрами 2, 7, 8, 8, 9, 10, 11.
Извлекаем отсюда вариант № 56.
37. Автограф на 19 листах (18 — в 4° и 1 — клочок четвертушки), исписанных, кроме одного листа, с обеих сторон. Рукопись начинается с зачеркнутого конца абзаца, начало которого — на л. 19 об. Вслед за тем следует еще два зачеркнутых абзаца. Начало незачеркнутого текста: «3-я часть, С. Левинъ былъ не деревенскій житель». Конец: «и она не удерживала его». Первые 7 листов нумерованы рукой Толстого по листам (1—7). Следующие 5 листов не нумерованы. Последние 7 листов нумерованы рукой Толстого по листам и в одном случае по страницам (8—15). Перед текстом на л. 8 повторена пометка: «3-я часть». В тексте рукописи Толстым сделано несколько перестановок.
Извлекаем отсюда варианты №№ 60—64.
38. Автограф на 9 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<Двѣ четы. 3-я часть. 1. Послѣ объясненія на дачѣ Алексѣй Александровичъ не видѣлся съ женой все лѣто>». Конец: «встрѣтилъ въ каретѣ». Вместо зачеркнутого начала главы на 3 листах написано новое начало: «1. Послѣ объясненія съ женою на дачѣ Алексѣй Александровичъ, вернувшись въ Петербургъ» и т. д. Один из листов представляет собой вставку; на его обороте — черновик письма Толстого к редактору журнала, написанный в связи с выходом его «Азбуки». На последнем листе — сплошь конспективные записи, относящиеся к роману, и несколько выписок по-французски из книги Ларошфуко «Maximes» (печатается в отделе планов и заметок, № 11). Конспективные записи — и на полях других листов рукописи. Данная рукопись — в основном своем текстовом слое — одна из ранних в процессе работы над романом. Большинство исправлений, имеющихся в рукописи, а также записи на полях, сделаны впоследствии, при позднейшем приспособлении ее к контексту новых глав.
Извлекаем отсюда варианты №№ 66—69.
39. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «На другой день утромъ Алексѣй Александровичъ неожиданно вошелъ». Конец: «и онъ никогда не любилъ его».
Извлекаем отсюда вариант № 95.
40. Автограф на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<4-я часть. II глава 2-й части. Алексѣй Александровичъ устроилъ себѣ въ Министерствѣ дѣло ревизіи>». Конец: «<совѣты духовника не дали никакого рѣшенія.>» На полях — несколько конспективных записей. Рукопись была написана в первой стадии работы над романом и затем приспособлена в большей своей части к значительно позднее написанному тексту.
Извлекаем отсюда варианты №№ 96 и 97.
41. Автограф на 8 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<Алексѣй Александровичъ былъ въ такомъ уныломъ и убитомъ расположенiи духа>». Конец: «и написалъ адвокату требуемыя подробности». Текст этот относится к ранней стадии писания романа. В процессе дальнейшей работы над романом из этой рукописи был использован, будучи переработан, лишь текст, находящийся на лл. 3 и 7.
Печатаем целиком текст рукописи в ее первоначальной редакции, игнорируя последующие исправления части ее (вариант № 98).
42. Автограф на 17 листах в 4°, кроме одного, исписанных с обеих сторон. Начало: «На другой день — это было воскресенье — Степанъ Аркадьичъ заѣхалъ въ большой театръ». Конец: «Левинъ всталъ и проводилъ Кити до дверей». На л. 14 сделана пометка, отсылающая к тексту листа 7 рукописи № 41. Лист 15 не дописан, потому что за текстом, написанным на этом листе, должен следовать текст л. 3-го рукописи № 41. Рукопись эта написана в дальнейшей стадии работы над романом, в замену большей части текста рукописи № 41. Вместо Песцова окончательного текста здесь выступает Юркин, о котором сказано, что он «математик, физик, музыкант, историк», вместо Сергея Кознышева — Сергей Левин.
Извлекаем отсюда варианты №№ 99—102.
43. Автограф на 6 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. Начало: «<Съ этой мыслью Алексѣй Александровичъ вошелъ въ дверь>». Конец: «<для дѣтей, для нее и любовника>». Рукопись в основном относится к ранней стадии писания романа. В процессе дальнейшей работы текст ее приспособлен был для дальнейшей стадии в работе над романом. На 6 листе, в конце текста, сделана следующая запись:
Сватьба Ордынцева съ Кити.
Извлекаем отсюда варианты №№ 103 и 104. № 103 был написан при приспособлении рукописи к дальнейшей стадии работы над романом.
44. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Онъ былъ въ отчаяніи». Конец: «во всей своей прелести преслѣдовали его теперь». (Эпизод покушения Вронского на самоубийство). Рукопись относится к ранней стадии работы над романом.
Извлекаем отсюда вариант № 105.
45. Автограф на 7 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «<III часть. Глава I.> Да, но какимъ же образомъ соединить мое сознаніе». Конец: «<съ сыномъ въ Петербургѣ>». В основном рукопись была написана в ранней стадии работы над романом, но затем, при приспособлении к контексту романа, в дальнейшей стадии работы над ним, значительно исправлена и дополнена, в частности в ней сделана вставка на 3 листах.
Печатаем текст рукописи целиком, в исправленной и дополненной редакции (вариант № 106).
46. Автограф на 8 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «4-я часть. Катерина Александровна, сестра Алексѣя Александровича». Конец: «Поѣзжай». Очень ранний набросок конца романа по одному из первоначальных его замыслов — от ухода Анны из дома мужа и кончая ее смертью. Последний лист, в котором идет речь о смерти Анны, будучи переработан и приспособлен к новому контексту, вошел в состав рукописи № 99.
Печатаем автограф целиком (вариант № 107); текст последнего его листа, переложенного в рукопись № 99, воспроизводим в первоначальной его редакции.
47. Автограф на 6 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Первые 5 листов нумерованы рукой Толстого. Оборотная сторона последнего листа заполнена рисунками, геометрическими фигурами и алгебраическими формулами. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. <Послѣ объясненія съ мужемъ для Анны наступила>». Конец: «счастливо и спокойно». В окончательной редакции текст этого автографа не был использован.
Печатаем его целиком под №№ 75 и 76.
48. Рукопись на 3 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и рукой (1 лист — вставка) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «<Анна развилась очень поздно>». Конец: «<Но Вронского не было>». Очень несовершенная копия части текста предыдущего автографа. Большая часть текста копии перечеркнута.
Извлекаем отсюда вариант № 79.
49. Автограф на 7 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Анна ѣхала съ Княгиней Бетси Тверской къ Роландаки». Конец: «но, подумавъ минуту, она простилась и уѣхала». В процессе дальнейшей работы над романом текст автографа, будучи приспособлен к новой текстовой комбинации, был значительно исправлен (частью сокращен, частью дополнен).
Извлекаем отсюда вариант № 80, который печатаем в первоначальной его редакции.
50. Рукопись на 77 листах в 4°, написанная, почти всюду с обеих сторон, рукой С. А. Толстой и (вставки на 12 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Третья часть. I. Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ хотѣлъ отдохнуть». Конец: «и рѣшительно отказавшись отъ него». Копия текстов рукописей №№ 37—45. Рукопись нумерована посторонней рукой цыфрами от 105 до 203. Недостающие в ней листы были переложены, очевидно, в недошедшую до нас часть наборной рукописи, а также — частично — и в дошедшую.
Извлекаем отсюда варианты №№ 65, 70, 82.
51. Рукопись на 41 листе в 4° (1 чистый), написанная, кроме одного листа, с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого, неизвестного, С. А. Толстой и (вставки на 3 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «это наша русская лѣнь и барство». Конец: «<Онъ, кромѣ того что>». На последних листах несистематически проведенная рукой Толстого нумерация (1—2, 10—20, 8—9). Копия отдельных частей рукописи № 50, без начала, без конца и с пропуском многих листов в середине. На л. 39 об. — 41 переписчиком по недоразумению, очевидно, списан текст рукописи № 45 (эпизод покушения Вронского на самоубийство).
Извлекаем отсюда варианты №№ 71 и 72.
52. Рукопись на 3 листах, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «Чѣмъ болѣе несчастнымъ и нерѣшительнымъ чувствовалъ себя Алексѣй Александровичъ». Конец: «и съ энергіей, удививъ его противниковъ, комиссія». Копия вставки в рукопись № 51.
53. Автограф на 1 листе большого формата. Исписана половина лицевой стороны листа. Другая половина и оборотная сторона использованы для арифметических задач и выкладок. Текст автографа соответствует 1 главе третьей части окончательного текста романа. Начало: «Чаще и чаще ему приходило въ голову». Конец: «какъ слѣдовать общему благу».
54. Автограф на 2 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Конец рукописи, начало которой не сохранилось. Начало: «тономъ, которымъ было написано письмо». Конец: «ссадила его и и улыба[ясь] исчезла за поворотомъ».
Печатаем его полностью под № 73, в начале в квадратных скобках выписывая текст из копии автографа.
55. Рукопись на 12 листах, написанная большею частью с обеих сторон рукой неизвестного и (две вставки) Толстого и исправленная рукой Толстого. В рукописи недостает нескольких листов в начале и в середине. Начало: «<другихъ потребовалъ къ себѣ вниманія)». Конец: «я возьму Сережу, а вы поѣзжайте». Судя по совпадению части текста данной рукописи с текстом автографа № 54, она восходит к несохранившейся целиком рукописи № 54.
Извлекаем отсюда вариант № 74.
56. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных с одной стороны. Начало: «Послѣ 2-го дня маневровъ». Конец: «голосъ дрогнулъ, и она замолчала». В рукописи недостает одного листа (между 2-м и 3-м).
Извлекаем отсюда варианты №№ 84 и 85.
57. Рукопись на 11 листах в 4°, написанная, большей частью с обеих сторон, рукой С. А. Толстой и (вставки на 5 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Алексѣй Александровичъ, несмотря на свою установившуюся репутацію». Конец: «она утѣшала себя». Копия (без нескольких листов в середине) части текста рукописей №№ 55 и 56.
Извлекаем отсюда вариант № 77.
58. Рукопись на 9 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и (вставка на 2 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «<ихъ, Алексѣй Александровичъ остановился на этомъ>». Конец: «Во первыхъ, Алексѣй Александровичъ не столько». Первые 6 листов, 6 листов из середины и 1 последний лист из этой рукописи переложены в рукопись № 59. Копия текста семи листов рукописи № 57, а также текста недошедших до нас листов и, видимо, также недошедшей до нас вставки к рукописи № 57.
59. Рукопись на 23 листах в 4°, написанная, кроме последнего листа, с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. 13 листов переложены сюда из рукописи № 58, 2 листа переложены отсюда в рукопись № 60. Первые 8 листов перенумерованы рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Алексѣй Александровичъ, несмотря на свою установившуюся репутацію». Конец: «<и она поѣхала>». Написанное переписчиком в этой рукописи, кроме того, что написано на переложенных из предшествовавшей рукописи листах, — копия текста рукописи № 57.
Извлекаем отсюда вариант № 78.
60. Рукопись на 14 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Никто, кромѣ самыхъ близкихъ людей къ Алексѣю Александровичу, не зналъ». Конец: «втягивала въ него Анну». 2 листа сюда переложены из рукописи № 59, остальное — копия текста рукописи № 59. Листы 1—2 и 5—6 перенумерованы рукой Толстого (1, 2, 5, 6). В рукописи недостает в середине нескольких листов, которые были переложены, очевидно, в несохранившуюся часть наборной рукописи.
61. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Вронскій на другой день послѣ скачекъ все утро провелъ дома». Конец: «когда ему принесли записку».
Печатаем его целиком под № 83.
62. Рукопись на 29 листах в 4°, написанная, за исключением двух листов, с обеих сторон рукой неизвестного и (вставки на 16 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Она чувствовала, что то положеніе въ свѣтѣ». Конец: «и на этомъ они разстались». Переписанное переписчиком представляет собой копию последовательно: 1) текста двух последних листов рукописи № 60, 2) текста рукописи № 49 после ее переработки применительно к новому контексту романа, 3) текста автографа № 61, кончая: «съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ любимъ». Вo вставках Толстым написан текст, соответствующий тексту глав XIX—XXII третьей части, в окончательной редакции значительно переработанный и дополненный по сравнению с тем, что в соответствии с текстом этих глав было написано ранее.
Извлекаем отсюда варианты №№ 81 и 86.
63. Рукопись на 19 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой, неизвестного и (вставка на 1 листе) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «<другихъ женщинъ, которыя не могли, не уронивъ себя, подражать имъ въ этомъ>». Конец: «<и на этомъ они paзстались>». Копия части текста рукописи № 62. Недостающие в начале и в середине листы, вероятно, были переложены в несохранившуюся часть наборной рукописи.
64. Рукопись на 4 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. <Вернувшись домой, Вронскій нашелъ каретнаго извощика>». Конец: «<и опять ему чувствовался упрекъ и осу[жденіе]>». Копия (без конца) части текста рукописи № 63. Конец копии, вероятно, был переложен в несохранившуюся часть наборной рукописи.
65. Автограф на 3 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Кити жила въ Покровскомъ, въ 30 верстахъ отъ Левина». Конец: «чуть не поссорился съ нимъ». Текст по содержанию соответствует главам XXIV и отдаленно — XXV третьей части окончательного текста романа.
Извлекаем отсюда вариант № 87.
66. Рукопись на 4 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Ночь, проведенная Левинымъ на копнѣ». Конец: «и не находилъ отвѣта». Копия текста автографа № 65. При исправлении ее Толстым в тексте сделаны перестановки.
67. Автограф на 2 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Свентищевъ былъ умный и хорошій человѣкъ». Конец: «подъѣзжалъ къ Покровскому». Текст отдаленно соответствует тексту глав XXVI—XVIII третьей части окончательного текста романа.
Печатаем рукопись целиком под № 88.
68. Рукопись на 8 листах в 4°, написанная, кроме последнего листа, с обеих сторон рукой С. А. Толстой и (вставка на 6 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Свентищевъ былъ предводитель въ своемъ уѣздѣ». Конец: «переводя разговоръ на что нибудь пріятно веселое». Написанное переписчицей восходит к тексту рукописи № 67, но не непосредственно, а через посредство недошедшей до нас промежуточной, исправленной автором копии. В результате исправлений и значительных дополнений, сделанных автором, текст очень приблизился к тексту глав XXVI—XXVIII третьей части окончательного текста романа.
Извлекаем отсюда вариант № 89, представляющий собой текст, переписанный С. А. Толстой, восходящий к недошедшему до нас авторскому тексту и целиком зачеркнутый Толстым, а также вариант № 90 (из вставки-автографа).
69. Рукопись на 10 листах в 4°, написанная, кроме одного листа, с обеих сторон рукой неизвестного и С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «На половинѣ дороги онъ остановился кормить у богатаго мужика». Конец: «но не умѣла читать и считать». Копия текста рукописей №№ 66 и 68. В рукописи недостает нескольких листов в начале, в середине и в конце, очевидно, переложенных в недошедшую до нас часть наборной рукописи.
Извлекаем отсюда вариант № 91.
70. Автограф на 10 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Исполненіе плана Левина представляло много трудностей». Конец: «было ему извѣстно». Текст автографа соответствует тексту глав XXIX—XXXII третьей части окончательного текста романа.
Извлекаем отсюда вариант № 92.
71. Рукопись на 10 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «свое призваніе». Конец: «говорилъ онъ себѣ». Копия текста рукописи № 70. Начало копии отсутствует; вероятно, оно частично было переложено в недошедшую до нас часть наборной рукописи.
Извлекаем отсюда варианты №№ 93 и 94.
72. Рукопись на 1 листе в 4°, исписанном с обеих сторон рукой неизвестного и исправленном рукой Толстого. Начало: «умышленно превратно понялъ условія». Конец: «чтобы изучать еще». Текст этого листа восходит непосредственно к недошедшей до нас копии соответствующей части текста рукописи № 71.
73. Автограф на 13 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Обрученіе Левина съ Кити произошло 5 недѣль до поста». Конец: «молодые въ ту же ночь уѣхали въ деревню». Текст соответствует главам I—VI пятой части окончательного текста романа. В двух местах в рукописи нехватает отдельных частей текста.
Извлекаем отсюда варианты №№ 108—112. Недостающее начало варианта № 109, кончая словами: «болѣе чѣмъ 10-й разъ, и всякій», воспроизводим по копии его в рукописи № 74.
74. Рукопись на 21 листе в 4°, написанная, кроме последнего листа, с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Рукой же Толстого написана вставка на 1 листе. Начало: «<Слѣдующая по порядку глава. Обрученіе Левина съ Кити произошло 5 недѣль до поста>. Княгиня Щербацкая находила, что сдѣлать сватьбу до поста». Конец: «молодые въ ту же ночь уѣхали въ деревню». Копия текста предыдущей рукописи. Между 4-м и 5-й листами нехватает, очевидно, одного листа.
75. Рукопись на 9 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Княгиня Щербацкая находила, что сдѣлать сватьбу до поста». Конец: «Началась служба». Копия начальной части рукописи № 74.
76. Рукопись на 8 листах в 4°, написанная рукой неизвестного и (2 листа) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «— Однако послушай, — сказалъ разъ Степанъ Аркадьичъ Левину». Конец: «теперь прибѣгаетъ церковь». Копия части рукописи № 75.
Извлекаем отсюда вариант № 113.
77. Автограф на 19 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Откормленный оберъ-кельнеръ съ проборомъ». Конец: «чтобы повидаться съ сыномъ». Текст соответствует главам VII—XIII пятой части окончательного текста.
Извлекаем отсюда варианты №№ 114—123.
78. Два разрозненные листа в 4°, исписанные с обеих сторон рукой неизвестного и исправленные рукой Толстого. Начало первого листа: «III. Жизнь въ палаццо радовала Вронскаго». Конец: «хотя и не могъ найти, въ чемъ ошибка, и зналъ, что». Начало второго листа: «Слѣдующая по порядку глава. Художникъ Михайловъ, какъ и всегда, былъ за работой». Конец: «но съ требованіями этой фигуры, можно». Остатки копии автографа, описанного под № 77.
79. Три разрозненные листа в 4°, исписанные с обеих сторон рукой неизвестного. Первые два листа исправлены рукой Толстого. Начало текста первых двух листов: «несчастіе ея мужа дало ей слишкомъ большое счастіе». Конец: «какъ для русскаго и умнаго». На лицевой стороне третьего листа — текст, соответствующий части окончательного текста IX главы пятой части. Начало: «доставляло удовольствіе слышать себя». Конец: «— Хотите еще кофею? — спросила Анна». На оборотной стороне того же листа — текст, соответствующий части окончательного текста XX главы пятой части. Текст первых двух листов и лицевой стороны третьего листа восходит, видимо, к недошедшей до нас части рукописи № 78. Текст на оборотной стороне третьего листа — копия части текста недошедшей до нас рукописи, в которой описывалась смерть Николая Левина.
Извлекаем отсюда вариант № 124.
80. Автограф на 22 листах, исписанных почти исключительно с двух сторон. 20 листов — в 4°, 2 листа, хранящиеся в ГТМ и представляющие собой вставку, — in F°. Эта вставка сделана, видимо, к тексту недошедшего до нас первого листа рукописи. Начало вставки: «Несмотря на то, что Левинъ полагалъ». Конец: «было тяжелое для нихъ время». Начало основной рукописи: «Это не была серьезная и тяжелая сторона его жизни». Конец: «Нездоровье Кити была ея беременность, и ей надо было беречь себя». Текст рукописи соответствует главам XIV—ХX пятой части окончательного текста романа.
Извлекаем отсюда варианты №№ 125—131.
81. Пять разрозненных листов в 4°. Четыре первых листа исписаны с обеих сторон рукой неизвестного и исправлены рукой Толстого. Лист пятый — вставка-автограф, написанная на одной стороне листа. Три первых листа представляют связный текст, но обрывающийся на середине фразы. Начало первого листа: «Слѣдующая по порядку глава. Левинъ <ничего не могъ сдѣлать для брата. Онъ> не могъ». Конец третьего листа: «Докторъ съ невозмутимой серьезностью». Начало четвертого листа: «Да, да, такъ, такъ». Конец: «Онъ постоянно высказывалъ надежду на выздоровленіе». Начало вставки: «Левинъ догадывался». Конец: «и смотрѣть на это спокойно онъ не могъ». На отдельных листах нумерация рукой Толстого (непоследовательная): 19, 18, 21, 26. Данная рукопись — остаток исправленной автором копии с рукописи № 80.
82. Рукопись на 3 листах в 4°, написанная рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «<Только иногда, въ состояніи полусна>». Конец: «Но взглядъ его не». Остаток копии с рукописи № 81 (текст данной рукописи покрывает лишь текст вставки). По листам нумерация рукой Толстого: 30, 31, 32.
В рукописи читается следующий вариант:
Подъѣзжая со станціи желѣзной дороги къ гостиницѣ, Левинъ глядѣлъ, ожидая увидать крышку гроба, и, когда онъ узналъ, что больной въ такомъ же положеніи, онъ понялъ, какъ сильно онъ желалъ его смерти.
83. Рукопись ГТМ на 2 листах в 4°, написанная рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «Тоже пріятное ощущеніе». Конец: «Но все это было сдѣ[лано]». Копия части предыдущей рукописи, без начала и конца.
Извлекаем отсюда вариант № 132.
84. Разровненные листы (остатки) автографов в 4°, исписанные большей частью с обеих сторон. 6 листов хранится в Библиотеке им. Ленина, 3, сильно изгрызенные мышами, — в ГТМ. Текст автографов связан с событиями в жизни А. А. Каренина после отъезда его жены из дома и с эпизодом встречи Каренина с Анной на Невском после возвращения ее из за границы.
Извлекаем отсюда вариант № 133.
85. Рукопись на 5 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «(Слѣдующая по порядку глава.) Еще одно важное дѣло въ это время занимало Алексѣя Александровича». Конец: «пожалуйста, я сниму». Копия с недошедшего до нас автографа.
Печатаем ее полностью (вариант № 134).
86. Рукопись на 7 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Кромѣ труда по составленію проэктовъ». Конец: «<когда говорилъ съ нимъ>». Не полностью сохранившаяся копия предыдущей рукописи. Большая часть текста перечеркнута косыми продольными чертами вдоль страниц. Один лист (последний) переложен отсюда в рукопись № 90.
87. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой переписчика и исправленная рукой Толстого. Хранится в ГТМ. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Друзья Алексѣя Александровича, въ особенности графиня Лидія Ивановна». Конец: «смѣясь говорила графиня Лидія Ивановна». Начало копии, восходящей к недошедшему до нас автографу.
88. Рукопись на 13 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и (на 3-х листах-вставках) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Друзья Алексѣя Александровича, въ особенности графиня Лидія Ивановна». Конец: «влюбленныя перешли въ Москву». Разрозненная копия текстов части рукописей № 87, 86, 83.
Извлекаем отсюда варианты №№ 135—137, 145.
89. Рукопись на 10 листах в 4°, исписанная с обеих сторон рукой неизвестного и (две вставки на 4 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Соединенъ ли ты съ женой». Конец: «какъ онъ въ другой разъ поправитъ это». Копия автографа, дошедшего до нас лишь в обрывках в рукописи, хранящейся в ГТМ.
Извлекаем отсюда варианты №№ 138 и 139.
90. Рукопись на 46 листах в 4° (один чистый), написанная, почти исключительно с обеих сторон, рукой С. А. Толстой, неизвестного и (26 листов вставок) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «Мнѣ говорили, что прочутъ Сафонова». Конец: «какъ вновь влюбленные, радуясь на свое счастье». Переписанное переписчиками — копия текстов предыдущих рукописей, начиная с № 82. Часть листов из данной рукописи переложена в наборную рукопись. Лист 16 переложен сюда из рукописи № 86.
Извлекаем отсюда варианты №№ 140—142, 146—152.
91. Рукопись на 4 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «Слѣдующая по порядку глава. Главная цѣль поѣздки въ Россію для Анны». Конец: «<Съ дамой этой, какъ легкаго поведенья>». Копия (без окончания) части текста рукописи № 90. Листы нумерованы рукой Толстого цыфрами 30, 31, 32, 33. Две последние цыфры потом исправлены Толстым на 37 и 38.
92. Рукопись на 31 листе в 4° (один чистый), написанная почти целиком с обеих сторон рукой С. А. Толстой и (вставки на 3 листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. Начало: «<одному или съ отцомъ, о томъ>». Конец: «какъ вновь влюбленные, радуясь на свое счастіе». Разрозненные листы, входившие первоначально в рукопись, предназначенную для набора. Заключая в себе большое количество авторских исправлений, эти листы были для наборной рукописи заново переписаны, а затем удалены из нее. Текст их представляет собой копии соответствующих частей рукописей №№ 90—91. Многие листы нумерованы рукой Толстого. Нумерация большей части листов непоследовательна.
В тексте, соответствующем тексту главы XXIV пятой части окончательной редакции, читается следующий вариант:
Въ сосѣдней залѣ (в подлиннике: залой) съ тою, въ которой находилась имянинница, у дверей образовалась группа около Лизы Мерцаловой, лѣниво опустившейся на креслѣ <съ <своими усталыми черными большими> черными глазами> и знаменитаго mauvaise langue [злоязычника] дипломата въ придворномъ мундирѣ съ тонкими чертами лица и звонкимъ голосомъ. Лиза Мерцалова дожидалась Стремова, прошедшаго въ гостиную; дипломатъ веселилъ разговорами. Добродушный, съ краснымъ лицомъ военный князь слушалъ, въ каждомъ словѣ ожидая шутки. Дипломатъ шутилъ по случаю слуховъ о перемѣщеніяхъ важныхъ служащихъ. Онъ называлъ всѣмъ извѣстныхъ дамъ, назначая ихъ на мѣста, оставшіяся вакантными.
Страница с этим вариантом (по рук. № 92, л. 15) автотипически воспроизведена в книге «С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому 1862—1910». Редакция и примечания А. И. Толстой и П. С. Попова. Изд. «Academia», М.—Л. 1936, между стр. 132 и 133.
Извлекаем, кроме того, из этой рукописи вариант № 143.
93. Автограф на 13 листах в 4°. Первый и последний листы — обложки. На первом листе написано: «<Дарья Александр.> Ст.», последний лист — чистый, остальные исписаны с обеих сторон. Начало автографа: «<III часть. I.> II томъ, I часть, I. Долли проводила это лѣто съ дѣтьми у сестры Кити Левиной». Конец: «Онъ хлопочетъ и приходитъ къ чаю». Данный текст относится к ранней стадии работы над романом и впоследствии был переработан. На полях много конспективных заметок.
Печатаем его полностью, со включением всех авторских исправлений (вариант № 153).
94. Автограф на 6 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. Начало: «Удашевъ и Анна жили въ Воздвиженскомъ». Конец: «но все было неясно и страшно». Текст написан в ранней стадии работы над романом, очевидно, непосредственно вслед за текстом предшествующего автографа. На полях много конспективных записей.
Печатаем его полностью под № 154.
95. Автограф на 1 листе в 4°, исписанном с обеих сторон. Начало: «Несмотря на увѣренія Степана Аркадьича». Конец: «и дорого купленное счастіе».
Печатаем его полностью под № 155.
96. Рукопись на 18 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и (вставка на двух листах) Толстого и исправленная рукой Толстого. На листе 7 — две поправки карандашом рукой Н. Н. Страхова. Начало: «Удашевъ и Анна жили въ Воздвиженскомъ». Конец: «гдѣ онъ жилъ съ Анной до этого». Копия автографов №№ 94 и 95. На полях листов 10 об., 13 и 16 об. — конспективные заметки, которые печатаем в отделе планов и заметок (№ 12).
97. Рукопись на 94 листах в 4°, написанная, большей частью с обеих сторон, рукой неизвестного, С. А. Толстой и Толстого и исправленная рукой Толстого. Сплошь рукой Толстого написан ряд вставок в середине рукописи (34 листа) и последние 33 листа. Небольшая часть листов нумерована рукой постороннего (206—215). Начало: «Часть 6. Глава I. Долли проводила лѣто съ дѣтьми у сестры своей Кити Левиной». Конец: «они поселились теперь супружески вмѣстѣ». Написанное переписчиками представляет собой копию рукописи № 93 (с пропусками) и рукописи № 96, начиная с текста листа 5 об. и кончая текстом листа 12 об. Многочисленные исправления, дополнения Толстого и вновь написанные им главы приближают текст рукописи к тексту шестой части романа в окончательной редакции. На полях листов 14 об., 41, 65 и 82 сделаны конспективные заметки и наброски плана. На полях листа 33 рукой С. А. Толстой написано: «Поправлено 9 декабря 1876 года», а на полях листа 38 ее же рукой — «Написано 10 декабря 1876».
Извлекаем отсюда варианты №№ 156—171.
98. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Нумерована рукой Толстого по листам (3—4). Начало: «И вдругъ вмѣсто всего этого». Конец: «<ревновать къ ея прошедшему — къ Вронскому>». Копия части текста рукописи № 97.
99. Автограф на 57 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон (один лист чистый). На 5 листе 21/2 строки написаны рукой С. А. Толстой. Последний лист переложен из рукописи № 46 и исправлен в соответствии с новым контекстом. Последние девятнадцать листов нумерованы рукой Толстого (1—19). Начало автографа: «Часть 7. I глава. Левины три мѣсяца уже жили въ Москвѣ». Конец: «<потребность жизни и успокоеніе>». Текст поделен на две части: седьмую и восьмую. На полях несколько конспективных заметок и одна пометка для памяти в том листе (46 об.), где речь идет о поездке Анны на цветочную выставку (эпизод этот в окончательной редакции исключен): «Прошу Соню описать туалетъ». Текст автографа соответствует седьмой части окончательной редакции романа.
Извлекаем отсюда варианты №№ 172, 173, 175—185.
100. Рукопись на 38 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Его же рукой написана вставка (л. 2). Большая часть листов нумерована рукой Толстого. Начало: «Она безъ ужаса не могла подумать объ этомъ». Конец: «и все потухло» и затем приписка рукой Толстого: «Роды Кити». В рукописи недостает многих листов, переложенных в наборную рукопись (№ 103). Вместе с этими переложенными листами данная рукопись — копия автографа № 99. На полях несколько конспективных заметок.
Извлекаем отсюда варианты №№ 186 и 187.
101. Автограф на 20 листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. На обороте последнего листа рукой С. А. Толстой написано: «Конец Анны Карениной». Нумерован по листам рукой С. А. Толстой (1—20). Начало: «Эпилогъ. Славянскій вопросъ, начинавшій занимать общество». Конец: «подумалъ онъ. Конецъ». На полях — конспективные записи. Текст автографа соответствует восьмой части романа в окончательной редакции.
Извлекаем отсюда варианты №№ 190, 195, 196, 197, 199. План эпилога печатаем в отделе планов и заметок, под № 13.
102. Рукопись на 13 листах большей частью в 4°, написанная, кроме первого и последнего листов и листа со вставками-автографами, с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Нумерована по листам рукой С. А. Толстой. Начало: «Эпилогъ. Въ средѣ людей, вслѣдствіи достатка лишенныхъ физическаго труда». Конец: «входило ему въ душу это новое чувство. Конецъ». На обороте первого листа рукой Толстого написан черновик телеграммы Каткову в связи с отказом последнего печатать в «Русском вестнике» эпилог (восьмую часть) «Анны Карениной»: «Москва. Редакція «Русского Вѣстника» Прошу <немедленно> обратно выслать оригиналъ эпилога. Съ «Русскимъ Вѣстникомъ» впредь дѣла имѣть никогда никакого не желаю и не буду. Толстой». Остатки копии автографа № 101, большая часть листов которой переложена в наборную рукопись (№ 103). На лицевой стороне первого листа написано новое начало эпилога, перенесенное затем в текст копии (лист 2-й) в исправленной редакции.
103. Наборная рукопись на 489 листах в 4°, написанная, почти целиком с обеих сторон, рукой Д. И. Троицкого, С. А. Толстой и неизвестного, а также (вставка на 15 листах) рукой Толстого, с многочисленными исправлениями, пометками и записями на полях рукой Толстого. Целиком не сохранилась. Первая часть сохранилась от начала до эпизода встречи Анны с Вронским (здесь — Удашевым) в Бологом и обрывается на словах: «Какіе-то два господина съ огнями». Текст первой части составился из листов, переложенных в наборную рукопись из рукописи № 21, и из копий листов, оставшихся в рукописи № 21. После слов «Первая часть» рукой Толстого написано: «Глава I. Семейная ссора». На полях его же рукой написано черновое начало дополнительного текста, не вошедшего в наборную рукопись, но имеющегося в окончательном тексте: «Она, эта вѣчно озабоченно хлопотливая, недалекая и не глубокая, какой онъ ее считалъ, Долли» и т. д. Очевидно, это дополнение, стилистически не отделанное и не вошедшее в текст дожурнальной редакции, было сделано после чтения корректур дожурнального текста. В сохранившейся первой части — всего 123 листа. Первые 101 лист окончательно нумерованы, частично рукой Толстого, частично рукой переписчика, цыфрами от 1 до 97 (четыре листа нумерованы одной и той же цыфрой); остальные окончательно нумерованы рукой Толстого (1—20). Отсутствие сплошной нумерации листов здесь, как и в дальнейшем, очевидно свидетельствует о том, что текст посылается в набор по частям. Первые главы имеют отдельные подзаголовки: Глава 1 озаглавлена «Семейная ссора», глава вторая — «Два пріятеля», глава третья вовсе не обозначена, глава четвертая озаглавлена «Предложеніе», глава пятая — «Встрѣча на желѣзной дорогѣ», глава шестая — «Примирительница», глава седьмая — «Балъ». Следующие главы заглавия не имеют, и Толстым зачеркнуты даже заглавия, списанные переписчиком из предшествующих редакций: «Деревня» (глава восьмая) и «Ночь въ вагонѣ» (глава девятая).
На некоторых листах сделаны конспективные заметки, частью зачеркнутые. Эти заметки сделаны были, вероятно, после работы над корректурой дожурнального текста. Наиболее существенные из них следующие. На листе 47, рядом с характеристикой семьи Щербацких, написано: «Шпетныя барышни, и такой же былъ сынъ». На листе 55 об. написано: «Не дѣлаетъ предложенія, а по отношенію съ Вронскимъ узнаетъ, въ чемъ дѣло». Смысл этой заметки уясняется следующим написанным над ней вариантом, однако недоконченным и зачеркнутым:
Такъ продолжался несвязный разговоръ. <Левину и въ голову не могло придти сдѣлать предложеніе.> Левинъ догадывался, что Кити нарочно медлитъ, чтобы избѣгнуть объясненія, и потому онъ понималъ, что не за чѣмъ дѣлать предложеніе матери и что кромѣ отказа онъ ничего ожидать не можетъ. Краснѣя и блѣднѣя, онъ самъ не помнилъ, что говорилъ съ матерью. Наконецъ
На листе 87 об., рядом с описанием разговора Анны с Кити перед балом запись: «Рассказываетъ свой романъ въ Калугѣ», уясняемая тут же рядом написанным текстом:
Анна какъ будто догадалась, о чемъ думала Кити, она тоже вспомнила объ Алексѣѣ Александровичѣ и <о своемъ романѣ съ нимъ,> поняла, какъ другимъ, Кити, напримѣръ, должно было казаться, что въ ея бракѣ не было романа, что это было очень просто. Но нѣтъ женщины, для которой бы исторія ея брака не была бы самымъ важнымъ и сложнымъ романомъ. И такимъ казалась Аннѣ исторія ея замужества.
На листе 95 об., рядом с описанием бала в Москве, пометки: «Барышни Дьяковы». «Милая чета Корсунскихъ». «Уродъ Оболенской». С этого текста первой части набирался дожурнальный текст романа.
Наборная рукопись второй и третьей частей не сохранилась. От четвертой части дошел текст, соответствующий главам XII—XVII четвертой части окончательной редакции. Начало: «Въ затѣянномъ разговорѣ о правахъ женщинъ». Конец: <«но онъ видѣлъ, что это міросозерцаніе не годится>». Вслед за этим рукой М. Н. Каткова сделана пометка: «Прод[олжение] сле[дует]. Граф Лев Толстой». Эта часть рукописи, содержащая в себе 22 листа, нумерована рукой Толстого по листам (1—22). Текст ее является копией соответствующих частей текста рукописей №№ 50 и 51 и автографа № 43. Копия этого последнего, очевидно, первоначально входила в состав рукописи № 50.
От пятой части дошел текст наборной рукописи, соответствующий главам XXI—XXXIII пятой части в окончательной редакции. В середине утеряны два листа (по нумерации Толстого — 42 и 43). Начало: «XX. Съ той минуты какъ Алексѣй Александровичъ понялъ». Конец: «радуясь на свое счастье». Содержит в себе 61 лист. Первый лист чистый. На нем рукой М. Н. Каткова написано: «Анна Каренина. Набирать скорее, так чтобы завтра к вечеру кончить. М. К.» Листы, начиная со второго, нумерованы, почти исключительно рукой Толстого (1—57; несколько листов нумерованы одинаковыми цыфрами). Текст этой части составился из листов, переложенных в наборную рукопись из рукописи № 92, и из копий листов, оставшихся в этой рукописи.
Текст шестой части дошел до нас полностью. Начало: «Часть 6. Глава I. Долли проводила лѣто съ дѣтьми у сестры своей Кити Левиной». Конец: «они поселились теперь супружески вмѣстѣ». Содержит в себе 125 листов, окончательно нумерованных рукой Толстого по листам (58—114; 1—69). Во второй нумерации пропущена цыфра 55, и после листа, нумерованного цыфрой 54, следует лист, нумерованный цыфрой 56. Текст представляет собой копию текста рукописей №№ 97 и 98.
Текст седьмой части также дошел полностью. Начало: «Часть седьмая. I глава. Левины жили въ Москвѣ, ожидая родовъ». Конец: «и все потухло». Содержит в себе 104 листа, окончательно нумерованных рукой Толстого сначала по страницам (1—30), затем по листам (31—61, 1—58). Текст седьмой части составился из листов, переложенных в наборную рукопись из рукописи № 100, и из копий листов, оставшихся в этой рукописи.
И текст восьмой части («Эпилога») сохранился полностью. Начало: «Эпилогъ. Въ средѣ людей, вслѣдствіи достатка лишенныхъ физическаго труда». Конец: «входило ему въ душу это новое чувство. Конецъ». На первом листе сверху рукой М. Н. Каткова написано: «Анна Каренина. Набрать сегодня и прислать мне». Содержит в себе 54 листа, нумерованных по листам рукой Толстого (1—54). Текст эпилога составлен из листов, переложенных в наборную рукопись из рукописи № 102, и из копий листов, оставшихся в этой рукописи.
Извлекаем из наборной рукописи варианты №№ 16, 24, 28, 30, 174, 188, 189, 191, 198.
104. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой неизвестного и исправленная в четырех местах рукой Толстого. Начало: «Ему хотѣлось, чтобы Левинъ былъ веселъ». Конец: «какъ ты смотришь на это?» На первом листе рукой переписчика проставлена цыфра 17. Текст относится к главе X первой части и хронологически следует за соответствующим текстом наборной рукописи. Это, очевидно, остатки копии с недошедшей до нас части исправленной корректуры дожурнального текста.
105. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная на 3 страницах рукой неизвестного. В ней в двух местах сделаны зачеркивания, очевидно, рукой Толстого. На первом листе рукой переписчика проставлена цыфра 17. Начало: «Лицо Левина вдругъ просіяло улыбкой». Конец: «должна желать этого». Текст также относится к X главе первой части и, как и предыдущий, является остатком копии с недошедшей до нас исправленной корректуры дожурнального текста.
106. Корректура дожурнального текста романа на 9 гранках, исправленная рукой Толстого, нумерованная по гранкам синим карандашом рукой постороннего (3—11). Начало: «— Да, но спириты говорятъ теперь». Конец: «Она встала и обняла золовку». Набор части текста рукописи № 103. Эта часть соответствует тексту части главы XIV, глав XV—XVIII и части главы XIX первой части романа в окончательной редакции. Набранный текст заключает в себе большое количество исправлений. Из вариантов отметим наиболее существенные.
О Вронском приписано на полях вместо зачеркнутого набранного текста:
Кромѣ того, онъ не могъ не видѣть, что нетолько мать и отецъ Кити, но она сама уже начала мучаться ожиданіемъ того рѣшительнаго слова, которое онъ долженъ былъ сказать ей. Онъ видѣлъ, какъ она всякую минуту робѣла и вспыхивала отъ боязни вызвать это слово. Онъ и прежде чувствовалъ себя влюбленнымъ въ нее, но теперь съ этой боязнью она казалась ему еще милѣе, но, несмотря на то, онъ чувствовалъ себя еще очень далекимъ отъ того, чтобы сказать это слово; и именно потому, что это было слишкомъ легко и потому, что всѣ ожидали этаго отъ него.
Далее добавлено:
Ему становилось совѣстно за то, что онъ такъ мучаетъ ее, не говоря того слова, котораго она такъ робко и страстно ожидаетъ.
Там, где говорится о возвращении Вронского в гостиницу Дюсо, дописано:
Въ столовой онъ засталъ знакомыхъ, пріѣхавшихъ ужинать изъ оперы, подсѣлъ къ нимъ и, поужинавъ и выпивъ нѣсколько бокаловъ шампанскаго, пошелъ спать совершенно успокоенный и потерявъ ту нить мысли, вслѣдствіи которой представлялись какія-нибудь сомнѣнія въ его отношеніяхъ къ Кити.
По поводу Левина у Вронского с Облонским происходит такой разговор:
— Это этотъ широкій съ бородой, который вчера быль у Щербацкихъ?
— Да... Не правда ли, славный малый...
— Да, но отчего онъ все сердится? — открывая доброй улыбкой свои сплошные бѣлые зубы, сказалъ <Удашевъ> Вронской. — И развѣ нельзя быть умнымъ и не читать лекцій въ гостиной.
О матери Вронского сказано:
Графиня Вронская, сухая старушка, съ замѣчательно красивыми и строгими черными глазами и стальными колечками, зашпиленными пукольками, щурила глаза, вглядываясь въ сына.
Между ней и Вронским при встрече в вагоне происходит следующий разговор:
— Ну чтожъ, правда? — сказала она, глядя ему въ глаза. — Я буду очень, очень рада.
<Удашевъ> Вронской, несмотря на внѣшнюю почтительность къ матери, холодно посмотрѣлъ на нее.
— Я не знаю, о чемъ вы говорите.
— Ну хорошо, хорошо, — съ робостью передъ сыномъ проговорила мать. — Я только хотѣла сказать, что я не посмотрю ни на богатство, ни на знатность, только бы ты былъ счастливъ.
На последней гранке дописано:
Христіанскія же увѣщанія Долли ожидала отъ своей золовки потому, что, когда она видѣла ее послѣдній разъ въ Петербургѣ, Анна жила и обращалась въ высшемъ утонченно православно религіозномъ Петербургскомъ кругу и была увлечена имъ.
107. Корректура дожурнального текста романа на 6 гранках, исправленных рукой Толстого, со вставкой-автографом на 2 листах в 4°, исписанных на 3 страницах (второй лист снизу оторван). Гранки нумерованы черным карандашом рукой постороннего (1—6). Начало: «Ахъ, какже, я все записываю». Конец: «задрожала платформа». 2-й экземпляр набора дожурнального текста, соответствующего тексту части главы XIV, глав XV—XVI и части главы XVII. Последние 4 гранки этой корректуры по тексту совпадают с первыми четырьмя гранками корректуры предыдущей. В ней сделаны авторские исправления наново, без учета исправлений в предшествующей корректуре. Судя по тому, что большинство исправлений именно этой корректуры отразилось в окончательной редакции, она читалась Толстым позднее корректуры № 106, хотя и из последней в окончательную редакцию вошли кое-какие чтения.
Внешность Вронского в данной корректуре описана так:
Вронской былъ невысокій, пропорціонально сложенный <коренастый> брюнетъ съ характерно красивымъ и <рѣшительнымъ> спокойно миловиднымъ, чистымъ лицомъ (какъ съ иголочки мундиръ его, такъ и лицо, глянцовитые русые волоса и черные тонкіе усы — все на немъ лоснилось).
На полях дописано следующее размышление Левина о Вронском:
«Но эти неизмѣняющіеся твердо блестящіе глаза? И эта <частая щетка бритой бороды на широкихъ скулахъ> спокойная и тонкая улыбка самодовольства, — сказалъ себѣ Левинъ. <— Онъ не духовный человѣкъ, и въ немъ много животнаго, красиваго, привлекательнаго, но животнаго>».
После слов, в окончательной редакции читающихся: «Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать» (т. 18, стр. 62) в данной корректуре еще было написано:
«Перестать ѣздить въ домъ ухаживать за ней? Жалко. Зачѣмъ лишить себя и даже ее этаго удовольствія? Заняться Claire? Скучно. Ужъ надоѣла. Все равно на дняхъ приведутъ ремонтъ, и я все равно уѣду», успокоивалъ онъ себя.
108. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой Д. И. Троицкого и очень сильно исправленная рукой Толстого. На первом листе цыфра 8 (для обозначения нумерации). Начало: «<прошли на платформу за тѣ самыя двери>». Конец: «<и тотчасъ же обратилась къ собесѣдницѣ>». Копия части текста исправленной корректуры № 106, очевидно, представляющая собой сохранившийся остаток более полной копии.
На полях написан следующий вариант:
Открытіе, сдѣланное Вронскимъ о томъ, что Левинъ влюбленъ въ Кити <и отстраненъ отъ нея имъ, и вѣроятно> сильно поразило его. Мысль, приходившая ему вчера о томъ, что можетъ быть дурное въ томъ удовольствіи, которое онъ находитъ у Щербацкихъ, пришла ему еще съ большей ясностью. Онъ чувствовалъ себя взволнованнымъ до такой степени, что забылъ о матери и о ея пріѣздѣ.
В тексте зачеркнуто также следующее:
Онъ перешагнулъ черезъ порогъ вагона, указаннаго ему кондукторомъ, но въ коридорѣ былъ задержанъ двумя разговаривавшими дамами. Съ той безсознательной привычкой свѣтскаго человѣка по чуть замѣтнымъ мелочамъ опредѣлять положеніе въ свѣтѣ и сортъ людей, съ которыми встрѣчаешься, Вронской, взглянувъ на одну из дамъ, по огромному шиньону волосъ изъ подъ шляпы, по звуку, выговору, рѣшивъ, что это дамы неинтересныя для него, не глядя на нихъ, прося извиненія, продвинулся, чтобы пройти.
— Что вамъ стоитъ, — говорила одна изъ дамъ, — можетъ быть, это Богъ свелъ меня съ вами. Вы слово скажете мужу.
— Извините, — сказалъ онъ еще разъ.
— Я все готова сдѣлать, что отъ меня зависитъ, — отвѣчала другая дама, — но повѣрьте, что это не въ моей власти.
Вронской взглянулъ на ту, которая это сказала, и тотчасъ понялъ, что онъ ошибся въ своемъ сужденіи объ обѣихъ дамахъ.
По звуку ея голоса, по тону, выговору и по темной простой одеждѣ и въ особенности по той тихой, незамѣтной граціи, которая лежала на всей этой фигурѣ, онъ понялъ, что ошибся и что эта дама была нетолько его круга, но одна изъ прелестнѣйшихъ женщинъ, которыхъ онъ видѣлъ. Окруженное бѣлымъ оренбургскимъ платкомъ молодое и умное лицо не носило на себѣ никакихъ слѣдовъ дороги.
109. Корректура дожурнального текста романа на 7 гранках, исправленных рукой Толстого, со вставкой-автографом на 6 листах в 4°, исписанных большей частью с обеих сторон. Двух гранок (6-й и 7-й) недостает. Остальные нумерованы зеленым карандашом рукой постороннего (1—5. 8—9). Начало: «XIII. Прямо отъ Щербацкихъ послѣ мучительнаго вечера Левинъ заѣхалъ на телеграфъ». Конец (рукой Толстого): «то сплетничая про домашнія дѣла, то вспоминая старину». Набор части текста рукописи № 103. Эта часть соответствует тексту глав XXIV—XXVII первой части окончательной редакции романа.
Извлекаем отсюда вариант № 29.
110. Рукопись на 1 листе в 4°, написанная рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «Одно утѣшительно — это то, что когда мы оба умремъ». Конец: «<Я хотѣлъ сказать>». Очевидно, копия с недошедшей до нас части корректуры № 109.
111. Рукопись на 11 листах (5 полулистов и 1 четвертушка) в 4°, написанная рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. В ней недостает двух полулистов (1-го и 5-го). Полулисты и четвертушка нумерованы рукой переписчика (2, 3, 5, 6, 6, 7). Начало: «Онъ въ университетѣ и годъ послѣ университета». Конец: «что есть въ ней что то хорошее, милое, — сказалъ онъ». Копия части текста (со вставками) корректуры № 109 и текста рукописи № 110.
112. Рукопись на 2 листах в 4°, написанная рукой неизвестного и исправленная рукой Толстого. Начало: «— Николай Дмитричъ, Николай Дмитричъ, — прошептала опять Марья Станиславна». Конец: «Охъ, не люблю я тотъ свѣтъ! Не люблю». Копия текста двух последних листов предыдущей рукописи.
113. Сверстанная корректура дожурнального текста «Анны Карениной», исправленная рукой Толстого чернилами и карандашом (видимо, дважды). Сохранились конец четвертого печатного листа (стр. 63—64) и целиком лист пятый (стр. 65—78 и далее две страницы чистых). Начало: «— Такъ что она мало того что любитъ тебя». Конец: «— Вѣрно, они на васъ очень сильно дѣйствуютъ». Вслед за текстом — приписка рукой типографского служащего: «За этим следуют гранки, вам присланные прежде с оригиналом вместе». (Имеются в виду, несомненно, гранки, описанные под № 107, текст которых является непосредственным продолжением текста данной сверстанной корректуры.) Текст корректуры представляет собой верстку не дошедших до нас гранок с авторской правкой. Он соответствует тексту части X главы, глав XI-XIII и части XIV главы первой части романа в окончательной редакции.
114. Корректура дожурнального текста романа на 33 гранках, без исправлений рукой Толстого и вообще без каких-либо исправлений. Начало: «двери чаще стали отворяться». Конец: «съ особенной улыбкой посадилъ ее въ карету». Текст соответствует концу текста главы XVII и тексту глав XVIII—XXXI первой части романа в окончательной редакции. Набор соответствующего текста рукописи № 103, в том числе и того, который в этой рукописи не сохранился (большая часть XXX главы и вся XXXI глава применительно к тексту окончательной редакции). Этим определяется значение данной корректуры, хотя бы и не правленной, для истории текста «Анны Карениной».
115. Рукопись на 2 листах большого почтового формата, исписанная с обеих сторон. Письмо (без конца) из Женевы от 25 мая 1875 г. с печатным штампом: «Office du professorat des familles et des maisons d'éducation». Неизвестный автор письма (фамилия его, очевидно, находилась в утраченной части письма) рекомендует Толстому для его детей гувернера и гувернантку. Следует отметить, что фамилия рекомендуемого гувернера — Canut фигурирует в XXX главе второй части романа: Canut и его сестра входили в круг иностранных знакомых Щербацких на немецких водах. На четвертой странице письма Толстой, очевидно, в процессе работы над корректурой второй части романа, печатавшегося в «Русском вестнике», записал: «Теперь же онъ видѣлъ только то, что Махотинъ быстро удалялся, и онъ былъ одинъ на грязной землѣ, а передъ нимъ на боку лежала Фру-Фру и, тяжело дыша, перегнувъ [1 неразобр.]». Текст относится к XXV главе второй части романа (по счету окончательной редакции).
116. Автограф на 1 листе в 4°, исписанном с одной стороны. Начало: «Все, что онъ передумалъ и перечувствовалъ». Конец: «Жениться на крестьянкѣ?» Вставка в недошедшую до нас корректуру третьей части романа (в текст главы XII).
117. 1 гранка из набора для «Русского вестника», хранящаяся в ГТМ, исправленная рукой Толстого и занумерованная им цыфрой 6. Начало: «Такими постыдными воспоминаніями». Конец: «въ которую онъ не могъ проникнуть». Текст относится к XXIV главе пятой части романа (по счету окончательной редакции). Верхняя часть гранки автотипически воспроизведена в книге H. H. Гусева «Толстой в расцвете художественного гения», стр. 215.
Извлекаем отсюда вариант № 144.
118. Автограф на 1 листе почтового формата, исписанном с одной стороны. Начало: «есть что-то, есть, — улыбаясь отвѣчалъ Левинъ». Конец: «Онъ слишкомъ чистый и высокой души человѣкъ». Вставка в недошедшую до нас корректуру шестой части романа (в текст главы III). Здесь после слов: «Он особенный, удивительный человек (см. т. 19 настоящего издания, стр. 131) читается следующий вариант:
Онъ именно дѣлаетъ то, что говоритъ Тютчевъ. Ихъ замутитъ какой то шумъ, внимай ихъ пѣнью и молчи. Такъ онъ внимаетъ пѣнью своихъ любовныхъ мыслей, если онѣ есть, и не покажетъ ни за что, не осквернитъ ихъ.
119. 18 обрезков гранок разного размера с набором седьмой части романа для «Русского вестника», исправленных рукой Толстого. Текст гранок, соответствующий тексту отдельных частей глав І-V, VII, VIII, XXX, восходит к соответствующим частям наборной рукописи (№ 103). Два последних обрезка нумерованы рукой Толстого — оба раза цыфрой 26. К последнему обрезку приклеена полоса бумаги, на которой рукой С. А. Толстой переписано исправление, сделанное на этом обрезке рукой Толстого. Исправления приближают текст гранок к окончательной редакции «Анны Карениной». В тексте, относящемся к I главе, после слов: «и потеряли интерес» (см. т. 19, стр. 248), читается следующий вариант:
Оставалось одно: невинныя зрѣлища, увеселенія и поученія — концерты, выставки и всякаго рода засѣданія, лекціи и разговоры съ умными людьми, что онъ и дѣлалъ.
Въ послѣднее время Кити однако стала замѣчать, что мужъ ея сталъ привыкать къ городской жизни и, какъ бы найдя въ ней свою колею, уже не тяготился ею и сталъ рѣже и рѣже бывать дома. Вообще Кити чувствовала, что здѣсь онъ не тотъ какимъ она его любила.
В тексте, относящемся к XXX главе, читаются следующие варианты.
[1] <Мы оба ревнуемъ другъ къ другу. Когда я ласкала ее въ Москвѣ, я ужъ ревновала, это только замаскированная ненависть. Алексѣй Александровичъ ненавидитъ меня, я его. И по моей нравственности онъ былъ дуракъ, а по ихъ нравственности я была дурная женщина.>
[2] Вотъ и вся любовь. Это лучшее, что есть на свѣтѣ. Хорошее же не лучшее! И когда кончится желаніе, кончится и любовь, и остается одна ненависть. Потому что больше ничего и не связываетъ людей. Этихъ улицъ я совсѣмъ не знаю. Горы какія то, и все дома, дома. И въ домахъ все люди, люди. Сколько ихъ, конца нѣтъ, и всѣ собрались, чтобы эксплуатировать другъ друга, найти дѣло для своей ненависти. И построили Церкви, Воспитательный домъ. Милосердіе. Трудолюбіе. Обманутые и обманывающіе.
120. Автограф на 1 листе в 4°, исписанном с обеих сторон. Начало: «Она поспѣшно утерла эти слезы». Конец: «и его нельзя будетъ ужъ употребить другой разъ». Вставка в недошедшую до нас корректуру текста главы XII седьмой части романа.
121. Автограф на 2 листах in F0 (один чистый), с поправками рукой H. Н. Страхова, хранящийся в ИЛИ. Начало: «Быстрымъ, легкимъ шагомъ спустившись». Конец: «и навсегда потухла». Новая редакция эпизода смерти Анны, написанная для отдельного издания романа 1878 г. Текст первой страницы автотипически воспроизведен в 19 томе настоящего издания, между стр. 348—349.
122. 2 гранки и 4 обрезка гранок с набора восьмой части романа («Эпилога») для «Русского вестника», исправленных рукой Толстого. К одной из гранок приклеен писчий полулист, на котором рукой С. А. Толстой переписан целиком текст гранки после ее исправления.
Извлекаем отсюда варианты №№ 192 и 193.
123. Корректура на 16 гранках для «Русского вестника», хранящаяся в ИЛИ (собрание проф. И. А. Шляпкина). Неполностью сохранившийся второй набор восьмой части романа («Эпилога»), сделанный с недошедшей большей частью до нас корректуры первого набора (дошедший материал описан под № 122). Начало: «Эпилогъ. Послѣ шестилѣтняго труда книга Сергѣя Ивановича». Конец: «какъ и при чувствѣ къ сыну. Конецъ». Текст некоторых глав, имевшихся уже в наборной рукописи, здесь отсутствует. Четвертая глава (на гранке 7) имеется лишь в начальной своей части. Далее с новой гранки следует глава, обозначенная цыфрой VIII, затем — опять с новой гранки — глава, помеченная цыфрой XX. Это очевидная типографская опечатка (следует IX, так как внутри следующей гранки для обозначения новой главы поставлена цыфра X). Вслед за тем идут главы XI и последняя — XII. Таким образом отсутствует текст конца IV главы и глав V-VІІ по счету данного набора корректуры. Авторских исправлений в корректуре нет. На 1-й и 2-й гранках рукой, вероятно, И. А. Шляпкина карандашом сделаны исправления по тексту отдельного издания романа 1878 г. (См. также описание данной корректуры в брошюре И. А. Шляпкина «Памяти графа Л. Н. Толстого». Спб. 1911, стр. 34—37).
В тексте, соответствующем VIII главе, в корректуре, Кити с ребенком у груди размышляет:
«Разумѣется, онъ все понимаетъ, — думала она про него. — Вотъ именно все то, что старается понять теперь съ такимъ трудомъ Костя. Онъ, бѣдный, мучается теперь, — думала она про мужа, — ищетъ того самаго, что мы, особенно онъ, — подумала она, посмотрѣвъ на Митю, чуть пріоткрывшаго одинъ глазокъ, — такъ хорошо знаемъ».
И далее:
Онъ теперь уже, какъ Митя, передъ тѣмъ какъ нашелъ грудь, задыхался и ахалъ, какъ будто все погибнетъ, если онъ сію секунду не получитъ пищи. Именно потому, что чувствовалъ, что пища близка. Въ такомъ же положеніи ей казался теперь и ея мужъ.
Кроме того, извлекаем из этой корректуры варианты №№ 194, 202.
124. 1 гранка, 9 обрезков гранок и 1 вставка-автограф на листе большого почтового формата, исписанном с одной стороны. Корректурный материал заключает в себе очень много исправлений рукой Толстого, а цельная гранка почти сплошь с обеих сторон исписана автором. Написанное — текст конца романа. На большей части материала — нумерация рукой Толстого (1—5, 7, 9—11). Печатный текст гранок представляет собой второй экземпляр второго набора с корректур (в том числе недошедших), описанных под № 122.
Извлекаем отсюда вариант № 200.
125. Гранки и части гранок вперемежку со сплошными рукописными текстами, написанными рукой С. А. Толстой на полулистах писчей бумаги с одной стороны и, так же как и текст гранок, исправленными рукой Толстого. Всего 21 лист. Часть листов, написанных С. А. Толстой, урезана. Меньшая часть рукописного материала приклеена к гранкам. Весь материал нумерован посторонней рукой (10—30) и представляет собой сплошной текст, соответствующий тексту глав Х—ХІХ восьмой части в окончательной редакции. Начало: «VII. Когда Левинъ думалъ о томъ». Конец: «который я властенъ вложить въ нее. Конецъ». Гранка, занумерованная цыфрой 25, хранится в Государственном Литературном музее. Текст ее опубликован в «Летописях Государственного литературного музея», т. II, М. 1938, стр. 3—4. Составлен весь этот материал из гранок и их частей, первоначально входивших в состав материала, описанного под № 124, а также из копий гранок и их частей, описанных под тем же номером, и из копий недошедших до нас корректур.
Извлекаем отсюда вариант № 201.
126. 3 обрезка, исписанные с одной стороны рукой С. А. Толстой и исправленные рукой Толстого. Отрезаны от листов 20, 22, 23, входящих в корректурный материал, описанный под № 125.
127. 3 гранки, 1 обрезок гранки, 1 вставка-автограф на клочке бумаги и вырезанная часть писчего листа с текстом, написанным рукой С. А. Толстой и исправленным рукой Толстого. Корректурный материал набора отдельного издания восьмой части романа, с обильными исправлениями рукой Толстого, удаленный из корректуры № 128 после того, как текст этого материала был переписан. Удален оттуда и текст, переписанный рукой С. А. Толстой, как исключенный из восьмой части.
128. Корректура в гранках отдельного издания восьмой части романа, перемежающаяся с листами писчей бумаги, исписанными с одной стороны рукой С. А. Толстой и содержащими в себе копии изъятых из данной корректуры, сильно испещренных поправками гранок (один такой лист — последний — копия текста утерянной правленной гранки). Всего 35 полных гранок (в 3-й и 10-й часть текста оторвана), 1 гранка урезанная с приклеенным к ней рукописным текстом, и 8 листов рукописного текста.
Весь материал, заключающий в себе полный текст восьмой части, исправлен рукой Толстого и H. Н. Страхова (последним сделана орфографическая и пунктуационная правка и лишь в отдельных немногих случаях стилистическая). На первой гранке рукой Толстого написано «Эпилогъ» и затем это слово зачеркнуто. Вверху гранки написано: «Здѣсь А.» Эта пометка означает, очевидно, что нужно добавить начальные строки восьмой части, имеющиеся в верстке («Прошло почти два месяца» и т. д.). Эти строки были, видимо, написаны на недошедшем до нас клочке бумаги. Набор корректуры производился с исправленного второго набора, сделанного для «Русского вестника», в большей своей части сохранившегося и описанного под № 125.
129. Сверстанный экземпляр восьмой части «Анны Карениной» в отдельном издании, заключающий в себе 7 полных печатных типографских листов и 1 неполный, всего 118 страниц. В нем сделаны исправления рукой Толстого (чернилами) и Н. Н. Страхова (карандашом). Исправления Страхова касаются преимущественно пунктуации и опечаток и лишь изредка стиля. Рукой Страхова, кроме того, на первой странице верстки, перед текстом, написано: «Анна Каренина. Часть восьмая и последняя». В книгу вложены 5 вставок, написанных рукой Толстого на полулистах и четвертушках почтовой бумаги и отнесенных им к определенным страницам (61, 67, 71, 78, 79). Данная верстка восходит непосредственно к корректуре № 128, в которой отсутствуют начальные слова, написанные, очевидно, на утерянном листке, приложенном к корректуре (см. выше): «Прошло почти два месяца» кончая: «плод».
130. 2 печатных типографских листа (32 страницы) второй верстки восьмой части «Анны Карениной». Эта верстка восходит непосредственно к верстке, описанной под № 129. Здесь находится текст пяти первых глав и начала шестой. В тексте рукой неизвестного карандашом сделаны исправления нескольких опечаток и подчеркнуты отдельные строки.
131. Две вставки-автографы к последней главе во второй, большей частью недошедшей до нас верстке восьмой части «Анны Карениной». Написаны на 2 полулистах почтовой бумаги (с обеих и с одной стороны). Начало первой вставки: «Къ 119 и 120 стр. Сказать, что всѣ люди». Конец: «<христіанскаго ученія>». Начало второй вставки: «Къ страницѣ 121. И удивительныя вычисленія ихъ». Конец: «<по его высотѣ и его времени>».
132. Рукопись на согнутом полулисте писчей бумаги, написанная рукой Н. Н. Страхова и исправленная рукой Толстого (исписаны лишь первые две страницы). Начало: «соединенъ съ другими людьми». Конец: «навѣрно истинно». Копия с недошедшей до нас исправленной автором копии текста вставок, описанных под № 131.
—————
В Публичной библиотеке РСФСР им. Салтыкова-Щедрина хранится объединенный Н. Н. Страховым в одном переплете материал, с которого делался набор отдельного издания «Анны Карениной» 1878 г. Помимо исправленных Толстым и Страховым текста первых семи частей романа, напечатанного в «Русском вестнике» (за исключением утерянных двух страниц — 687—688 апрельской книжки журнала за 1876 г.), и текста восьмой части в отдельном ее издании 1877 г., этот материал заключает в себе: 1) один сверстанный лист и пять с четвертью гранок, относящихся к верстке и набору тех глав пятой части отдельного издания романа 1878 г., где идет речь о венчании Левина и Кити, исправленных рукой Толстого и приплетенных рядом с соответствующими главами журнального текста (одна страница сверстанного листа воспроизведена в 19 томе настоящего издания, между стр. 14 и 15), 2) один лист, написанный рукой Н. Н. Страхова, представляющий собой копию описанного под № 121 автографа эпизода смерти Анны и приплетенный рядом с текстом соответствующего эпизода в журнальном тексте, 3) первые четыре сверстанных листа романа в дожурнальной его редакции, приплетенные вслед за текстом восьмой части, не заключающие в себе авторских исправлений и лишь на 63 странице содержащие несколько исправлений рукой Н. Н. Страхова, воспроизводящих некоторые авторские исправления, сделанные в корректуре № 113, 4) две сверстанных корректуры пятого печатного листа, из которых одна заключает в себе авторские исправления, а другая, снабженная в конце пометкой «Выправил Н. Страхов 17 сентября», те же исправления, но перенесенные в нее сюда с авторской корректуры рукой H. H. Страхова, который добавочно сделал еще исправления в отношении пунктуации (приплетены корректуры в обратном порядке). Судя по тому, что текст пятого листа начинается со слов «офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича», с пропуском между текстом предыдущих четырех листов и пятым приблизительно пяти строк («— Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать... о конкуренции какого то петербургского», см. т. 18 настоящего издания, стр. 44, строки 22—26), была сделана переверстка корректур, вероятно, в пределах стр. 63—64 четвертого листа и 65—66 пятого.
Среди журнального текста в трех местах находятся четыре вставки, написанные рукой Толстого на 6 листах разного размера (три вставки к тексту третьей части на 3 листках и одна вставка к четвертой части — на 3 листках). Текст лицевой стороны листка, на котором написана вторая вставка, воспроизведен автотипически в «Биографии Льва Николаевича Толстого» П. И. Бирюкова, т. II, М.—Л. 1923, между стр. 96 и 97; текст вставки третьей автотипически воспроизведен в 18 томе настоящего издания, между стр. 364 и 365. Там же (между стр. 90 и 91) — автотипия страницы (745-й) февральской книжки «Русского вестника» за 1875 г., содержащая в себе текст романа, относящийся к XXIV главе первой части (по изданию 1878 г.), с исправлениями рукой Толстого и H. Н. Страхова.
Общее количество листов всего материала — 565.
—————
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.
В настоящий указатель введены имена личные и географические, названия исторических событий (войн, революций и т. п.), учреждений, издательств, заглавия книг, названия статей, журналов, газет, произведений слова, скульптуры, музыки, имена героев художественных произведений не Толстого и Толстого, когда они упоминаются не в тех произведениях, где они выведены, а также, когда они приведены в комментариях. Знак || означает, что цыфры страниц, стоящие после него, указывают на страницы текста не Толстого.
Агафья Михайловна (1812—1896) — яснополянская крестьянка, почти всю свою жизнь прожившая в услужении у Толстых в Ясной поляне — || 641.
Адам — библейский «прародитель» — 390, 392.
«Аида» — опера (1871 г.) Д. Верди. См. Верди Д.
Акимова Софья Павловна (1820—1889) — драматическая актриса — 85.
Алмазов Борис Николаевич (1827—1878) — писатель — || 616.
Америка — 88, 94, 344.
Англия — 35, 56, 108, 231, 243, 499.
«Англия» — гостиница и ресторан в Москве — 104.
Анненков Павел Васильевич (1812—1887) — литературный критик, публицист, издатель сочинений Пушкина и исследователь-пушкинист — || 577, 578.
Баден — курорт в Нижней Австрии — 232, 242.
Белая — река, левый приток Камы — || 624.
Белград — столица Сербии — 555.
Берс Александр Андреевич (1845—1918) — шурин Толстого — || 592, 616, 625.
Бибиков Александр Николаевич (1822—1886) — тульский помещик, сосед Толстых — || 579.
Библия — 170, 174, || 614.
Бирюков П. И., «Биография
Льва Николаевича Толстого», т. II, М.—Л. 1923 — || 676.
«Боже, царя храни» — гимн царской России; музыка А. Ф. Львова (1798—1870), слова В. А. Жуковского — 552.
Болгария — 549, 554, || 638.
Бологое — узловая станция Николаевской и Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., ныне Октябрьской и Северо-Западной — || 664.
Булгаков Федор Ильич (1852—1908) — журналист, автор ряда книг по искусству — || 578.
— «Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений — русская и иностранная», изд. 3, П. 1890 — || 578.
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог, академик, автор «Учебника русской грамматики, сближенной с церковно-славянскою» — 500.
Буфф — увесилительное заведение и театр с легким репертуаром в Петербурге — 17, 25, || 581.
Вавилон — древний город в Месопотамии — 130.
Ваганьково — кладбище в Москве — 504.
Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор и дирижер, музыкальный писатель — 340.
Валуев Петр Александрович (1814—1890) — государственный деятель — || 640.
Вдовий дом в Москве — учреждение для призрения неимущих и престарелых вдов лиц, находившихся на государственной службе — 230.
Вена — 158.
Венеция — 134.
Верди Джузеппе (1813—1901) — итальянский композитор — «Травиата» — 24.
— «Аида» — 450.
«Вестник Европы» — журнал — || 619, 635.
Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910) — певица и композитор, друг И. С. Тургенева — 24.
Висбаден — город в прусской провинции Гессен-Нассау; славится своими минеральными водами — 232.
Владимир Мономах (1053—1125) — великий князь киевский, сын Всеволода Ярославича — 398.
Владимирская улица в Петербурге — 353.
Вольская — героиня незаконченной повести (1829—1830) А. С. Пушкина, озаглавливаемой, по первым словам отрывка, «Гости съезжались на дачу». См. Пушкин А. С., «Гости съезжались на дачу».
Воробьевы горы в Москве, ныне Ленинские горы — 513, 542.
Воспитательный дом — в Москве — 347.
Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина в Москве (Архив Толстого — АТБ) — || 634, 637, 644, 661.
Второе отделение собственной его императорского величества канцелярии — учреждение, ведавшее сначала упорядочением действующего законодательства, а потом и составлением новых законопроектов, просуществовавшее с 1827 по 1882 г., когда функции его были переданы вновь образованному кодификационному отделу при государственном совете — 175.
Вундт Вильгельм Макс (1832—1920) — немецкий философ, физиолог и психолог — 559.
Газетный переулок в Москве, ныне улица Грановского, — 60, 330.
Гартунг Мария Александровна, рожд. Пушкина (1832—1919) — дочь поэта — || 579.
Гегель Георг-Фридрих-Вильгельм (1770—1831) — немецкий философ — 565.
Глинка Михаил Иванович (1804—1855) — композитор — «Славься» («Жизнь зa царя») — 582.
Гоголевский жених. См. Подколесин.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 386 («Гоголевский жених»).
Голицын кн. Дмитрий Борисович — || 641.
«Голос» — газета — || 633.
Голохвастов Павел Дмитриевич (1839—1892) — писатель — || 590, 592, 593, 615.
Гомер — 170.
Горбунов Иван Федорович (1831—1895) — писатель, актер и рассказчик-юморист — 527, 528.
— «В мировом суде» — 528.
Государственный Литературный музей — в Москве — || 644, 673.
Государственный Толстовский музей (ГТМ) (Архив Т. А. Кузминской) — в Москве — || 577. 615, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 637, 644, 660, 661, 671.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — «Горе от ума» — 467 («Грибоедовская старуха»), 337 (Репетилов).
Грузины — район в Москве — 504.
Гудзий Николай Каллиникович — || 645.
Гусев H. H., «Толстой в расцвете художественного гения» — || 633, 641, 671.
Дамокл («Дамоклов меч») — приближенный тирана Дионисия в Сиракузах (IV в. до н. э.). Дионисий уступил свое место на пиршестве Дамоклу, завидовавшему его счастью, повесив над его головой на конском волосе острый меч. Выражение «Дамоклов меч» — вошло в употребление в смысле постоянно угрожающей опасности — || 621.
Девичье поле — район в Москве — 544.
«Дон-Жуан» — опера (1787) В. Моцарта. См. Моцарт В.
Дьяковы — дочери друга Толстого Д. А. Дьякова — || 665.
Дюма Александр — сын (1824—1895) — французский писатель — 338, || 599.
— «L’homme-femme. Réponse à M. Henri d’Ideville — 338, || 599.
Дюссо — гостиница и ресторан в Москве — 68, 104, 138, 330, 352.
Дюссо — ресторан в Петербурге — 18.
Ева — библейская «прародительница» — 392, 415.
Евангелие — 229, 237, 238, 240, 243, 330, 414, 560.
Евангелие от Марка — 330.
Европа — 22, 243, 499, 510.
Екатерина II (1729—1796) — 346.
Енох — 415.
Ефремовский уезд, Тульской губ. — 98.
Жанна д'Арк (1412—1431) — французская национальная героиня, освободившая Францию от порабощения англичанами. Попав в плен к англичанам, была сожжена на костре — 346.
Женева — || 670.
Жирарден Эмиль (1806—1884) — французский журналист и политический деятель — 338, || 599.
— «L’homme et la femme, l’homme suzerain, la femme vassale, réponse à l’homme-femme de A. Dumas-fils», Paris. 1872 — 338, || 599.
Жорж-Санд — литературный псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876) — 346.
— «La comptesse Roudolstadt» — 17.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт — 193, 371.
Западный край Европейской России — || 614.
Зарайский уезд Рязанской губ. — 397.
Зоологический сад в Москве — 7, 49, 52, 81, 85, 97, 99, 100, 120, || 587, 613, 647.
Иаков — библейский патриарх — 391.
Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — художник — 398.
Идевиль Анри (d’Ideville Henry, 1830—1887) — французский дипломат и писатель — || 599.
Иисус Христос — 42, 383, 398, 430, 431, 432, 563, 569, 570.
Индия — 29.
Институт Литературы Академии наук СССР (ИЛИ) — в Ленинграде — || 644, 672.
Иова книга — одна из книг Библии — 174, || 614.
Иосиф — библейское имя; один из двенадцати сыновей Иакова — 391.
Исаак — библейский патриарх — 388, 389, 390, 392.
Иславин Константин Александрович (1827—1903) — дядя С. А. Толстой — || 619, 634.
Италия — 35, 134, 394.
Казань — || 621.
Калуга — 665.
Кальдерон Педро де ла Барка (1600—1681) — испанский драматург — || 641.
Карлсбад — курорт в Чехии — 29, 232, 233, 265.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор журнала «Русский вестник», в котором первоначально печаталась «Анна Каренина» — || 591, 592, 593, 615, 616, 617, 619, 623, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 665, 666.
— «Что случилось по смерти Анны Карениной» — 637.
Катон (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель и писатель, прославившийся своей строгостью — 257.
Каульбах Вильгельм (1805—1874) — немецкий живописец — 21.
Киев — 169, 173.
Кисловский переулок в Москве — 60, 330, 499.
Киссинген — курорт в Баварии — 232, 233, 242, 244, 246.
«Красная новь» — журнал — || 645.
Красное село — поселок вблизи Петербурга — 224, 259.
«Красный архив» — журнал — || 619.
Кузминская Татьяна Андреевна, рожд. Берс (1846—1925) — свояченица Толстого — || 577, 578, 579, 590, 591, 592, 599, 615, 617, 622, 623, 624, 625, 634, 637, 640.
— «Моя жизнь дома и в Ясной поляне» — || 579, 640.
Кузминский Александр Михайлович (1843—1917) — муж свояченицы Толстого Т. А. Берс; судебный деятель — || 617, 637.
Кюнер Рафаэль (1802—1878) — немецкий филолог, автор распространенных в России и Германии руководств по греческой и латинской грамматике — 464, 465.
Ларошфуко Франсуа (1613—1680) — французский писатель, автор книги «Maximes» (1665 г.) — || 11, 653.
Летний сад в Петербурге — 6, 371, || 602.
«Летописи Государственного Литературного музея», т. II — || 673.
Литейный проспект в Петербурге — 375.
Лондон — 139, 230.
Любимов Николай Алексеевич (1830—1897) — физик и публицист, ближайший сотрудник Каткова по изданию «Русского вестника» — || 615.
Марков Евгений Львович (1835—1903) — журналист, писатель и литературный критик — || 633.
Менелай — мифический герой, спартанский царь, супруг «прекраснейшей из женщин» Елены, которую у него похитил троянец Парис. После неоднократных походов и битв Менелаю удалось вернуть себе жену. Сюжет этой мифической легенды был использован Л. Галеви для либретто оперетты «Прекрасная Елена» в форме пародии на французское общество — 340.
Ментона — французский город на Генуэзском заливе (близ Ниццы); зимняя климатическая станция для больных туберкулезом — 237.
Милан I (1854—1901) — в 1868—1881 гг. сербский князь, в 1882 г. провозгласивший себя королем — 548, 553.
Милютин Алексей Дмитриевич — офицер — || 641.
Минский — герой незаконченной повести (1829—1830) А. С. Пушкина, озаглавливаемой, по первым словам отрывка, «Гости съезжались на дачу». См. Пушкин А. С., «Гости съезжались на дачу».
Моисей (ок. 1500 г. до н. э.) — легендарный основоположник иудейской религии — 391.
Мойер Иван Филиппович (1786—1858) — профессор-медик Дерптского университета, женившийся на М. А. Протасовой, в которую был влюблен Жуковский — 193.
Мойка — река, один из рукавов Невы в Петербурге, а также название набережной этой реки — 533.
Мономах. См. Владимир Мономах.
Москва — 3, 8, 9, 11, 29, 32, 39, 42, 43, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 63, 69, 70, 95, 96, 99, 100, 113, 114, 119, 120, 130, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 152, 155, 156, 163, 164, 167, 179, 180, 182, 183, 190, 191, 194, 195, 202, 213, 217, 233, 262, 287, 324, 328, 329, 337, 352, 356, 359, 366, 369, 377, 379, 380, 403, 406, 407, 422, 429, 436, 458, 476, 477, 478, 479, 486, 498, 503, 504, 506, 509, 511, 517, 522, 537, 540, 542, 545, 550, 557, 559, 560, 562, 568, 572, || 582, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 602, 603, 606, 610, 612, 615, 618, 623, 624, 634, 635, 636, 642, 647, 661, 663, 664, 665, 666, 671.
Москва — река — 167.
«Московские ведомости» — газета — || 634, 636.
Московский университет — 63.
Моцарт Вольфганг (1719—1787) — композитор — «Дон-Жуан» — 24, 376.
Нагорнов Николай Михайлович (1845—1896) — муж старшей дочери сестры Толстого М. Н. Толстой, Варвары Валерьяновны (1850—1921) — || 617, 618.
Неаполь — 134.
Нева — река — 46, || 583.
Невский проспект в Петербурге, ныне Проспект 25 октября — 9, 353, 373, 408, || 603.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт — || 615.
«Нива» — еженедельный журнал — || 635.
Нижегородская железная дорога — 534.
Никитская улица в Москве — 60.
Никитские ворота в Москве — 546.
Николаевская железная дорога, ныне Октябрьская — 86, || 646.
Нильсон Христина (р. 1843, ум.?) — шведская певица; с 1868 г. пела в парижской Большой опере; с 1870 г. гастролировала во всех столицах Европы (была в Петербурге и в Москве) — 15, 21, 24, || 579.
Ницца — курорт на юге Франции — 133.
«Новое время» — газета — || 636, 637.
Новгородская губерния — 426.
Новотроицкий ресторан в Москве, у Никитских ворот — 101.
Нью-Йорк — 86, 93.
Обираловка — станция Московско-Нижегородской ж. д. — 536.
Оболенский Алексей Дмитриевич (р. 1856 г.) — сын старинного знакомого Толстого кн. Д. А. Оболенского (1822—1881); занимал ряд постов в министерстве финансов и внутренних дел. С 1905 г. — обер-прокурор Синода — || 633.
Оболенский кн. Дмитрий Дмитриевич (1844—ум?) — помещик Тульской губ., знакомый Толстого — || 640, 641.
— «Отрывки (из личных воспоминаний)» — || 641.
Общество красного креста — 548, 568.
Общество любителей российской словесности при Московском университете — || 616.
«Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет». М. 1911 — || 617.
Оренбург— || 621, 622.
Отделение составления законов. См. Второе отделение собственной его императорского величества канцелярии.
Отечественная война 1812 г. — || 624.
«Отечественные записки», журнал — || 615.
Оффенбах Жак (1819—1880) — композитор, автор опереток — 26.
Павел апостол — 433.
Палкина ресторан в Москве — 329.
Пантелеймоновская улица в Петербурге — 197.
Парголово — село и дачное место близ Петербурга; железнодорожная станция — 224.
Париж — 9, 139, 232.
Парис — мифический герой, троянец, похитивший жену у Менелая (см.) — 340.
Паскаль (1623—1662) — французский философ — || 619.
Патти Карлотта (1840—1889) — итальянская певица, в 1873—1875 гг. приезжавшая в Россию на гастроли и с успехом выступавшая в Москве и Петербурге — 66, 376, 443, 489.
Пензенская губерния — 115, 397.
«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», Спб. 1911 — || 621.
«Переписка Л. H. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870—1894», Спб. 1914 — || 591, 592, 593, 594, 615, 616, 617, 620, 621, 635, 643.
Перфильев Василий Степанович (1826—1890) — московский вице-губернатор — || 640.
Петербург— 5, 6, 7, 8, 22, 28, 35, 39, 42, 43, 63, 69, 80, 91, 113, 125, 134, 142, 143, 153, 164, 175, 189, 190, 192, 194, 195, 224, 225, 237, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 266, 271, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 294, 301, 304, 308, 328, 329, 352, 353, 355, 357, 358, 360, 369, 371, 374, 375, 376, 377, 379, 392, 400, 401, 406, 417, 419, 422, 426, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 450, 453, 460, 467, 471, 477, 479, 505, 511, 515, 517, 519, 534, 545, || 582, 586, 593, 595, 598, 601, 602, 604, 608, 613, 622, 623, 635, 651, 653, 655, 668.
Петербургский университет — 310.
Петр I (1672—1725) — || 577, 578, 590.
Петровка, улица в Москве — 58, || 588.
Пирмонт — немецкий курорт на реке Эммер — 28.
Пирогова Анна Степановна (1837—1872) — гражданская жена соседа Толстого А. Н. Бибикова — || 579, 580.
Поварская улица в Москве, ныне улица Воровского — 331.
Подколесин («Гоголевский жених») — действующее лицо из комедии (1842) Н. В. Гоголя «Женитьба». См. Гоголь Н. В.
Покровский монастырь в Москве — 29.
Польша — 352, || 641.
Пресня — район в Москве, ныне Красная Пресня —144, 331, || 599.
Пречистенка — улица в Москве, ныне улица Кропоткина — 144.
Публичная библиотека РСФСР им. Салтыкова-Щедрина, в Ленинграде — || 593, 642, 643, 644, 675.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — || 577, 578, 584.
— «Гости съезжались на дачу» (Вольская, Минский) — || 578, 584.
— «Повести Белкина» — || 577, 578, 590.
— «Собрание сочинений», изд. П. В. Анненкова, т. 5 — || 577, 578.
Ревекка — жена библейского патриарха Исаака — 388, 389, 390, 391, 392.
Ренан Жозеф-Эрнест (1823—1892) — французский философ и историк христианства, автор переведенной на многие языки книги «Жизнь Иисуса» — 398, 547.
Репетилов. См. Грибоедов А. С., «Горе от ума».
Рим — 11, 134, 329, 396, 452.
Рис Федор Федорович — владелец типографии — || 635, 642.
Розен бар. Егор Федорович (1800—1860) — писатель — «Славься» (либретто оперы «Жизнь за царя») — 552.
Россия — 48, 56, 227, 228, 247, 270, 313, 321, 343, 344, 392 398, 403, 423, 433, 548, 549, 554, 555, 558, 569, || 624, 634, 635, 638, 662.
«Русский вестник» — журнал, основанный в 1856 г. в Москве М. Н. Катковым — || VII, 591, 592, 593, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 623, 624, 633, 634, 636, 637, 638, 640, 642, 643, 664, 671, 672, 674, 675, 676.
Рюрик (ум. 879 г.) — первый русский князь, по сказанию летописца, призванный от варягов русскими славянами — 555, 557.
Саводник Владимир Федорович — || 641.
Самара — || 621, 622.
Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — писатель и общественный деятель, славянофил — || 592, 641.
Самарская губерния— || 591.
Самсон — библейский еврейский богатырь, одержавший ряд побед над филистимлянами — 337.
Саратовская губерния — 397.
Сафо (Сапфо) (конец VII — начало VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса — 346.
Сепфора — жена библейского пророка Моисея — 391.
Сербия — 556, || 636.
Сербско-Черногорско-Турецкая война 1876 г. — 553, 570, || 634.
Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930) — литератор, знакомый Толстого — || 578.
— «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», изд. 2, М. 1903 — || 578.
Сибирь — || 624.
Симонов монастырь в Москве — 330.
Синод — высшее церковное учреждение в царской России; учрежден Петром I в 1721 г. — 336.
«Славься» — гимн из оперы «Жизнь за царя» (1836); музыка М. И. Глинки на слова (либретто) бар. Е. Ф Розена. См. Глинка М. И. и Розен бар. Е. Ф.
Соден — курорт в прусской провинции Гессен-Нассау — 226, 405.
Сократ (469—399 до н. э.) — греческий философ — 398.
Сорренто — город в Италии близ Неаполя — 133, 134.
Средний проспект в Петербурге — 379.
Средняя Азия — 313, 367.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — археолог, художественный и музыкальный критик, близкий знакомый Толстого — || 621.
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — литературный критик и философ — || 577, 591, 592, 593, 594, 602, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 633, 634, 635, 636, 638, 641, 642, 643, 663, 672, 674, 675, 676.
Суматра — остров в Малайском архипелаге (Азия) — || 649.
Сухотин Сергей Михайлович (1818—1886) — || 640.
Сухотина Марья Алексеевна, рожд. Дьякова (1830—1889) — жена С. М. Сухотина, который в 1868 г. с ней развелся — || 640.
Ташкент — 31, 46, 360, 368, 532, || 583, 624.
Тверская улица в Москве, ныне улица Горького — 330.
Тверь, ныне гор. Калинин — 386.
Тебор — гувернантка Толстых в 1870-х годах — 81.
Тиндаль Джон (1820—1893) — английский физик — 182, 499.
Толстая гр. Александра Андреевна (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого, камерфрейлина — 592, 615, 616, 619, 621, 633, 634.
Толстая Софья Андреевна, рожд. Берс (1844—1919) («Соня») — жена Толстого — 523, || 577, 590, 591, 615, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 634, 635, 637, 640, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 670, 671, 672, 673, 674.
— «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928 — || 577, 578, 580, 591, 622, 623, 624, 640.
— «Мои записи разные для справок» — || 577.
— «Моя жизнь» — || 637.
— «Письма к Л. Н. Толстому 1862—1910», изд. «Academia», М.—Л. 1936 — || 662.
Толстой гр. Дмитрий Николаевич (1827—1856) — брат Толстого — || 614.
Толстой Лев Николаевич
— «Азбука» — || 577, 653.
— «Анна Каренина», Госиздат, 2 тт., М.—Л. 1928 — || 641.
— «Война и мир» — || 619, 624.
— «Воспоминания» — || 614.
— «Исповедь» — || 614.
— «Крейцерова соната» — || 600.
Письма Толстого:
— Голохвастову П. Д. — || 590, 592, 593, 615.
— Каткову М. H. — || 591, 615, 616, 637.
— Кузминской Т. А. — || 590, 592, 599, 617, 625.
— Любимову Н. А. — || 615.
— Нагорнову Н. М. — || 617, 618.
— Некрасову Н. А. — || 615.
— Редакции «Нового времени» — || 636.
— Страхову H. H. — || 577, 591, 592, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 633, 634, 635, 638, 642.
— Толстой гр. А. А. — || 592, 615, 616, 619, 621, 633, 634.
— Толстой С. А. — || 592, 621, 635.
— Толстому С. Н. — || 623.
— Фету А. А. — || 577, 591, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 633, 634, 635, 640.
Письма к Толстому:
— Иславина К. А. — || 634.
— Каткова М. Н. — || 617, 619, 623.
— Неизвестного — || 671.
— Общества любителей российской словесности при Московском университете (телеграмма) — || 617.
— Страхова Н. Н. — || 591, 592, 593, 594, 602, 615, 616, 617, 620, 621, 623, 635, 643.
— Толстой А. А. — || 621.
— Фета А. А. — || 640.
— «Письма Л. Н. Толстого к жене», 2 изд., М. 1915 — || 590, 591, 592, 621, 636.
— «Полное собрание сочинений. Юбилейное издание», тт. 18, 19 — || 642, 643, 650, 675.
— «Полное собрание сочинений. Юбилейное издание», т. 62 — || 590, 640.
— [Роман из эпохи Петра I] — || 577, 590.
Толстой Сергей Львович (р. 1863 г.) — старший сын Толстого — || 578.
Толстой гр. Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Толстого — || 623.
«Травиата» — опера (1851 г.) Д. Верди. См. Верди Д.
Тройца. См. Троице-Сергиева лавра.
Троице-Сергиева лавра — 462.
Троицкий Д. И., переписчик рукописей Толстого — || 645, 649, 650, 651, 652, 653, 656, 664, 669.
Троицкое подворье в Москве — 168.
Тула — || 579.
Тулубьев Алексей Александрович (1804—1883) генерал — || 579.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — || 619.
— «Часы» — || 619.
Турция — || 634.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт — || 671.
— «Silentium!» («Их заглушит какой-то шум») — || 671.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — педагог, писатель по вопросам воспитания и образования — || 621.
— «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антропологии» («Антропология») — || 621.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт — || 577, 591, 617, 619, 622, 623, 624, 633, 635, 640.
Флоренция — 396, 398.
Франклин Вениамин (1706—1790) — американский ученый, писатель и политический деятель, один из основоположников независимости Северо-Американских соединенных штатов — 398.
Французский театр в Петербурге — 25, 196, || 579.
Французская революция («первая») — 554.
Фурье Шарль (1772—1837) — философ, один из основоположников «утопического социализма» («Фурьеризм») — 325.
Хлебный переулок в Москве — 60, || 588.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — писатель-славянофил — 371, 559, 563, 564.
Царицыно — станция Московско-Курской ж. д. — 552.
Царское село — уездный город Петербургской губернии; резиденция русских царей, ныне город Пушкин — 28.
Черняев Михаил Григорьевич (1826—1898) — русский генерал, главнокомандующий сербскою армией в сербско-турецкую войну 1876 г. («Черняевский цвет») — 548, 553, 556.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк права и философ — || 641.
Чудов монастырь в Москве — 330.
Швейцария — 28, 78.
Шевалье Ипполит — содержатель ресторана в Москве — 68.
Шекспир Вильям (1564—1616) — 641.
Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — историк литературы, профессор — || 672, 673.
— «Памяти графа Л. Н. Толстого», Спб. 1911 — || 673.
Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ — 559, 563, 565.
— «Мир, как воля и представление» — || 587.
Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ, богослов, историк и публицист — 398.
Эйхенбаум Б., «Толстой и Шопенгауэр» — || 587.
— «Лев Толстой», книга вторая — || 641.
Эрмитаж — ресторан в Москве — 81, 101, 104, 105.
Юпитер — в древней мифологии — верховный римский бог — 96.
Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888) — литератор, основатель журнала «Русская мысль» — || 641.
Юшкова Пелагея Ильинична, рожд. гр. Толстая (1801—1875) — тетка Толстого — || 618.
Ясенки — деревня в 5 верстах от Ясной поляны — || 634.
Ясная поляна — || 577, 592, 621, 636, 641, 642.
Canut — гувернер, рекомендованный Толстому — || 671.
Carlyle (Карлейль Томас, 1795—1881) — английский мыслитель, историк и историк литературы — 487.
«La Comptesse de Roudolstadt» — роман (1842) Жорж-Санд. См. Жорж-Санд.
Girardin. См. Жирарден.
Lewes (Льюис Генри, 1817—1878) — английский писатель — 487.
«Soir» — газета — || 599.
«Sovietland» — журнал — || 673.
Tаіnе (Ипполит-Адольф Тэн, 1828—1893) — французский мыслитель — 487.
Toqueville (Алексис Токвиль, 1805—1859) — французский историк — 487.
СОДЕРЖАНИЕ (из 20-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого)
Предисловие к двадцатому тому...VII
Редакционные пояснения...VIII
Планы и заметки к «Анне Карениной»...3
Варианты «Анны Карениной»...14
КОММЕНТАРИИ
Н. К. Гудзий
История писания и печатания «Анны Карениной»...577
Описание рукописей и корректур, относящихся к «Анне Карениной»...644
Указатель собственных имен...677
Иллюстрации
Автотипия с первой страницы рукописи четвертого по порядку начала «Анны Карениной» (размер подлинника) — между 50 и 51 стр.стр.
Автотипия с первой страницы рукописи восьмого по порядку начала «Анны Карениной», написанная рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Л. Н. Толстого (размер подлинника) — между 92 и 93 стр.стр.
Настоящее юбилейное издание первого полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатается на основании постановлений Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г. и 8 августа 1934 г.
Отпечатано во 2-й типографии ОГИЗ’а РСФСР треста „Полиграфкнига“ „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26. Гослитиздат № 148. X-006. Т 53. Тираж 10000 Уполн. Главлита № Б-53606. Формат бумаги 68 × 100 см. Вишерской писчебум. ф-ки. 433/4 печ. л. Заказ типографии № 229. Сдано в набор 30/IV 1938 г. Подп. к печ. 26/ХІ 1938 г. Корректор М. А. Перфильева.
Техническая редакция
Н. И. Гарвея.
Редактор B. С. Мишин
Технический редактор Л. М. Сутина
Корректор В. Брагина
Сдано в производство 18/XI 1954 г. Подписано к печати 4/VІІІ 1955 г. А-02959. Бумага 68Х100 1/16 = 32 печ. л = 39,36 усл. печ. л. 25,99 уч.-изд. л. + 3 вкл. = 26,25. Тираж 5000. Зак. 1843
Гослитиздат
Москва, Б - 66, Ново-Басманная, 19.
Министерство культуры СССР- Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.
Примечания
1
[предзнаменованиями.]
(обратно)2
Первая буква в этом слове оторвана.
(обратно)3
Далее — одно слово на оторванной части листа.
(обратно)4
[крушение]
(обратно)5
На полях написано: [1] Церковь, служба, утѣшеніе. [2] О чемъ ни заговорятъ нигилисты — дѣти, состояніе — все приводится къ неяснымъ положеніямъ. [3] Сцена съ матерью.
(обратно)6
Предположительное окончание слова приходилось на оторванный и утраченный край листа.
(обратно)7
Рядом с текстом плана 1-й части написано и обведено кружком: Любовь идетъ сама по себѣ.
(обратно)8
На этом же листе выписки по-французски (из книги Ларошфуко «Maximes»):
[1] La jalousie se nourrit dans les doutes. Elle devient furieuse ou elle finit sitôt qu'on passe du doute à la certitude.
[2] Il n’y a guère de gens qui ne soient honteux de s’être aimés lorsqu’ils ne s’aiment plus.
[3] Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux, s’ils n’ayaient jamais entendu parler de l’amour.
[4] Il est aussi facile de se tromper soi même sans s’en apercevoir qu’il est difficile de tromper les autres sans qu’ils s’en apercoivent.
[5] Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune.
(обратно)9
Зачеркнуто: театра
(обратно)10
Зач.: <Кареловой> М[икѣ]
(обратно)11
Слово: шубку по ошибке зачеркнуто вместе с последующими словами: въ ярко освѣщенной, блестѣвшей
(обратно)12
Слово: ихъ по ошибке зачеркнуто вместе с последующими словами: беззвучно, почтительно
(обратно)13
Зачеркнуто: Траві[ата]
(обратно)14
Зачеркнуто: Анѣ
(обратно)15
Зач.: <Пушкино> Бернова
(обратно)16
Зач.: Пушкина
(обратно)17
Зач.: лелѣетъ его
(обратно)18
Зачеркнуто: Степанъ
(обратно)19
Зач.: особенно громко, — а что
(обратно)20
Зач.: улыбкой молодаго полнаго румянаго съ прекрасными красными губами прямо дер[жавшагося] добродушнаго молодаго человѣка, который входилъ, высоко неся бѣлую грудь въ открытомъ до невозможн[ости] жилетѣ.
— А ваша сестра <Ана Пушкина> М-mе Карени[на]
(обратно)21
[Графиня Рудольштадт]
(обратно)22
Зач.: Степанъ
(обратно)23
Зач.: на мгновенье нахмурился, но сейчас же
(обратно)24
Зачеркнуто: невысокаго роста коренастаго военнаго, молодаго, но почти плѣшиваго и съ серьгой въ ухѣ
(обратно)25
Зач.: Вронскаго.
(обратно)26
В рукописи: тебѣ
(обратно)27
Зачеркнуто: Гагинъ
(обратно)28
Зач.: былъ А. А. <Гагинъ> Каренинъ съ женою.
(обратно)29
Зач.: маленькимъ
(обратно)30
Зач.: за что
(обратно)31
Против этих строк и ниже на полях написано: [1] Кидается, не зная куда пристать. [2] Ей легко свѣтское, что др[угимъ] трудно. На жалкое plaisant[erie?] посмотри[тъ?] съ недоумѣніемъ и, главное, глаза. [3] Сдержанная энергія движеній.
(обратно)32
Зачеркнуто: Кити
(обратно)33
Зач.: Гагинъ
(обратно)34
Зач.: Нана
(обратно)35
Зач.: его безпокойство и оглядыванье и, главное, послѣднее, что прив[ело]
(обратно)36
Зач.: Это было лицо Нана, <ея взглядъ на Гагина.> Никто не могъ спорить съ молодымъ человѣкомъ, назвавшимъ ее некрасивой, въ то время какъ она вошла въ комнату и, еще больше сощуривъ свои и такъ небольшіе узкіе глаза (такъ что видны были только густые черные рѣсницы), вглядывалась въ лица. Низкій, очень низкій лобъ, маленькіе глаза, <толстыя,> неправильныя губы и носъ <некрасивой формы>. <Но когда> Она сдѣлала тѣ нѣсколько шаговъ, которые отдѣляли ее отъ хозяйки,
(обратно)37
В рукописи после этого: что
(обратно)38
Зачеркнуто: привѣшенной къ полнымъ, необыкновенно круглымъ локтямъ,
(обратно)39
На полях против этих слов написано: Дамы пасъ. Мущины всѣ глядятъ на нее.
(обратно)40
Зачеркнуто: тончайшія
(обратно)41
Зач.: съ огромными волосами
(обратно)42
Зач.: Гагина
(обратно)43
Зач.: головки
(обратно)44
Зач.: и, блеснувъ на него долгимъ взглядомъ из-за черной рамки рѣсницъ,
(обратно)45
Зачеркнуто: жалкую, некрасивую, сутуловатую, маленькую фигуру мужа — не стараго бритаго бѣлаго, бѣлокураго мущину
(обратно)46
Зач.: мямля что-то непонятное. Алексѣй Александровичъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, преданныхъ страстно умственному труду, но открытыхъ ко всѣмъ <наслажд[еніямъ]> благамъ міра людей и спеціалистовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкихъ и умныхъ наблюдателей, но которыхъ, благодаря ихъ внѣшнему труженническому виду, ихъ случайной разсѣянности, такъ охотно подводятъ подъ одну общую категорію дѣльныхъ и занятыхъ ученыхъ людей или чудаковъ или даже дурачковъ и которые потому рѣдко пользуются
(обратно)47
В рукописи дальше слово: тѣмъ, по контексту связанное с зачеркнутым текстом и, видимо по рассеянности, здесь Толстым не зачеркнутое.
(обратно)48
Зачеркнуто: <Гости послѣ оперы собирались у Княгини Врасской.> Пріѣхавъ изъ оперы, Княгиня Мика, какъ ее звали въ свѣтѣ,
(обратно)49
Зач.: жилистую
(обратно)50
Зач.: къ ихъ огромному дому и высаживать <гостей> съ помощью лакеевъ свой грузъ
(обратно)51
Зачеркнуто: Врасской
(обратно)52
Зач.: Мика
(обратно)53
На полях вкось вписано: Борьба. Онъ говоритъ: «что вы со мной сдѣлали». Она говоритъ: «простите меня и оставьте».
(обратно)54
Зачеркнуто: злое и смѣшное
(обратно)55
На полях вкось сверху вписано: Двѣ дамы царствуютъ: безбровая бойкая и черная красавица, молча и обиженная, злая.
(обратно)56
Зачеркнуто: красной
(обратно)57
Зач.: и сморщенна
(обратно)58
Зачеркнуто: вся въ кружевахъ и бриліантахъ
(обратно)59
Зач.: Кити
(обратно)60
Зач.: Кити
(обратно)61
Зач.: <еще болѣе> <Каренина> извѣстнаго дѣльца и умницы Михаила
(обратно)62
Зач.: Нана
(обратно)63
Зач.: Нана была жена Каренина, Анастасья Аркадьевна. — Есть что то странное въ Нана.
(обратно)64
Зач.: Алексѣй Гагинъ
(обратно)65
Зач.: Нана
(обратно)66
Зач.: Мика
(обратно)67
Зачеркнуто: Мари,
(обратно)68
Зач.: Гагинъ
(обратно)69
Зач.: Генералъ вслушивался въ разговоръ.
(обратно)70
Зач.: Нана
(обратно)71
[розового чорта.]
(обратно)72
[как это смешно.]
(обратно)73
Зачеркнуто: — Сейчасъ. Извините меня.
(обратно)74
Зач.: неловкой
(обратно)75
Зач.: Нильсонъ
(обратно)76
Рядом на полях написано: <Застѣнчива.>
<Необыкновенно неприлична.>
Онъ смѣшонъ.
Она насмѣшлива.
Сестра Леонида Дмитрича страдаетъ и оттого, что дѣти тоже, что онъ.
(обратно)77
Зачеркнуто: дипломатъ
(обратно)78
[манеры держать себя,]
(обратно)79
[прощать.]
(обратно)80
Зачеркнуто: Французскаго театра
(обратно)81
Так в подлиннике. Расшифровать значение этих букв не удалось.
(обратно)82
Зачеркнуто: Ан[на]
(обратно)83
На полях против этого абзаца написано: Застѣнчива. Скромна.
(обратно)84
Зачеркнуто: <Кура[кину]> <Корсаку> <Неволи[ну?]> Волы[нскому?] или Вольс[кому?]
(обратно)85
Зач.: — Не знаю, — сказала она.
(обратно)86
Рядом на полях написано: <Что то противное и слабое>
(обратно)87
Ниже поперек текста написано: Разговоръ искренній, шуточный, насмѣшливый и блестящій, умный. Рядом на полях пометка: <Нечаянно повстрѣчались [?], и всѣ ужаснулись, какъ пропустили.>
(обратно)88
Зачеркнуто: вставъ
(обратно)89
Зач.: отошла къ другому столу и сѣла за альбомы.
(обратно)90
Зач.: оттянувъ
(обратно)91
Поперек начала текста II главы написано: <Не нужно.>. Кити за границу. Ордынцевъ покосъ убираетъ, его сватаютъ, не можетъ — ненависть къ Удашеву.
Рядом на полях: <Я выстрадалъ.> Ему говорятъ. Онъ смѣшался и при родахъ. Отнялъ руки.
Скачки.
Яхта.
<На водахъ.> Въ Швейцаріи.
На водахъ Михаилъ Михайловичъ и Ордынцевъ и Кити.
Михаилъ Михайловичъ ѣдетъ домой.
(обратно)92
Зачеркнуто: Ужъ наступила безночная весна Петербурга.
(обратно)93
[заколдованный круг,] В подлиннике: circulum viciosum
(обратно)94
Далее поперек текста до конца главы написано: Не нужно.
(обратно)95
Зачеркнуто: — Правда, что она беременна?
(обратно)96
Зач.: — Да, это правда, — также сухо сказалъ Докторъ.
— Послѣ 6 лѣтъ. Какъ странно.
(обратно)97
Зач.: жену
(обратно)98
Против начала текста III главы поперек текста написано: <Его пріятель Ордынцевъ.>
(обратно)99
Зачеркнуто: въ биліардную. Туда вели принести
(обратно)100
Зачеркнуто: при дворѣ одно лицо
(обратно)101
Рядом и ниже на полях написано: Рассказъ, какъ всю ночь пили, и погребальный маршъ.
Вошелъ Потуловъ. «Вотъ мой другъ. Этотъ меня пойметъ».
«Давай зельтерской съ лимономъ и потомъ шампанскаго».
(обратно)102
[— Всё в порядке,]
(обратно)103
В начале главы поперек текста написано: Не нужно. Рядом на полях:
<Въ Москвѣ.
Нигилизмъ не помогаетъ.>
Подбѣжалъ къ ней и не думая о ней.
Онъ проѣхалъ мимо дачи. Она высунулась изъ окна съ сестрой. «Я обѣщался заѣхать, сказать — пора. Вы обѣщали дать мнѣ на счастье». «Возьмите мою коляску, Lise, поѣдемъ». Ей хотѣлось сказать наединѣ. Она быстро солгала. «Нѣтъ, я пойду пѣшкомъ. Ахъ, подите мой ящикъ отоприте». Онъ ловокъ руками. «Постойте, я принесу». Изъ за двери она закричала: «Подите сюда скорѣe»... Онъ вбѣжалъ, и не успѣла еще войти, какъ онъ поцѣловалъ ее губы и зубы и успѣлъ сказать: «Я проведу всю ночь въ саду, буду ждать» «Хорошо, жди непремѣнно, непремѣнно». Свернулся. Вошла сестра и все поняла и рѣшила сказать мужу. Роль ея стала невозможна.
(обратно)104
В подлиннике: но
(обратно)105
Так в подлиннике.
(обратно)106
Так в подлиннике.
(обратно)107
[любовницей,]
(обратно)108
Рядом на полях написано: Анну не принимаютъ. «Мнѣ вправо». Онъ встрѣтилъ Степана Аркадьича на скачкахъ, объявляетъ Аннѣ о устроивающемся бракѣ Кити с Левинымъ. Дальше поперек следующей страницы написано: Скачки, другихъ
(обратно)109
Зачеркнуто: когда подошелъ Балашевъ. Старый
(обратно)110
Зач.: несмотря на высшій тонъ, то, что принадлежавши къ высшему свѣту, мальчикъ гордый и съ оттѣнкомъ учености и новой либеральности. Кромѣ того, онъ
(обратно)111
Зачеркнуто: Англіи
(обратно)112
Зач.: радушно
(обратно)113
Так в подлиннике.
Далее поперек текста написано: Она сидитъ въ коляскѣ. Толпа молодежи около. Она откинулась назадъ <и застонала. «Лизъ, я домой».> Всѣ замолчали. <Она отъѣхала.> Корней. Блѣдна, вскочила и опять назадъ. «Подите узнайте, что онъ».
Его посадили въ коляску и повезли. Пришелъ, сказалъ. «Это ужасно. Я поѣду домой. <Корней, поѣзжай.>»
<Маша> написала записку. Я хочу тебя видѣть и сейчасъ приду къ тебѣ». «Маша! доставь». Анна Каренина ходила, ломала цвѣты. «Я бы былъ, но мнѣ не велятъ — съ задняго крыльца въ 9-ть я буду одинъ».
«О, какъ я счастливъ».
«Я это знала».
«Я знаю какъ я люблю тебя». Вдругъ дурно. «Я беременна».
«Это нельзя. Не омрачай[?]».
(обратно)114
Зачеркнуто: «Очень хорошо ѣдетъ».
(обратно)115
Зач.: быстро
(обратно)116
На полях рядом с начальными строками главы написано: Мужъ пріѣхалъ, она реветъ блѣдная. Ее не пустили къ любовнику и признается. Михаилъ Михайловичъ пріѣхалъ и не нашелъ ее. Сестра говоритъ, что не можетъ говорить. Она лжетъ, объясненіе о беременности.
Отъѣздъ Михаила Михайловича въ Москву.
Роды.
Прощеніе.
Леонидъ Дмитричъ затащилъ къ себѣ обѣдать.
Его жена — разговоръ съ кузиной.
Поѣдемъ <домой> въ Петербургъ.
Нигилисты утѣшаютъ.
Михаилъ Михайловичъ горячится.
Онъ уѣзжаетъ <въ деревню> въ Петербургъ.
На комитетѣ.
Приходитъ домой и отравляет[ся?].
(обратно)117
Зачеркнуто: тяжело
(обратно)118
Зачеркнуто: Ты привыкла у меня спрашивать, отъ меня учиться жизни. Забудь это всё.
(обратно)119
Зач.: — Мнѣ говорили, что убился Г., и Б. очень убился.
(обратно)120
Зачеркнуто: — Таня
(обратно)121
В подлиннике: въ Петербургъ.
Рядом, поперек полей написано: «Да я его люблю, дѣлай что хочешь».
Поздно. Ей надо идти на свиданье. Свѣтлая ночь.
Принесъ [?] зап[иску] [1 неразобр.]
(обратно)122
Вверху листа приписано: Тяжесть прощенія — нельзя. Разводъ.
Против текста XI главы на полях приписано: «Все это очень просто, — говорилъ Степанъ Аркадьичъ, — а пот[ому] не оч[ень] пр[осто], н. п., нѣтъ, не тр[удно], не уж[асно], но невозможно».
(обратно)123
Зачеркнуто: артисты музыканты,
(обратно)124
Зачеркнуто: Какъ шутка,
(обратно)125
Зач.: себѣ
(обратно)126
Зач.: — Я не могу жить.
(обратно)127
Зач.: на балѣ
(обратно)128
Зач.: Офицеръ
(обратно)129
Зач.: доброе
(обратно)130
Зачеркнуто: въ Невѣ ея
(обратно)131
Ниже поперек страницы написано:
Слезъ.
Ей приходило прежде въ мысль: еслибъ онъ умеръ, да теперь не поможетъ и ни ему, ни Алексѣю.
Она объ себѣ вспомнила.
Ахъ, вотъ кому?
Въ 1 веч. Слушаетъ и не слышитъ крест [?]
Перестали смѣяться, когда связь.
Михаилъ Михайловичъ разсказываетъ свою исторію M-me С. и плачетъ.
Она говоритъ: «я съ нынѣшняго вечера не своя».
Онъ не истасканъ.
(обратно)132
Зачеркнуто: огромный
(обратно)133
Зачеркнуто: теперь пишетъ сочиненіе, и какой то новый планъ у него объ улучшенiи и быта мужиковъ.
(обратно)134
Зач.: искреннему другу
(обратно)135
Зач.: бородой
(обратно)136
Зач.: рыжеватой
(обратно)137
Рядом поперек полей написано: Ордынцевъ незнакомъ, въ поддевкѣ, дикарь. «Такъ зови на сватьбу. Она мила».
(обратно)138
[уча учимся,]
(обратно)139
Зачеркнуто: — Да, сходить нынче <на коньки> въ Зоологическій садъ, потомъ къ Цимерману.
— А у Щербацкихъ будешь? — спросилъ Гагинъ.
— Нѣтъ, у нихъ ужъ завтра.
— Такъ стало быть, будемъ обѣдать. Ну хорошо. Однако пора идти къ матушкѣ.
(обратно)140
Зачеркнуто: если бы я рѣшилъ,
(обратно)141
Зач.: если
(обратно)142
Зач.: это такъ странно, ради Бога
(обратно)143
Зач.: но мнѣ нужно переработать это въ себѣ, и тогда
(обратно)144
Зач.: что откладывать нечего, я стара
(обратно)145
Рядом на полях написано: Разсужденіе о томъ, что дѣлать.
(обратно)146
Рядом поперек страницы написано: Широкий ящикъ груди для легкихъ и маленькая нога и легкая походка.
(обратно)147
Рядом поперек полей написано: Красавцевъ, Лабазинъ
(обратно)148
Зачеркнуто: Иней висѣлъ
(обратно)149
Зач.: <румянымъ, красивымъ> открытымъ, пріятнымъ
(обратно)150
Зач.: подошелъ извѣстный всему Московскому свѣту Степанъ Аркадьичъ Алабинъ, членъ суда
(обратно)151
Зач.: Красавцевъ
(обратно)152
Зач.: — Ну теперь я серьезенъ, какъ судья, архирей. Идемъ. И львы, и тигры, и коровы, и бараны
(обратно)153
Зач.: Красавцевъ
(обратно)154
Зач.: Красавцевъ
(обратно)155
Так в подлиннике.
(обратно)156
Зачеркнуто: потомъ прошли нѣсколько стойлъ, не глядя и разговаривая о пріятномъ запахѣ коровъ
(обратно)157
Зач.: краса[вца?]
(обратно)158
Зачеркнуто: фуражку
(обратно)159
Зач.: теперь подъ предлогомъ выставки пріѣхалъ въ Москву, чтобы сдѣлать
(обратно)160
Зач.: онъ бы долженъ былъ обрадоваться этой встрѣчѣ, но, напротивъ,
(обратно)161
Зачеркнуто: — И Дарья Александровна будетъ дома?
(обратно)162
Зач.: Ты окоровился совершенно.
(обратно)163
Зач.: — Непремѣнно буду. Нынче? — сказалъ Ордынцевъ и прошелъ нѣсколько шаговъ, разговаривая съ Алабинымъ. «Ничего не понимаю, — сказалъ онъ самъ себѣ, возвращаясь домой. — А это судьба. Надо ѣхать». И какъ только онъ подумалъ о томъ, что предстоитъ ему, кровь бросилась ему въ лицо, и онъ привычнымъ жестомъ сталъ тереть себе лобъ и брови.
(обратно)164
Рядом и ниже на полях написано: [1] <Алабинъ оставляетъ даму и разсказываетъ. «Я несчастный человѣкъ. Пріѣзжай».> [2] <Ордынцевъ съ мужикомъ совѣтуется.> [3] <На вечерѣ говоритъ, какъ онъ живетъ въ деревнѣ> [4] <Въ горѣ уѣзжаетъ къ телятамъ.> [5] <Анна говоритъ: «Я мирить не могу, но покайся. Я бы убила».> [6] «Пойдемъ, наши тамъ». Ордынцевъ вспыхнулъ. Они пошли.
(обратно)165
Зачеркнуто: Красавцеву
(обратно)166
Зачеркнуто: продолжалъ Ордынцевъ, какъ будто его и не перебивали
(обратно)167
Зач.: Оставшись одинъ, Ордынцевъ вернулся къ коровамъ, еще разъ сравнивая, остановился
(обратно)168
Зач.: Константина
(обратно)169
Так в подлиннике.
(обратно)170
Зачеркнуто: какъ Алабинъ
(обратно)171
Зач.: Вернувшись въ коровникъ послѣ разговора съ Алабинымъ, Ордынцевъ засталъ группу противъ своей телки.
(обратно)172
Ниже на полях вслед за этим вписано: «Ты посмотри задъ», и онъ сталъ мѣрять. Въ это время въ дверь вошелъ Степанъ Аркадьичъ съ знаменитымъ прожившимъ кутилой Безобразовымъ. У Безобразова на рукѣ была франтиха дама. Вокругъ нихъ стояло сіяніе веселаго хорошаго завтрака.
(обратно)173
Против этих слов и ниже поперек полей написано: [1] Послѣ обѣда чувство недовольства, у того все назади, у этаго впереди. [2] Обѣдъ. Шампанское развязываетъ языки. «Моя жена удивительная женщина». Ордынцевъ не гастрономъ, каша лучше, но бумажникъ полонъ.
(обратно)174
Зачеркнуто: почти
(обратно)175
Против этих слов и ниже на полях написано: Жениться хорошо, не жениться тоже хорошо. Дѣла пропасть.
(обратно)176
Зачеркнуто: потише
(обратно)177
Зач.: сертукъ
(обратно)178
Зач.: Алабины
(обратно)179
Зач.: жившій и теперь подъ опекой своей жены,
(обратно)180
Зач.: Когда
(обратно)181
Зач.: уже давно перестала давать ему деньги, старый игрокъ
(обратно)182
Зачеркнуто: И это онъ говорилъ ceбѣ уже 15 лѣтъ и 15 лѣтъ безъ дѣла, безъ интереса къ чему бы то ни было
(обратно)183
Против этих слов на полях написано: <Княгиня пухлая съ одышкой.>
(обратно)184
Зач.: лучшемъ
(обратно)185
Зач.: такіе
(обратно)186
Зачеркнуто: пріятелей Алабина одинъ Ордынцевъ, который казался матери возможнымъ, но и онъ ей скорѣе не нравился, и она боялась, чтобы дочь не привязалась къ нему.
(обратно)187
Зач.: Ордынцевѣ
(обратно)188
Зач.: мужицкими школами
(обратно)189
Зач.: съ увлеченіемъ
(обратно)190
Зач.: Ордынцеву
(обратно)191
Зач.: Ордынцева
(обратно)192
Зач.: честность и
(обратно)193
Зач.: и противна въ немъ, что это
(обратно)194
Зач.: въ домѣ ихъ
(обратно)195
Зач.: Графъ Кубанской
(обратно)196
Зач.: и отслужила тайно отъ дочери о томъ же молебенъ Иверской
(обратно)197
Зачеркнуто: <Кн. Иванъ Сер.> <Михаилъ> Алексѣй Удашевъ
(обратно)198
Зач.: Удашевыхъ
(обратно)199
Зач.: Княгини
(обратно)200
Зам.: кандидатами въ Московскомъ университетѣ,
(обратно)201
Зач.: для раздѣла съ братомъ и во время этаго отпуска, встрѣтившись на балѣ съ Китти, былъ представленъ и протанцовалъ съ ней 4 мазурки <и два раза былъ въ домѣ> и ѣздилъ очень часто
(обратно)202
Зач.: Положеніе его въ домѣ стало таково, что онъ, видимо, уже не боялся <компрометировать> ѣздить каждый день и, зная его честную породу и природу,
(обратно)203
Зач.: у фортепьяно
(обратно)204
Зач.: иногда они становятся въ неловкое положеніе, не смѣя дать слово или обѣщать, или просить, умолять о чемъ нибудь, не имѣя на то согласіе матери. Это оскорбило бы ее. «И теперь я жду пріѣзда матери какъ мессіи, — сказалъ онъ, — отъ нея зависитъ счастье моей жизни, и я знаю, что она счастлива будетъ моимъ счастіемъ».
(обратно)205
Зач.: переѣхавшей къ ней съ дѣтьми и насилу согласившейся простить мужа и вернуться къ нему,
(обратно)206
Зач.: Ордынцеву
(обратно)207
Зачеркнуто: когда Алабинъ заѣхалъ после обѣда къ нимъ и сообщилъ о встрѣчѣ съ Ордынцевымъ и приглашеніи вечеромъ
(обратно)208
После этого слова, очевидно по ошибке, не зачеркнутое: матери
(обратно)209
Против этих строк на полях написано и зачеркнуто: Какъ передъ сраженіемъ.
(обратно)210
Зачеркнуто: тихаго
(обратно)211
Против этой части абзаца на полях написано: Кити не знаетъ, кого выбрать. — Ордынцевъ силачъ оскорбленъ, безтактенъ. Удашевъ тихъ, слабъ физически и спокойно непоколебимъ. К[итти], М[ать] на сторонѣ Удашева, С[тарикъ?], Д[олли] и А[лабинъ] на сторонѣ Ордынцева. Уѣхалъ домой и плачетъ. «Я всѣмъ противенъ». Дома пристяжная отелилась. Приход[ятъ?] <луга> наниматься. Разговоръ, что дома дѣлаютъ въ д[еревнѣ?] Приходитъ старикъ от[ецъ]. Д[олли?] переѣзжаетъ. Онъ можетъ плакать всегда.
(обратно)212
Рядом на полях написано: <Какъ только Ордынцевъ вошелъ въ этотъ вечеръ къ Щербацкимъ, онъ съ первыхъ словъ понялъ, что мѣсто его занято. Онъ принялъ на себя веселый, развязный тонъ, но глаза его, голубые, глубокіе, имѣли растерянное выраженіе, и даже Кити было жалко его. Какъ пріятно бываетъ женщинѣ жалѣть о несчастіи человѣка, несчастіи, сдѣланномъ ею самою.
«Разумѣется, Гагинъ ни въ чемъ не виноватъ», подумалъ Ордынцевъ, и онъ былъ особенно любезенъ съ нимъ. Онъ только былъ неловокъ, самъ чувствовалъ это и потому становился еще болѣе неловокъ.>
Далее на полях написано: Мнѣ необходима красота Говорить по Русски. Парабола. Гипербола. Я 1-й ученикъ. А[ристократъ?] Удашевъ, но все забылъ. Впрочемъ, дамамъ скучно.
Разговоръ о столикахъ и о деревенской жизни. «Я устраиваю жизнь для себя и другихъ». Свысока смотритъ на Графиню Нордстонъ. «Не могу видѣть этотъ тонъ; презирая, снисходить до насъ грѣшньіхъ»,
(обратно)213
[болтовня.]
(обратно)214
Рядом и ниже на полях написано:
Я бы радъ съ ними жить, но они глупы ужъ очень.
Какже не гордиться.
Правда, Удашевъ, но тоже пустошь.
Отецъ сдѣлалъ сцену.
Говорили о предстоящемъ балѣ у Долгоруковыхъ.
(обратно)215
Рядом и ниже на полях написано:
<Степанъ Аркадьичъ ничего не замѣтилъ, a дѣло было рѣшено>.
<«Теперь я навсегда разсталась съ Ордынцевымъ».>
(обратно)216
Зачеркнуто: Виновата мерзость среды.
(обратно)217
Зач.: среды
(обратно)218
Зач.: Удашева, маленькаго, сильнаго,
(обратно)219
Зач.: благороднаго и всегда яснаго, спокойнаго.
(обратно)220
Зач.: Не вралъ ли Стива? Надо попробовать. Поѣду на балъ. Это послѣднее испытаніе. А можетъ быть, и правда.
(обратно)221
Зач.: а поѣздъ уходилъ ночью.
(обратно)222
Зачеркнуто: Шевалье
(обратно)223
Рядом на полях написано: <Объясненіе Стивы Алабина съ женой
Извѣстіе о пріѣздѣ Анны. Онъ можетъ плакать, когда хочетъ.
Кити счастлива, все кончено.
Алабинъ ѣдетъ встрѣчать. Удашевъ за матерью. Несчастье на желѣзной дорогѣ>
(обратно)224
Рядом на полях написано:
Обворожила мать. Дѣвушку выводитъ.
А и такія бываютъ.
Никогда не видала, какіе они?
Совсѣмъ другіе.
(обратно)225
Зачеркнуто: грѣла
(обратно)226
Зач.: Удашевъ
(обратно)227
На полях против этих слов написано: И когда она говорила это, и въ его и въ ея глазахъ было что то очень дружеское и знакомое [?], какъ будто давно онъ
(обратно)228
Зачеркнуто: было тѣло молодаго человѣка въ пальто съ собачьимъ воротникомъ и лиловыхъ панталонахъ.
(обратно)229
Зач.: молодой человѣкъ
(обратно)230
Зач.: помѣшанный, цѣлый день былъ на станціи и бросился.
(обратно)231
Против этого абзаца на полях написано: Гагинъ вдругъ разчувствовался. Она внимательно смотритъ на него. И далъ денегъ.
(обратно)232
Зачеркнуто: его
(обратно)233
Зач.: <Первая встрѣча.> <— Я пройду къ себѣ, ты лучше одна...> — Ну, такъ я поѣду въ присутствіе. В конце рукописи на полях карандашом написано: Разумъ. Ужъ не Ордынцевъ. Я теперь никогда не выйду. Отецъ понялъ, что Ордынцевъ пропалъ, и глупо придрался къ Гагину.
(обратно)234
Зачеркнуто: радостью и
(обратно)235
Зач.: Вѣдь они говорили
(обратно)236
Зачеркнуто: и иначе самой говорить о ней и иначе дать понять ей.
(обратно)237
Зач.: и стала говорить:
(обратно)238
Зач.: спокойная за мужа, уважающая и уважаемая
(обратно)239
[уважают]
(обратно)240
Зачеркнуто: гадость
(обратно)241
Зачеркнуто: очень красивыхъ
(обратно)242
Зачеркнуто: Ордынцевъ
(обратно)243
Рядом на полях написано: <Какъ она можетъ понимать любовь, когда она жена Михаила Михайловича.>
(обратно)244
Зачеркнуто: Гагінъ
(обратно)245
[род,]
(обратно)246
Ниже поперек страницы написано: <Гагинъ по утру съ Ордынцевымъ.> <Стоюнинъ> <Ордынцевъ> <и обѣдъ.> Сбоку на полях написано: <Въ его взглядѣ вдругъ выраженіе покорности лягавой собаки, и она не можетъ сердиться.>
Там же, ниже, но позднее, судя по почерку, написано: <Въ началѣ бала веселость, смѣлость обуяла Гагина.> <Въ концѣ встрѣчаются глазами. У нихъ уже есть прошедшее.> <Я уѣду, признаюсь. Я глупо вела себя. Я уѣду, и все кончится.>
<Гагинъ бодрый, твердъ и красавецъ.>
(обратно)247
Зачеркнуто: суда
(обратно)248
Зач.: сильныя
(обратно)249
Зач.: ноги
(обратно)250
Зач.: краснов[атое]
(обратно)251
В подлиннике: скулы
(обратно)252
Зачеркнуто: — Матвѣй! — крикнулъ онъ. — Цирульникъ тутъ?
(обратно)253
Зач.: добродушно
(обратно)254
Зач.: Но все пустое на свѣтѣ, и все пройдетъ.
(обратно)255
Зач.: служебное, другое отъ Лидіи Ивановны
(обратно)256
Зачеркнуто: съ Васей Красавцевымъ
(обратно)257
Зач.: остановился въ выравниваніи тонкой рубашки изъ подъ помочей
(обратно)258
Зач.: губы
(обратно)259
Зач.: Теборъ
(обратно)260
Зач.: «Обойдется, навѣрно обойдется».
(обратно)261
Зачеркнуто: Главное, отчего не могутъ всѣ жить, не сердиться, не ссориться.
(обратно)262
В подлиннике: рассовалъ
(обратно)263
Зач.: чуть постукивая каблуками,
(обратно)264
Зач.: и останавливался жевать, чтобы прислушаться; другой разъ онъ слышалъ ея голосъ, приказывающій что то Англичанкѣ. Когда онъ всталъ отъ кофея съ пріятной теплотой въ тѣлѣ и поглядѣлъ въ окно на дворъ, освѣщенный солнцемъ, гдѣ карета чистая, блестящая на зимнемъ солнцѣ скрипѣла, подъѣзжая къ крыльцу, онъ рѣшительнѣе еще, чѣмъ прежде
(обратно)265
Зачеркнуто: обойдется
(обратно)266
Зач.: Отвращеніе, злоба, презрѣніе
(обратно)267
Зач.: громче и громче
(обратно)268
Зач.: кричала она
(обратно)269
Зач.: бѣлой
(обратно)270
Зач.: Развѣ не могутъ быть увлеченія?
(обратно)271
Зачеркнуто: Она открыла лицо
(обратно)272
Зачеркнуто: «Ахъ, это ужасно. — Потомъ онъ обтеръ лицо и виски.
— А можетъ быть и обойдется». — Карета стояла у подъѣзда.
(обратно)273
Зач.: Матвѣй ожидалъ съ пальто.
— Кушать дома не изволите?
— Нѣтъ.
Швейцаръ вынесъ гармонію съ казенными бумагами и захлопнулъ дверцу. По привычкѣ Степанъ Аркадьичъ закурилъ папироску и опустилъ окно.
«Даже навѣрно обойдется», сказалъ онъ себѣ, когда карета покатилась визжа по улицамъ, и онъ по привычкѣ, подъѣзжая къ Присутствію, дѣлалъ программу дня.
«Обѣдать съ ней нельзя, но надо заѣхать завтракать въ Зоологическій садъ и сказать ей; поѣду обѣдать въ клубъ, а вечеромъ посмотрю, что дома. Не можетъ же это такъ остаться».
Вдругъ ему пришла счастливая мысль: «Анна. Да, сестра Анна устроить это. Анна — это такой тактъ, терпимость. Жена любитъ ее».
Анна была любимая сестра Степана Аркадьича, замужемъ за Директоромъ Департамента въ Петербургѣ. Анна для Степана Аркадьича была идеалъ всего умнаго, красиваго, граціознаго, прекраснаго, добраго «Анна все устроитъ, я напишу ей, и она устроитъ».
Въ присутствіи еще, въ своемъ кабинетѣ, Степанъ Аркадьичъ написалъ письмо сестрѣ, умоляя ее пріѣхать и помирить его съ женою. Потомъ онъ весело, какъ бы покончивъ это дѣло, надѣлъ мундиръ и пошелъ въ присутствіе.
Въ присутствіи были интересныя дѣла, и Степанъ Аркадьичъ, какъ всегда, былъ добръ, простъ, мягокъ съ подчиненными и просителями и толковъ, ясенъ, неторопливъ въ исполненіи дѣла. Когда ему въ 4-мъ часу сказали, что карета пріѣхала, онъ уже чувствовалъ апетитъ и рѣшилъ, что можно не обѣдать съ Лидіей, а поговорить съ ней и хоть позавтракать <въ Зоологическомъ саду>. Можетъ быть, тамъ не очень уже гадко ѣдятъ въ ресторанѣ.
(обратно)274
Зачеркнуто: — Въ присутствіе.
(обратно)275
На обороте листа написано: Въ Присутствіи вызываютъ. Враждебность. Одинъ — Степанъ Аркадьичъ — не вникаетъ въ смыслъ жизни и спитъ. Другой — Ордынцевъ — ищетъ добра, устройства.
Ордынцевъ былъ во всемъ разгарѣ объясненія. Купцы, когда явилась сіяющая фигура Степана Аркадьича.
(обратно)276
Зачеркнуто: Степанъ Аркадьевичъ Алабинъ, несмотря на <41 годъ жизни, на сѣдѣющія нити въ длинныхъ курчавыхъ бакенбардахъ, на одѣвающееся уже откормленнымъ жиромъ расширѣвшее тѣло, спалъ сномъ ребенка, и спокойствіе его сна не нарушилось никакими нравственными причинами> 37 лѣтъ отъ роду, не потерялъ еще способности ребяческаго спокойнаго сна, несмотря ни на какія нравственные невзгоды.
(обратно)277
Зач.: въ первый разъ послѣ 9 лѣтъ
(обратно)278
Зач.: куда его не пустили вчера вечеромъ вслѣдствіи открывшейся его невѣрности
(обратно)279
Зач.: хорошъ
(обратно)280
Зач.: и онъ проснулся въ привычный часъ, 8 часовъ, время, когда ему надо было ѣхать въ одно изъ Московскихъ присутствій, гдѣ онъ былъ предсѣдателемъ, проснулся, потягиваясь, растягивая и вздымая свою геркулесовскую широкую грудь и сладко чмокая румяными улыбающимися губами. Зимній яркій свѣтъ уже проходилъ въ щели между тяжелыми гардинами, и сафьянъ холодилъ тѣло подъ сбившейся простыней.
(обратно)281
Зач.: тяжелое, одѣтое жиромъ, откормленное
(обратно)282
Зач.: кругло зѣвнулъ и улыбаясь
(обратно)283
Зач.: разставивъ
(обратно)284
Зач.: И несмотря на жиромъ одѣтое, откормленное тѣло, онъ скинулъ
(обратно)285
Зачеркнуто: непривычный
(обратно)286
Зач.: маленькими ступнями
(обратно)287
Зач.: свѣжаго
(обратно)288
Зач.: привычнымъ ему жестомъ въ минуты задумчивости сталъ <быстро перебирать и ощупывать кончиками тонкихъ бѣлыхъ и пухлыхъ пальцевъ съ овальными розовыми ногтями лѣвой руки верхнія волоски бакенбардъ, какъ бы повѣряя правильность ихъ формы,> потирать красивой пухлой рукой лобъ и вьющіеся волосы на маковкѣ. Онъ вдругъ вспомнилъ все, что было вчера вечеромъ, когда онъ, веселый и ласковый, съ коробкой конфетъ вернулся изъ театра и вмѣсто милой <старой>, всегда тихой, ласковой подруги, жены и матери своихъ дѣтей, увидѣлъ блѣдную женщину съ окоченѣвшими, какъ будто дрожащими членами и смотрѣвшими прямо на него и остановившимися глазами, горѣвшими непримиримой злобой, даже ненавистью. Онъ, <такъ любившій любить всѣхъ и быть любимымъ, такъ любившій свою жену не какъ женщину, но какъ стараго друга и мать дѣтей, всегда ласковый, пріятный, добрый со всѣми) всегда гордившійся — если онъ чѣмъ нибудь гордился — тихой прелестью своей семьи, долго не могъ понять, что случилось. Хотя онъ зналъ себя въ отношеніи вѣрности давнымъ давно и сто разъ виноватымъ передъ женой, онъ такъ самъ привыкъ къ этому, что иногда думалъ, что и она знаетъ и привыкла; и ему въ голову не могло придти, чтобы послѣ 9 лѣтъ вдругъ такая счастливая жизнь сдѣлалась адомъ только потому, что она узнала одну изъ его послѣднихъ невѣрностей. Когда она показала ему его любовное письмо <къ бывшей у нихъ гувернанткѣ> <къ Лидіи Ивановнѣ), попавшее самымъ страннымъ, несчастнымъ случаемъ ей въ руки, и когда она сказала ему, что теперь все кончено между ними и что она завтра уѣдетъ отъ него, онъ былъ такъ ошеломленъ, что ничего не отвѣтилъ и даже не измѣнилъ веселаго выраженія своего лица, какъ это часто бываетъ съ людьми, слишкомъ неожиданно пораженными. Самъ не зная зачѣмъ, онъ даже улыбнулся. Только уже послѣ понявъ весь ужасъ своего и ея положенія, понявъ, что она до этой минуты ничего не знала, что она считала его чистымъ, понявъ, какъ ужасно ей было вдругъ разочароваться, онъ попытался виниться, просить прощенія, обѣщать исправленія; но она не хотѣла его слышать и, еще разъ подтвердивъ свое намѣреніе разойтись, вышла изъ комнаты и не хотѣла его больше видѣть. Какъ ни невозможно ему казалось исполненіе ея угрозы — послѣ 10 лѣтъ <внѣшне> хорошей дружной жизни съ 5 человѣками дѣтьми и съ однимъ въ брюхѣ бросить мужа, онъ боялся жены; онъ зналъ ея кротость, характеръ тихій, холодный, честный и твердый. Какъ ни невозможна казалась ея угроза, онъ тоже не могъ себѣ представить того, чтобы, сказавъ что нибудь такъ рѣшительно, какъ она объявила свое рѣшенье вчера вечеромъ, чтобы она измѣнила ему. Если онъ и хотѣлъ надѣяться, что она все таки проститъ его, онъ не могъ себѣ представить, какъ она это сдѣлаетъ. Онъ помнилъ ея лицо и не могъ вѣрить, чтобы она измѣнила своему рѣшенію; такъ не похоже было на нее, всегда благоразумную, спокойную и твердую, сказать и не сдѣлать.
(обратно)289
Зач.: испуганной и виноватой собаки.
(обратно)290
Зачеркнуто: Дарья Александровна
(обратно)291
Зач.: хотѣла его видѣть и
(обратно)292
Зачеркнуто: «это рѣшено и кончено», подтверждалъ что кончено, когда она сказала это.
(обратно)293
Зач.: <А главное то поражало его.> Это было и давно, и мы жили прекрасно, и она была счастлива. Вѣдь ничто же не измѣнилось.
(обратно)294
Зач.: И что будетъ? Не проститъ, нѣтъ, не проститъ. А можетъ быть, и обойдется.
(обратно)295
Зач.: настоящій ночной никогда
(обратно)296
Зач.: ему
(обратно)297
Зачеркнуто: и телеграммы. И съ входомъ камердинера Матвѣя съ новыми письмами и телеграммой сонъ жизни охватилъ Степана Аркадьича.
(обратно)298
Зач.: землею и пепломъ
(обратно)299
Зач.: и заботы дня одна за другою живо представлялись ему.
(обратно)300
Зач.: оглянулся на него съ удивленіемъ, какъ будто онъ не знаетъ, что денегъ нѣтъ. «Знаю, ну что жъ?»
(обратно)301
Зач.: Видно было, что онъ хотѣлъ пошутить. «Не только знаю, что денегъ нѣтъ, — говорилъ взглядъ Матвѣя, — но знаю <и всѣ> ваши обстоятельства, сударь. Знаю, <что долговъ куча, что денегъ нѣтъ и> что съ барыней разстройка, а что въ ея имѣньи надо лѣсъ продать и что это васъ мучаетъ. Все знаю и понимаю и не совѣтую вамъ унывать, сударь, потому что не такія дѣла бывали и обходились».
(обратно)302
Зачеркнуто: завтра
(обратно)303
Зач.: завтра
(обратно)304
В подлиннике описка: Аркадій
(обратно)305
Зачеркнуто: Анна Каренина
(обратно)306
Зач.: <Несмотря на то, что онъ спалъ уже 3-ю ночь вслѣдствіе ссоры съ женой не въ спальнѣ жены> Между мужемъ и женой произошла ссора. Жена не хотѣла оставаться въ домѣ мужа, который измѣнялъ ей, и съ 5-ю человѣками дѣтей хотѣла уѣхать отъ него къ матери.
(обратно)307
Зач.: веселымъ, доброду[шнымъ]
(обратно)308
Зачеркнуто: <Князя Михаила Андреевича> <Степана Аркадьича Облонскаго> <Мишуты> Мишиньки
(обратно)309
Зач.: тихъ и сладокъ
(обратно)310
Зач.: сталъ ворочаться съ боку на бокъ
(обратно)311
Зач.: поворотилъ свое <начинавшее ожирѣвать> бѣлое откормленное тѣло и тереться бѣло-румянымъ немытымъ лицомъ о подушку, крѣпко обнимая ее. Онъ
(обратно)312
Зач.: маленькіе блестящіе глазки
(обратно)313
Зач.: окруженные черными густыми рѣсницами.
(обратно)314
Зач.: своей неотразимо-пріятной, дѣтски доброй улыбкой и, выставивъ локти, потянулся и, почмокавъ влажными улыбающимися губами, оглянулся.
«Да, что бишь, — думалъ
(обратно)315
Зач.: по мѣрѣ того какъ съуживались,
(обратно)316
Зач.: блестящи
(обратно)317
Зачеркнуто: <надо вставать> что же нехорошо?
(обратно)318
Зач.: тяжелыхъ
(обратно)319
Зач.: — Неужели? — вдругъ вскрикнулъ онъ, вскакивая. — Ахъ, да. Да. Вставать, такъ вставать.
(обратно)320
Зач.: стройныя бѣлыя
(обратно)321
Зач.: сіяющаго добротой
(обратно)322
Зач.: сморщился и махнулъ рукой
(обратно)323
Зач.: промычалъ
(обратно)324
Зач.: И надо же было, чтобы эта записка къ <Лидіи> Лидинькѣ попала прямо въ руки жены, и именно тогда, когда я уже хотѣлъ прекратить съ ней связь. Надо же было случиться этому несчастью.
(обратно)325
Зач.: онъ сталъ въ сотый разъ припоминать все, что было. «Да, да, она сказала, что разойдется, да, да, она сказала, и она сдѣлаетъ, сдѣлаетъ... Она сдѣлаетъ, она такая женщина. Если бы это сказала другая, я бы зналъ, что это пугаетъ, но она! Если она сказала, она сдѣлаетъ! И вотъ уже три дня она не только не смягчается, но видѣть меня не хочетъ, И что то она дѣлаетъ, готовитъ съ своей матерью?
(обратно)326
Зач.: произошедшей отъ этаго открытія
(обратно)327
Зач.: ссоры, продолжавшейся уже 3 дня, во время которыхъ жена не хотѣла видѣть его и что то такое замышляла съ своей матерью.
(обратно)328
Зач.: сдѣлаетъ эскландръ, что нибудь ужасное, и вся эта исторія будетъ предметомъ <разговора> толковъ и хохота всего города.
(обратно)329
Зач.: гадливымъ выраженіемъ лица, какъ будто онъ испачкался <въ вонючую грязь> во что нибудь.
(обратно)330
и жить, т. е. вспомнить все, что было, и исполнять всѣ тѣ условія, въ которыя онъ былъ поставленъ. Надо было
(обратно)331
Зачеркнуто: гдѣ онъ былъ начальникомъ,
(обратно)332
Зач.: несчастнымъ письмомъ
(обратно)333
Зач.: столь преобразовавшимъ ея всегда милое лицо
(обратно)334
Зач.: отчаянія и
(обратно)335
Зач.: Князя <Мишуту> Мишиньку больше всего не самая неблаговидность его поступка, хотя онъ и признавалъ ее, не та боль, которую онъ сдѣлалъ женѣ, хотя онъ жалѣлъ ее всей душой, но его мучала болѣе всего та глупая роль, которую онъ самъ съигралъ въ эту первую минуту.
(обратно)336
Зач: Степанъ Аркадьичъ, благодаря протекціи своего [зятя] Алексѣя Александровича Каренина, однаго изъ ближайшихъ лицъ въ Министерствѣ, мужа столь любимой имъ сестры Анны, занималъ почетное и съ хорошимъ жалованьемъ мѣсто въ одномъ изъ Московскихъ присутствій.
(обратно)337
Зач.: Степана Аркадьича
(обратно)338
Зач.: Кромѣ того, Степанъ Аркадьичъ
(обратно)339
Зач.: сонъ жизни, опьяняя, охватилъ его
(обратно)340
Зачеркнуто: Юпитеръ
(обратно)341
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)342
Рядом на полях написано: Просіялъ. Никого бы такъ не желалъ видѣть, какъ его.
(обратно)343
Зачеркнуто: милѣйшій
(обратно)344
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)345
Зач.: Ордынцевымъ
(обратно)346
Зач.: Ордынцева
(обратно)347
Зач.: высокій, стройный, хорошо одѣтъ,
(обратно)348
Зачеркнуто: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)349
Зач.: открытое, ясное,
(обратно)350
Зач.: Алабина
(обратно)351
Зач.: — Я пріѣхалъ не надолго на выставку скота, и хотѣлось тебя увидать, — улыбаясь и выказывая бѣлые, какъ снѣгъ, сплошные крѣпкіе зубы изъ-за черныхъ, румяныхъ губъ и черныхъ усовъ и бороды, отвѣчалъ Ордынцевъ. — Я привелъ на выставку своихъ телятъ — удивительныхъ, — сказалъ Ленинъ.
(обратно)352
Зач.: Борисовъ
(обратно)353
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)354
Зач.: Ордынцеву
(обратно)355
Зачеркнуто: — Нѣтъ, серьезно, ужасно противно, я думаю, швейцаръ, бумаги, секре[тарь].
(обратно)356
Зач.: а смѣшно
(обратно)357
Зач.: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)358
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)359
Зач.: красивомъ
(обратно)360
Зач.: нѣсколько притворная
(обратно)361
Зач.: — Ну какъ же я могу не быть пораженъ послѣ того, что я вижу и слышу, — сказалъ онъ. — Я только чувствую себя, съ одной стороны, подавленнымъ твоимъ величіемъ, отъ вида швейцара до креста на шеѣ, съ другой стороны, я горжусь тѣмъ, что на ты съ такимъ великимъ человѣкомъ.
И хотя онъ говорилъ насмѣшливо, онъ говорилъ <правду> то, что немножко чувствовалъ.
(обратно)362
Зач.: — О да, — отвѣчалъ <Ордынцевъ> Ленинъ съ той же насмѣшкой. — Я только хотѣлъ спросить, здорова ли твоя жена и ваши.
И странно: сдѣлавъ этотъ вопросъ, <красивое, самоувѣренное и свѣжее> лицо <Ордынцева> Ленина вдругъ <покрылось краской> покраснѣло, какъ лицо дѣвушки, и глубокіе голубоватые глаза опустились.
— О, да, да, всѣ здоровы.
(обратно)363
.Зачеркнуто: живутъ у Николы Явленнаго и
(обратно)364
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)365
Зач.: Борисову
(обратно)366
Зач.: Борисовъ
(обратно)367
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)368
Зач.: — А какой красавецъ
— Да, очень
(обратно)369
Зач.: это новый типъ молодыхъ людей,
(обратно)370
Зач.: это дѣтская невинность и честность, — подтвердилъ Алабинъ.
(обратно)371
Зач.: вина не пьетъ, не куритъ, никакимъ страстямъ не предается,
(обратно)372
Зач.: вслухъ выражая продолженіе своей мысли объ <Ордынцевѣ> Ленине.
(обратно)373
Зачеркнуто: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)374
Зач.: и что и дѣлало то, что онъ не любилъ быть натощакъ. Онъ закурилъ папиросу, тотчасъ же бросилъ ее.
— Ну, пойдемте, кончимъ дѣла, — сказалъ онъ, стремясь душою къ завтраку и вину, — пойдемте.
И онъ пошелъ досиживать присутствіе.
(обратно)375
На полях против начала главы, написано: Безобразовъ веселый, добрый. Съ Кити другъ, его брюскируютъ.
Представляетъ Ордынцева на каткѣ, и обѣдаютъ всѣ втроемъ. О бракѣ — примѣръ Анны выставляетъ Алабинъ[?].
(обратно)376
Зачеркнуто: но изъ всѣхъ, какъ муха въ молокѣ, видна была одна дама въ суконной, обшитой барашкомъ шубкѣ, съ такой же муфтой и шапочкой.
(обратно)377
Зач.: лѣнивой и достойной
(обратно)378
На полях против последних строк написано: Въ ихъ отношеніяхъ была поэзія дружбы къ умершему брату.
(обратно)379
Зач.: зятя и Ордынцева
(обратно)380
Зач.: <зятю> нему
(обратно)381
Зач.: Ордынцеву
(обратно)382
Зач.: Ордынцевъ, какъ награду и счастіе, принялъ эту улыбку, онъ чувствовалъ, что мнѣ[?] завидуютъ.
(обратно)383
Зачеркнуто: Ордынцеву
(обратно)384
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)385
Зач.: — Да вотъ и слѣды, — сказалъ Ордынцевъ, улыбаясь и показывая выбитый зубъ.
(обратно)386
Зач.: — Я уже давно не катался.
Молодой Алабинъ ушелъ къ дамѣ и о чемъ-то оживленно говорилъ съ ней.
(обратно)387
Зач.: Ордынцеву
(обратно)388
Против начала абзаца на полях написано: Съ мальчиками его полюбили. Онъ милъ всѣмъ, а думаетъ, что смѣшонъ. Все съ азартомъ. Опомнился, что глупо. Она ушла. Онъ думалъ отъ того, что смѣшонъ.
(обратно)389
Зачеркнуто: Ордынцевъ
(обратно)390
Зачеркнуто: «Но это хорошо, хорошій знакъ», думалъ онъ и думалъ несправедливо: эта перемѣна выраженія ея лица была для него самый дурной знакъ. Она знала, что изъ его отношеній съ нею ничего не можетъ и не должно выдти, и знала почему, и, увлекшись на минуту желаніемъ нравиться, попыталась остановиться. Счастливый и веселый, Ордынцевъ выбѣжалъ изъ домика, гдѣ надѣвали коньки, и, зная, что всѣ глаза устремлены на него, побѣжалъ зa нею. Три шага сдѣлавъ сильныхъ, чтобы войти въ тактъ конькобѣжца, онъ пошелъ тихимъ шагомъ.
(обратно)391
Зач.: и сталъ шалить, показывать pas, дѣлать круги, и все это легко, очевидно въ долю того, что онъ могъ сдѣлать,
(обратно)392
Зач.: — Надо согрѣться.
(обратно)393
Зачеркнуто: къ дамѣ, съ которой была, и скрылась въ домикѣ.
(обратно)394
Зач.: Ордынцевъ сталъ на колѣно и
(обратно)395
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)396
Зач.: и поблагодарила <Ордынцева> Левина.
(обратно)397
Зач.: Стало быть, нельзя было идти провожать ихъ. Онъ вернулся и скоро нашелъ Алабина въ оживленной бесѣдѣ съ старичкомъ и дамой.
— Неправда ли, мила? Однако пора, пойдемъ. У тебя есть извощикъ? Ну и прекрасно, а то я отпустилъ карету.
(обратно)398
Зачеркнуто: Степана Аркадьича
(обратно)399
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)400
Зач.: Степана Аркадьича
(обратно)401
[рисовой пудры, туалетного уксуса]
(обратно)402
Зач.: Ордынцеву
(обратно)403
Зач.: Степану Аркадьичу
(обратно)404
Зач.: Алабина, сдержанную, стройную фигуру Ордынцева съ его смуглымъ, красивымъ лицомъ
(обратно)405
Зач.: простое
(обратно)406
Зач.: Степанъ Аркадьичъ <задумчиво> радостно водилъ пальцемъ
(обратно)407
В подлиннике: остановивъ
(обратно)408
Зачеркнуто: Какъ я ни дикъ,
(обратно)409
Зач.: обвавилонился немножко. У меня и вкусы цивилизованные [?] развиваются.
(обратно)410
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)411
Зач.: Ну, потомъ надо же бургонскаго.
(обратно)412
[Глаз куропатки?]
(обратно)413
Зач.: двѣ
— Ну двѣ, — отвѣчалъ Ордынцевъ. — A мнѣ все таки мою бутылочку Марли.
(обратно)414
Зачеркнуто: Онъ, отвинтивъ, вынулъ съ дымомъ пробку и налилъ разлатые бокалы. И пріятели только что кончали устрицы, какъ онъ влетѣлъ съ дымящимъ
(обратно)415
Зач.: Ордынцевъ сидѣлъ въ трактирѣ среди зеркалъ, за дверьми слышались говоръ, бѣготня и шумъ послѣ 8 лѣтъ <уединенной> деревенской жизни; но онъ видѣлъ передъ собою не то, что было, а онъ видѣлъ ее лицо, улыбку, движенья ногъ и стана, ее особенное движенье, и лицо его <сіяло улыбкой> было задумчиво. Степанъ Аркадьичъ видѣлъ это и догадывался почему и радовался, и ему хотѣлось сдѣлать пріятное другу и говорить о ней. За то то и любили всѣ Степана Аркадьича, что онъ съ людьми думалъ только о томъ, какъ бы имъ быть пріятнымъ. Тотъ, кто подумалъ бы о немъ съ точки зрѣнія его семейной жизни, тотъ сказалъ бы: это страшный, злой эгоистъ сдѣлалъ невѣрность женѣ, она мучается, страдаетъ, а онъ, веселый, довольный, сидитъ съ пріятелемъ и... и хлюпая устрицы, запивалъ Oeil de perdrix и спрашиваетъ, о чемъ скученъ его пріятель. Но въ томъ то и дѣло, что Князь Мишута не признавалъ смысла въ жизни во всей ея совокупности и никогда не могъ устроиться такъ, чтобы быть въ жизни серьезнымъ, справедливымъ и добрымъ, и махнулъ давно на это рукой, но зато въ провожденіи этой жизни, во снѣ жизни, онъ былъ тѣмъ, чѣмъ его родила мать, — нѣжнымъ, добрымъ и милымъ человѣкомъ.
(обратно)416
Зач: и что ему хочется что то высказать.
(обратно)417
Зач.: Ордынцеву
(обратно)418
Зач.: улыбаясь и улыбкой давая чувствовать, что онъ и не хочетъ скрывать всего смысла этаго вопроса.
(обратно)419
На полях рядом написано: <Теорія хозяйства. Коровъ. Жениться. «Я бы женился, но, прости меня, глупы очень». Земство — дурачье.>
Там же, ниже, написано:
<— Ты скученъ, и глаза блестятъ.
— Я не могу быть покоенъ.
— Скажи мнѣ.
— Можно ли?
— Я вѣрный другъ, и все очень просто.>
(обратно)420
Зачеркнуто: А впрочемъ, можетъ быть, и есть причина.
— Какая же?
— Ты знаешь, это щекотливый вопросъ, особенно мнѣ, какъ родному; но я тебѣ только то скажу, что я часто думалъ. Въ нашемъ кругу отношенія мущины и дѣвушки очень неопредѣленны. — <Степанъ Аркадьичъ> Князь Мишута не переставалъ улыбаться, говоря это. <Ордынцевъ> Левинъ смотрѣлъ на него во всѣ глаза, съ удовольствіемъ ожидая, что будетъ. — Я тебѣ про себя скажу: когда я хотѣлъ жениться на Долли, я рѣшительно не зналъ, къ кому я долженъ обратиться — къ матери, къ отцу, къ ней самой или къ свахѣ.
— Я думаю, что всегда надо обратиться къ ней самой.
— Почему ты думаешь? Позволь, нашъ народный обычай состоитъ въ томъ, что родители обращаются къ родителямъ.
— И то нѣтъ. Родители черезъ сватовъ обращаются къ родителямъ.
— Ну, хорошо, это всё равно. Такъ вотъ нашъ обычай. Мы въ нашемъ кругу его не держимся. Французскій обычай состоитъ въ томъ, что родные устраиваютъ дѣло между собой или женихъ обращается къ родителямъ. Въ Англіи молодые люди знаются сами. Теперь мы свое бросили и не пристали ни къ Англіи, ни къ Франціи.
— Да, но здравый смыслъ говоритъ, что жениться молодымъ людямъ, и потому это ихъ дѣло, а не родителей.
— Да, это хорошо говорить, а выходитъ, что молодой человѣкъ — я положимъ — встрѣчаю Долли на балахъ, я хочу сблизиться съ нею, хоть не узнать ее, потому что это вздоръ — узнать дѣвушку нельзя, — но узнать самое важное — нравлюсь ли я ей. Что же мнѣ дѣлать? Я ѣду въ домъ. Ну, чтоже выходитъ? Тамъ разсуждай, какъ хочешь, а если ты ѣздилъ 10 разъ въ домъ и не сдѣлалъ предложеніе, ты компрометировалъ, ты виноватъ. А если ты не ѣздилъ въ домъ, то ты не можешь сдѣлать предложеніе, такъ что выходитъ: первый разъ ты поѣхалъ въ домъ, ты надѣлъ вѣнецъ.
— Я не нахожу вовсе.
— Какже ты находишь? Ну, а опять, если ты сдѣлалъ предложеніе матери или отцу, ты оскорбилъ дочь; если ты сдѣлалъ предложеніе дочери, ты оскорбилъ родителей, вообще путаница. Ты долженъ по телеграфу одновременно сдѣлать предложеніе родителямъ и дочери.
— И потому я этаго ничего не соображаю и не хочу знать. Если я буду дѣлать предложеніе, то я сдѣлаю его той, на комъ я хочу жениться. Но, признаюсь, прежде я хочу знать, могу ли расчитывать на согласіе, и для этаго буду ѣздить въ домъ, и мнѣ все равно, скажутъ ли, что компрометирую, какъ ты говоришь, или нѣтъ. Я тебѣ скажу прямо, не стану beat about the bush [говорить обиняками]. Я желаю сдѣлать предложеніе твоей свояченицѣ.
(обратно)421
Зачеркнуто: — Ну да, ну да, — понимающе подчеркивалъ Степанъ Аркадьичъ.
— Я ѣздилъ прошлую зиму къ нимъ въ домъ и нынче поѣду и не сдѣлаю предложенья, потому что я не умѣю, какъ другіе опытные въ этомъ дѣлѣ люди.
(обратно)422
Зач.: какъ нашъ брать.
— Не умѣю говорить обиняками такія рѣчи, изъ которыхъ бы я видѣлъ, чего мнѣ ждать.
(обратно)423
Зач.: Отъ этаго то мнѣ и трудно поставить, не зная, чего я могу ждать.
(обратно)424
Зач.: сочувствіемъ и добротой
(обратно)425
Ниже на полях написано: Степанъ Аркадьичъ описываетъ Ордынцеву тещу, тестя и всю семью.
(обратно)426
Зач.: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)427
Зач.: Ордынцева
(обратно)428
Зач.: вскакивая съ мѣста и начиная ходить по 5-аршинной комнатѣ
(обратно)429
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)430
Зачеркнуто: сядь
(обратно)431
Зач.: сѣлъ
(обратно)432
Зач.: Стива
(обратно)433
Зач.: <Степанъ Аркадьичъ> Князь Мишута съ своей привычкой мягкости сказалъ, что онъ бы на мѣстѣ <Ордынцева> Левина сдѣлалъ бы предложеніе, но прямо не отвѣтилъ на вопросъ <Ордынцева> Левина.
(обратно)434
Зач.:<Удашевъ> <Уворинъ> Гр. Уворинъ Сергѣй, онъ адъютантъ у Г. Г.
(обратно)435
Зач.: — Ну, спасибо. Выпьемъ, — и опять онъ вскочилъ и не доѣлъ, сталъ ходить.
(обратно)436
Рядом на полях: <Надо съѣздить къ ней и устроить. Разсужденье съ нимъ, что и ее тоже жалко.>
(обратно)437
Зач.: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)438
Зачеркнуто: В. былъ женихомъ А., а она сказала, что не бывать сватьбѣ,
(обратно)439
Зач.: Ахъ, это отлично! Я ее ужасно люблю.
(обратно)440
Зач.: Ордынцевъ, и всегда строгое, трудовое
(обратно)441
Зач.: послѣ театра. Мнѣ надо тамъ быть.
(обратно)442
Зач.: рѣзко
(обратно)443
Зач.: Ордынцевъ, всегда расчетливый и скупой, какъ всѣ люди, живущіе въ деревнѣ,
(обратно)444
Зач.: и переговоры по Французски о немъ заключили
(обратно)445
Зач.: Кромѣ того, зашелъ знакомый Степана Аркадьича — Черенинъ, полковникъ, полупьяный, и Ордынцевъ уѣхалъ домой.
(обратно)446
Поперек этого абзаца написано: <Онъ полонъ жизни. Вотъ счастливчикъ!>
(обратно)447
Зачеркнуто: — Ты изъ всего дѣлаешь трудности; ты, стисну въ зубы и напруживаясь, поднимаешь соломинку.
— Да, потому что все трудъ.
— Но повѣрь, что все тоже самое будетъ, если и не будешь натуживаться.
— Да это наше различіе. Ты видишь во всемъ удовольствіе, я — работу.
— И я правъ, потому что мнѣ весело, a тебѣ тяжело.
— Да, можетъ быть. — Онъ задумался.
(обратно)448
Зач.: Жизнь и такъ трудна, а ты все натуживаешься.
— Стало быть, надо готовить себя къ труду и что все не такъ просто, какъ кажется.
(обратно)449
Зач.: — И мнѣ очень — не весело, a пріятно бываетъ.
(обратно)450
Зачеркнуто: въ его возрастѣ
(обратно)451
Зач.: половина
(обратно)452
Зач.: половина
(обратно)453
Зач.: такъ называемая протекція для него была не протекція
(обратно)454
Зач.: и простыхъ,
(обратно)455
Зачеркнуто: ему смѣшно и весело стало.
<— Такъ нынче, господа, мы> «Ну работать», подумалъ онъ и взялся привычными пріемами за работу дня.
(обратно)456
Зач.: произошло какое то замѣшательство.
(обратно)457
Зачеркнуто: А неизвѣстный человѣкъ
(обратно)458
Зач.: вошелъ
(обратно)459
Зач.: Князь Мишука узналъ Левина, увидавъ русскаго широкостнаго молодаго человѣка.
(обратно)460
Зач.: добрыми и умными
(обратно)461
Зачеркнуто: всей душой
(обратно)462
Зач.: пожимая руку
(обратно)463
Зачеркнуто: энергическая
(обратно)464
Зач.: не по законамъ
(обратно)465
Зачеркнуто: старше его
(обратно)466
Зач.: и первой невѣстой
(обратно)467
Исправлено на: 32
(обратно)468
Зачеркнуто: братскія
(обратно)469
Зач.: неглупаго
(обратно)470
Зачеркнуто: — Да, правда, рано.
(обратно)471
Зач.: Пойдемъ ко мнѣ.
Онъ позвонилъ и приказалъ лакею доложить барышнямъ, что гость. Левинъ не успѣлъ учтиво уйти отъ Князя, когда почти въ одно и тоже время
(обратно)472
Зач.: въ гостиную пріѣхавшая молодая сухая дама Графиня Нордстонъ.
(обратно)473
Зач.: и Княгиня
(обратно)474
Зачеркнуто: Говорить? — Опять Левинъ покраснѣлъ на первомъ словѣ. — Такъ вотъ что. Если бы у тебя была сестра любимая и я бы хотѣлъ жениться на ней. Посовѣтовалъ ли бы ты ей выдти за меня?
— Я? Обѣими руками. Но, къ несчастью, у меня нѣтъ сестры незамужней, а есть свояченица.
И глаза Степана Аркадьича весело смѣялись.
— Да я про нее и говорю, — рѣшительно сказалъ Левинъ.
Краска, только что проходившая, опять при этихъ словахъ покрыла уши и шею Левина.
— Я и не догадывался, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, также смѣясь глазами. — Но послушай, безъ шутокъ, — сказалъ, перемѣнивъ позу и выраженіе, — я отъ всей души желалъ бы, но мнѣ вмѣшиваться въ это дѣло и кому нибудь опасно.
— То есть ты хочешь знать, рѣшилъ ли я? Да, но согласись, что получить отказъ...
— Ну да, ну да, — сіяя улыбкой, поддакивалъ Степанъ Аркадьичъ.
— Есть одна изъ ужаснѣйшихъ вещей. А я не знаю, чего мнѣ ждать! — Онъ сердито взглянулъ на вошедшаго Татарина и перемѣнилъ русскую рѣчь на французскую. — И потому я хотѣлъ просить тебя, какъ моего и ея друга, если ты смотришь на это дѣло какъ на возможность и желательную вещь.
— Еще бы, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, и лицо его сіяло все болѣе и болѣе, и онъ, не спуская глазъ съ Левина, подвинулъ къ себѣ серебряное блюдо съ тюрбо.
(обратно)475
Зачеркнуто: я лучше ничего не желаю и что вѣроятности большія есть за то, что тебя примутъ.
— Вѣроятности! — заговорилъ онъ. — А если отказъ? Вѣдь это ужасно.
(обратно)476
Зачеркнуто: князя Мишуту
(обратно)477
Зач.: — Но а если ты ошибаешься, если меня ждетъ отказъ? Ты мнѣ скажи вѣрно.
И онъ самъ улыбнулся, понявъ, что требуетъ невозможнаго.
(обратно)478
Зач.: князь Мишута
(обратно)479
Зач.: пухлую
(обратно)480
Зач.: Ты хочешь, чтобы я былъ сватомъ. Чтобы тебѣ пріѣхать какъ жениху послѣ свахи..
— Отчего жъ и не хотѣть? Очень бы хотѣлъ. Это въ тысячу разъ легче. Да и не легче, a разумнѣе, чѣмъ мое положеніе теперь. Идти на совершенно неизвѣстное и рисковать — чѣмъ? оскорбить ее и получить отказъ.
Онъ вспыхнулъ, только представивъ себѣ живо это униженіе отказа.
— Это гордость. Страшная гордость. Но ты кушай.
Онъ подвинулъ ему блюдо.
— Я и не говорю, что нѣтъ, — сказалъ, онъ, бросая вилку. — Я не говорю, что я не гордъ, и не говорю, что я хочу быть либераломъ. Я люблю дѣвушку, хочу на ней жениться и желаю какъ можно меньше мучать себя и ее.
— Помилуй, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, — ты что — хочешь сватовства, какъ у купцовъ и въ комедіяхъ? Вѣдь ужъ въ наше время, — сказалъ онъ, этимъ аргументомъ окончательно побивая противника, — въ наше время ужъ права женщинъ, я не говорю эти крайности, а все таки женщина можетъ и должна сама рѣшать свою судьбу.
— И ты все таки не отвѣтилъ мнѣ на мой вопросъ: могу ли я надѣяться?
— Да ты вотъ какіе вопросы задаешь? Ты знаешь, что я тебя люблю, но у тебя главный недостатокъ то, что ты изо всего дѣлаешь трудности и самъ себя мучаешь. Надо проще смотрѣть на жизнь. Все это очень просто. Ты любишь дѣвушку, и на твоемъ мѣстѣ я бы сдѣлалъ сейчасъ предложеніе и все бы узналъ.
— Да, это очень просто по твоему, а по моему совсѣмъ не просто, — сказалъ Левинъ, задумавшись и чувствуя, что изъ его бесѣды съ Облонскимъ ничего не выйдетъ.
— Ну вотъ я скажу тебѣ, — продолжалъ Степанъ Аркадьичъ, — нынѣшнюю зиму къ Щербацкимъ часто ѣздитъ графъ Вронской Алексѣй, знаешь? Ну и очевидно родители думаютъ, что онъ имѣетъ намѣреніе, и оно такъ и должно быть. Но кто же ему можетъ сказать, любитъ ли его дѣвушка или нѣтъ? Ужъ это пускай онъ самъ отъискиваетъ.
(обратно)481
Зачеркнуто: И что же, онъ влюбленъ... она влюблена въ него?
Мишенька засмѣялся.
— Кто тебѣ сказалъ? Но Вронскій ухаживаетъ и
(обратно)482
Зач.: Ну, ты знаешь, покойный Вронской, его отецъ, это былъ замѣчательно умный и твердый человѣкъ. У него были враги, какъ у всѣхъ сильныхъ міра, но онъ рѣдкій типъ честолюбиваго, но честнаго человѣка. Онъ изъ ничего, изъ бѣдныхъ дворянъ сталъ графомъ и первымъ человѣкомъ одно время, но онъ оставилъ память въ исторіи. Теперь сынъ его вотъ этотъ старшій въ Петербургѣ командуетъ гвардейскимъ полкомъ, флигель-адьютантъ, обыкновенный типъ сына вельможи, но этотъ
(обратно)483
Зач.: но и то, пожалуй, немножко,
(обратно)484
Зач.: любитъ науки, искуства, подъ предлогомъ болѣзни живетъ за границей
(обратно)485
Зач.: милая, открытая натура. Я думаю, что тутъ что нибудь кроется, и онъ мнѣ не совсѣмъ нравится, но женщинамъ онъ долженъ нравиться.
(обратно)486
Зачеркнуто: Вронскимъ
(обратно)487
Зач.: Вронскимъ
(обратно)488
Зач.: о любимомъ умершемъ братѣ
(обратно)489
Зач.: о Вронскомъ
(обратно)490
Зач.: непріятное
(обратно)491
Зач.: Вронскимъ
(обратно)492
Зачеркнуто: и она знала, что она должна отказать ему. «Нѣтъ, это невозможно», подумала она и пошла къ матери.
— Мама! вы выйдете къ Левину? — сказала она, стараясь говорить какъ можно проще.
— Все, что ни сдѣлаетъ, все глупо. — сердито сказала княгиня. — Разумѣется, — и пошла въ гостиную.
(обратно)493
Зачеркнуто: и не мучать его. Но что я скажу ему?
(обратно)494
Зач.: говорила это
(обратно)495
Зач.: князь Мишута
(обратно)496
Зач.: Боже мой, неужели это
(обратно)497
Зач.: и не скажутъ мнѣ. Но
(обратно)498
Зач.: какъ ни мучительно
(обратно)499
Зач.: Такъ думалъ Левинъ одѣваясь и дорогой, и отрывки этихъ мыслей, застланные ужасомъ приближенія минуты, бродили въ его головѣ, когда онъ входилъ
(обратно)500
Зач.: <простомъ, гладкомъ, сѣромъ платьѣ, съ улыбкой входившую съ другой стороны.
— Мама сейчасъ выйдетъ, — сказала она садясь.> <въ темномъ, лиловатомъ съ чернымъ платьѣ съ че[пчикомъ?]> вмѣсто Кити старую Княгиню съ строгимъ и нѣсколько насмѣшливымъ лицомъ.
— Очень мило съ вашей стороны, что вы насъ не забываете, Константинъ Дмитричъ, что
(обратно)501
Зач.: <пруэсъ> коньковъ
(обратно)502
Зач.: Княгиня посмотрѣла на часы.
— О нѣтъ, и Кити сейчасъ выйдетъ.
(обратно)503
Зач.: ни разу не заикнувшись и
(обратно)504
Зачеркнуто: Я не знаю, ваша дружба съ <Сережей> Евгеніемъ покойнымъ такъ связала насъ.
(обратно)505
Зач.: сердито. Она покраснѣла, чувствуя
(обратно)506
Зач.: теперь притворяться и мучать его. Но она сама не знала, что дѣлала и говорила. Она держала
(обратно)507
Зач.: Такъ продолжался несвязный разговоръ. <Левину и въ голову не могло придти сдѣлать предложеніе матери, и она и онъ видѣли> Левинъ догадывался, что Княгиня нарочно медлить выходить, чтобы избѣгнуть объясненія, и потому онъ понималъ, что незачѣмъ дѣлать предложеніе матери, и что кромѣ отказа онъ ничего ожидать не можетъ. Kpacнѣя и блѣднѣя, онъ самъ не помнилъ, что говорилъ съ матерью. Наконецъ
(обратно)508
Зач.: даже громко
(обратно)509
Зач.: прелестные
(обратно)510
Зач.: сердитое
(обратно)511
Зачеркнуто: Надо быть съумасшедшимъ гордецомъ, какъ я, чтобы думать, что это могло быть, — думалъ онъ. — Но всетаки это ужасно, это тяжело, этаго стыда, этаго униженія я никогда не забуду».
— Вы простите меня, я очень, очень жалѣю, что доставилъ вамъ эту непріятную минуту.
(обратно)512
Зачеркнуто: — Я васъ люблю дружбой, но
(обратно)513
Зач.: Онъ хотѣлъ спросить причину и замолчалъ, услыхавъ, что она высказала ее. Онъ поднялся.
(обратно)514
Зач.: не дослушавъ конца,
(обратно)515
Зач.: весьма
(обратно)516
Зач.: Только когда раздался звонокъ у подъѣзда и Кити вышла и вслѣдъ за ней вошла гостья Графиня Нордстонъ, Левинъ понялъ, что все это было расчитано. <И несвободный, сконфуженный, даже и холодный видъ Кити подтвердилъ его въ этомъ.>
Левинъ взглянулъ на Кити и почувствовалъ на себѣ этотъ умный, быстрый, проницающій всѣ малѣйшія подробности ея выраженія [взглядъ]; она смутилась и холодно поздоровалась съ нимъ. «Да, я былъ съумашедшій, — сказалъ онъ самъ себѣ. — И они всѣ врали — и братъ и Облонскій. Этаго не могло быть».
(обратно)517
Зач.: элегантная
(обратно)518
Зач.: и, какъ всѣ любящія барышень, думала только о томъ, какъ бы ее
(обратно)519
Зач.: непріятенъ видъ куска хльба среди бездѣлушекъ туалетнаго столика.
(обратно)520
Зачеркнуто: видимо
(обратно)521
Зач.: т. е., по понятіямъ Левина, изломанность.
(обратно)522
Зач.: переносимъ только и прощаемъ, какъ у Кити, за ея прелесть, грацію, красоту;
(обратно)523
Зач.: перемѣнились
(обратно)524
Зач.: злой
(обратно)525
Зач.: мировой судья
(обратно)526
Зач.: — Мнѣ вчера мужъ разсказывалъ, — начала Графиня Нордстонъ, — что его призывали въ свидѣтели къ мировому судьѣ о томъ, что кондукторъ сказалъ ли купцу какое-то «волочи» или что то въ этомъ родѣ сказалъ или не сказалъ.
(обратно)527
Зачеркнуто: — Мнѣ кажется, что Мировому Судьѣ бываетъ скучно, — продолжала она, — и онъ выдумываетъ себѣ дѣло и приглашаетъ къ себѣ въ свидетели всѣхъ, съ кѣмъ имъ хочется видѣться. Можетъ это быть, Константинъ Дмитричъ?
(обратно)528
Зач.: и выдумано
(обратно)529
Зач.: офицера
(обратно)530
Зач.: Вронскій
(обратно)531
Зач.: и смотрѣла на всѣхъ, но только не на вошедшаго, хотя она знала навѣрное, что онъ тутъ. До тѣхъ поръ не смотрѣла, пока офицеръ Вронскій не подошелъ къ ней, особенно почтительно кланяясь и подавая ей нервную съ длинными пальцами руку. Для Левина уже стало несомнѣнно, что это былъ онъ и что она отказала ему, потому что любила Вронскаго.
(обратно)532
Зач.: тотъ человѣкъ, котораго она любила?
(обратно)533
Зач.: Онъ ожидалъ его совсѣмъ не такимъ по описанію <князя Мишуты> Облонскаго, но онъ тотчасъ же узналъ его и понялъ, что Кити должна была предпочитать его.
(обратно)534
Зачеркнуто: Вронскомъ
(обратно)535
Зач.: Онъ необыкновенно понравился ему. <Скорѣе> Невысокая, <стройная,> коренастая <,хотя и немного сутуловатая> фигура, <очень быстрая,> <медлительная, твердая, но чрезвычайно граціозная въ движеніяхъ, утонченная элегантность въ одеждѣ, прекрасное, открытое, румяное и немного смуглое лицо, мягкіе, рѣдкіе, вьющіеся волосы, очень гладкій и бѣлый лобъ и большіе блестящіе, необыкновенно добрые, почти наивные глаза,> круглое, съ здоровыми, какъ жернова, зубами и челюстями лицо <,небольшіе тонкіе черные усы, румяныя губы, болъшіе бѣлые зубы>, круглая, хорошо обстриженная курчавая на затылкѣ и преждевременно плѣшивая голова, каріе, круглые глаза съ дѣтски наивнымъ и вмѣстѣ твердымъ выраженіемъ и необыкновенно твердый и спокойный складъ губъ. «Но Стива ошибался: онъ не былъ честолюбивъ, — рѣшилъ [Левинъ], — онъ добрый, скучающій человѣкъ».
(обратно)536
Зач.: съ какой то особенной
(обратно)537
Зач.: свою бѣлую, нервную
(обратно)538
Зач.: Вронскій
(обратно)539
Вронскій
(обратно)540
Зачеркнуто: по гимнастикѣ. Я тоже любилъ, но доктора запретили мнѣ.
(обратно)541
Зач.: въ городѣ, кажется, только любитъ что гимнастику,
(обратно)542
Зач.: Вронскій
(обратно)543
Зач.: Вронскій
(обратно)544
Зач.: а это, — онъ показалъ на мундиръ, — и другое не позволяетъ.
(обратно)545
Зач.: колеями земляныхъ дорогъ
(обратно)546
Зач.: Соренто
(обратно)547
Зачеркнуто: да вся Италія, она такая блестящая, какъ эти мотивы романсовъ, пѣсенъ, canzonetto, которые въ восторгъ васъ приводятъ, но тотчасъ надоѣдаютъ.
(обратно)548
Зач.: вы испытывали это. Но я любилъ эту дождливую...
(обратно)549
Зач.: своими большими наивными глазами
(обратно)550
Зач.: <и Левину нравился и его тонъ, и манера говорить, и, главное то, что всѣмъ было понятно, на уровнѣ каждаго, и никому не могло быть непонятно, и что онъ не спускался ни до кого, а если спускался, то такъ незамѣтно, тогда какъ Левинъ зналъ самъ за собой, что какъ онъ только начиналъ говорить въ гостиной, онъ или увлекался въ разсужденія, непонятныя для слушателей, или оскорблялъ кого нибудь совершенно нечаянно и не давалъ другимъ говорить.
— Я любилъ дождливую... — продолжалъ Вронской. — Но> Левина поразила только слишкомъ свободная и спокойная, хотя и почтительная его манера обращенія съ Кити. Онъ не былъ смущенъ передъ ней. «Едва ли онъ любитъ ее — подумалъ онъ. — И какъ любитъ?»
(обратно)551
Зач.: Какъ всегда бываетъ въ хорошемъ обществѣ,
(обратно)552
Зач.: самой чопорной и холодной grande dame [светской дамой],
(обратно)553
Зач.: красивой
(обратно)554
Зач.: не только grande dame, она
(обратно)555
Зач.: — И, если я не ошибаюсь, Анна Аркадьевна Каренина составляетъ украшеніе того добродѣтельно-сладкаго, хомяковско-православно-дамско-придворнаго кружка, который имѣетъ такое вліяніе въ Петербургѣ.
(обратно)556
Зачеркнуто: удивительная
(обратно)557
Зач.: и пріятная
(обратно)558
Зач.: оживленный, пріятный для всѣхъ,
(обратно)559
Зач.: Отъ Карениной
(обратно)560
Зач.: <такъ какъ та добродѣтель, о которой говорили, имѣла что-то общее съ спиритизмомъ,> въ которыхъ вѣрилъ братъ Каренина.
(обратно)561
Зач.: Вронскій
(обратно)562
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)563
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)564
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)565
Зач.: увлекаясь разговоромъ въ гостиной,
(обратно)566
Зач.: Вронской
(обратно)567
Зач.: — <Я совѣтую всем интересующимся этимъ, — началъ Левинъ>. Я не могу интересоваться, потому что не могу допустить возможности, — сказалъ онъ. — Но я совѣтую попросить духовъ отвѣтить на какой нибудь вопросъ изъ высшей математики или на вопросъ, сдѣланный по санскритски тамъ, где medium’ы не знаютъ математики и по санскритски.
— Отчего же? вы думаете, что духи не знаютъ математики? — сказала Графиня Нордстонъ, — навѣрное лучше васъ знаютъ.
— Да, это вопросъ, — смѣясь сказалъ Вронской.
— Это прекрасно, — сказала Кити Левину, — задайте Мари математический вопросъ, и она привезетъ намъ отвѣтъ.
(обратно)568
Зачеркнуто: не обращая вниманія на ея слова, продолжалъ:
— Надо
(обратно)569
Зач.: Вронской
(обратно)570
Зач.: Вронской
(обратно)571
Зач.: улыбаясь
(обратно)572
Зач.: и принесла отъ окна столикъ.
(обратно)573
Зач.: волоча ноги,
(обратно)574
Зач.: «A! нынче два тютька», сказалъ онъ самъ себѣ, такъ неуважительно называя про себя молодыхъ людей.
(обратно)575
Зач.: называя ихъ тютьками и перепелами,
(обратно)576
Зач.: его спокойный видъ, его шутки съ Нордстонъ, его любезность съ Вронскимъ.
(обратно)577
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)578
Зач.: Вронскому
(обратно)579
Зач.: — Твоя жена — дурной пророкъ. Ну, прощай, надолго...
(обратно)580
Зач: Вронскій долго не спалъ, ходя взадъ и впередъ по небольшой занимаемой имъ комнатѣ въ огромномъ материнскомъ домѣ. «Надо, надо кончить эту жизнь. А то такъ скучно». На него находила тоска и уныніе и прежде; но теперь нашло еще съ большей силой, чѣмъ когда нибудь. И съ тоской соединялось чувство влеченія къ этой милой дѣвушкѣ съ ея маленькой головкой, такъ удивительно поставленной на тонкой шеѣ и прелестномъ станѣ, и тоска соединялась съ этимъ влеченіемъ. Ему хотѣлось плакать и любить и быть любимымъ. Надо было подумать и рѣшить.
(обратно)581
Зачеркнуто: твердая и важная
(обратно)582
Зач.: О чем же было думать? Чѣмъ волноваться? Тѣмъ, что онъ счастливъ, что любимъ прелестнѣйшімъ существомъ? Странно сказать, что не останавливало, но задерживало Вронскаго — это то, что это не была большая страсть, на которую онъ такъ давно былъ готовъ,
(обратно)583
Зач.: Вронской
(обратно)584
Зач.: одинъ изъ самыхъ скромныхъ людей
(обратно)585
[неравного брака,]
(обратно)586
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)587
Зач.: и не любилъ
(обратно)588
Зач.: Выйдя на волю въ своемъ Петербургскомъ блестящемъ гвардейскомъ кругѣ, онъ тотчасъ же попалъ на актрисъ и кокотокъ, но натура его была слишкомъ честная, простая и вмѣстѣ тонкая, чтобы увлечься этими женщинами. Онъ имѣлъ эти связи также, какъ пилъ въ полку не оттого, что любилъ, а оттого же самаго, отчего люди курятъ. Всѣ дѣлаютъ, навязываются эти женщины, и питье само собой, и дурнаго тутъ ничего нѣтъ; напротивъ, есть что то пріятное, хорошее, состоящее въ томъ, чтобы, чувствуя въ себѣ силы на все лучшее, дѣлать самое ничтожное. Это сознаніе того, что я всегда выше того, что я дѣлаю, и удовольствіе въ этомъ сознаніи было главное руководящее послѣднее время чувство всей жизнью Вронскаго. Онъ говорилъ по англійски, какъ Англичанинъ, по французски, какъ Французъ, жилъ въ Лондонѣ и Парижѣ, но онъ былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ не могъ переносить фальши и такъ боялся того, чтобы имѣть видъ человѣка, полагающаго, что онъ дѣлаетъ важное дѣло, a дѣлаетъ пустяки, что онъ всегда дѣлалъ пустяки и имѣлъ такой видъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ онъ самъ чувствовалъ и другіе чувствовали, что въ немъ сидѣлъ запасъ чего то. Теперь ему надо было разстаться съ этимъ чувствомъ, и это не останавливало, но задерживало его; надо было излить этотъ запасъ силы любви, и ему жалко было.
(обратно)589
Зачеркнуто: «Да, я люблю ее, выйду въ отставку. Да и потомъ, она любитъ меня, и я не могъ, если бы и хотѣлъ, бѣжать теперь. Конецъ пьянству и полковой прежней жизни, и пора. А какая будетъ будущая — убей Богъ, не знаю и представить не могу. Но рѣшено, такъ рѣшено», сказалъ онъ, и когда у него было что рѣшено, то это было рѣшено совсѣмъ; это зналъ всякій, знавшій его, и сказалъ всякій, кто только видѣлъ его простое, твердое лицо. «Главное, грустно, ужасно грустно».
(обратно)590
Зач.: <Вронскій былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ людей, съ которыми Алабинъ не былъ [на] ты.> Несмотря на то, что Алабинъ познакомился съ нимъ только мѣсяцъ тому назадъ, онъ ужъ былъ съ нимъ на ты, хотя это ты, видимо, неловко было Вронскому.
(обратно)591
Зачеркнуто: слегка покраснѣвъ
(обратно)592
Зач.: удивленію
(обратно)593
Зач.: давно
(обратно)594
Зач.: прекрасный
(обратно)595
Вслед за этим написано: то, что онъ зналъ объ Карениной. Слова эти, как явствует из контекста, не зачеркнуты Толстым, видимо, по рассеянности.
(обратно)596
На верхнем крае поля написано: Степанъ Аркадьичъ убитъ всегда натощакъ, а нынче особенно, и завидуетъ.
(обратно)597
Зачеркнуто: Извощичья карета Степана Аркадьича задержалась у подъѣзда станціи другой темной старомодной каретой на парѣ бѣлыхъ перекормленныхъ лошадей съ свалившимися шлеями и желобами по спинамъ и съ старымъ кучеромъ и толстымъ лакеемъ на козлахъ.
Изъ кареты необходимо должна была выдти старая московская барыня, <какъ изъ желтой гусеницы шелковичнаго червя должна выдти бѣлая бабочка.> Но совершенно неожиданно Степанъ Аркадьичъ увидалъ, что въ то время, какъ старикъ, толстый лакей, только закопошился на козлахъ, собираясь слѣзать, дверца, какъ выстрѣлила, отворилась, стукнувшись въ размахъ о колесо, и изъ кареты выпрыгнулъ знакомый конногвардеецъ Алабина Гагинъ, жившій эту зиму въ отпуску въ Москвѣ и такъ пристально ухаживавшій за свояченицей Алабина, за Кити Щербацкой, что каждый день ожидалось объявленіе о ихъ обрученіи.
— А, Алабинъ! Вы за кѣмъ? — проговорилъ Гагинъ, пожимая руку знакомому, и, не дожидаясь отвѣта, указывая улыбаясь на слѣзавшаго, съ козелъ старика лакея, по французски сказалъ: — А я за матушкой, ѣдетъ изъ Петербурга отъ брата. Вы видѣли, я думаю, ея пару въ каретѣ. Такой классической пары, я думаю, ужъ не осталось въ Москвѣ. Это матушкина гвардія. Ей кажется, что безъ него переѣздъ на Пречистенку не совсѣмъ безопасенъ. Матушка пріѣзжаетъ нынче, — прибавилъ онъ. — Да, а вы за кѣмъ?
— За сестрой.
— Анна Аркадьевна Каренина, слышалъ; но никогда не имѣлъ чести быть представленнымъ. Я вчера не засталъ васъ въ театрѣ, а нельзя было раньше. Кузьмичъ, ты войди сюда, чтобъ Княгиня сейчасъ увидѣла тебя, — обращался онъ къ старому лакею. — Ахъ да, виноватъ, вы что-то говорили. Обѣдать? Пожалуй, давайте обѣдать гдѣ нибудь вмѣстѣ; только я приведу съ собой своего чудака Удашева Костю; онъ вчера пріѣхалъ и у меня остановился. А вечеромъ я у вашихъ. Впрочемъ, не знаю, матушка отпуститъ ли меня. Какъ бы, голубчикъ, отпереть эту дверь, — обратился онъ къ служащему на желѣзной дорогѣ, — вѣдь скоро придетъ? Да вотъ какъ мы сдѣлаемъ. Мнѣ нужно на Прѣсню, на проѣздку, мой Беркутъ бѣжитъ, и ваши, т. е. Княгиня съ дочерью, будутъ въ Саду на конькахъ, я обѣщался зайти Княгинѣ. Такъ тамъ сойдемся и рѣшимъ, обѣдаемъ ли вмѣстѣ и гдѣ. Хорошо?
Такъ говорилъ Гагинъ, молодой, красивый юноша, ни громкимъ, ни тихимъ голосомъ, спрашивая и не дожидаясь отвѣта, не дослушивая того, что ему говорили, перебивая въ серединѣ рѣчи, очевидно не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что сотни постороннихъ глазъ видятъ и ушей слышатъ его, и двигаясь среди людей, вниманіе которыхъ онъ, очевидно, обращалъ на себя своей красивой, самоувѣренной, элегантной и счастливой фигурой, также свободно, какъ бы онъ былъ одинъ съ своимъ пріятелемъ. Не смотря на то, что въ разговорѣ онъ спрашивалъ и не дослушивалъ отвѣта, перебивая въ серединѣ рѣчи, онъ дѣлалъ все это такъ живо и безсознательно и когда замѣчалъ, что сдѣлалъ неучтивость, толкнувъ ли кого нечаянно, или перейдя дорогу дамѣ, или перебивъ рѣчь, такъ охотно, видимо отъ всей души, извинялся, и такое еще съ дѣтства очевидно нетронутое веселье жизни и свѣжесть были во всѣхъ его чертахъ и движеньяхъ, что въ большинствѣ людей, которые видѣли его, двигаясь по залѣ станціи, онъ возбуждалъ чувство зависти, но зависти безъ желчи. «Вотъ счастливый, неломанный, не мученый человѣкъ!» говорилъ всякій, кто видѣлъ его. И это самое, вспоминая бывшую дома сцену, думалъ, глядя на него, Степанъ Аркадьичъ. «Вотъ счастливый человѣкъ! — думалъ Степанъ Аркадьичъ, поутру, до завтрака, особенно нынче, послѣ сцены съ женою, находившійся въ меланхолическомъ расположенiи духа. — Богатъ, что дѣвать некуда денегъ, и свободенъ, какъ птица. Чего ему еще?» Въ томъ, что онъ красивъ и здоровъ, Степанъ Аркадьичъ не завидовалъ ему: эти качества, имѣя ихъ въ высшей степени, Степанъ Аркадьичъ не считалъ за благо, такъ какъ не зналъ, что такое ихъ отсутствіе.
— Хорошо, послѣ Суда я заѣду въ садъ, — сказалъ Степанъ Аркадьичъ, — и пообѣдаемъ.
(обратно)598
Зачеркнуто: въ буфетѣ и
(обратно)599
Зач.: Гагинъ
(обратно)600
Зач.: въ числѣ 2-хъ, 3-хъ нѣкоторыхъ избранныхъ
(обратно)601
Зачеркнуто: какъ безумныхъ,
(обратно)602
Зач.: Оставалось 5 минутъ до прихода поѣзда, когда Степанъ Аркадьичъ вошелъ въ залу 1-го класса, гдѣ ужъ толпились нѣсколько встрѣчающихъ и буфетчики готовились къ пріѣзду. Степанъ Аркадьич зналъ всѣхъ почти, и всѣ его знали, такъ что, когда онъ вошелъ въ залу, его блестяще вычищенная шляпа безпрестанно приподнималась съ его кудрявой головы и опять всякій разъ попадала на тотъ же слѣдъ, немного на бокъ. Въ числѣ знакомыхъ Степану Аркадьичу была особенно пріятна, какъ казалось, встрѣча красавца конногвардейскаго Поручика Князя Гагина. Гагинъ пріѣхалъ встрѣчать мать. И такъ какъ Алабинъ и Гагинъ были однаго круга и близкіе знакомые, они все время до прихода поѣзда ходили вмѣстѣ.
(обратно)603
Зач.: Гагинъ
(обратно)604
Зач.: <Гагинъ> Вронскій ужъ собирался войти въ вагонъ, когда онъ увидалъ — прямо передъ нимъ на крылечко вагона вышла невысокая дама въ черной шубкѣ и, перегнувшись по направленію къ Алабину, проговорила:
— Стива!
Онъ не слыхалъ и не видалъ ее, оглядывая другіе вагоны. Дама улыбнулась. И по этой улыбкѣ Гагинъ тотчасъ узналъ ее за сестру Степана Аркадьича. Замѣтивъ на себѣ внимательный взглядъ молодаго человѣка, она перестала улыбаться и, вернувшись въ дверь, сказала что-то и вслѣдъ за тѣмъ опять вышла и внимательно посмотрѣла на него, какъ будто ей нужно было признать его.
Въ это время Степанъ Аркадьичъ прошелъ на другую сторону вагона и опять отъискивалъ сестру тамъ, гдѣ ея не было, и не видалъ и не слыхалъ, какъ она опять звала его:
— Стива! Стива!
И опять она улыбнулась, и опять Гагинъ, забывъ про мать, полюбовался на ея быстрыя движенія, на прекрасное лицо и добрую, веселую улыбку.
— Алабинъ! — крикнулъ Гагинъ, — здѣсь, здѣсь васъ ищутъ.
Анна Аркадьевна чуть наклонила голову, благодаря Гагина, и легкимъ шагомъ сошла съ крылечка. Гагинъ въ то же время увидалъ изъ окна вагона старушку въ лиловой шляпѣ съ сѣдыми буклями и красивымъ морщинистымъ лицомъ. Старушка, его мать, манила его къ себѣ, и Гагинъ побѣжалъ въ вагонъ, но на крылечкѣ оглянулся, чтобы видѣть, какъ она встрѣтится съ братомъ. Хоть это и неловко было, онъ остановился, глядя на ихъ встрѣчу, и невольно чему-то улыбался.
(обратно)605
Зачеркнуто: Вронскій быстро пошелъ въ вагонъ.
(обратно)606
Зач.: Большіе
(обратно)607
Зачеркнуто: и черезъ минуту въ вагонъ съ трескомъ <ввалился> вошелъ Степанъ Аркадьичъ.
— А, наконецъ то, — закричалъ онъ.
(обратно)608
Зач.: «Какая странная и милая», подумалъ Гагинъ.
(обратно)609
Зач.: Старушка ждала ужъ его.
— Получилъ телеграмму? Здоровъ? Ну, слава Богу.
— Хорошо доѣхали? Чтожъ, можно выходить.
— Анисья моя пропала.
— Это ваши вещи?
Выходя изъ вагона подъ руку съ матерью, онъ опять отъискалъ глазами сестру и брата, которые стояли, задержанные толпой у двери.
Когда старушка догнала Анну Аркадьевну, Анна Аркадьевна опять улыбнулась ей.
(обратно)610
Зачеркнуто: прекрасно, прекрасно, такъ прекрасно, какъ никогда не было въ жизни. Весело.
(обратно)611
Зач.: Да знаешь, — говорила она улыбаясь, — я какъ то освободилась отъ всего. Я спокойна съ Алексѣемъ Александровичем, и наши отношенія самыя лучшія, твердыя: нѣтъ ни ревности, ни холодности.
На Сережу радуюсь, и самой <весело> легко жить. Особенно Москва и ты на меня дѣйствуютъ, точно въ дѣтствѣ воскресенье послѣ уроковъ, весело.
(обратно)612
Зачеркнуто: Такъ они говорили, дожидаясь, когда въ комнату вошелъ
(обратно)613
Зач.: лакей
(обратно)614
Зач.: выходнымъ дверямъ, у которыхъ, еще не уѣхавъ, а дожидаясь вещей, разговаривая стояли Алабинъ съ сестрой, когда вдругъ что-то, очевидно, произошло гдѣ то на станціи. Пробѣжалъ одинъ артельщикъ, потомъ жандармъ съ ужасомъ на лицахъ, и толпа съ подъѣзда хлынула назадъ навстрѣчу Графинѣ.
— Ахъ, матушки! Что такое, что такое? — задыхаясь говорила старушка.
Пока ее усаживали въ сторонѣ на лавочкѣ, Алабинъ подошелъ къ Графинѣ. Но она не видала его и не отвѣчала его поклону, она слишкомъ <испуганно> занята была своимъ <шествіемъ>
(обратно)615
Зач.: смѣясь съ молодымъ человѣкомъ, чуть
(обратно)616
Зач.: Каренина смотрѣла на него. Вронскій чувствовалъ это и улыбался. Уже старуха выходила въ выходныя двери, какъ вдругъ
(обратно)617
Зачеркнуто: Дѣйствительно,
(обратно)618
Зач.: ужасно
(обратно)619
Зач.: и въ встрѣтившемся ихъ взглядѣ, несмотря на ужасъ минуты, онъ почувствовалъ что то
(обратно)620
Зач.: У подъѣзда они еще разъ простились, и Анна Аркадьевна сказала:
— Надѣюсь видѣть васъ у себя, — и только что она сказала <и увидала его сконфу[женное]>, <она застыдилась>, она подумала: «точно я награждаю его. Ахъ, да что мнѣ зa дѣло». — Ну, Стива, теперь разскажи мнѣ свое горе, — сказала она, когда сѣла съ братомъ въ карету.
(обратно)621
Зачеркнуто: <невысокой> молодой, довольно полной и элегантной
(обратно)622
Зач.: бархатномъ
(обратно)623
Зач.: съ необыкновенно тонкой таліей и широкими плечами.
(обратно)624
Зач.: и дать ей пройти.
(обратно)625
Зач.: <некрасивое,> свѣжее, румяное, неправильное и чрезвычайно привлекательное
(обратно)626
Зач.: скромно выглядывавшее изъ овальной рамки бѣлаго платка, которымъ была обвязана <голова> шея. Задумчивые, небольшіе, странные сѣрые глаза, окруженные необычно длинными рѣсницами, смотрѣли на него дружелюбно и внимательно.
(обратно)627
Зачеркнуто: и выраженіе. Вмѣсто свиныхъ, по мнѣнію Вронскаго, глазокъ Степана Аркадьича, у нея были большіе
(обратно)628
Зач.: велики
(обратно)629
Зач.: и вмѣсто поверхностно добродушнаго, веселаго обычнаго выраженія лица Степана Аркадьича глаза выражали <большую> серьезность и впечатлительность.
(обратно)630
Зач.: главную прелесть составл[яли]
(обратно)631
Зач: Я негодяй
(обратно)632
Зач.: Да. Она не проститъ мнѣ, нѣтъ, не проститъ. Но
(обратно)633
Зач.: Ты — послѣдняя надежда...
<— Но другъ мой, надо же жить, надо же подумать о дѣтяхъ.> Что же я сдѣлаю?
(обратно)634
Зачеркнуто: Это ужасно. Я такой негодяй, я мерзавецъ, — и Мишенька заплакалъ.
(обратно)635
Зач.: — Ты скажи мнѣ про Долли. Что она? Какъ она приняла это? Ахъ, несчастная!
— Долли, кажется, сама не знаетъ, на что она рѣшилась.
(обратно)636
Зач.: Одинъ Тотъ, Кто знаетъ наши сердца, можетъ помочь намъ.
Облонскій замолчалъ. Онъ зналъ этотъ <выспренній> нѣсколько притворный, восторженный тонъ <религіозности> въ сестрѣ и никогда не умѣлъ продолжать разговоръ въ этомъ тонѣ. Но онъ зналъ тоже, что подъ этой напыщенной религіозностью въ сестрѣ его жило золотое сердце.
(обратно)637
Зачеркнуто: Вронской
(обратно)638
Зач.: Вронскаго
(обратно)639
Зач.: <таинственные, прелестные> ясные и добрые
(обратно)640
Зач.: кривая, нѣсколько на бокъ, но прелестная, тихая и свѣтлая
(обратно)641
Зач.: Вронской чувствовалъ, какъ счастіемъ наполнялось его сердце.
(обратно)642
Зач.: только одинъ этотъ голосъ, эти глаза, весь этотъ образъ. И изъ самой глубины его души смотрѣли на него эти глаза. Они были тамъ, въ глубинѣ его души.
(обратно)643
Зач.: Алабинымъ
(обратно)644
Зач.: — Куда вы, Вронскій?
— Ахъ, я совсѣмъ забылъ одну вещь, — сказалъ онъ, радостно улыбаясь. — Мнѣ и нельзя было быть нынче въ театрѣ, — и онъ поѣхалъ къ <Алабину> Облонскому.
(обратно)645
Зач.: и онъ вслухъ говорилъ самъ съ собою,
(обратно)646
Зач.: въ одномъ сѣромъ платьѣ
(обратно)647
Зач.: для него. И этотъ поклонъ ея головы, когда она проходила, была первая радость, которую онъ получилъ въ этотъ день. И онъ, переговоривъ съ Степаномъ Аркадьичемъ, неловко и странно уѣхалъ домой.
(обратно)648
Зачеркнуто: Возвратившись въ нынѣшній вечеръ къ часто послѣднее время занимавшей его мысли о томъ, какъ и когда сдѣлать предложеніе Княжнѣ Щербацкой, на что онъ уже давно рѣшился, вдругъ совершенно неожиданно запѣлъ голосъ:
(обратно)649
Зач.: какъ и когда сдѣлать предложеніе,
(обратно)650
Зач.: Словъ не было сказано, но честная натура его не могла лгать самому себѣ; онъ зналъ, что хоть и не было ничего сказано, бросить ее теперь было бы дурно. Но вдругъ онъ почувствовалъ ужасъ, страхъ, стыдъ раскаянія.
(обратно)651
Зачеркнуто: Генералъ Губернатора
(обратно)652
Зач.: одинъ изъ тѣхъ баловъ, которые такъ поражаютъ въ Москвѣ своей непривычной роскошью.
(обратно)653
Зач.: Москва все таки провинція, и Московскіе балы имѣютъ все таки тотъ провинціальный характеръ, что всѣ знаютъ и часто видятъ другъ друга и всѣмъ весело и странно видѣть другъ друга въ парадѣ.
Анна исполнила желаніе Кити и перешила свое черное бархатное платье, отдѣлала его жолто грязнымъ кружевомъ и пріѣхала на балъ. Она даже и не могла не сдѣлать этаго. Такъ всѣ пристали къ ней, и самъ Генералъ Губернаторъ былъ у нее и уѣхалъ съ обѣщаніемъ, что она будетъ.
Въ знаменитой красавицами Москвѣ красавицъ было много, и Анна не затмила никого. Она въ своемъ бархатномъ, срѣзанномъ для бала, платьи не поразила никого. Платье такъ опоздало и еще болѣе такъ опоздалъ Шарль, что она пріѣхала на балъ уже въ 12-мъ часу, когда танцовали вальсъ послѣ 2-й кадрили.
— Я уже думалъ, что вы не пріѣдете, — сказалъ ей Генералъ Губернаторъ, встрѣчая ее у двери. — Балъ былъ бы испорченъ.
Она прошла къ хозяйкѣ, и не успѣла <поздороваться> она кончить начатую рѣчь, какъ Ник[олаевъ]
(обратно)654
Зачеркнуто: и что Вронскій ей очень и очень понравился.
(обратно)655
На полях рядом и ниже написано: [1] Глаза не таинствен[ны] болѣе, но свѣтъ лучезар[енъ], petillant [сверкающий]. [2] Она счастлива и жда[ла]. Ей стыдно.
А. — «Я ожила съ вами», спрашиваетъ, отчего. Онъ не слу[шаетъ], и слушаетъ его рѣчи.
(обратно)656
Зачеркнуто: невысокая дама
(обратно)657
Зач.: простой прической
(обратно)658
Зач.: Она не могла обратить ничьего вниманья, но Кити не спуская глазъ смотрѣла на нее, и та боль и волненіе, которыя она ощущала въ глубинѣ сердца, стали сильнѣе.
(обратно)659
Зач.: <что то говоря.> — Я боялась, что вы не пріѣдете. Балъ былъ бы испорченъ.
(обратно)660
Зач.: молодые люди
(обратно)661
Зач.: хозяйкѣ
(обратно)662
Зач.: граціознымъ
(обратно)663
[точность.]
(обратно)664
Зачеркнуто: стоявшаго въ серединѣ круга
(обратно)665
Зач.: Странный взглядъ его опять поразилъ ее, странный тѣмъ, что онъ смущалъ ее.
(обратно)666
Зач.: однако
(обратно)667
Поперек полей написано: <Подъ его взглядомъ ей совѣстно было за свою наготу.>
(обратно)668
В подлиннике: виноватая
(обратно)669
Зачеркнуто: маленькими
(обратно)670
Зачеркнуто: впечатлѣніяхъ бала
(обратно)671
Зач.: каріе
(обратно)672
Зач.: мужественнаго, твердаго, наивнаго
(обратно)673
Зач.: Гагина
(обратно)674
Зачеркнуто: <Зачѣмъ> Кто ее
(обратно)675
Зач.: что они ничего и никого не видятъ и что имъ очень весело.
(обратно)676
Зач.: любила ее
(обратно)677
Рядом на полях написано: petillement du regard [сверкание взгляда]
(обратно)678
Зачеркнуто: Ему показалось, что это была изуродованная, жалкая Анна, что прежде она была Анна, а теперь перестала ей быть и стала чужая.
(обратно)679
Зач.: умоляющаго
(обратно)680
[Прелесть!]
(обратно)681
Рядом на полях написано: <Аннѣ было весело, и она говорила не то, что хотѣла.>
(обратно)682
Зачеркнуто: Гагинъ
(обратно)683
Зачеркнуто: Гагинъ
(обратно)684
Зач.: и знала что онъ будетъ на желѣзной дорогѣ. Но она не боялась, не радовалась этому, ей было весело, — было весело, какъ бываетъ весело послѣ сомнѣній о томъ, не пришло ли уже время веселья.
(обратно)685
Поперек страницы написано: — Я слышала, что Вронскій не отходилъ отъ тебя.
(обратно)686
[«Восхитительно»,]
(обратно)687
Зачеркнуто: была вполнѣ женщина на балѣ, пріѣхавшая для того, чтобы было весело ей и другимъ.
(обратно)688
[утонченным]
(обратно)689
Зачеркнуто: Но кромѣ того, Кити замѣтила въ ней неожиданную, но столько знакомую самой Кити черту радостнаго возбужденія отъ успѣха. Она видѣла, что она была немного пьяна тѣмъ женскимъ пьянствомъ <восторга> любованья толпы. Вокругъ изогнутыхъ румяныхъ губъ ея чуть замѣтно порхала улыбка возбужденія, глаза свѣтились ярко, и она вся была въ нервномъ веселомъ раздраженіи.
(обратно)690
Зач.: Кити замѣтила это.
(обратно)691
Зачеркнуто: Глава VIII. Деревня.
(обратно)692
Зач.: отказа и
(обратно)693
Зач.: и прервалъ его въ его занятіяхъ.
(обратно)694
Зач.: обложенный книгами и бумагами,
(обратно)695
Зачеркнуто: И чѣмъ яснѣе онъ признавалъ это, тѣмъ больше ему щемило сердце. Онъ легъ спать и сейчасъ же заснулъ крѣпкимъ сномъ, какъ спится послѣ несчастья.
(обратно)696
Зач.: а теперь опять ему не хотѣлось
(обратно)697
Зач.: Николай Левинъ стоялъ въ подворьѣ за Москвой рѣкой.
(обратно)698
Зач.: Теперь, вѣроятно, онъ былъ въ тяжкомъ положеніи, если прислалъ къ Сергѣю своего человѣка съ часами. Константинъ Левинъ, такъ легко принявшій извѣстіе объ этомъ,
(обратно)699
Зач.: на лучшее счастье
(обратно)700
Зачеркнуто: прямо торчащіе, взлохмаченные, рѣдкіе
(обратно)701
Зач.: по часамъ узналъ
(обратно)702
Зач.: разсердился на это.
(обратно)703
Зачеркнуто: и Гомера.
(обратно)704
Зач.: стѣснения, безъ сердца
(обратно)705
Зачеркнуто: смиренія
(обратно)706
Зач.: часы нынче послалъ Сергѣю, жалко, совѣстно какъ то, и вотъ
(обратно)707
[истина,]
(обратно)708
Рядом на полях написано: про брата, авторское самолюбіе
(обратно)709
[настоящее]
(обратно)710
[дружище,]
(обратно)711
Зачеркнуто: не помогъ
(обратно)712
Зач.: всего міра
(обратно)713
Зач.: одну изъ малоизвѣстныхъ московскихъ гостинницъ
(обратно)714
Зачеркнуто: ему особенно грустно стало отъ сознанія того, что
(обратно)715
Зач.: — Что вамъ угодно?
<— Мнѣ угодно видѣть тебя.> — Я нынче пріѣхалъ, — отвѣчалъ Левинъ, — узналъ, что ты тутъ, и хотѣлъ...
— Да, отъ лакея Сергѣй Иваныча. Сергѣй Иванычъ прислалъ тебя.
<— Полно, пожалуйста, — началъ Левинъ, но голосъ его дрогнулъ, и онъ остановился.>
— Ну войдите, коли вамъ <угодно меня видѣть> дѣло есть, — сказалъ онъ, <опуская глаза, — только не понимаю зачѣмъ.> Это<тъ господинъ>, — сказалъ онъ, указывая на молодаго господина въ поддевкѣ съ <крашенными усами, <— помѣщикъ> — адвокатъ> лохматой шапкой волосъ, — Крицкій, мой сосѣдъ по нумеру, котораго преслѣдуетъ полиція за то, что онъ честный человѣкъ. Можете при немъ все говорить. Онъ мой другъ
(обратно)716
Зачеркнуто: холодное
(обратно)717
Зач.: съ товарищами требовалъ свободы отношенiй къ професорамъ и
(обратно)718
Зачеркнуто: (онъ видѣлъ въ немъ неискренность и желаніе казаться)
(обратно)719
Зач.: (вѣдь я знаю это)
(обратно)720
Зач.: — Да, это правда. Это я имъ говорю, — сказалъ Николай, обращаясь къ Крицкому.
(обратно)721
Зачеркнуто: — Положимъ, — сказалъ Константинъ Левинъ, съ раздраженіемъ обращаясь къ нему, — но позвольте узнать, какого же порядка вы хотите.
— Это слишкомъ долго объяснять, и я не знаю, насколько нужно доказывать. Есть у васъ еще папиросы, Николай Дмитричъ?
— Да я вамъ помогу. Вы думаете, что я, принадлежа къ привилегированнымъ сословіямъ, не знаю вашей точки зрѣнія и не признаю ее отчасти. Я вамъ скажу главныя ваши положенія:
(обратно)722
Зачеркнуто: былъ въ томъ веселомъ дѣтскомъ
(обратно)723
Зач.: за которое его такъ любили и всѣ знавшіе его
(обратно)724
Зачеркнуто: Я всему знаю опредѣленное мѣсто.
(обратно)725
Зачеркнуто: И разстаться нельзя было, и сверхъ того надо было нести предъ собою весь позоръ полученнаго отказа.
(обратно)726
Зач.: вступивъ въ свои законныя формы и привычки жизни, онъ чувствовалъ дѣйствительное успокоеніе.
(обратно)727
Зач.: обѣщала.
(обратно)728
Зачеркнуто: золовкѣ
(обратно)729
Зач.: чисты и ясны и исполнены
(обратно)730
[скелеты, иносказательно — серьезные неприятности]
(обратно)731
[Перед вечером]
(обратно)732
Зачеркнуто: чувство
(обратно)733
Зач.: положивъ обѣ руки въ муфту,
(обратно)734
Зач.: занося снѣгомъ рельсы и вагоны. Освѣщенный фонаремъ вагонъ на другомъ пути былъ до половины бѣлый.
(обратно)735
Зач.: страха
(обратно)736
Зач.: усиливалось
(обратно)737
Зач.: высокая фигура человѣка
(обратно)738
Зачеркнуто: топая ногой
(обратно)739
Зач.: выпрямляясь
(обратно)740
Зачеркнуто: встрѣтившееся ей,
(обратно)741
Зач.: <Высокая, полная фигура его съ шляпой, прямо надвинутой на широкій умный лобъ, и круглое <румяное> бритое лицо съ остановившейся на немъ невеселой, но спокойной улыбкой и такъ обращало на него вниманіе, но не наружностью>. Небольшая, слабая фигура его въ круглой шляпѣ съ большими полями и бритое все лицо въ очкахъ и съ доброй, безвыразительной улыбкой не имѣло ничего привлекательнаго.
(обратно)742
Зач.: Какъ новый мостъ,
(обратно)743
Зач.: встрѣчалъ и прежде
(обратно)744
Зач.: и зналъ его, но теперь онъ
(обратно)745
Зач.: съ такимъ вниманіемъ и интересомъ онъ смотрѣлъ на него и
(обратно)746
Зач.: вспоминая
(обратно)747
Зачеркнуто: холодный
(обратно)748
Зач.: Курковыхъ
(обратно)749
[золовка]
(обратно)750
Зачеркнуто: конца отпуска
(обратно)751
Зачеркнуто: первое, что мнѣ нужно, а, второе, потому, что то, чего вы такъ желаете, не можетъ сдѣлаться,
(обратно)752
Зач.: и, видя <неловкость объясненія товарищамъ и начальникамъ>, что онъ огорчилъ ее, простился
(обратно)753
Зач.: Сережа былъ здоровъ и милъ и обрадовался матери <особенно потому, что могъ показать сдѣланную имъ самимъ коробочку>. Анна была рада видѣть сына, но также какъ подѣйствовалъ на нее мужъ при первой встрѣчѣ съ нимъ, также подѣйствовалъ и сынъ, и въ отношеніи сына она почувствовала разочарованіе. Она ждала большей радости. Въ это утро Графиня Лидія Ивановна заѣхала къ Аннѣ, чтобы узнать о <ея здоровьи и о> результатахъ ея поѣздки, цѣль которой была извѣстна Графинѣ Лидіи Ивановнѣ, какъ ближайшему другу Алексѣя Александровича и его жены. Графиня Лидія Ивановна была высокая, полная, очень толстая женщина съ прекрасными выразительными глазами и съ усталымъ выраженіемъ когда то красиваго лица.....
(обратно)754
Зачеркнуто: которая всегда была занята самыми благими добродѣтельными цѣлями, но которую исполненіе этихъ цѣлей всегда приводило въ раздраженіе.
(обратно)755
Зач.: Графиня Лидія Ивановна просидѣла съ часъ и для приличія спрашивала иногда Анну о ней, но, не въ силахъ слушать внимательно ее, всякій разъ опять начинала разсказывать то о своихъ сестричкахъ, то о соединеніи Церкви, о интригахъ и препятствіяхъ, и Анна, вслушиваясь въ ея рѣчь, уже не имѣла того чувства неловкости, которое она испытала при первой встрѣчѣ съ мужемъ.
(обратно)756
Зач.: Послѣ нея пріѣхала княгиня Бетси, очень высокая, съ длиннымъ, блѣднымъ и красивымъ [лицомъ] дама, одна изъ блестящихъ по знатности и роскоши дамъ Петербурга. Она была представительницей другаго совсѣмъ Петербургскаго круга. Она любила Анну и, узнавъ о ея пріѣздѣ, тотчасъ же пріѣхала разсказать кучу новостей свѣтскихъ, браковъ, ухаживаній. Въ этихъ разсказахъ и разговорахъ Анна уже совершенно нашла себя. Особенно новость, что N выходитъ зa Б, живо заняла ее. Разговоръ зашелъ о братѣ Удашева, и Анна сказала, что она познакомилась съ нимъ.
— Неправда ли, это мущина! Это человѣкъ страстей, — сказала Бетси. — Онъ мнѣ двоюродный. Послѣднее время онъ пересталъ ѣздить въ свѣтъ. Мнѣ говорили, что онъ женится.
— Да, кажется, — сказала Анна и покраснѣла, и ей показалось, что Бетси поняла, почему она покраснѣла.
— Я ему всегда предсказывала большую страсть. Такъ онъ здѣсь теперь. Непремѣнно пошлю зa нимъ мужа, чтобы онъ разсказалъ мнѣ про невѣсту.
(обратно)757
Зачеркнуто: кругъ ея мужа и его друга Мери
(обратно)758
Зачеркнуто: очень
(обратно)759
Зач.: къ Мери и др.
(обратно)760
Зач.: блестяще и роскошно свѣтскій кругъ.
(обратно)761
В подлиннике: подленькимъ
(обратно)762
[самая красивая женщина в Петербурге.]
(обратно)763
Зачеркнуто: какъ ей казалось,
(обратно)764
Зач.: не ждалъ ничего,
(обратно)765
Зач.: N.
(обратно)766
Очевидная описка, вместо: Карениныхъ
(обратно)767
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)768
Зачеркнуто: на Пантелеймоновскую
(обратно)769
Зач.: Удашевъ
(обратно)770
Зач.: скрытности хозяина, который ничего не сказалъ про это.
(обратно)771
Зач.: Удашевъ
(обратно)772
Зач.: Удашевъ
(обратно)773
Зач.: Удашевъ
(обратно)774
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)775
Зач.: Удашева
(обратно)776
Зач.: Удашевъ
(обратно)777
Зач.: Удашева
(обратно)778
Зач.: Удашевъ
(обратно)779
Удашева
(обратно)780
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)781
Зач.: Удашевъ
(обратно)782
Зач.: Удашева
(обратно)783
Зач.: Удашевъ
(обратно)784
Зач.: Удашевъ
(обратно)785
Зач.: Удашевымъ
(обратно)786
Зач.: Удашевъ
(обратно)787
Зач.: Удашевъ
(обратно)788
Зач.: Удашеву
(обратно)789
Зач.: Удашевъ
(обратно)790
Зачеркнуто: Князь
(обратно)791
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)792
Зач.: Князь
(обратно)793
Зач.: Удашевъ
(обратно)794
Зач.: Князь
(обратно)795
Зач.: Удашевъ
(обратно)796
Зач.: Княземъ
(обратно)797
Зач.: Удашевъ нравился ему.
(обратно)798
Зач.: Князь
(обратно)799
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)800
Зач.: былъ красенъ, и, какъ звѣрь,
(обратно)801
Зач.: Удашевъ
(обратно)802
Зач.: Удашевъ
(обратно)803
Зачеркнуто: что то странное, дикое
(обратно)804
Зач.: Послѣдній годъ (онъ былъ женатъ шесть лѣтъ)
(обратно)805
Зач.: Нана
(обратно)806
Зач.: страстна къ веселью,
(обратно)807
Зач.: энергическаго, молодцоватаго,
(обратно)808
Зачеркнуто: онъ мямлилъ, искалъ слова и улыбался.
(обратно)809
Зач.: Нана
(обратно)810
Зач.: Гагина
(обратно)811
Зач.: горячо
(обратно)812
Зач.: Мика
(обратно)813
Зач.: Нана
(обратно)814
Зач.: Гагинъ
(обратно)815
Зач.: Настасья Аркадьевна
(обратно)816
Зач.: Гагинъ
(обратно)817
Зачеркнуто: И скажу больше. Любите ли вы меня, я не знаю, но вы не любите мужа[?]
— Да я не сказала, что я люблю васъ.
(обратно)818
Зач.: Женщины никогда не говорятъ этаго.
(обратно)819
3ач.: — потому что незачѣмъ говорить. Я люблю тебя. Завтра въ 4 часа.
(обратно)820
Зач.: взглянула
(обратно)821
Зач.: неровнымъ
(обратно)822
Зач.: между мелочами ея
(обратно)823
На полях против этого места и ниже написано: [1] <Встаетъ, отcѣкнулась.> [2] <Сестра возвращается и намекаетъ.> [3] <Вспоминаетъ, какъ онъ встрѣтилъ ее съ Гагинымъ на желѣзной дорогѣ и какъ тогда въ глазахъ ея былъ дьяволъ.>
(обратно)824
Зачеркнуто: Маша
(обратно)825
Зачеркнуто: какъ ножомъ рѣзали его въ самое сердце.
(обратно)826
Зач.: серединѣ въ темной гостиной
(обратно)827
Зач.: Вольно же мнѣ видѣть въ этомъ что то особенное.
(обратно)828
Зач.: и холодъ охватывалъ его сердце.
(обратно)829
Зач.: до послѣдних извивовъ души
(обратно)830
Зач.: почти всегда
(обратно)831
Зач.: ея грубыя слова, укоризны иногда
(обратно)832
Зач.: сказалъ голосокъ горничной
(обратно)833
Зачеркнуто: о чемъ думаетъ баринъ,
(обратно)834
Зач.: злости
(обратно)835
Зач.: къ ней, къ себѣ наполнило его душу.
(обратно)836
Зач.: съ своей притворной улыбкой
(обратно)837
Зач.: бѣлое, пухлое, морщинистое
(обратно)838
Зач.: на него нашла робость. Какъ и что скажетъ онъ ей? Она шла тихо черезъ залу
(обратно)839
Зачеркнуто: глупою
(обратно)840
[будничной]
(обратно)841
Зачеркнуто: И она пошла внизъ.
(обратно)842
Зач.: быстро и легко вошла въ залу
(обратно)843
Зач.: невѣсткой
(обратно)844
Зач.: Нана
(обратно)845
Зач.: онъ ложился спать позже обыкновеннаго, когда
(обратно)846
Зачеркнуто: потому что закрытые отъ
(обратно)847
Зач.: — Ахъ, это ужасно, — сказалъ, вскрикнувъ
(обратно)848
Зач.: Онъ хотѣлъ сказать что-то <,но удержался> жестокое
(обратно)849
Зач.: — Ахъ; Ахъ это ужасно!
(обратно)850
Зач.: Опомнись
(обратно)851
Зач: своими холодными бѣлыми
(обратно)852
Зач.: затворить дверь
(обратно)853
Зач.: дернулась
(обратно)854
Зачеркнуто: Еще разъ онъ <видимо> смиренно [?] и умоляющимъ взглядомъ просилъ ее, чтобы она вернулась, она, какая она была прежде; но неприступная черта таже лежала между ними. Онъ все таки началъ говорить:
— Наша жизнь связана и связана
(обратно)855
Зач.: Бываетъ, что связи эти разрываются, но тогда гибнутъ тѣ люди. И
(обратно)856
Зач.: Я не буду пугать тебя
(обратно)857
Зач.: Я не буду тебя пугать собой. Чѣмъ я буду пугать? Я слабый человѣкъ и физически и морально.
(обратно)858
Зач: ты чѣмъ то разстроенъ, у тебя нервы
(обратно)859
Зач.: я слабый человѣкъ; я собой пугать не буду, я ничего не сдѣлаю, не могу, да и не хочу наказывать. Мщеніе у Бога.
(обратно)860
Зач.: <въ минуты моей ревности> прежде ужасные
(обратно)861
Зач.: ты разорвала нашу связь
(обратно)862
Зач.: бы умереть
(обратно)863
Зач.: Повѣрь мнѣ ты, теперь торжественная минута.
(обратно)864
Зач.: — Что съ вами, я понять не могу, я бы думала, что вы ужинали. [Так в подлиннике.] — И опять таже
(обратно)865
Зачеркнуто: Всю ночь эту Алексѣй Александровичъ не смыкалъ глазъ, и, когда на другой день онъ увидалъ туже чуждость въ своей женѣ, онъ рѣшилъ самъ съ собой, что одно изъ главныхъ несчастій его жизни свершилось. Какъ, въ какихъ подробностяхъ оно выразится, что онъ будетъ дѣлать, онъ не зналъ, но зналъ, что сущность несчастья совершилась.
(обратно)866
Зач.: расплакавшись, <долго> всхлипывалъ <потомъ> еще на постелѣ. Но еще всхлипыванья не прошли, какъ они перешли въ сырое храпѣнье.
(обратно)867
В подлиннике: я такъ
(обратно)868
Зачеркнуто: безъ очковъ
(обратно)869
Зач.: Анна
(обратно)870
Зач.: — Браки по разсудку были бы самые счастливые, если бы люди не влюблялись, — сказала Анна.
(обратно)871
Зачеркнуто: Удашевъ
(обратно)872
Зач.: мрачно. «Неужели это бездушная кокетка и только», думалъ онъ
(обратно)873
Зачеркнуто: Въ началѣ этой весны Левинъ вышелъ послѣ чаю въ большихъ сапогахъ
(обратно)874
Так в подлиннике. Фраза не закончена.
(обратно)875
[мой милый!]
(обратно)876
[друга сердца]
(обратно)877
Зачеркнуто: завелъ артель. Это держалось одно время, но потомъ явились новые рабочіе, и артель распалась. Тогда, ужъ года 3 тому назадъ, Левинъ завелъ условія, въ которыхъ ясно было обозначено, какіе харчи.
<И теперь было такъ.>
— Вѣдь харчи по условію, — отвѣчаетъ онъ.
— Извѣстно, по условію, кондрактъ, да голодно, Константинъ Дмитричъ.
Левинъ ничего не отвѣтилъ.
(обратно)878
Зачеркнуто: одѣяніе
(обратно)879
Зач.: рубаха
(обратно)880
Зач.: языкъ
(обратно)881
[основательно,]
(обратно)882
Зачеркнуто: дворянскій
(обратно)883
Зач.: я успокаиваю ее.
(обратно)884
[— Пожалуйста!]
(обратно)885
Зачеркнуто: — Какъ вѣсъ нынче
(обратно)886
Зачеркнуто: Оставить мужа, бѣжать, — продолжала
(обратно)887
Зач.: бросилъ
(обратно)888
Зач.: Онъ глупъ и золъ
(обратно)889
Зачеркнуто: онъ рѣшилъ, что въ этотъ же пріѣздъ на дачу къ женѣ онъ за разъ вызоветъ ее на объясненіе и выскажетъ ей свое составленное имъ рѣшеніе.
(обратно)890
Зач.: Кити
(обратно)891
Зач.: Кити
(обратно)892
В подлиннике: вести
(обратно)893
[на нее смотрели косо.]
(обратно)894
Зачеркнуто: женѣ Егора Вронскаго, сидѣвшей тутъ же.
(обратно)895
Зач.: Алексѣй Александровичъ почувствовалъ, какъ рука жены, лежавшая на его рукѣ, вдругъ задрожала, и Анна поспѣшно повернулась и, доставъ платокъ, закрыла имъ лицо. Она плакала отъ радости.
Алексѣй Александровичъ поспѣшно спустился съ женой съ лѣстницы, помедлилъ въ тѣни, давъ ей оправиться, и былъ доволенъ тѣмъ, что, какъ ему казалось, никто не видалъ этаго.
Несмотря на свое волненіе, она замѣтила этотъ маневръ мужа и, какъ все, что онъ дѣлалъ, поставила это въ упрекъ ему. Они, провожаемые знакомыми сѣли въ коляску и молча доѣхали до дачи.
Дома Кити, по своей нѣжной душѣ не могшая переносить скачекъ, сидѣла за самоваромъ, ожидая жену и мужа.
Рядом на полях написано: [1] Записочку получила. [2] Бывало 3 настроенія: 1) веселье и насмѣшка, 2) злоба, волненіе, 3) отчаяніе, грусть.
(обратно)896
Зачеркнуто: Строгій и.
(обратно)897
[курортному списку]
(обратно)898
Зачеркнуто: почему то не взлюбилъ ее за то, что они не хотѣли его знать.
(обратно)899
Зач.: подергиваясь головой,
(обратно)900
[зонтом]
(обратно)901
Зачеркнуто: по англійски
(обратно)902
Зачеркнуто: французское
(обратно)903
Зач.: Я думаю, что онъ боится смерти.
(обратно)904
Зач.: engouement [увлечение]
(обратно)905
Зач.: распущенности
(обратно)906
Зачеркнуто: въ томъ числѣ
(обратно)907
[это не удовлетворяло.]
(обратно)908
В конце страницы после слов: и быть веселой в обратном направлении страницы начало другого варианта: <Предсказанія докторовъ сбывались. Здоровье Кити <за границей> поправилось.>
(обратно)909
Зачеркнуто: въ высшей степени
(обратно)910
[дала слово.]
(обратно)911
Рядом на полях написано: <По газетамъ браки.>
(обратно)912
Зачеркнуто: она устраивала судьбы дѣтей послѣ выхода изъ школы.
(обратно)913
Зач.: Maker [создателю]
(обратно)914
Зач.: На водах было очень много всякаго народу. Были и жалкіе, безнадежные больные, были и такіе, которые пріѣхали, какъ Нити, только подъ угрозой болѣзни. Какъ и на всѣхъ водахъ,
(обратно)915
[Князь Щербацкий с женой и дочерью]
(обратно)916
Зачеркнуто: и по одеждѣ и расходамъ
(обратно)917
Зачеркнуто: Княгиня была очень довольна и, собравъ уже сама сливки общества, познакомила съ ними дочь и
(обратно)918
Зач.: и обрядъ жизни ясно устроился.
(обратно)919
Зач.: и, устроивъ своихъ, онъ уѣхалъ въ Карлсбадъ <, куда ему совѣтывали доктора,> и Киссингенъ, надѣясь найти тамъ больше знакомыхъ и разогнать тяготившую его заграницей скуку.
(обратно)920
Зач.: Она всегда предполагала, по свойству своего характера, всѣ самыя необыкновенныя совершенства за тѣми, которыхъ она не знала, но какъ только она узнала ихъ, увидала, что особеннаго ничего въ нихъ нѣтъ, она почувствовала себя закованной въ этотъ заколдованный кругъ, изъ котораго уже не было выхода, ей стало
(обратно)921
Зач.: <тѣмъ болѣе скучно, что она смутно съ неудовольствіемъ чувствовала, что была нѣкоторая доля притворства въ ея матери и въ ней въ этой Европейской жизни.> И она съ тѣмъ большимъ интересомъ вглядывалась въ тѣ лица, которыя не находились въ этомъ кругу, и о нихъ дѣлала свои догадки, и нѣкоторыя изъ этихъ лицъ ее очень интересовали, и она внимательно наблюдала ихъ; она мечтала, воображая ихъ обладающими всевозможными. совершенствами, и воображала, что знакомство съ ними доставитъ ей большое счастье и утѣшенье.
(обратно)922
Зач.: госпожею Шталь. Госпожа Шталь принадлежала къ высшему обществу. Княгиня знала ее по фамиліи и репутаціи добродѣтельной женщины. Но госпожа Шталь была очень больна и ни съ кѣмъ не знакома изъ круга Княгини. И никто не зналъ, кто была съ нею эта Русская дѣвушка. Г-жа Шталь рѣдко, только въ самые лучшіе дни, появлялась въ колясочкѣ на воды. <И дама эта, съ кроткимъ, не земнымъ лицомъ, и Русская дѣвушка, которую дама звала Варинькой, особенно интересовала ее.> Она звала дѣвушку Варинькой, а Профессоръ и его жена М-llе Варинькой. Варинька не была дочь дамы и не была наемная подруга, но ухаживала за ней какъ за матерью. За больнымъ профессоромъ она ухаживала какъ за чужимъ, съ женою Профессора казалась другомъ, съ дѣтьми Профессора казалась нянькой. Кромѣ того Варенька эта была въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ
(обратно)923
Зачеркнуто: находящагося на послѣдней степени чахотки, и беременной жены его съ двумя маленькими дѣтьми.
Какъ Кити узнала, русскую дѣвушку, интересовавшую ее, звали Варинька и М-llе Варинька. Варинька, по наблюденію Кити, была и сестрою милосердія больнаго Профессора, и другомъ матери, и нянькой, и гувернанткой дѣтей, и экономкой всего семейства.
(обратно)924
Зач.: къ больной дамѣ и
(обратно)925
Зачеркнуто: не доходя до него, чтобы не видать его, но она слышала его кашель. Варинька
(обратно)926
Зач.: и пошла къ ключу, чтобы тамъ встрѣтиться съ ней. Но она подходила къ ключу, а Варинька уже отошла, подавъ стаканъ професору. «Ну, въ другой разъ, только не непріятно ли ей будетъ? Вотъ странно, никогда никого такъ не любила, какъ ее, не зная кто она», думала Кити, подходя по галлереѣ къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ Левинъ.
(обратно)927
Зач.: и Варинька направилась туда своимъ быстрымъ шагомъ. Случилось, что Левинъ разсердился на свою женщину и бросилъ въ нее стаканъ.
(обратно)928
Зач.: произошла ссора.
Народъ толпился около, и Кити ничего не видала, какъ только то, что Варинька что то говорила Левину и ушла съ нимъ и его женщиной съ водъ.
(обратно)929
Зачеркнуто: М-llе Варинькой. Вчера это удивительно. Она подошла къ этому больному господину, и сейчасъ же все уладила, и видно, что онъ теперь такъ и таетъ передъ ней.
(обратно)930
Зач.: Удобнѣе всего было помогать и дѣлать добро семейству профессора
(обратно)931
Зач.: профессора
(обратно)932
Зач.: Семейство это было бѣдно, не имѣло прислуги. А между тѣмъ жена профессора была дѣвушка извѣстной фамиліи, и потому Кити удобно было познакомиться съ нею.
(обратно)933
Зачеркнуто: всякій разъ сдѣлать что нибудь полѣзное. И скоро она почувствовала, что появленіе ея приноситъ радость всему семейству.
(обратно)934
Зач.: Для Кити незамѣтно пролетѣли первыя четыре недѣли пребыванія ея на водахъ. Она замѣтно поправилась и почувствовала себя спокойной и даже счастливой, совсѣмъ другимъ счастьемъ, чѣмъ то, которое она прежде представляла себѣ.
(обратно)935
Зач.: профессора
(обратно)936
Зач.: Княгиня чувствовала, что что-то лишнее есть въ мысляхъ и чувствахъ ея дочери, что она это скрываетъ отъ нее <Она видѣла, что дочь читаетъ по вечерамъ Евангеліе, это хорошо>, но въ общемъ Княгиня не могла не радоваться на свою Кити. Сама Княгиня полюбила и дѣтей Кроновыхъ и ласкала ихъ и бѣдную Анну Павловну, въ которой она принимала большое участіе.
— Что то давно не видать твоих protégés, — сказала разъ Княгиня. — Что Анна Павловна не заходитъ?
— Нѣтъ, она нынче хотѣла зайти, — покраснѣвъ сказала Кити.
(обратно)937
Зачеркнуто: съ Левинымъ же Княгиня прямо запретила всякое знакомство, что было
(обратно)938
[не нужно ничего утрировать.]
(обратно)939
Зачеркнуто: и содействовать Варенькѣ въ обращеніи его въ вѣру.
(обратно)940
Зач.: чѣмъ то, которое она прежде представляла себѣ.
(обратно)941
Четыре последние слова представляют собой, очевидно, конспективную запись.
(обратно)942
Зачеркнуто: Княгиня замѣчала, что было что-то излишнее въ настроеніи Кити. Новое это излишнее было хорошее, и Княгиня ничего не имѣла противъ этаго, какъ только то, что ничего не надо утрировать, какъ она и говорила дочери. «Какъ будто можно быть христіанкой не утрируя», думала Кити, вспоминая о лѣвой щекѣ и о рубашкѣ, про которые она читала въ Евангеліи.
(обратно)943
Зачеркнуто: и хотя княгинѣ обидно было думать, что не она, а другія научили этому ея дочь, она видѣла, что это
(обратно)944
Зач.: Русскимъ
(обратно)945
Зач.: Она видѣла, что Кити не только полюбила Кронову, но что она старается быть ей полезной. И это не имѣло въ себѣ ничего дурнаго. Княгиня сама увлекалась Кроновыми, ходила къ нимъ, звала къ себѣ дѣтей и принимала большое участіе въ бѣдной Аннѣ Павловнѣ.
(обратно)946
[— Не нужно никогда ничего утрировать,]
(обратно)947
Зачеркнуто: и еще менѣе отцу.
(обратно)948
Зачеркнуто: если это правда, стала между ними холодность.
(обратно)949
Зач.: Это было <то, что она произвела впечатлѣніе на больнаго живописца, что жена замѣтила это и была недовольна> сомнѣніе о томъ <, не влюбился ли въ нее больной живописецъ и не замѣтила ли этого жена>, что больной живописецъ имѣетъ къ ней чувство такое, которое непріятно его женѣ.
Кроновъ былъ немолодой, очень некрасивый человѣкъ, обросшій бородой, усами и бровями, падавшими внизъ, и съ блестящими, какъ у всѣхъ чахоточныхъ, вопросительными глазами. Онъ былъ худъ, какъ скелетъ, безпрестанно кашлялъ, насилу ходилъ и постоянно переходилъ отъ мертваго унынія къ оживленію, которое всегда особенно <мрачно> страшно дѣйствовало на Кити. Она боялась его какъ мертваго тѣла, но, замѣтивъ въ себѣ это чувство, она дѣлала надъ собою усиліе и всегда особенно весела и оживленна казалась съ нимъ.
Не это ли сдѣлало то, что онъ радостно и жалостно улыбался, встрѣчая ее, не спускалъ съ нея глазъ и старался какъ можно чаще видѣться.
(обратно)950
Зач.: спрашивая себя, не была ли она въ чемъ нибудь виновата.
(обратно)951
Зач.: покрытое веснушками, безпомощное
(обратно)952
Зач.: щеголеватую
(обратно)953
Зач.: но прекрасные бле[стящіе]
(обратно)954
Зачеркнуто: какъ онъ съ трогательной, робкой улыбкой сказалъ мнѣ тогда: «вы не повѣрите, какъ мнѣ вся картина яснѣе стала послѣ того, какъ я васъ узналъ». «Мадонну?» «Да», и какъ онъ поцѣловалъ ребенка тотчасъ послѣ того, какъ я его поцѣловала. И его смущеніе и
(обратно)955
Зач.: страшный
(обратно)956
Зач.: Вѣдь онъ умирающій.
(обратно)957
Зачеркнуто: Миссъ Суливанъ
(обратно)958
Зач.: скажу Тортонамъ
(обратно)959
[бедных,]
(обратно)960
[серенаду]
(обратно)961
[хозяин]
(обратно)962
Зачеркнуто: Миссъ Суливанъ.
(обратно)963
Зачеркнуто: особенно въ ударѣ, спорилъ съ женой и смѣшилъ до слезъ Марью Евгеньевну и Вареньку.
(обратно)964
Зач.: не могла удержаться, смѣялась изрѣдка своимъ сообщающимся смѣхомъ.
(обратно)965
[отменной скромности,]
(обратно)966
[время — деньги]
(обратно)967
Зачеркнуто: и далъ имъ еще талеровъ.
— Тутъ очень хороша была исторія съ Каренинымъ.
(обратно)968
На полях против этих строк написано: Сергѣю Левину скучно безъ публики.
(обратно)969
Зачеркнуто: съ любовной усмѣшкой.
(обратно)970
Зач.: больше всего
(обратно)971
Зачеркнуто: Къ нимъ пріѣзжалъ сосѣдъ Константина Левина, докторъ земскій къ тетушкѣ, вывихнувшей палецъ, и докторъ этотъ разсыпался передъ знаменитымъ Левинымъ и разсказывалъ все, что дѣлается въ уѣздѣ. Сергѣй Левинъ внимательно слушалъ и разспрашивалъ и сказалъ ему кое какія замѣчательныя слова.
— Ну, однако, — началъ Сергѣй Левинъ, когда докторъ уѣхалъ, — это ни на что не похоже, что у васъ дѣлается въ уѣздѣ, какъ мнѣ поразсказалъ этотъ господинъ. И воля твоя, Костя, это нехорошо, что ты не ѣздишь на собранія и вообще не принимаешь участія въ Земствѣ. Если мы, порядочные люди, удалимся, они, эти господа, заберутъ все въ руки. Вонъ онъ разсказываетъ, что выбрали этаго дурака въ Председатели Управы, и онъ беретъ съ насъ же 2000 жалованья, и ни школъ, ни фельшеровъ, ни
(обратно)972
Против этой фразы на полях написано: <Послѣ покоса письмо. А. свихнулась, поѣзжай.>
(обратно)973
Зачеркнуто: <теперь, послѣ взволновавшаго разговора съ Дарьей Александровной> съ воспоминаньемъ разговора съ братомъ
(обратно)974
Зачеркнуто: которымъ поднималась трава
(обратно)975
Зачеркнуто: обѣдъ
(обратно)976
Зач.: спать
(обратно)977
Зач.: Онъ самъ рѣшился ѣхать къ Облонскимъ и велѣлъ приготовить коляску.
(обратно)978
Зач.: рѣшалъ долго
(обратно)979
Зач.: отдыхать отъ этаго волненія
(обратно)980
[ее смешное положение]
(обратно)981
Зачеркнуто: Вишь, нынче только началъ съ женой
(обратно)982
Зачеркнуто: <жилъ только въ одномъ домѣ съ женою, соблюдая приличія, но никогда не говорилъ съ нею наединѣ> уѣхалъ въ Петербургъ и погрузился въ свои занятія.
(обратно)983
Зач.: но строгая разумная честность была уже привычкой Алексѣя Александровича, и онъ не могъ
(обратно)984
В подлиннике: так
(обратно)985
Зачеркнуто: но никогда не говорили наединѣ.
(обратно)986
На полях написано: [1] Съ матерью объясненье: она говоритъ: «Я или она?» О[нъ] говоритъ: Она. Тѣмъ болѣе что получилъ записку. Мать умоляетъ — хоть нынче не ѣзди. [2] Алексѣй Александровичъ уѣзжалъ на все лѣто на ревизію. Вернувшись, онъ нашелъ совершившійся фактъ: Вронскій ѣздилъ. Онъ уже не сталъ пытаться, а сказалъ, что нужно соблюдать приличія. [3] Онъ получилъ записку, чтобы непремѣнно пріѣзжалъ.
(обратно)987
Зачеркнуто: Странное дѣло — это безукоризненное письмо, написанное столь знакомымъ ей его растянутымъ и размашистымъ почеркомъ, и по внѣшности и по содержанію возбудило въ ней порывъ ненависти къ нему.
(обратно)988
Зачеркнуто: болѣе 2-хъ мѣсяцев
(обратно)989
Зач.: подумала
(обратно)990
Зач.: что онъ не человѣкъ, а кукла, справедливая кукла. И нельзя быть несправедливой противъ куклы.
(обратно)991
[Это мило.]
(обратно)992
Зачеркнуто: и его встрѣтила сестра Кити.
(обратно)993
Зач.: Прекрасное лицо ея было красно въ то время, какъ
(обратно)994
Зачеркнуто: съ безцѣльными удареніями
(обратно)995
[с усмешкой]
(обратно)996
Зачеркнуто: и послѣднее въ эту зиму
(обратно)997
Зачеркнуто: Но меньше всего, казалось, чувствовалъ тягость этаго положенія Алексей Александровичъ.
(обратно)998
Зач.: <высокая> толстая
(обратно)999
Зач.: <свѣтлые> голубые
(обратно)1000
Зач.: Гагина
(обратно)1001
Зач.: все таки онъ первый, тяжело вздохнувъ
(обратно)1002
Зач.: Гагинъ
(обратно)1003
Зачеркнуто: Гагинъ
(обратно)1004
Рядом на полях написано: [1] Алексѣй Александровичъ ѣхалъ ко всенощной. [2] Бѣда не одна! Денежное дѣло — 1) имѣнье оказалось никуда не годно 2) Сослуживецъ сдѣлалъ гадость, воспользовавшись его мыслью И испортилъ мысль.
(обратно)1005
Зачеркнуто: потому что утромъ писала и получила отъ него записку. Онъ разсказалъ ей всѣ подробности обѣда. Она давно уже слѣдила за этой жизнью и знала всѣ лица и характеры.
(обратно)1006
Зач.: — Да, и искренно тронутъ. Въ нашемъ франмасонствѣ пьяномъ это мило. Ты не повѣришь, какъ хорошо было ихъ объясненіе съ Ленгольдомъ. Они вѣдь все ссорились. Ну а тутъ раскаянье, и оба, и Ленгольда я никогда не видалъ такимъ. Потомъ качанье хорошо было. Это маленькаго Пушкина стали качать.
(обратно)1007
Зач.: свивальникъ
(обратно)1008
Зач.: — Нѣтъ, что ты ни говори, это нехорошо. Зачѣмъ вы безъ вина не можете быть добры?
Онъ пересталъ рассказывать.
(обратно)1009
Зач.: Чего мнѣ еще? Но мы въ этомъ положеніи не свои бываемъ.
(обратно)1010
Зачеркнуто: тѣ черты
(обратно)1011
Зач.: на свивальникъ,
(обратно)1012
Зач.: взяла его руку и поцѣловала. Онъ всталъ, обнялъ ее за голову и поцѣловалъ въ волосы.
— Анна! это не можетъ
(обратно)1013
Зач.: Это не можетъ такъ оставаться.
(обратно)1014
Зач.: высвободила свою голову
(обратно)1015
Зач.: огнемъ
(обратно)1016
Зач.: бѣлая
(обратно)1017
Против этого места на полях написано: сны видитъ, что оба — мужья.
(обратно)1018
Зачеркнуто: Какое будущее, — заговорилъ
(обратно)1019
Зач.: съ духовной мисіонерской кротостью взглянулъ на тебя и послалъ тебѣ христіанское прощеніе, самое ядовитое изъ мщеній, и ложь, фальшь, ложь, фальшь.
(обратно)1020
Против этого места на полях написано: Онъ мнѣ г[оворилъ] ты, Нана. Я бы разорвала.
(обратно)1021
Зачеркнуто: Гагина
(обратно)1022
Зач.: Гагинъ
(обратно)1023
Зач.: Нана
(обратно)1024
Зач.: низкій
(обратно)1025
Зач.: что я люблю
(обратно)1026
Зач.: воромъ
(обратно)1027
Зач.: Ты говоришь, что это ложь и фальшь. Но я не вижу этаго, я вижу беззащитную овцу, которая подставила шею, и мнѣ ужасно рубить эту шею.
(обратно)1028
Зач.: Если бы онъ это сдѣлалъ, то мое положеніе было бы еще ужаснѣе.
— Ничего бы не было ужаснаго,
(обратно)1029
Зач.: — Ужасно бы было только то, что онъ нечаянно могъ бы убить тебя.
— А его убить, его убить?
(обратно)1030
Зач.: Нана
(обратно)1031
Зачеркнуто: воркующимъ
(обратно)1032
Зач.: жизнью дѣтей
(обратно)1033
Зач.: Убить себя, ее или обѣихъ вмѣстѣ.
(обратно)1034
[прежнего положения.]
(обратно)1035
Зачеркнуто: Въ первую минуту душа его была переполнена злобой къ ней и, вспоминая, съ подробностями вспоминая свои отношенія къ ней и отношенія къ ней Вронскаго, изъ всѣхъ возможныхъ выходовъ ему представлялся желательнѣе всего тотъ, чтобы сдѣлать ей также больно, какъ она ему сдѣлала, — унизить нравственно, даже просто физически бить ее — ему хотѣлось больше всего. Потомъ желалось наказать Вронскаго.
(обратно)1036
Зач.: Что будетъ больнѣе для нее, то онъ и хотѣлъ сдѣлать.
(обратно)1037
Зачеркнуто: Первый выходъ — избить, убить ее, вымѣстить на ней свою злобу — оказался невозможнымъ и только выраженіемъ порыва, которымъ онъ не успѣлъ еще овладѣть. И, не доѣхавъ еще до Петербурга, Алексѣй Александровичъ совершенно опомнился и откинулъ эту звѣрскую мысль. «Это животное чувство», сказалъ себѣ Алексѣй Александровичъ, и это разсужденіе было совершенно достаточно, чтобы уничтожить это желаніе.
(обратно)1038
Зач.: не смотря на то, что тоже былъ животный,
(обратно)1039
Зач.: но не потому, чтобы онъ боялся; напротивъ, несмотря на свою слабость нервъ въ этомъ отношеніи, Алексѣй Александровичъ сейчасъ вышелъ бы охотно на барьеръ съ Вронскимъ; но сейчасъ этаго нельзя было сдѣлать, a послѣ Алексѣй Александровичъ чувствовалъ — у него не будетъ на это духа. Но это соображеніе не остановило бы его; главное было то,
(обратно)1040
Зач.: Оставался выходъ развода. Но какъ сдѣлать разводъ? Уличить, отобрать сына и дать имъ свободу и то самое, чего они желаютъ.
(обратно)1041
Зач.: Вронской вновь оскорбилъ бы его своимъ присутствіемъ въ домѣ, онъ чувствовалъ
(обратно)1042
Зачеркнуто: Комисіи, составленной изъ однаго весельчака сенатора, двухъ генераловъ и двухъ людей, нашедшихъ выгоднымъ назначеніе, была задана программа — описать край съ административной, финансовой, этнографической, географической, геологической сторонъ, изложивъ причины такихъ и такихъ то явленій. Комиссія пріѣхала черезъ годъ, и на всѣ пункты былъ ясный и опредѣленный отвѣтъ. И хотя Алексѣй Александровичъ, какъ образованный человѣкъ, зналъ, что въ два столѣтія избранные ученые и генералы не могутъ исполнить 1/10 того, что было спрашиваемо, онъ всетаки принялъ зa основаніе своихъ дѣйствій донесеніе комисіи.
(обратно)1043
Взятое в квадратные скобки — текст копии не сохранившегося начала автографа.
(обратно)1044
Зачеркнуто: тя[жесть]
(обратно)1045
Зач.: Она собиралась ѣхать на дачу къ знаменитой Танищевой въ это время, какъ получила съ курьеромъ письмо и деньги мужа.
(обратно)1046
Зач.: подѣйствовало на нее
(обратно)1047
Зач.: требованіе
(обратно)1048
Зач.: и къ подробностямъ туалета, которые были связаны съ этимъ обѣдомъ у Танищевой.
(обратно)1049
Зач.: могутъ имѣть
(обратно)1050
Зач.: ея счастья
(обратно)1051
Зач.: зависть женщинъ.
(обратно)1052
Зачеркнуто: сказала она, взявъ подаваемый ей букетъ. — Да скажи Аннушкѣ принести мой бумажникъ.
(обратно)1053
Зач.: стоялъ букой
(обратно)1054
Зач.: Николенькѣ
(обратно)1055
Зач.: а обѣдать возьмете ихъ сюда. А вечеромъ я буду. Какъ ты умѣешь догадаться.
(обратно)1056
Зач.: взяла подаваемую накидку
(обратно)1057
Зачеркнуто: долго цѣловала
(обратно)1058
Зач.: послѣ подсказанныхъ ей какой-то внѣ ея находящейся силой словъ
(обратно)1059
Зач.: въ первыя минуты.
(обратно)1060
Зач.: чѣмъ больше проходило времени послѣ этого
(обратно)1061
Зач.: <Въ эту ночь она видѣлась наединѣ> Во время своего послѣдняго послѣ скачекъ свиданія съ Вронскимъ она не сказала ему о томъ, что, <она все объявила мужу> произошло между ею и мужемъ, несмотря на то, что ей хотѣлось сказать ему и нѣсколько разъ она уже собиралась говорить, но воспоминаніе о разговорѣ, бывшемъ между ею и Вронскимъ за нѣсколько дней до скачекъ, удерживало ее, <когда она хотѣла сказать ему, что сейчасъ произошло между ею и мужемъ. Она вспомнила, что въ томъ разговорѣ Вронскій просилъ ее развязать какъ бы то ни было тотъ постылый узелъ, который связывалъ ихъ съ мужемъ, и что она, сама <не зная почему, упорно> отказывала ему въ этомъ. Тогда она упорно отклоняла этотъ разговоръ, во первыхъ, потому, что она не <находила необходимости нарушать того счастья, которое она испытывала,> обдумала еще своего положенія, во вторыхъ, потому, что мысль о сынѣ смущала ее, и, въ третьихъ, потому, что ей радостно было слышать его просьбы о томъ, чтобы она оставила мужа и соединилась съ нимъ, а отказомъ она вызывала его на повтореніе этой радостной для нее просьбы. Теперь же ей <почему то> непріятно было начинать разговоръ объ этомъ, попрекать его, отъ того что онъ не говорилъ. «Я скажу, когда онъ самъ заговоритъ объ этомъ, я скажу завтра, я скажу, когда получу извѣстіе отъ Алексѣя Александровича», говорила она себѣ всякій разъ, какъ она была на волоскѣ отъ того, чтобы сказать ему. Кромѣ того, свиданіе это было коротко; Вронскій еще былъ слишкомъ взволнованъ событіемъ скачекъ, хотя и старался скрывать это.
Вронскій уѣхалъ <и уѣхалъ> на 3 дня на маневры, которые должны были происходить въ это время, и она не сказала ему, такъ и не высказавъ ему того, что хотѣла, и, оставшись одна, чувствуя свою ошибку, почувствовала
(обратно)1062
Зачеркнуто: Уже было свѣтло, когда она заснула, ничего не уяснивъ и чувствуя себя несчастной.
(обратно)1063
Зач.: тотъ отпоръ, который она дала ему,
(обратно)1064
Зач.: Кромѣ того, положеніе ея было мучительно потому, что, несмотря на всѣ усилія мысли, она не могла себѣ представить <того, что сдѣлаетъ теперь Алексѣй Александровичъ>, что съ ней теперь будетъ. Кромѣ самыхъ дѣтскихъ безумныхъ мыслей о томъ, что ее выгонятъ, отнимутъ у нея сына, какъ-то позорно будутъ наказывать за ея преступленіе, что ее посадятъ куда то, будутъ допрашивать въ судѣ, она ничего не могла представить. Положеніе ея не только не стало яснѣе и опредѣленнѣе, но, напротивъ,
(обратно)1065
Зачеркнуто: Всѣ въ этотъ и слѣдующій [день] замѣчали что-то потерянное выпытывающее въ ея взглядѣ, приглядывались къ ней, и она краснѣла и останавливалась въ срединѣ рѣчи.
(обратно)1066
Зач.: никуда не выѣзжая и никого не принимая, сидя одна съ своими мыслями и страхами, не въ силахъ раскаиваться, не въ силахъ плакать, съ одной мыслью о томъ, что она пропала.
(обратно)1067
Зач.: и стыдъ и униженіе передъ мужемъ и передъ любовникомъ и передъ всѣми грызъ ее сердце.
(обратно)1068
Зач.: Ей хотѣлось дѣйствовать, но она не знала, что дѣлать
(обратно)1069
Зачеркнуто: Она краснѣла и блѣднѣла, когда ей принесли деньги и письмо отъ мужа.
(обратно)1070
Зач.: потомъ зa голову
(обратно)1071
Зач.: и, взглянувъ на постскриптумъ,
(обратно)1072
Зач.: я сдѣлала
(обратно)1073
Зач.: и тяжело вздохнула, чувствуя невыразимое облегченіе: «Ничего, ничего! — думала она. — Ну да, что же онъ могъ сдѣлать. Ну да! И что я придумывала себѣ, — сказала она улыбаясь. — Да онъ только желаетъ, чтобы все осталось по старому». Это было то самое, чего она
(обратно)1074
Зач.: и почувствовала, какъ холодны были ея руки.
(обратно)1075
Зач.: <Но прошло полчаса.> Она живо представила себѣ жизнь теперь: жизнь съ мужемъ, его наружность, его уши, тонкій голосъ и но[ги?], и чувство отвращенія къ этой предстоящей жизни, почти столь же сильное, какъ прежнее отчаяніе, охватило ее. Она нѣсколько разъ перечла письмо, поняла его со всѣхъ сторонъ, поняла тѣ чувства мужа, которыя вызвали это письмо <и она уже была недовольна этимъ выходомъ> и съ ненавистью стала разбирать ихъ.
(обратно)1076
Зач.: про мужа.
(обратно)1077
Зач.: думала она,
(обратно)1078
Зач.: чѣмъ бы я ни была — потерянной женщиной, любовницей другаго, но
(обратно)1079
Зачеркнуто: Это будетъ Лидія Ивановна.
(обратно)1080
Зач.: Никто не докажетъ мнѣ моей вины. Я люблю его и отдала ему и свою жизнь и свое будущее; и что будетъ, то будетъ.
(обратно)1081
Зач.: При одномъ воспоминаніи о немъ она почувствовала полноту жизни, увѣренность, сознаніе необходимости своей жизни. Она тутъ же сѣла къ столу и написала записку Вронскому: «Я получила письмо отъ мужа; мнѣ необходимо видѣть васъ немедленно <Я поѣду къ Бетси и проведу у нее весь вечеръ> Я буду дома, весь вечеръ буду дома.
Анна».
«Маневры, — думала она. — Если бы онъ зналъ, какъ это мнѣ смѣшно, что можно для чего бы то ни было ѣхать на маневры теперь». Мысль о томъ, чтобы сказать ему теперь о томъ, что она объявила все мужу и что отъ него зависитъ устроить ихъ новую жизнь, теперь уже не возбуждала въ ней стыда. «При той высотѣ и силѣ любви, которая связываетъ насъ, развѣ можетъ быть мѣсто стыду», думала она, удивляясь на чувство, которое мучало ее всѣ эти дни.
Она позвонила, велѣла сказать курьеру, что очень хорошо, и отвѣта не будетъ, велѣла <отнести письмо Вронскому на почту и> заложить карету, чтобы ѣхать <къ Бетси> прокатиться. <Въ ней вдругъ произошла реакція, мѣсто мучившаго ее стыда замѣнило теперь противоположное чувство.> Она, какъ бы послѣ тяжелаго сна, очнулась къ жизни и чувствовала въ себѣ удесятеренную энергію жизни. Теперь уже ничего не могло быть хуже того, что было, т. е. что она оставалась въ прежнемъ положеніи относительно мужа. <«Что то дѣлается тамъ внизу? Что Сережа?» подумала она.>
— Да, теперь мнѣ гораздо лучше, — сказала она дѣвушкѣ на вопросъ о ея здоровьѣ, <Движенія ея были быстры и тверды, и глаза блестѣли рѣшимостью и твердымъ блескомъ.> — Я хочу прокатиться. <Да и обѣдать вели <мнѣ подать>. Да гдѣ Сережа?
— Они собирались гулять.
— Останови, пожалуйста. Скажи, что я сейчасъ выйду.
Быстро одѣвшись, она твердымъ <рѣшительнымъ> упругимъ шагомъ, съ особеннымъ блескомъ въ глазахъ и особенно прямо держась, сошла внизъ.>
(обратно)1082
Зач.: Когда дѣву[шка]
(обратно)1083
Зачеркнуто: и буду въ
(обратно)1084
Зач.: позвонила
(обратно)1085
Зач.: веселымъ
(обратно)1086
Зач.: Постой! Гдѣ Сережа? Такъ попроси ихъ подождать меня. Я сейчасъ выйду
(обратно)1087
Зач.: Выраженіе лица гувернантки говорило, что она не можетъ этого долѣе переносить и ч[то]
(обратно)1088
Зачеркнуто: — Намъ всетаки можно будетъ пойти гулять къ Танищевымъ? — сказалъ Сережа и робко подошелъ къ матери.
Анна покраснѣла, и странное въ ея положеніи чувство гордости проснулось въ ней; но чувство столь сильное, столь искреннее, что оно тотчасъ же невольно сообщилось и окружающимъ.
(обратно)1089
Зач.: высоко поднявъ голову и
(обратно)1090
Зач.: и онъ ожилъ, обвившись вокругъ ея шеи рукой. Хотя и подчиняясь вліянію веселости, гувернантка хотѣла еще высказать:
— Я бы желала просить васъ, — начала гувернантка.
«Они ужъ и его настроили», подумала она, замѣчая холодность во взглядѣ сына. Она подняла къ себѣ сына, поцеловала его и, прищуривъ глаза, обратилась къ гувернанткѣ:
— Я бы васъ просила, какъ и всѣхъ, обращаться ко мнѣ, прежде чѣмъ обѣщать сыну вести его туда и сюда.
— Но вы были нездоровы.
— Я буду просить васъ...
(обратно)1091
Зачеркнуто: медоваго мѣсяца
(обратно)1092
Зач.: Она въ первый разъ въ жизни была влюблена. И это влюбленное ея состояніе росло съ каждымъ днемъ и часомъ. Въ особенности
(обратно)1093
Зач.: постыдный и гадкій
(обратно)1094
Зач.: Уже послѣ полученія письма мужа въ день именинъ Тверскаго, который только что пріѣхалъ изъ за границы, она была у Бетси. Послѣ обѣда большое общество, раздѣлившись на двѣ партіи, собралось играть въ крокетъ на отлично по англійски устроенномъ газонѣ крокетъ граунда.
(обратно)1095
Зач.: вмѣстѣ съ большимъ обществомъ.
(обратно)1096
Зач.: оттого ли просто, что онъ былъ чужой всѣмъ
(обратно)1097
Зачеркнуто: Она не хотѣла ѣхать, зная, что Алексѣй Александровичъ былъ нужный человѣкъ этому Барону и поэтому избѣгала его; но Бетси уговорила ее. Нестолько доводами о необходимости самостоятельности женщины и независимости отъ мужскихъ интересовъ, сколько тѣмъ, что садъ его прелестенъ при ночномъ освѣщеніи и что послѣдній разъ Алексѣй, у котораго очень много вкуса, восхищался его дачей.
(обратно)1098
Зач.: прельстилъ влюбленное воображеніе Анны,
(обратно)1099
Зач.: свою грусть
(обратно)1100
Зач.: Вронскій обѣщался быть, но его не было.
(обратно)1101
Зач.: Я удивляюсь, что онъ не пріѣхалъ обѣдать, но онъ будетъ вечеромъ, — прибавила она. И Анна, несмотря на радость, которую она почувствовала при этомъ извѣстіи,
(обратно)1102
Зач.: въ его отношеніяхъ къ хозяевамъ не слишкомъ замѣтно было это отношеніе полнаго, ни на чемъ не основаннаго презрѣнія и вмѣстѣ наивнаго признанія, что обѣдъ и садъ хороши и потому отчего же не ѣздить къ нимъ.
(обратно)1103
На полях против этих слов написано: Молодой человѣкъ робѣетъ, отъ дамы. А дама думаетъ, что [1 не разобр.]
(обратно)1104
[который ухаживает за monsieur,]
(обратно)1105
[он ухаживает за madame,]
(обратно)1106
[выставка товаров]
(обратно)1107
[английский женский костюм]
(обратно)1108
[— Я во всем принимаю участие,]
(обратно)1109
Зачеркнуто: Когда они у Барона остались съ глазу на глазъ, для Анны въ первый разъ явилось тяжелое, мучительное сомнѣніе въ его любви, явился страхъ за неравенство любви, за то, что въ ней чувство это росло, а въ немъ появлялись признаки пресыщенія, такъ по крайней мѣрѣ она думала.
Против зачеркнутого на полях написано: [1] Она ждетъ предложенія бѣжать. Нѣтъ. Объясненіе. [2] Я не стыжусь, потому что... [3] Она не дала пресыщені[ю] времен[и]. [4] Она навалилась на него всей тяжестью. [5] Она ѣдетъ къ мужу.
(обратно)1110
Рядом на полях написано: Она ѣдетъ къ му[жу.] Мужъ и съ его точки зрѣнія. И важный шагъ въ его жизн[и.]
(обратно)1111
[задорном]
(обратно)1112
[чуда.]
(обратно)1113
После этого слова нарисован миниатюрный рисунок женской головы с длинным носом.
(обратно)1114
[без пары.]
(обратно)1115
Зачеркнуто: — Какое же мое рѣшеніе?
(обратно)1116
[недисциплинирован.]
(обратно)1117
[дерзок, он рассуждает, он только что съел,]
(обратно)1118
Зачеркнуто: и его склонность резонировать
(обратно)1119
Зач.: Да, я не только несчастная, я гадкая женщина, я потеряла даже любовь къ сыну.
(обратно)1120
Зач.: — Извините меня, мнѣ надо писать письма.
Она вышла въ садъ, чтобы быть одной и обдумать свое положеніе.
(обратно)1121
Зач.: «Боже мой, какъ не кстати. А можетъ быть, и кстати».
(обратно)1122
[нескромной]
(обратно)1123
[прекрасно!]
(обратно)1124
[высокий стиль.]
(обратно)1125
[обязанности]
(обратно)1126
[вылитый!]
(обратно)1127
[двухколесный экипаж с сидениями спина к спине]
(обратно)1128
Зачеркнуто: минуту назадъ такъ
(обратно)1129
Зач.: И всѣ страхи ея мгновенно исчезли.
(обратно)1130
Зач.: что я ненавижу его,
(обратно)1131
Зач.: Онъ знаетъ, что безъ него, безъ его постояннаго присутствія, безъ страшныхъ, постыдныхъ воспоминаній, которыя соединяются съ нимъ, я буду счастлива.
(обратно)1132
Зачеркнуто: и Алексѣю (Вронскому), но этаго то ему и нужно.
(обратно)1133
Зач.: И вмѣстѣ съ тѣмъ я знаю, что такое будетъ этотъ личный разговоръ.
(обратно)1134
Зач.: убрала деньги
(обратно)1135
Зач.: И вложивъ письмо мужа въ конвертъ, она позвонила. Вошедшая дѣвушка была поражена видомъ своей барыни. Она оставила ее въ креслѣ съ блѣднымъ, убитымъ лицомъ, сжавшуюся, какъ будто просящую только о томъ, чтобы оставили ее одну. Теперь она нашла ее бодрою, оживленною, съ яркимъ блескомъ въ глазахъ и съ обычною дружелюбною и гордою осанкою.
— Отдай это письмо курьеру и приготовь мнѣ одѣваться. А это.... нѣтъ, вели заложить карету. Да, мнѣ совсѣмъ хорошо. Пожалуйста, поскорѣе, нѣтъ, я не буду обѣдать... А впрочемъ, нѣтъ, вели мнѣ подать въ балконную. Я, можетъ быть, съѣмъ что нибудь....
«Стыдиться! Чего мнѣ стыдиться?» невольно подумала она, оправляя безименнымъ пальцемъ крахмаленные рукавчики.
Черезъ полчаса Анна быстрымъ шагомъ, высоко неся голову и слегка щуря глаза, входила въ балконную. Всякую минуту она вспоминала
(обратно)1136
Зачеркнуто: Проводивъ тетку съ сыномъ,
(обратно)1137
Зач.: Но Княгиня Марья Ивановна никогда ничего не любила замѣчать неприятнаго.
(обратно)1138
Зач.: [1] «Стыдиться... Чего мнѣ стыдиться?...
М-llе Cordon въ шляпкѣ и съ зонтикомъ, съ особенно грустнымъ и достойнымъ лицомъ, стояла въ столовой, держа за руку Сережу. Сережа въ своей шитой курточкѣ, съ голыми колѣнями, съ матросской шляпой въ рукахъ, готовый къ гулянью, тоже холодно и чуждо смотрѣлъ на мать. Лакей Корней въ бѣломъ галстухѣ и фракѣ, съ своими расчесанными бакенбардами, стоялъ за стуломъ приготовленнаго обѣда, и въ его лицѣ Аннѣ показалось, что она прочла радость скандала и сдержанное только лакейскимъ приличіемъ любопытство.
Анна гордымъ взглядомъ оглянула свое царство и слегка улыбнулась все надъ тою же мыслью, что они всѣ думаютъ и она сама думала, что надо стыдиться чего то.
— Поди, пожалуйста, Корней, и скажи Аннушкѣ, чтобы она принесла мнѣ мѣшочекъ съ платками.
— Я съ радостью слышу, что мигрень ваша прошла, — сказала М-llе Cordon. — Сирешъ, скажите доброе утро или, скорѣе, добраго вечера вашей мама.
— Что? — сказала Анна Аркадьевна, сощуривъ длинныя рѣсницы. — Поди, поди сюда, Сережа. Да шевелись, что ты такой!
Она взбуровила его волоса, потрепала его и расцѣловала.
— Я бы желала знать, — сказала гувернантка то, что она приготовила, — я бы просила опредѣлить время переѣзда съ дачи, такъ какъ мнѣ необходимо сдѣлать распоряженія объ осеннемъ туалетѣ: а такъ какъ время переѣзда нашего становится неизвѣстнымъ...
— Почему вамъ кажется, что время переѣзда съ дачи нынѣшній годъ неопредѣленнѣе, чѣмъ прежде? — сказала Анна, насмѣшливо улыбаясь. — Мы переѣдемъ какъ обыкновенно. Можетъ быть, вамъ нужны деньги? Мужъ прислалъ мнѣ нынче. — Она повернулась и достала изъ стола деньги. — Сколько вамъ? Сто? Ну вотъ сто.
— Нѣтъ, мнѣ сказали... — начала француженка краснѣя.
— Не вѣрьте тому, что вамъ про меня говорятъ, и спрашивайте всегда все у меня, что будете хотѣть знать, — сказала Анна улыбаясь и взявъ ее за руку. — Ну вотъ, — сказала она, запирая ящикъ, — мнѣ надо ѣхать, а вы подите у Танищевыхъ веселитесь, не студитесь и приходите домой къ 10-ти часамъ. А завтра я возьму Сережу, а вы поѣзжайте въ городъ по своимъ дѣламъ.
— Что вы забыли? Я схожу, — сказала гувернантка.
— Я забыла... да, я забыла письмо и еще деньги, я сама схожу.
И быстрымъ, быстрымъ шагомъ, на перегонки съ сыномъ, она побѣжала на верхъ. И точно, письмо ея мужа, вложенное въ конвертъ, лежало на окнѣ. Она взяла его, чтобы показать Вронскому.
Она довезла Сережу съ гувернанткой до поворота и, улыбающаяся, красивая, веселая, какою онъ ее всегда зналъ и помнилъ, разцѣловала, ссадила его и улыбаясь исчезла за поворотомъ.
[2] «Теперь поздно стыдиться. Надо дѣйствовать». Она послала Аннушку привести извощичью карету къ перекрестку Юсовскаго сада и, покрытая вуалемъ, дойдя съ Аннушкой до кареты, сѣла въ нее и велѣла ѣхать за 12 верстъ къ тому мѣсту, гдѣ <происходили маневры> стоялъ полкъ Вронскаго.
[3] «Но надо дѣлать?.. но что дѣлать?» подумала она. Она ничего не могла придумать. Она ничего не могла дѣлать одна. Надо было рѣшить съ нимъ. Надо было видѣть его. Надо было показать ему письмо. Она подошла къ письменному столу, открыла бюваръ и начала письмо: «Я получила отъ мужа письмо. Вы все поймете». Она взволновалась. «Нѣтъ, онъ не пойметъ». Она разорвала письмо и начала третье: «Вчера я не сказала вамъ, что я все объявила мужу...» «Нѣтъ, и этаго я не могу написать, — сказала она себѣ краснѣя, — я должна видѣть его». Корней вошелъ въ комнату доложить, что курьеръ ждетъ отвѣта.
— Сейчасъ, — сказала она и, взявъ бумагу, быстро написала: «Я получила ваше письмо и деньги» и, положивъ въ конвертъ, отдала Корнею.
— Вотъ, — сказала она, подавая ему записку.
(обратно)1139
Зачеркнуто: Онъ не будетъ у Бетси. Онъ переѣхалъ въ Петербургъ. Мнѣ все равно, что меня увидятъ у него. Развѣ черезъ нѣсколько дней я не буду навсегда съ нимъ?» Она велѣла Аннушкѣ привести извощичью карету и ждать ее на углу у Юсовскаго сада.
(обратно)1140
Зачеркнуто: По крайней мѣрѣ я могу заставить его пріѣхать.
(обратно)1141
Зач.: ей было все равно
(обратно)1142
Зачеркнуто: какъ получила это письмо.
(обратно)1143
Зач.: къ обѣду. Общество было почти все знакомое, но Вронскаго не было.
(обратно)1144
[слишком нарядно одетая]
(обратно)1145
Зачеркнуто: какъ сердце ея перестало стучать и какъ захватило
(обратно)1146
Зач.: и что есть въ нихъ это что то, какъ вы говорите, какъ будто они что то дѣлаютъ. А это неприлично, — улыбаясь сказала Анна.
(обратно)1147
Зачеркнуто: Куста
(обратно)1148
[семь чудес.]
(обратно)1149
Зачеркнуто: лѣнивой
(обратно)1150
Зач.: всѣхъ этихъ
(обратно)1151
Зач.: и вмѣстѣ съ тѣмъ
(обратно)1152
Зачеркнуто: но высоко и прочно не по мужу, а по тому признанному ухаживателю,
(обратно)1153
Зач.: Вмѣстѣ съ тѣмъ при этомъ эти женщины имѣли хотя и не женственную, но женскую возбуждающую прелесть, которая не ослабѣвала бы въ глазахъ ихъ поклонниковъ.
(обратно)1154
Зач.: глупой и грубой
(обратно)1155
Зач.: зная <свою> незначительность своего поклонника
(обратно)1156
Зач.: Лизой Меркаловой
(обратно)1157
Зач.: добродушно, весело расхохоталась.
— Надо у нихъ спросить.
(обратно)1158
Зачеркнуто: тоже улыбаясь
(обратно)1159
Зач.: Лизы
(обратно)1160
Зач.: Карета Анны въѣхала въ ворота обновленнаго дворца Роландаки.
(обратно)1161
Зач.: какъ и всегда,
(обратно)1162
Зачеркнуто: отъ того, что онъ не переставая видѣлъ эти 5 лѣтъ своей службы въ Петербургѣ.
(обратно)1163
Против этих слов на полях написано: Туалеты замѣтилъ Мишка. Улыбнулась. Корнаковъ. Бранитъ вслухъ хозяевъ. Споритъ съ высочествомъ
(обратно)1164
Зачеркнуто: Г-жа Роландаки особенно пріятно
(обратно)1165
Зач.: та самая глава 7 чудесъ, Лиза Меркалова.
(обратно)1166
Зач.: Анна знала ее, но теперь она и не находила въ ней ничего особеннаго.
(обратно)1167
Зач.: привычнымъ
(обратно)1168
Зач.: сообразила свой туалетъ и осталась имъ довольна. Она тоже
(обратно)1169
Зачеркнуто: и отношенія этихъ мущинъ къ дамамъ и характеръ
(обратно)1170
[прошлому,]
(обратно)1171
[помехой веселью]
(обратно)1172
Зачеркнуто: — Брудершафтъ пьется такъ, — говорилъ Вронскій, стараясь закинуть руку за руку Ф[енгофъ?].
— Я знаю, какъ пьется брудершафтъ и не хочу пить съ вами. Потому что нынче не хочу.
Послѣ обѣда дамы первыя закурили папиросы.
(обратно)1173
Зач.: въ галлерею,
(обратно)1174
Зач.: видимо, вдругъ полюбила Анну. Она
(обратно)1175
Зач.: — Чортъ знаетъ, какъ онъ уменъ.
(обратно)1176
Зач.: — Вотъ что, пойдемте посмотримъ оранжереи
(обратно)1177
Зач.: пошли къ оранжереи и тутъ
(обратно)1178
Зач.: вернулась съ половины дороги, какъ
(обратно)1179
Зач.: остановилась
(обратно)1180
Зач.: и сѣла на одно изъ тѣхъ пружинныхъ стульевъ, которые, какъ мячикъ, прыгаютъ подъ нами.
(обратно)1181
Зачеркнуто: <какъ шутить этимъ? Не понимаю> я рѣшительно не понимаю ее.
(обратно)1182
Зач.: <и любуясь на нее> чувствуя, какъ
(обратно)1183
Зач.: — Я не знаю, но боюсь чего то нынче.
(обратно)1184
Зач.: улыбаясь спокойной улыбкой
(обратно)1185
Зачеркнуто: Натура Вронскаго была одна изъ тѣхъ сильныхъ натуръ, которыя никогда, ни въ какихъ случаяхъ не измѣнятъ тому, что они по своему воззрѣнію на міръ, воспитанному и врожденному, считаютъ своимъ долгомъ. Но Вронской раздѣлялъ и слабость этихъ характеровъ, у которыхъ опредѣленъ только весьма узкій кругъ условій, въ которыхъ прилагается это сознаніе долга.
Для Вронскаго не могло быть никакого сомнѣнія о томъ, какъ онъ долженъ былъ поступить относительно оскорбленнаго мужа. Это было опредѣлено въ статьяхъ его кодекса долга, вмѣстѣ съ тѣмъ правилами учтивости къ женщинѣ, <ко всему слабому> и къ низшимъ и <независимости къ старшимъ,> высшей святости карточнаго долга <передъ долгомъ портнаго> и словъ, непрощаемости умышленнаго оскорбленія и т. п. Но многія условія были вовсе неопредѣлены въ этомъ кодексѣ, и относительно этихъ неопредѣленныхъ условій онъ ничего не зналъ и, когда сталкивался съ ними, былъ въ состоянiи совершеннаго невѣденія, что хорошо и что дурно. Такимъ неопредѣленнымъ условіемъ было теперь самое отношеніе къ Аннѣ. Вчера еще, подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія извѣстія о ея беременности, онъ, подъ вліяніемъ чувства, просилъ ее бросить мужа и соединиться съ нимъ. Но подъ вліяніемъ ея рѣзкаго отказа онъ <вчера же ночью послѣ скачекъ, проснувшись и обдумывая свое отношеніе къ ней> нынче же утромъ усумнился въ справедливости своего прежняго желанія, и это сомнѣніе вспомнилось ему. «Она не хочетъ этаго. Мужъ не знаетъ или не хочетъ знать. Зачѣмъ же мнѣ требовать этаго и навсегда связывать свою жизнь». Отъ этаго происходило то, что, когда онъ думалъ о своихъ отношеніяхъ къ мужу, онъ чувствовалъ себя твердымъ и сильнымъ. Когда же онъ думалъ о своихъ будущихъ отношеніяхъ къ ней, онъ чувствовалъ себя нерѣшительнымъ, хотя онъ въ эту минуту искренно высказывалъ свою радость о разрывѣ ея съ мужемъ.
Въ отношеніи же къ ней въ головѣ его мелькнула та мысль, пришедшая утромъ и подтвержденная Серпуховскимъ-Машкинымъ, что лучше было не связывать свою жизнь съ нею. Анна тотчасъ же увидѣла, что по отношенію къ ней у него была нерѣшительность; она чувствовала, что у него была о ней та мысль, которая пришла ему утромъ и которую онъ не можетъ ей высказать.
— Ты видишь, что это за человѣкъ, — сказала она, протягивая руку къ письму и сверкнувъ на него оскорбленнымъ взглядомъ.
— Прости меня, но я радуюсь этому, — сказалъ Вронскій, опять улыбаясь. — Ради Бога, дай мнѣ договорить, — прибавилъ онъ, умоляя ее взглядомъ дать ему время объяснить свои слова. — Я радуюсь потому, что это не можетъ, никакъ не можетъ оставаться такъ, какъ онъ предполагаетъ.
— Почему же не можетъ? — какъ бы испытывая, проговорила Анна, сдерживая дыханье.
(обратно)1186
Зачеркнуто: для которой я отдалъ жизнь и не беру и не возьму ее назадъ,
(обратно)1187
Зач.: съ такимъ искреннимъ, сильнымъ жестомъ, что Анна, какъ бы отдохнувъ отъ страха ожиданія, успокоительно вздохнула, и она улыбнулась.
(обратно)1188
Зач.: что я буду съ нимъ въ одномъ домѣ? Онъ не существуетъ для меня.
(обратно)1189
Зачеркнуто: стыда
(обратно)1190
Зач.: чтобы жить въ домѣ мужа.... и, обманывая его, тайно видѣться съ любовникомъ... Не знать его жизни, не принимать въ ней участія, а пользоваться минутами свиданья, какъ эти женщины.
— Анна, что я сдѣлалъ? За что ты меня наказываешь? Этаго не должно быть....
— Не должно быть, — продолжала она, не глядя на него, — такъ что же будетъ? Быть выгнанной изъ дома мужа и быть признанной любовницей. Тутъ ничего нѣтъ унизи... — Она зарыдала и встала, чтобы уйти куда нибудь...
— Анна, ради Бога. — Что же, что же дѣлать! — вскрикнулъ онъ, вскакивая, отчаяннымъ жестомъ закрывая лицо руками.
Она остановилась, подошла къ нему и отвела его руки.
— Мнѣ жалко тебя. Ты не виноватъ, но мнѣ больно. Я такъ измучилась эти дни. И эта мысль вернуться къ нему во вторникъ!
— Зачѣмъ? <этаго не будетъ. Завтра все, все рѣшится>. Зачѣмъ? надо уѣхать нынче. Сейчасъ. Да, — говорилъ онъ.
Лицо его выражало такое страданіе, что ей жалко стало его. Притомъ она выплакала уже свое горе, она высказала свой стыдъ и перестала думать о себѣ.
— Нѣтъ, нѣтъ, я спокойна. Нынче, сейчасъ ничего не рѣшится и не можетъ рѣшиться ничего. Во вторникъ я поѣду и напишу тебѣ. Не противорѣчь. Это рѣшено, и это будетъ.
— Но разводъ возможенъ?
— Это послѣ, но теперь...
Изъ столовой слышались слова подходившихъ гостей. Анна остановилась.
— Я ѣду во вторникъ и напишу тебѣ и не перемѣню своего рѣшенія.
(обратно)1191
Зач.: Но это слово переполнило
(обратно)1192
Зачеркнуто: Я сама переговорю съ нимъ, потребую развода и завтра скажу тебѣ. Завтра, какъ обыкновенно.
(обратно)1193
Зач.: какъ свѣтлая точка,
(обратно)1194
Зач.: сдѣлалъ одно, чего онъ такъ давно такъ желалъ, онъ
(обратно)1195
[делать чистку,]
(обратно)1196
Зачеркнуто: строгъ и
(обратно)1197
Зач.: Даже и послѣ этаго Вронскій бывалъ еще долго строгъ и мало разговорчивъ.
(обратно)1198
Зач.: лицомъ.
(обратно)1199
Зач.: Вронской <сидѣлъ въ своей чухонской избѣ подлѣ стола> вышелъ изъ своей квартиры, оставивъ на столѣ два письма — одно брату, другое матери и одно въ канцелярію, чтобы ему прислали прошеніе объ отпускѣ, и подъ столомъ цѣлую кучу надорванныхъ записокъ и счетовъ. Въ карманѣ же у него были отобранныя записки Анны и вновь написанное ей письмо, просящее о свиданіи нынче, которое онъ намѣревался послать изъ <артели> конюшень.
(обратно)1200
Зачеркнуто: когда ему прибѣжали сказать, что его спрашиваетъ, князь Васильковъ.
(обратно)1201
Зач.: Но <правда> въ послѣднее время отношенія къ Аннѣ ставили такія вопросы, о которыхъ ничего не было сказано въ этомъ кодексѣ но Вронскій <чувствовалъ это, и это тревожило его> задумывался надъ этими вопросами. Отношенія къ мужу были для него совершенно ясны и просты.
(обратно)1202
Зач.: кажущихся частью
(обратно)1203
Зач.: частью высокихъ, но одинаково
(обратно)1204
Зачеркнуто: и въ кодексѣ этомъ были правила, которыя опредѣляли его отношенiя къ ея мужу и отчасти къ ней.
(обратно)1205
Зач.: рѣшительно не зналъ какъ должно, что будетъ хорошо и что будетъ дурно. Но, не зная этаго, онъ и не думалъ объ этомъ.
(обратно)1206
Зач.: ни минуты не колеблясь,
(обратно)1207
Зачеркнуто: и брата
(обратно)1208
Зач.: хотя не половина, но третья часть доходовъ съ отцовскаго имѣнья.
(обратно)1209
Зач.: чтобы чувствовать себя готовымъ на все.
(обратно)1210
Зач.: <несовсѣмъ благополучно> блестяще. <Солдатъ полка былъ> Полкъ произвелъ блестящую атаку въ виду Государя. Солдатъ
(обратно)1211
Зачеркнуто: Кромѣ того, въ этотъ самый день пришелся праздникъ полка. Всю ночь весь полкъ: солдаты и офицеры гуляли вокругъ громадныхъ костровъ съ смоляными бочками, стоившихъ сотни рублей. Всѣ пили и
(обратно)1212
Зач.: и смѣха
(обратно)1213
Зачеркнуто: — Плясовую! въ мага[зинѣ]
(обратно)1214
Зачеркнуто: прочесть, поиграть
(обратно)1215
[Пожалуйста.]
(обратно)1216
Зачеркнуто: Что будетъ, то б[удетъ]
(обратно)1217
[Делай что должно, и будь что будет].
(обратно)1218
На этом слове обрывается рукопись.
(обратно)1219
Зачеркнуто: Она вспыхнула.
(обратно)1220
Зач.: волненіе ея сообщилось ему.
(обратно)1221
Зач.: Лакей принесъ на козлахъ чай. Анна сердито остановилась. — Благодарствуйте, очень хорошо, — говорила она.
(обратно)1222
На полях приписано: Иначе мы не поднимемъ общаго богатства края, общаго блага.
(обратно)1223
Зач.: въ голову
(обратно)1224
Зачеркнуто: помѣщикъ, указывая на Левина и на другого.
(обратно)1225
Зач.: <презрительно> устало улыбался глазами, но Левинъ чувствовалъ, что, несмотря на отвратительныя свои мѣры поронья крестьянъ черезъ старшину, желчный помѣщикъ не неправъ и очень не глупый, даже умный человѣкъ, несмотря на свой истертый сюртукъ.
(обратно)1226
Зачеркнуто: Передъ вечеромъ Левинъ вышелъ взглянуть на привезенные изъ города балки на постройку. Былъ 4-й часъ, но
(обратно)1227
Зач.: Было 4 часа, но, казалось, смеркалось. Такъ густо нависалъ туманъ, переходившій въ капли дождя.
(обратно)1228
Зачеркнуто: и даже два раза повторяла это, видимо настоявъ у писца, чтобы онъ помѣстилъ эту фразу, она писала
(обратно)1229
Зач.: къ удивленію и даже страху своему, онъ перечелъ написанное и, въ особенности вспомнивъ все имъ сдѣланное, почувствовалъ совершенное равнодушіе къ этому дѣлу. Изъ впечатлѣній, полученныхъ имъ сейчасъ, одно особенно преслѣдовало его. Когда онъ увидалъ обмываемое женщинами раздѣтое вонючее тѣло старика, онъ перекрестился: «что это такое я сдѣлалъ? Зачѣмъ, зачѣмъ меня звалъ этотъ старикъ? Гдѣ онъ? Что сдѣлалось съ Помчишкой? Чего я испугался? Если бы я зналъ, что надо подумать, когда я вижу мертваго человѣка. А я не знаю, совсѣмъ не знаю». Онъ не могъ заниматься нынче
(обратно)1230
Зач.: Ѣхали бы в Москву.
(обратно)1231
Зач.: А я говорю: себѣ мѣсто готовитъ. Что вамъ
(обратно)1232
Зачеркнуто: онъ съ охотой только на печи лежать, да водку пить.
(обратно)1233
Зач.: обсыпалась
(обратно)1234
Зачеркнуто: подлая
(обратно)1235
Зач.: Не стечка ли?
(обратно)1236
Зачеркнуто: Вѣдь я пропаду.
(обратно)1237
Зач.: сказала она. — Я рада, что Помчишку убили.
(обратно)1238
[пренебрежение]
(обратно)1239
Зачеркнуто: съ разводомъ въ рукахъ
(обратно)1240
Зачеркнуто: предпринять что нибудь
(обратно)1241
На полях на первой странице написано:
[1] <Въ Римѣ. Больная, которой нужно больше кислорода. Ей совѣстно глядѣть. Онъ ругаетъ Римъ, художниковъ.> И назадъ.
[2] Алексѣй Александровичъ поѣхалъ въ Москву. Въ Москвѣ былъ дворъ. Были балы, пріемы. Въ первый день окончанія пріемовъ Алексѣй Александровичъ поѣхалъ къ духовнику, оттуда къ Долли обѣдать, оттуда къ адвокату.
[3] <На 3-й день послѣ пріѣзда Алексѣя Александровича въ Москву Степанъ Аркадьичъ вошелъ къ нему въ нумеръ. «Я отъ Пал<кина>».
(обратно)1242
Зачеркнуто: впередъ
(обратно)1243
Зач.: Богъ накажетъ
(обратно)1244
Зач.: Съ этой цѣлью, окончивъ объѣздъ губерній,
(обратно)1245
Зач.: отстоявъ обѣдню въ <Симоновомъ> Чудовомъ монастырѣ и приложившись къ мощамъ,
(обратно)1246
Рядом на полях написано: Собачья сватьба. Женщина, дѣвушка. Мужъ [1 неразобр.] пьяный.
(обратно)1247
Зачеркнуто: трудовая, степенная
(обратно)1248
Рядом на полях написано: Calme [спокойный], насмѣшливость надъ собою.
(обратно)1249
Рядом и ниже на полях написано: [1] Она обрадовалась и повела съ гордостью показывать дѣтей. Ему все больнѣе и больнѣе. [2] Какъ на вѣшалкѣ платье. Костлявые пальцы.
(обратно)1250
Зачеркнуто: — Я не ждала васъ утромъ
(обратно)1251
Зач.: свѣтъ, это благородство и чистота
(обратно)1252
В подлиннике: ушла
(обратно)1253
[не вынудила бы ее решение;]
(обратно)1254
В подлиннике: а сказала правда.
(обратно)1255
Зачеркнуто: она не рожала
(обратно)1256
Рядом на полях написано: <— Для дѣтей! все для дѣтей! — вскрикнула она.>
(обратно)1257
Ниже на полях написано: [1] Студентъ племянникъ [2] За обѣдомъ рѣшилъ изъ словъ Степана Аркадьича дуэль [3] Красавица пріѣзжаетъ. «Ну что?» Подъ тайной разсказываетъ, онъ будетъ.
(обратно)1258
[хорошему настроению,]
(обратно)1259
Зачеркнуто: Гагина
(обратно)1260
Зач. Равскій
(обратно)1261
Против этого абзаца написано: Она до слезъ краснѣетъ, встрѣтивъ его.
(обратно)1262
[живость]
(обратно)1263
Рядом с текстом последних двадцати строк на полях написано:
[1] Анненковъ и Юрьевъ о правахъ женщинъ. [2] Не права, а обязанности. Мужчины требуютъ правъ кормилицы. [3] Степанъ Аркадьичъ на сторонѣ, правъ женщинъ. Сейчасъ видно будетъ, на чьей онъ сторонѣ. Неизвѣстно какое химическое тѣло, но основаніе или кислота.
(обратно)1264
Рядом на полях написано: [1] <Гастрономъ Безобразовъ только думалъ о томъ, чтобъ найти le mоt pour rire [веселое словцо], a онъ въ кори ходилъ за дѣтьми>. [2] А ухаживалъ за дѣтьми въ кори.
(обратно)1265
Зачеркнуто: доброе
(обратно)1266
Зачеркнуто: Алексѣй Александровичъ не слушалъ больше. Изъ всего разговора онъ понялъ одно, что Степанъ Аркадьичъ правъ, и онъ покраснѣлъ, какъ ребенокъ, и рѣшилъ, что одно, что ему остается послѣ того, какъ ни законъ, ни религія, ни сужденія общія не дали ему и тѣни помощи, что онъ страдаетъ отъ того, что не употребилъ перваго простѣйшаго лекарства. Но онъ не разсуждалъ, онъ послѣ словъ Степана Аркадьича чувствовалъ, что ему стыдно, чувствовалъ въ первый разъ, [что] оскорбленіе, позоръ прибавились къ прежнему его страд[анію] — сыну, ревности, чувству несправедливости, и это чувство было каплей, переполнившей чашу. Онъ мрачно простился и уѣхалъ, рѣшившись сейчасъ, какъ пріѣдетъ, написать картель.
— Что съ нимъ сдѣлалось? — сказалъ Степанъ Аркадьичъ про Алексѣя Александровича.
Всю дорогу Алексѣй Александровичъ обдѵмывалъ картель и твердо рѣшилъ написать его, когда онъ вошелъ въ свой нумеръ.
(обратно)1267
Зачеркнуто: Но мысль о томъ, чтобы поговорить съ Дарьей Александровной, была пріятна ему. До сихъ поръ онъ никому, кромѣ адвоката, смотрящему професіонально на дѣло, не открывалъ своего намѣренія, и его тянуло говорить объ этомъ и слышать мнѣнія другихъ людей. Дарья Александровна, сама несчастная и добрая, милая, большой другъ съ Анной Аркадьевной, была лучшая довѣренная. И ему страшно и утѣшительно казалось открыть ей все и узнать ея мнѣніе.
(обратно)1268
Зач.: Мозамбикски
(обратно)1269
Зачеркнуто: овса или
(обратно)1270
Зач.: и ждете, пока ихъ будетъ до[статочно?]
(обратно)1271
Зач.: орудія,
(обратно)1272
Зач.: поднялъ его
(обратно)1273
Зачеркнуто: Тотчасъ, какъ разговоръ установился на эту тему, такъ совсѣмъ иначе, чѣмъ въ прежнемъ разговорѣ, подраздѣлились мнѣнія. Константинъ Левинъ вовсе не интересовался этимъ вопросомъ, такъ какъ онъ считалъ его одной изъ тѣхъ безсмыслицъ, которыя, какъ вертящіеся столы, встреваютъ, какъ пузыри, на поверхности общества, и потому спокойно слушалъ, наблюдая остальныхъ. Хотя говорили еще только двое, онъ уже ясно видѣлъ, кто будетъ на какой сторонѣ. Какъ Лакмусова бумага, окрашиваясь въ синее или розовое, не говоритъ, какое именно это тѣло, но говоритъ, что кислоты, что основаніе, такъ и вопросъ этотъ, не показывая еще всѣхъ подробностей мыслей каждого, уже рѣзко подраздѣлялъ всѣ характеры умовъ. Алексѣй Александровичъ, Старый Князь, Сергѣй Левинъ были на одной сторонѣ. Юркинъ, Степанъ Аркадьичъ, Долли, Кити были на другой, но всѣ по разнымъ жизненнымъ причинамъ брали ту или другую сторону.
(обратно)1274
[твердо]
(обратно)1275
[прежнего положения вещей,]
(обратно)1276
Зачеркнуто: директора
(обратно)1277
Зачеркнуто: — Исполненіе каждой обязанности, — продолжалъ Сергѣй Левинъ, — требуетъ труда, знанія.
— Женщины ищутъ этаго труда и обязанностей и сопряженныхъ съ ними правъ.
(обратно)1278
Зач.: но которое, также какъ и первое, было оцѣнено только Кити, другимъ же опять показалось неловко. Онъ сказалъ, что, по его мнѣнію, есть обязанности, къ которымъ особенно свойственны женщины, и такія, къ которымъ особенно свойственны мущины. Выводить, выкармливать и воспитывать маленьких дѣтей — дѣло женщинъ, воевать, служить, пахать, плавать и т. д. — дѣло мужское.
(обратно)1279
Зачеркнуто: Сергѣй Левинъ продолжалъ развивать мысль брата.
(обратно)1280
Зачеркнуто: — Это, я думаю, будетъ труднѣе даже, чѣмъ классическая система образованія, — съ усмѣшкой сказалъ Сергѣй Левинъ. — Это комитеты не выдумаютъ.
(обратно)1281
Зач.: — Но что же долженъ дѣлать мужъ, — сказалъ Левинъ, — въ отношеніи котораго жена заявила это право?
— Ничего, покориться.
— Да, но вѣдь это не отвѣтъ.
Сергѣй Левинъ, очевидно, забавлялся Юркинымъ.
— Ну а какимъ же образомъ вы устраните столкновенія тѣхъ людей, которые изберутъ одну женщину? На вопросъ, когда спрашиваютъ, что долженъ дѣлать мужъ, которому измѣнила жена, то подразумѣвается, что мужъ этотъ есть человѣкъ, т. е. любящій жену, ревнующій и вообще въ эту минуту находящійся въ разгарѣ сильнѣйшаго чувства, а вы мнѣ отвѣчаете: покориться, т. е. отрицать существованіе этого чувства. Какъ если бы я спросилъ, что дѣлать, когда <я вижу, что бьютъ моего отца или ребенка, вы говорите покориться> домъ горитъ, а вы бы сказали: обѣдать.
Алексѣй Александровичъ остановился у двери, разговаривая съ Княземъ, и слушалъ то, что говорили.
(обратно)1282
Зачеркнуто: и тоже вступилъ въ разговоръ. Алексѣй Александровичъ прищуривъ глаза, отвернулся и медленно пошелъ въ гостиную.
— Ну, а какъ же, когда женщина измѣнитъ мужу? — сказалъ Туровцинъ.
(обратно)1283
Зач.: Но Алексѣй Александровичъ не уходилъ и слушалъ внимательно.
(обратно)1284
Зач.: — Больше дѣлать нечего, — отвѣчалъ Юркинъ.
— Нопотомъ, по самой природѣ вещей, — продолжалъ Сергѣй Левинъ, — мущина, ошибившись разъ, имѣетъ привлекательность для женщинъ.
(обратно)1285
Зач.: Чтобы прекратить разговоръ, Степанъ Аркадьичъ обратился шутя къ Туровцину, который стоялъ подлѣ нихъ улыбаясь.
— А вы какъ думаете объ этомъ предметѣ?
(обратно)1286
Зач.: Равскій. Алексѣй Александровичъ думалъ, что хотя вопросъ о увеличеніи народонаселенія и не идетъ къ дѣлу, но онъ думалъ, что онъ скажетъ, что
(обратно)1287
Зач.: Но Равскій и на то закричалъ:
— Позвольте!
Онъ началъ приводить статистическіе данные о томъ, что въ Магометанствѣ и другихъ многоженствующихъ народахъ населеніе увеличивается больше, чѣмъ у Христіанъ. Однако въ серединѣ своего разговора
(обратно)1288
Зач.: — Да вы держитесь этаго предразсудка, — улыбаясь сказалъ Сергѣй Левинъ, — но для чего вы бы это сдѣлали?
— А потому что
(обратно)1289
Зачеркнуто: — Ну, это слишкомъ.
(обратно)1290
Зачеркнуто: блестящими
(обратно)1291
Зачеркнуто: Онъ былъ счастливъ, но
(обратно)1292
Зач.: подробно объяснилъ ему свои обстоятельства и спросилъ его мнѣніе.
(обратно)1293
Так в подлиннике.
(обратно)1294
Зачеркнуто: «Не намъ, а имени твоему, спасеніе мое», думалъ Алексѣй Александровичъ
(обратно)1295
Зач.: Что правда?
(обратно)1296
Зач.: И потомъ онъ вѣрилъ, что она умираетъ. Онъ теперь вспомнилъ, что
(обратно)1297
Зач.: Прежде онъ отгонялъ отъ себя эту мысль.
(обратно)1298
Зач.: Боже мой, если ты взялъ меня въ свою руку, руководи мной», подумалъ Алексѣй Александровичъ.
(обратно)1299
Зачеркнуто: проститъ и
(обратно)1300
Зач.: все хорошо,
(обратно)1301
Зач.: никогда
(обратно)1302
На полях написано: [1] Ордынцевъ дѣлаетъ предложеніе, сборы сватьбы. [2] Она лежитъ ужасна, глаза закатились, и страхъ. [3] Раздраженіе нервное. Скоро говоритъ. Его. [4] Онъ подъѣзжаетъ и думаетъ: обманъ. «Родила?» «Родила». Она говоритъ.
(обратно)1303
Зачеркнуто: Выѣзжая изъ дома,
(обратно)1304
Зачеркнуто: вспомнила
(обратно)1305
Зач.: — Нѣтъ,
(обратно)1306
Зач.: боялся думать,
(обратно)1307
Зачеркнуто: явленія
(обратно)1308
Зач.: деньги
(обратно)1309
Зач.: быстро
(обратно)1310
Зач.: и выстрѣлилъ
(обратно)1311
Зач.: проводила у него цѣлые дни съ своей работой и много помогала его нравственному выздоровленію. Въ первый же день она пріѣхала къ нему и вмѣстѣ съ докторомъ устроила его на постели, выслушала отъ доктора всѣ наставленія, и, разложивъ корпію, бинты и примочки, сѣла съ работой подлѣ него.
(обратно)1312
Зач.: и на Лизу, жену [в подлиннике описка: сестру] брата, которую онъ всегда любилъ.
Лиза была одна изъ тѣхъ свѣтскихъ женщинъ, которыя
(обратно)1313
На полях написано: [1 неразобр.] браки есть счастливые, но не мой.
(обратно)1314
На полях написано: [1] <Бетси пріѣхала, лакей въ пелеринкѣ медвѣжьей. — Vous avez agi en homme de coeur. [Вы поступили как добрый человек], и Степанъ Аркадьичъ тутъ.> [2] <Анна не переноситъ его>.
(обратно)1315
Зачеркнуто: было
(обратно)1316
Зач.: другое Божество
(обратно)1317
Зач.: которое требовало
(обратно)1318
Зач.: это Божество требовало
(обратно)1319
Зач.: рѣшительнаго, враждебнаго и такого, который бы обеспечилъ его внѣшнюю честь.
(обратно)1320
Зачеркнуто: зналъ, что онъ тутъ безпрестанно узнаетъ, что Бетси пріѣзжаетъ для него, что сама Анна имѣетъ о немъ извѣстія черезъ Бетси. Анна кормила <его ребенка> новорожденную дѣвочку.
(обратно)1321
Зач.: жалкую
(обратно)1322
Зач.: и прошелъ прямо въ гостиную. Бетси сидѣла въ кабинетѣ жены, и онъ слышалъ ихъ взволнованные голоса, слышалъ слова: «онъ не можетъ...», сказанныя ею. Онъ не вошелъ къ нимъ, а прошелъ въ маленькую дверь, въ коридоръ и дѣтскую. Миша рисовалъ и вскочилъ поздороваться съ отцомъ. Няня Т. В. поднялась съ Варей ему навстрѣчу. Онъ поздоровался.
— Что съ ней? — спросилъ онъ.
— Да 2-й день хвораютъ. Ни доктора не было, ни мать не заботилась.
Онъ хотѣлъ сказать и замолкъ. Няня тоже открыла ротъ.
— Что, няня?
И онъ вздохнулъ и отвернулся.
— Б[огу] м[олитесь], [сударь], Б[огу] м[олитесь].
Онъ, едва удерживая слезы, вышелъ и, проходя черезъ гостиную, услыхалъ еще голосъ Степана Аркадьича (онъ уже 3 дня былъ въ Петербургѣ). Онъ зашелъ къ нимъ, и они всѣ спокойно поговорили о пріѣздѣ Персидского посла. Алексѣй Александровичъ пошелъ къ себѣ.
(обратно)1323
Зачеркнуто: гулять нынче
(обратно)1324
Зачеркнуто: почти всегда
(обратно)1325
Зач.: взяла ея руку.
— Ахъ, оставьте меня! Ахъ, зачѣмъ я не умерла!
И она, <рыдая>, встала и выбѣжала почти <изъ комнаты> зa перегородку, но не успѣла удержать рыданій, и они слышали, какъ она, рыдая, упала на постель. Алексѣй Александровичъ стоялъ посереди комнаты, опустивъ голову. Бетси пошла за Анной. Черезъ 15 минутъ Бетси вышла изъ спальни.
— Она немного успокоилась, — сказала она.
(обратно)1326
Зачеркнуто: о всей низости
(обратно)1327
Зач.: вышла къ нему
(обратно)1328
Зач.: начатую фразу
(обратно)1329
Зачеркнуто: Онъ помолчалъ.
(обратно)1330
Зач.: но какъ бы было все хорошо, если бы я умерла.
(обратно)1331
Зач.: Онъ сѣлъ за столъ и хотѣлъ писать, но пришелъ ‹поваръ› дворецкій объ обѣдѣ и упомянулъ о бургонскомъ, которое нужно было для Степана Аркадьича. Алексѣй Александровичъ далъ денегъ и сѣлъ писать письмо. Онъ хотѣлъ написать ей, что считаетъ невозможнымъ такую жизнь и уѣзжаетъ. Но куда? Съ сыномъ или одинъ? И хорошо ли бросить ее? Онъ вспомнилъ слова няни и сталъ молиться Богу.
(обратно)1332
Зачеркнуто: молитву Господню
(обратно)1333
Зач.: <«Есть предѣлы терпѣнію»> «Повѣрь»
(обратно)1334
Зачеркнуто: сіяя красотой и свѣжестью,
(обратно)1335
Зач.: Тутъ могутъ быть два альтернатива.
(обратно)1336
Зачеркнуто: Не говоря о значеніи таинства брака, о внутреннемъ отвращеніи, которое испытывалъ при мысли о 2-мъ бракѣ для нея, о униженіи своемъ, слова Долли, его жены, что не слѣдуетъ ему бросить жену, что она погибнетъ, не выходили у него изъ сердца. Мужъ не понравился, она возьметъ другаго мужа, а другой мужъ не понравится...
(обратно)1337
Зачеркнуто: — Я не дамъ сына, — вскрикнулъ Алексѣй Александровичъ.
(обратно)1338
Зач.: «Господи, помоги мнѣ, — подумалъ онъ, вспоминая слова В[ари], — и правда одно: христіанское прощеніе, которое дало мнѣ силы перенести, — первое и теперь одно можетъ помочь мнѣ. Да, вотъ оно испытаніе, — думалъ онъ, въ то время какъ Степанъ Аркадьичъ говорилъ ему о подробностяхъ процедуры развода, подробностяхъ, которыя онъ зналъ. — Да, испытаніе вѣры. Да будетъ воля твоя!».
(обратно)1339
Зач.: (это лѣвая щека)
(обратно)1340
Зач.: (это была рубашка)
(обратно)1341
Зачеркнуто: было ему со мной? Дѣлай, что хочешь, я перенесу все, все.
(обратно)1342
Зач.: Между тѣмъ въ маленькомъ кабинетѣ о томъ же самомъ говорили между собою Удашевъ и Анна.
Анна, блѣдная и съ дрожащей челюстью, смотрѣла на ходящаго передъ нею Удашева и говорила:
— Я знаю, что это было нужно, я знаю, что я хотѣла этаго, но все таки это ужасно. И я объ одномъ умоляю тебя, сдѣлай, чтобъ я никогда не видала его послѣ этаго. Я теперь знаю, что онъ сдѣлаетъ. Онъ все сдѣлаетъ, но я ужъ не могу ненавидѣть его, я жалѣю, я понимаю всю высоту его души, всѣ его страданія.
— Скажи, что ты любишь его.
— Алексѣй, это жестоко, то, что ты говоришь. Ты знаешь, что ты овладѣлъ.
(обратно)1343
Зач.: Черезъ недѣлю Алексѣй Александровичъ переѣхалъ на другую квартиру.
(обратно)1344
Зачеркнуто: ахъ Боже мой, зачѣмъ я не умерла, — и рыданія прервали ея голосъ.
(обратно)1345
Зач.: ты сама хотѣла этаго. Для него легче.
(обратно)1346
Зач.: — Я только говорю, зачѣмъ я не умерла.
(обратно)1347
Зач.: успокоилась въ его близости
(обратно)1348
Зач.: безсознательно
(обратно)1349
Зач.: безконечно радостнымъ
(обратно)1350
Зачеркнуто: задумчиво, и какъ надежда и раскаяніе
(обратно)1351
Зач.: — Онъ не отдастъ мнѣ Мишу, — сказала она, — и не должно брать.
(обратно)1352
Зач.: само собой
(обратно)1353
Зачеркнуто: единственнаго
(обратно)1354
Зач.: Бога
(обратно)1355
Зач.: потерявшій
(обратно)1356
Зач.: любимое существо
(обратно)1357
Рядом и ниже на полях написано: [1] Стальныя стали формы жизни. [2] Свѣча потухаетъ, читая книгу. [3] Воспоминаніе, какъ плакалъ Саша, разлучаясь съ матерью.
(обратно)1358
Зачеркнуто: и тутъ же сказалъ ему, что мама прислала ему подарки.
(обратно)1359
Так в подлиннике.
(обратно)1360
[— Замолчите, злой язык,]
(обратно)1361
Зачеркнуто: Она была у меня.
(обратно)1362
На полях написано: [1] Театръ, блескъ, афронтъ. [2] Она чувствуетъ, что на нее смотрятъ не чисто.
(обратно)1363
[свояченица.]
(обратно)1364
[предвидеть.]
(обратно)1365
[флюгер]
(обратно)1366
[Доброй ночи,]
(обратно)1367
[Сударь, моя жена только-что поклонилась вам.]
(обратно)1368
Здесь и ниже на полях написано: [1] Ребенокъ умираетъ, измученный докторами.
[2] Смерть не такъ бы подѣйствовала, еслибы не на больное мѣсто.
[3] Роды Кити.
[4] Умираетъ ребенокъ. Не причемъ жить.
(обратно)1369
Здесь и ниже на полях написано:
[1] Свѣтъ мнѣ все равно, свѣтъ послѣднее дѣло; но если бъ свѣтъ принялъ, еще хуже. Такъ ей было у Голицыныхъ. Дѣти потеряны. Уваженіе къ себѣ потеряно. «
[2] Дарья Александровна учитъ, пуговица.
[3] Вронскій съ Кити говоритъ и съ М. H., дочерью.
[4] Разговоръ умныхъ людей съ Левинымъ, и Левинъ спокоенъ, и Степанъ Аркадьичъ ужъ не можетъ жить умственной жизнью. Семья Левина.
(обратно)1370
Зачеркнуто: пьянство
(обратно)1371
[и высказать ей всю правду,]
(обратно)1372
Зачеркнуто: пала
(обратно)1373
Рядом на полях написано: [1] На дачѣ мать. [2] Кокетничаетъ съ Грабе. Онъ холоденъ.
(обратно)1374
Рядом на полях написано: Да, надо уѣхать, уѣхать, уѣхать, чтобы онъ не засталъ меня. Дорогой спрашиваетъ: куда? — Некуда, и одиночество ужасаетъ ее. И вернуться нельзя.
(обратно)1375
Зачеркнуто: Петербургъ
(обратно)1376
Зачеркнуто: Сватовство
(обратно)1377
Зач.: Степанъ Аркадьичъ руководилъ Левина во всемъ, что онъ долженъ былъ дѣлать, и Левинъ съ тѣмъ, все продолжающимся, страннымъ сумашествіемъ
(обратно)1378
Зачеркнуто: и не говѣлъ
(обратно)1379
Зач.: найти законность и смыслъ
(обратно)1380
Зач.: вѣрить въ то, что онъ дѣлалъ.
(обратно)1381
Зач.: и умиленія
(обратно)1382
Зач.: прослушалъ
(обратно)1383
Зач.: и оставался въ нерѣшительности
(обратно)1384
Зач.: только
(обратно)1385
Так в подлиннике.
(обратно)1386
Зачеркнуто: съ чувствомъ облегченія
(обратно)1387
Зач.: старой
(обратно)1388
Зачеркнуто: Безбожники не могутъ понять міра.
(обратно)1389
Зач.: ему
(обратно)1390
Зач.: сію землю, всю красоту и лѣпоту
(обратно)1391
Зач.: кроткимъ
(обратно)1392
Взятое в квадратные скобки воспроизводится по копии не дошедшего до нас начала автографа, по которому печатается данный вариант.
(обратно)1393
Зачеркнуто: покашливалъ
(обратно)1394
Зач.: громко
(обратно)1395
Зач.: посмот[рѣть]
(обратно)1396
Зач.: Броннымъ
(обратно)1397
На полях против этого места написано и подчеркнуто: С. И. обѣдаетъ.
(обратно)1398
[с досады]
(обратно)1399
Зачеркнуто: подумаемъ
(обратно)1400
Зач.: таинство
(обратно)1401
Зачеркнуто: мучительно
(обратно)1402
Зач.: стоя прямо и глядя передъ собой, думалъ такъ: «Буду слушать службу, буду по своему думать о важности этой для насъ минуты. Такъ какъ мнѣ ничего
(обратно)1403
Зач.: съ тѣмъ же <испуганнымъ> робкимъ
(обратно)1404
Зач.: молодая
(обратно)1405
Зач.: — Благословенъ Богъ нашъ, всегда [,нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ], — провозгласилъ священникъ.
(обратно)1406
Зач.: равнодушно
(обратно)1407
Зач.: Льв[ѣ]
(обратно)1408
Зач.: я все думалъ
(обратно)1409
Зачеркнуто: повѣрилъ
(обратно)1410
Зач.: высокое
(обратно)1411
Зач.: усиленной мольбы о помощи
(обратно)1412
Зач.: ужаса
(обратно)1413
Взятое в квадратные скобки извлечено из копии данной рукописи.
(обратно)1414
Зачеркнуто: наполняло его душу
(обратно)1415
Зачеркнуто: дамы и ба[рышни]
(обратно)1416
Зач.: въ первый разъ
(обратно)1417
Зачеркнуто: я все дѣло испортилъ
(обратно)1418
Зач.: которая вся необыкновенно
(обратно)1419
Зачеркнуто: головой
(обратно)1420
Зач.: Она была все также прелестна какъ прежде, но она была его.
(обратно)1421
Зач.: мигнувъ,
(обратно)1422
Зач.: ее концами губъ
(обратно)1423
Зачеркнуто: начиналъ понимать, что, кромѣ хорошей или дурной партіи, которую дѣлаетъ этимъ бракомъ коллежскій ассесоръ Левинъ и дочь тайнаго совѣтника Шербацкаго, кромѣ того, что онъ влюбленъ въ нее и она любитъ его, тутъ есть другое, гораздо болѣе важное и общее таинственное, чего онъ не понималъ до сихъ поръ; она же не понимала и не думала ничего этого: она знала только то, что она уже два мѣсяца какъ вся отдалась и не могла не отдаться этому человѣку и что то, что теперь только освящаетъ, разрѣшаетъ это полное отданіе себя другому, и потому она радовалась тому, что совершалось надъ нею, и потому, читая въ выраженіи ея лица, ему казалось, что она понимаетъ все также, еще лучше, чѣмъ онъ.
(обратно)1424
Зачеркнуто: съ большимъ участіемъ, въ которомъ онъ не могъ дать себѣ хорошенько отчета,
(обратно)1425
Зачеркнуто: <14> 12
(обратно)1426
Зачеркнуто: Саратовской
(обратно)1427
Зач.: Ему весело было
(обратно)1428
[средние века,]
(обратно)1429
Зачеркнуто: пить чай или
(обратно)1430
[мастерской]
(обратно)1431
Зачеркнуто: Вотъ это безъ идей.
(обратно)1432
Зачеркнуто: тѣмъ больше боялась за потерю его любви, которая, она чувствовала, одна оставалась. У ней не было теперь въ жизни ничего, кромѣ его любви. Она чувствовала это. Она чувствовала, что была рабой его, но знала, что опасно было показывать ему это. Онъ былъ также любовенъ, почтителенъ къ ней, какъ и прежде, даже болѣе, чѣмъ прежде. Она видѣла что
(обратно)1433
Зач.: Она видѣла, что онъ разъ навсегда рѣшилъ, что ея воля будетъ для него закономъ и что онъ весь отдался ей; она знала, что поэтому ссоръ и столкновеній между ними не можетъ быть и дѣйствительно не бывало, но она чувствовала, что между ними не все открыто, и потому и ей не нужно открывать ему то, что онъ былъ для нея теперь все въ мірѣ.
Она чувствовала, что ей достаточно одной его любви, для него этого мало; что для него, какъ для мущины, необходимъ особый отъ нея міръ, въ который бы могъ уходить и изъ котораго вновь къ ней возвращаться.
Сначала она ужаснулась, подумавъ, что это было прельщеніе, но такъ какъ она видѣла въ немъ теперь одно прекрасное и возвышенное, она рѣшила, что эта только потребность служила дѣятельности, и, чтобы устроить эту дѣятельность такою, которая бы не могла нарушить ихъ счастіе, она напрягла всѣ свои душевныя силы и этимъ содѣйствовала пристрастію къ живописи.
(обратно)1434
Зачеркнуто: и краснѣлъ.
(обратно)1435
Зач.: свое желаніе унизительное — рабою любить его.
(обратно)1436
Зач.: передъ нимъ. Смутное чувство сознанія того, что это надо,
(обратно)1437
Рядом с первыми двумя абзацами на полях написано. [1] Л[евины] — медовый мѣсяцъ. Онъ занимается, она сидитъ, и они думаютъ, что это настоящая жизнь. Извѣстіе о Николаѣ. Отъѣздъ. Она съ нимъ. [2] Другъ на друга глядятъ, какъ кончилось. Докторъ, беременна.
(обратно)1438
[английскую вышивку.]
(обратно)1439
Зачеркнуто: банки
(обратно)1440
Зачеркнуто: Послѣ тебя братъ или
(обратно)1441
Зач.: ее узнать.
(обратно)1442
Зачеркнуто: улыбаясь
(обратно)1443
Зачеркнуто: тревогу, подобную той, которая должна
(обратно)1444
На этом слове рукопись обрывается.
(обратно)1445
Зачеркнуто: всѣ тѣ, которые взяли на себя устройство его семейныхъ дѣлъ,
(обратно)1446
Зач.: потерянъ и испуганъ
(обратно)1447
Зач.: все это въ глазахъ другихъ была только безтактная помѣха жизни другихъ и что
(обратно)1448
Зачеркнуто: и которые только были безтактны и всѣмъ помѣшали.
(обратно)1449
Зач.: Одинъ разъ въ жизни отдавшись чувству и не зная мѣры чувства, онъ надѣлалъ такихъ вещей, которыхъ самъ понять не могъ и изъ которыхъ не видѣлъ никакого выхода. Онъ объяснялъ себѣ свои поступки тѣмъ, что
(обратно)1450
Зач.: и онъ желалъ только этаго
(обратно)1451
Зач.: онъ жалокъ, смѣшонъ и
(обратно)1452
Зач.: И люди не нужны были ему, и онъ былъ не нуженъ людямъ. Первые дни, послѣ разлуки съ женою, онъ, сказавшись больнымъ, оставался совершенно одинъ.
(обратно)1453
На этом слове рукопись обрывается.
(обратно)1454
Зачеркнуто: для сына онъ дѣлалъ все, что можно и должно для правильнаго воспитанія. Алексѣй Александровичъ никогда не занимался вопросами воспитанія, и поэтому онъ рѣшилъ, что надо себѣ составить планъ, прежде чѣмъ приступить къ дѣлу. Планъ же
(обратно)1455
Зачеркнуто: — Да, разумѣется,
(обратно)1456
Зач.: это преподаваніе несовмѣстно съ разумнымъ развитіемъ, что одно будетъ уничтожать другое.
(обратно)1457
Зач.: Разъ уже прервавъ молчаніе, педагогъ долго, не останавливаясь, говорилъ: онъ изложилъ всю современную теорію воспитанія. Разобралъ по ниточкамъ всю душу ребенка вообще и показалъ необходимость по психологіи, физіологiи, антропологіи, дидактикѣ и эвристикѣ, <что согласиться разрушать лѣвой рукой то, что онъ будетъ дѣлать правой, онъ считаетъ недобросовѣстнымъ, и, какъ ни выгодно предложеніе Алексѣя Александровича, онъ не можетъ согласиться вести научно и разумно воспитаніе и преподавать законъ Божій> вести разумное и современное воспитаніе, въ которомъ нравственно-религіозное развитіе не имѣло мѣста.
(обратно)1458
Зачеркнуто: хотя и по тѣмъ книгамъ, которыя онъ читалъ, предчувствовавшiй это,
(обратно)1459
В подлиннике: Евристикѣ
(обратно)1460
Зач.: <и его духовникъ.> Педагогъ сначала выразилъ невозможность такого дѣленія, но Алексѣй Александровичъ, воспользовавшись тѣмъ, почерпнутымъ изъ книгъ, знаніемъ составныхъ частей души ребенка, выразилъ мысль, что одни части души онъ предоставитъ для образованія педагогу, другія же самъ будетъ воздѣлывать. Педагогъ, сомнительно улыбнувшись, сказалъ, что можно попробовать
(обратно)1461
Зач.: надежды на жизнь и любви
(обратно)1462
Зач.: и любви
(обратно)1463
Зач.: но одинаково не любилъ ни того, ни другого и не впускалъ никого въ свою душу. Она была закрыта для нихъ и тѣмъ упорнѣе, чѣмъ яснѣе онъ чувствовалъ, что они имѣли противъ нее замыслы. Мать имѣла ключъ любви къ его душѣ, но ея не было. Теперь же только одна старая няня любила его, онъ это чувствовалъ, и только для нея одной раскрывалась его душа и воспитывалась ею.
(обратно)1464
Зачеркнуто: Отецъ часто говорилъ ему о смерти; онъ даже на вопросъ его, гдѣ его мать, отвѣчалъ ему, что она умерла для насъ. Это яснѣе всего доказало ему, что неправда все, что говорятъ о смерти. Няня сказала ему, что мама жива. «Такъ и про всѣхъ говорятъ, — думалъ онъ, — что они умрутъ, а никто не умираетъ».
Изъ всей Священной исторіи онъ болѣе всѣхъ любилъ Еноха, потому что про него было сказано, что онъ живой взятъ на небо.
(обратно)1465
Зач.: о предложеніи, о дробной величинѣ, объ адѣ,
(обратно)1466
Зачеркнуто: «Они все говорятъ не такъ. Они говорятъ, что про мама не надо говорить, стало быть она дурная по ихъ. А я ее одну люблю; стало быть, она одна хорошая». Такъ думалъ онъ изрѣдка, когда приходили ему мысли, большей же частью онъ не думалъ, а былъ счастливъ той любовью къ себѣ, къ другимъ и ко всему міру, которая получала себѣ удовлетвореніе независимо отъ воли воспитателя.
(обратно)1467
Зач.: Сережа былъ весь переполненъ любовью. Онъ любилъ себя и всѣхъ.
(обратно)1468
Зач.: только и ждалъ того, кого
(обратно)1469
Зачеркнуто: послѣ того, какъ жена уѣхала отъ него.
(обратно)1470
Зач.: и истиннымъ
(обратно)1471
Зач.: Отъ него жена ушла. Онъ не виноватъ, но онъ смѣшонъ, и защищать его, поднять, внушить къ нему уваженіе было трудно.
(обратно)1472
Зач.: графиня Лидія Ивановна шутнику, описывавшему встрѣчу Алексѣя Александровича съ женою на Невскомъ, — какъ только
(обратно)1473
Зач.: разсказывавшему ей <о томъ, что онъ слышалъ про пріѣздъ Анны съ Вронскимъ въ Петербургъ> послѣднее засѣданіе совѣта, въ которомъ Алексѣй Александровичъ былъ особенно желченъ и упоренъ.
(обратно)1474
[это конченный человек.]
(обратно)1475
Зачеркнуто: смѣясь
(обратно)1476
Зач.: Вашъ
(обратно)1477
Зач.: сказала она
(обратно)1478
Зач.: продолжая смѣяться глазами и съ такимъ видомъ, который показывалъ, что онъ самъ не скоро еще надѣялся отсикнуться.
(обратно)1479
Зач.: несмотря на ея заступничество, вполнѣ сочувствовалъ Вронскому и при первомъ случаѣ былъ готовъ подражать ему.
Люди любятъ думать, что нравственный законъ начертанъ въ ихъ душѣ опредѣленно и ясно для нихъ, можетъ быть выраженъ словами и что совѣсть каждаго соотвѣтственно этому закону отмѣчаетъ наши поступки.
Несомнѣнно, что самая болѣзненная сторона, несчастія жизни происходятъ отъ раскаянія, отъ мысли о томъ, что я могъ бы не сдѣлать того, что было причиной или поводомъ къ несчастью; но совершенно несправедливо то, что думаютъ многіе, — что мы раскаиваемся больше въ дурныхъ нашихъ поступкахъ.
Часто говорили и говорятъ, что настоящее несчастье происходитъ только отъ внутренняго недовольства собой, отъ угрызеній совѣсти. Угрызенія же совѣсти происходятъ отъ дурныхъ, совершенныхъ людьми поступковъ, что чѣмъ хуже совершенный поступокъ, тѣмъ тяжелѣе раскаяніе. Но всякій пожившій человѣкъ, перебирая воспоминанія <поступковъ, которые онъ сдѣлалъ и желалъ бы не сдѣлать> своихъ дурныхъ поступковъ, найдетъ въ своей совѣсти совершенно другую и неожиданную и несоотвѣтствующую этому нравственному закону классификацію. Безнравственный, безчестный, жестокій поступокъ — преступленія противъ 6-й, 7-й и 8-й заповѣди — часто, несмотря на сознаніе дурнаго, не тревожитъ душевнаго спокойствія. Часто даже, если эти поступки сопровождаются удовлетвореніемъ страсти и достиженіемъ цѣли, они вызываютъ <къ удивленію> пріятное чувство. Все дурное забыто, прощено, и остается одна прелесть воспоминанія <всего прошедшаго>. Но стоитъ шевельнуть въ душѣ давнишнія воспоминанія не столько поступковъ, сколько положеній, въ которыя когда то поставилъ себя человѣкъ, иногда самыми невинными дѣйствіями, и эти невинныя дѣйствія свѣжей болью раскаянія разъѣдаютъ сердце: платье, оказавшееся смѣшнымъ, ошибка въ словахъ, похвала, назначенная другому и принятая на свой счетъ, оскорбительное слово, на которое не отвѣчено, происшедшее отъ незнанія отступленіе отъ пріемовъ общества, возбудившее улыбку, насмѣшку неловкое движеніе, фальшивое, смѣшное положеніе — мучаютъ больше, чѣмъ дурное дѣло.
(обратно)1480
Зачеркнуто: весело улыбался
(обратно)1481
Зач.: улыбался
(обратно)1482
Зачеркнуто: теперь еще особенно потому, что съ ней одной онъ могъ посовѣтоваться о томъ, какъ ему поступить по случаю этаго письма жены.
(обратно)1483
Зач.: Одна восторженная Графиня Лидія Ивановна, взявшись въ трудную минуту жизни помогать ему, вслѣдствіи тѣхъ трудовъ, которые она положила на него, полюбила его, влюбилась въ него и потому не только понимала и жалѣла его, но влюбилась въ него и была предана ему всей душой.
(обратно)1484
Зач.: Онъ давно уже не видѣлъ и не могъ видѣть въ Графинѣ Лидіи Ивановнѣ ни ужасную <съ ея толщиной> ея внѣшность въ придворномъ платьѣ, ни ея безтолковыхъ разговоровъ, прыгающихъ съ одного предмета на другой. Онъ видѣлъ одни глаза, изъ которыхъ свѣтилась любовь.
(обратно)1485
Зач.: развелъ руками,
(обратно)1486
Зачеркнуто: Алексѣй Александровичъ не испытывалъ тревогъ и волненій, несмотря на этотъ упорный, непрерывный трудъ, дѣйствовавшій на него не какъ удовлетвореніе потребности, но какъ омутъ, заставляющій забывать, не испытывая спокойствія. Онъ былъ вполнѣ вѣрующій христіанинъ, онъ въ дѣлѣ съ своей женой испыталъ силу своей вѣры и поступилъ какъ христіанинъ. Онъ это зналъ. И это то болѣе всего лишало его спокойствія. Когда онъ вспоминалъ о томъ, что было, онъ не могъ не радоваться и не гордиться тѣмъ, что онъ поступилъ какъ христіанинъ, и эта гордость не была спокойствіе. Но тутъ же, когда онъ вспоминалъ о своемъ поступкѣ и невольно гордился имъ, онъ вспоминалъ
(обратно)1487
[первый завтрак]
(обратно)1488
В подлиннике явная описка: труднѣе
(обратно)1489
В подлиннике явная описка: Степанъ Аркадьичъ
(обратно)1490
Зачеркнуто: завтра.
Сбоку на полях написано: <Сережа не спрашиваетъ про мать, и это мучаетъ.> <Лидія Ивановна.>
(обратно)1491
Зачеркнуто: Такъ говорили во дворцѣ, ожидая выхода, облитые золотомъ придворные. Одинъ былъ <желчный> плѣшивый старичекъ съ вставными зубами, другой былъ молодой могучій камергеръ съ длинными раздушенными, глянцовитыми бакенбардами. Подошедшій князь былъ военный — лицо болѣе важное, чѣмъ эти оба.
Онъ подошелъ отъ скуки, зная впередъ, что старичекъ говоритъ что нибудь злое и смѣшное.
(обратно)1492
Зач.: Разговоръ этотъ происходилъ <на выходѣ> <утромъ на поздравленіи гр. А. И. съ именинами> на придворномъ балѣ.
(обратно)1493
Зач.: — Здравствуйте, Алексѣй Александровичъ; тотчасъ
(обратно)1494
Зач.: — Какой оживленный раутъ, — сказалъ говорившій, здороваясь съ Каренинымъ.
— О да, — отвѣтилъ Алексѣй Александровичъ, спокойно улыбаясь и чувствуя, что говорили о немъ и смѣялись о немъ
(обратно)1495
Зачеркнуто: прибавивъ шагу,
(обратно)1496
[под руку,]
(обратно)1497
[ — Это человек, у которого нет...]
(обратно)1498
Зачеркнуто: находился въ мучительнѣйшемъ состояніи
(обратно)1499
Зач.: не показать своихъ страданій и выдержать всѣ эти жестокіе, любопытные взгляды
(обратно)1500
Зач.: что онъ не выдержалъ и свернулся
(обратно)1501
Зач.: но графиня Лидия Ивановна ворвалась къ нему, ободрила его, взяла на себя всѣ женскія дѣла его дома и помогла ему опять укрѣпиться такъ, что онъ опять почувствовалъ въ себѣ силы пытаться переносить взгляды людей и скрывать отъ нихъ свои страданія. Странно сказать, но въ этомъ послѣднее время состояла единственная цѣль и единственная привязанность его къ жизни. Онъ ѣхалъ на службу, во дворецъ, на вечеръ, на балъ, онъ принималъ у себя только съ единственнымъ желаніемъ — показать людямъ, что онъ не считаетъ себя униженнымъ и что онъ все такой же. И когда ему казалось, что онъ достигалъ этаго, онъ былъ доволенъ, когда же онъ чувствовалъ, что онъ поддался, онъ раскаивался и придумывалъ средства, какъ онъ въ другой разъ поправитъ это.
(обратно)1502
Зачеркнуто: именно потому, что успѣхи независимы отъ
(обратно)1503
Зач.: благодаря своей ограниченности желаній,
(обратно)1504
Зачеркнуто: и высшій христіанскій
(обратно)1505
Зачеркнуто: — Я разбитъ, убитъ, графиня
(обратно)1506
Зач.: и убитъ совершенно
(обратно)1507
Зач.: пухлую
(обратно)1508
[боязнью людского суда,]
(обратно)1509
Зачеркнуто: тотъ духъ,
(обратно)1510
Зач.: устроила для него его матерьяльную жизнь, содѣйствовала ему при воспитаніи Сережи, во всемъ, въ чемъ нужна была женская помощь, но главное, что она сдѣлала для него, было то,
(обратно)1511
Зачеркнуто: не въ внутреннемъ и внѣшнемъ
(обратно)1512
Зач.: не тотъ лучшій христіанинъ, не тотъ лучше исполняетъ свой долгъ христіанина, кто, пренебрегая благами мира, будетъ стремиться къ жертвамъ во имя Христа, а тотъ, кто несомнѣннѣе и живѣe будетъ вѣрить въ свое спасеніе. Алексѣй Александровичъ видѣлъ
(обратно)1513
Зач.: обыкновеннаго вѣрующаго
(обратно)1514
Зач.: обыкновенный вѣрующій
(обратно)1515
Зачеркнуто: лишало ихъ чувства энергіи и силы, и Алексѣй Александровичъ
(обратно)1516
Зач.: въ невозможности и ненужности приложенія къ жизни своей вѣры. Онъ
(обратно)1517
Зач.: его дѣлами говоритъ
(обратно)1518
Зачеркнуто: Есть два рода людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ практической общественной дѣятельности, которые избавлены отъ мученій сомнѣній въ пользѣ своей дѣятельности. Это безграмотные рабочіе и высоко образованные чиновники, въ особенности жители столицы.
Рабочій, выпахивающій свою десятину или вырубающій дерево, не приписываетъ никакой важности тому результату, который произойдетъ отъ его работы, не сомнѣвается однако въ плодовитости своей работы по очевиднымъ признакамъ того, что вспаханное поле, очевидно, черно и не было такимъ до него и что дерево лежитъ, а прежде стояло. Въ этомъ онъ и видитъ награду за трудъ. Чиновникъ же, работающій въ своихъ бумагахъ, никогда не видитъ очевиднаго плода своей дѣятельности; все, что должно измѣниться отъ его дѣятельности, не видно ему и не имѣетъ той награды въ очевидности результата труда, которую имѣетъ рабочій, но за то дѣятельность его обставлена такъ, что онъ не можетъ сомнѣваться въ значительности своего дѣла.
(обратно)1519
Зачеркнуто: Это послѣднее время Алексѣй Александровичъ, благодаря своему несчастію и годамъ, пришелъ въ то состояніе, когда человѣкъ вдругъ опоминается.
(обратно)1520
Зачеркнуто: съ цѣлью раздѣла, Вронскій былъ у брата и часто видѣлся съ нимъ. Братъ пріѣзжалъ и къ нему въ <большое отдѣленіе> небольшой номеръ въ нижнемъ этажѣ лучшей Петербургской гостинницы, которую онъ занималъ. Само собою разумѣется, что свѣтъ былъ открытъ для Вронскаго, но онъ чувствовалъ, что всякій шагъ его одного въ свѣтѣ только больше закрываетъ двери свѣта для Анны. Онъ зналъ,
(обратно)1521
Зачеркнуто: Вронскій и былъ вмѣстѣ съ нимъ наверху въ большомъ отдѣленіи, которое занимала Анна.
(обратно)1522
Зач.: ничего не понялъ изъ того, что говорилъ Алексѣй, кромѣ того,
(обратно)1523
Зач.: свѣтско[й]
(обратно)1524
Зач.: съ Серпуховскимъ
(обратно)1525
Зач.: Къ ней же пріѣхали изъ мущинъ только Тушкевичъ, близкій человѣкъ княгини Бетси, и Облонскій, петербургскій двоюродный братъ Анны.
(обратно)1526
Зач.: Кромѣ того что она мучалась своимъ одиночествомъ, онъ зналъ, что ей нужны были отношенія съ равными себѣ женщинами, и онъ возлагалъ въ первое время большія надежды на невѣстку Лизу. Ему
(обратно)1527
Зачеркнуто: Лиза уже навѣрно
(обратно)1528
Зач.: замолкалъ между ними, какъ будто она боялась какого-то разговора между ними, и никогда ни одного слова не говорила про Карениныхъ. Когда
(обратно)1529
Зач.: замѣтивъ, что она избѣгаетъ этого разговора, онъ
(обратно)1530
Зач.: спокойно, но твердо сказала ему:
(обратно)1531
Зач.: какъ совершенно права была Лиза.
(обратно)1532
[это делается.]
(обратно)1533
Зачеркнуто: Послѣ этихъ отношеній съ невѣсткой Лизой и съ княгиней Бетси Вронскій и Анна поняли то, что они и знали прежде, — что свѣтъ совершенно закрытъ для нихъ. То, что мущины, братъ Вронскаго и друзья, ѣздили къ нимъ, только очевиднѣе и болѣзненнѣе высказывало имъ ихъ отверженность. Самыя ничтожныя слова и обстоятельства мучительно дѣйствовали на нихъ. <То, что когда разговоръ склонялся къ служебнымъ перемѣнамъ, въ которыхъ Алексѣй Александровичъ участвовалъ, разговаривающіе замолкали, то, что женатые знакомые никогда не говорили о своихъ женахъ, то, что предложеніе ложи бель-этажа или ужина въ гостинницѣ, которыя казались бы прежде самыми легкими, невинными удовольствіями, ужасали ее и Вронскаго по тому сходству съ извѣстными женщинами, которое это могло бы вызвать.
Самое, казалось, не имѣющее къ вопросу о свѣтѣ отношенія дѣло туалета вызывало въ Аннѣ самыя мучительныя соображенія опять по возможности сходства.>
Въ томъ, что знакомые очевидно отъискивали предметы разговоровъ <такихъ, въ которыхъ бы не было упоминанія о томъ, о чемъ нельзя говорить,> и, очевидно, были осторожны, былъ намекъ. Въ томъ, что женатые знакомые, точно сговорившись, никогда не говорили о своихъ женахъ, былъ намекъ. Въ томъ, что никто не предлагалъ Аннѣ ѣхать въ театръ слушать новую знаменитость, былъ намекъ.
Ногъ нельзя было вытянуть, и оба чувствовали судороги. Казалось бы, проще всего было уѣхать изъ Петербурга, не дожидаясь конца раздѣла, но Анна, какъ бы нарочно, чтобы помучать себя, объявила, что она не уѣдетъ, не кончивъ раздѣла и не увидавъ сына.
(обратно)1534
Зачеркнуто: ни Вронскому, ни Аннѣ,
(обратно)1535
Зач.: этаго, хотя онъ и видѣлъ, что она страдала.
Встрѣтившись на улицѣ съ полусвѣтской прежней знакомой дѣвицей Данаевой, имѣвшей скабрезную исторію и нигдѣ уже не принимаемой, Анна часто звала ее къ себѣ. Она приглашала тоже мущинъ и какъ будто искала общества.
(обратно)1536
Зач.: Данаева, подкрашивающая себѣ глаза, была похожа на дурныхъ женщинъ.
(обратно)1537
Зач.: и занимавшейся какимъ-то журналомъ,
(обратно)1538
Зач.: Но Вронскій ошибался. Анна видѣла все это и видѣла гораздо больше того, что видѣлъ Вронской. Она страдала всякую минуту и, какъ нарочно, искала тѣхъ условій, въ которыхъ она должна была страдать.
(обратно)1539
Зачеркнуто: не сознаваясь въ страданіяхъ, которыя она испытывала, и не позволяя ему высказать ихъ.
(обратно)1540
Зач.: <Анна говорила себѣ, что все это пустяки и не мѣшаетъ ея счастью. Но легко было сказать, что все это пустяки, но не легко было жить безъ этихъ пустяковъ. Кромѣ той любви, за которую она продала это презрѣнное общественное положеніе, и той любви, которую она имѣла вполнѣ и которую она мучительно цѣнила,> и чувствовалось, что она что то скрывала.
(обратно)1541
Зач.: не могло быть въ Петербургѣ. Ноги нельзя было протянуть, и она чувствовала мучительныя судороги, но не сознавалась въ этомъ, и чувствовала, какъ она становилась раздражительна. Даже любовь ея къ сыну, потребность видѣть его выражалась въ ней не нѣжностью, но раздражительностью и осужденіемъ то Алексѣя Александровича, который, не любя, взялъ отъ нея сына, то графини Лидіи Ивановны, которую она всегда считала невольно неестественною и фальшиво холодной энтузіасткой.
(обратно)1542
Зачеркнуто: не потому, какъ она неискренно писала въ письмѣ Лидіи Ивановнѣ, что она не хотѣла огорчить его, но
(обратно)1543
Зач.: ей самой было это непріятно. Она имѣла
(обратно)1544
Зач.: Притомъ заботы и волненія объ отношеніяхъ къ свѣту такъ занимали ее первые дни, что она почти забыла про сына.
(обратно)1545
Зачеркнуто: особенно раздражительна
(обратно)1546
(обратно)1547
Зач.: послала лакея просить къ себѣ Вронскаго.
(обратно)1548
Зачеркнуто: можетъ быть,
(обратно)1549
Зачеркнуто: было весело и умно.
— Если вы ѣдете въ театръ, то надо послать за ложей, — сказалъ ей Вронской, глядя на нее.
— Разумѣется, ѣду. Послѣ итальянскихъ оперъ надо отдохнуть. Вы не повѣрите, какъ они плохи.
— Такъ послать?
— Пожалуйста. Вы поѣдете со мной, — сказала она Греве. — Вы, вѣрно, ничего не понимаете въ музыкѣ.
— Совершенно ничего.
— Это самые пріятные товарищи. Знатоки музыки въ оперѣ сдѣланы для того, чтобы отравлять прелесть музыки. Прощайте. Передайте княгинѣ, что я очень, очень жалѣю не видѣть ее. До свиданья. Вы тоже въ оперѣ?
(обратно)1550
[был очень мил,]
(обратно)1551
[Это была неудача,]
(обратно)1552
Зачеркнуто: виновато улыбаясь,
(обратно)1553
Зачеркнуто: горѣвшую
(обратно)1554
Зач.: вездѣ, гдѣ
(обратно)1555
Зач.: прижалась къ нему губами
(обратно)1556
[содержанка.]
(обратно)1557
Зачеркнуто: III часть
(обратно)1558
Зач.: и сестрой въ мужниной деревнѣ ея мужа Ордынцева, 200 верстъ за Москвою.
(обратно)1559
Зач.: Кашино
(обратно)1560
Зач.: Ордынцева
(обратно)1561
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)1562
Зач.: <2 мѣсяца> 5-й мѣсяцъ
(обратно)1563
На полях написано:
[1] <Сватьба была>
[2] Ордынцевъ дѣлаетъ предложеніе на пикникѣ, и они ѣдутъ встрѣчать ихъ.
[3] Мать Княгиня Щербацкая не позволяетъ ѣхать къ Удашевымъ. Долли ѣдетъ одна.
[4] Про встрѣчу разсказъ.
[5] Глава о А[лексѣѣ[ А[лександровичѣ]. Какъ М[иша] плакалъ, разлучаясь съ матерью.
[6] <Хлопоты, у него мировой съѣздъ, управа, дѣла сестры. У Долли дѣти какъ бы не забыли. У молодой устройство дома и слабость отъ беременности.>
(обратно)1564
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)1565
Зач.: два мѣсяца
(обратно)1566
Зачеркнуто: онъ
(обратно)1567
Зач.: тяжелыхъ
(обратно)1568
Зач.: разумѣется
(обратно)1569
Зач.: очень молодые люди
(обратно)1570
Зач.: Съ его даромъ высмѣивать онъ въ лицахъ иронически представлялъ, какъ въ новой шляпкѣ съ Иваномъ Васильевичемъ супруга его поѣдетъ къ Княгинѣ Б. и Графинѣ А. и какъ они будутъ высматривать ее и мужья глупо шутить о ея бледности и будущихъ дѣтяхъ.
(обратно)1571
Зач.: и онъ вѣчно на колѣняхъ передъ нею, одинаково уважающій и любящій. Онъ воображалъ, что прошедшее того и другаго разъ навсегда будетъ прощено и той и другой стороной.
(обратно)1572
Зачеркнуто: Она открыла ему со всѣми подробностями ея любовь первую къ двоюродному брату еще дѣтьми почти и потомъ любовь къ Удашеву и сказала ему, что она только раскаивается въ томъ прошломъ и любитъ его однаго, и всѣмъ существомъ показывала, что она его однаго любитъ и любила всѣмъ существомъ.
(обратно)1573
Зач.: очарованій
(обратно)1574
Зач.: 2 мѣсяца
(обратно)1575
Зач.: въ каретѣ, только что они выѣхали отъ вѣнца.
— Ну вотъ, кончено все это непріятное, и мы одни, и начинается наша новая жизнь, — сказалъ онъ, прижимая ея голову къ своей щекѣ.
— Да, но отчего ты говоришь непріятное, Миша?
— Вся эта комедія ложь.
Она думала совсѣмъ о другомъ; но не утерпѣла сказать:
— Отчего ложь? Все такъ хорошо было. Ахъ, я забыла дать нянѣ денегъ.
— Ну, мы пошлемъ. Ты возьми <сколько хочешь> у меня. Какъ непріятно говорить «у меня». — И онъ сказалъ, то, что давно хотѣлъ сказать. — Я давно хотѣлъ сказать: денежныя дѣла мы такъ устроимъ: я тебѣ буду давать сколько ты велишь — 1000, 2000 на твои расходы
онъ сказалъ это потому, что такъ было между его отцомъ и матерью, и это входило въ его идеалъ устройства семейной жизни.
— Напротивъ, что за вздоръ, — сказала неожиданно рѣшительно, — какія могутъ «давать на расходы» между мужемъ и женой? Нѣтъ, ты устроилъ, что говорить.
— Да, ты права, — сказалъ онъ, почувствовавъ оскорбительный урокъ деликатности. — Ну, полно объ этомъ. — Если бы кто подслушалъ, о чемъ говорятъ молодые въ каретѣ. — Тебѣ <не жутко> легко со мной?
— Нѣтъ. Да, хорошо и странно.
Она вздохнула, и онъ зналъ, о чемъ она вздохнула, и отдалилась отъ него въ уголъ кареты.
(обратно)1576
Зачеркнуто: свой грѣхъ
(обратно)1577
Зач.: не умѣлъ помочь ей
(обратно)1578
Зач.: Разумѣется,
(обратно)1579
Зачеркнуто: домѣ, въ которомъ ему предоставлена полная свобода двигаться.
(обратно)1580
На полях написано: За границу не поѣхалъ.
(обратно)1581
Зачеркнуто: на каждомъ шагу
(обратно)1582
Зач.: препятствія
(обратно)1583
Зач.: Маленькій чистый игрушка домъ не нравился ей. Она все мечтала о большомъ домѣ, просторномъ.
(обратно)1584
Зач.: и одинъ разъ плакала только отъ того, что ей было скучно. Она хотѣла гостей.
(обратно)1585
Зач.: Работѣ его она не сочувствовала, не спрашивала про нее и не дорожила ей. Его отстраненіе отъ деятельности общественной она не одобряла и поощряла его поступить въ Предсѣдатели У[правы] и Предводители.
(обратно)1586
Поперек полей написано: Небогатый устроивающійся intérieur [домашний уют].
(обратно)1587
[гигантских шагах.]
(обратно)1588
Зачеркнуто: и засталъ за интереснымъ разговоромъ.
— Я встрѣтилась два мѣсяца тому назадъ съ Удашевымъ.
— Да, — сказалъ онъ, — Богъ иногда дѣлаетъ любезности
Кити покраснѣла. Онъ подошелъ, <поцѣловалъ> пожалъ ее руку.
— Ты устала?
— Нѣтъ. Ну, что заводъ?
— Ты интересуешься? — сказала мать.
— Да, потому что онъ обѣщалъ отдать въ аренду. Такая скука, его раздражаютъ вѣчно.
— Ну такъ какже? — спросила мать.
— Я разскажу вамъ, — сказалъ Ордынцевъ.
(обратно)1589
Зач.: только что уложившая подъ кисею въ телѣжку своего мальчика.
(обратно)1590
Зачеркнуто: продолжались наши отношенія съ Мишей.
(обратно)1591
Зач.: Удашевѣ.
(обратно)1592
На полях написано:
<[1] Ордынцевъ черезъ очки жены увидалъ половину міра. Узналъ униженіе, страданія belle soeur
[2] Хочетъ открыться отъ избытка чувствъ свату. Соперничество.
[3] Долли пріѣзжаетъ къ Карениной. Роскошь свойственна Поляк[амъ?] и разврату — изъ одного источника. Нѣтъ среды и связи.
[4] У Анны безпокойство въ лицѣ. Предметы, которые надо избѣгать. Она интересуется, что о ней говорятъ, и скрываетъ. Она <доволь[на]> хвастаетъ жизнью, а дѣлать нечего.
[5] Разсказываетъ про афронтъ въ Петербургѣ.>
(обратно)1593
Зачеркнуто: захотѣла жить у сестры
(обратно)1594
Зач.: заступаясь и за свой домъ и свое наблюденіе зa сестрой.
(обратно)1595
Зач.: васъ
(обратно)1596
Зач.: случай
(обратно)1597
[моя милая,]
(обратно)1598
Зачеркнуто: Миша
(обратно)1599
Зач.: мучалъ Удашевъ. Я знаю между тѣмъ, что Удашевъ мучался также мыслью о томъ, что онъ обманулъ меня. Мы жили тогда у Долли. Миша пріѣхалъ къ намъ.
(обратно)1600
Зач.: на дачу
(обратно)1601
Зач.: Миша
(обратно)1602
Зач.: Они поѣхали къ дядѣ Ст[епан]а Арк[адьича] за 25 верстъ. Это была давно предполагаемая прогулка.
(обратно)1603
Зач.: они
(обратно)1604
Зач.: Сережа студентъ, Варенька Пришнева, гостившая у нихъ, она и Ордынцевъ.
(обратно)1605
Зач.: Они
(обратно)1606
Зачеркнуто: дамамъ
(обратно)1607
Зач.: они
(обратно)1608
Зач.: Ордынцевъ
(обратно)1609
Зач.: съ Кити
(обратно)1610
Зач.: Вася
(обратно)1611
Зач.: Васей, а между тѣмъ была очень мила тѣмъ, что понимала наше положеніе съ Мишей и очень деликатно помогала намъ.
(обратно)1612
[прогулка вчетвером (двое мужчин и две женщины)]
(обратно)1613
Зачеркнуто: Васей
(обратно)1614
Зач.: не слыхавшая еще этой исторіи.
(обратно)1615
Зачеркнуто: Вася
(обратно)1616
Зач.: <я узнала> Миша
(обратно)1617
На полях против этого места написано: <Азартъ, уборка сѣна.>
(обратно)1618
Зачеркнуто: замолчали. Красивая
(обратно)1619
[теще.]
(обратно)1620
Зачеркнуто: Ордынцевъ,
(обратно)1621
Зач.: маменька
(обратно)1622
Зачеркнуто: Она подошла къ нему и начала разговоръ о его послѣднихъ выборахъ.
(обратно)1623
Зач.: не устала
(обратно)1624
На полях против этого места написано: Летучая мышь.
(обратно)1625
Зачеркнуто: Когда онъ вышелъ, сіяя улыбкой, изъ коляски, яко Левъ рыкая, и вызвалъ своего сетера,
(обратно)1626
Зач.: любовался
(обратно)1627
Зач.: бакенбардахъ
(обратно)1628
Зач.: снисходительно
(обратно)1629
На полях против этих строк приписано: Кстати я поѣду въ Маши имѣніе. Да ты, Миша[?] сдѣлай. Мужики лучшіе наемщики.
(обратно)1630
Зачеркнуто: Когда же имъ было ѣхать.
(обратно)1631
Рядом, на полях написано: Ордынцевъ хлопочетъ по хозяйству, послѣднія приказанія. — Ахъ да, забылъ распорядиться. Долли коляску.
(обратно)1632
Зачеркнуто: мутномъ
(обратно)1633
Рядом на полях написано: Разговоръ о супружествѣ. Совѣты Степана Аркадьича. Раскаяніе, оцѣнка жены. Возвращеніе, еще поле на <дупелей> тетеревовъ. Веселый пріѣздъ, и Долли вернулась утромъ.
(обратно)1634
Рядом на полях написано: [1] Мужики напоили водкой. [2] Степанъ Аркадьiчъ далъ послѣднія деньги.
(обратно)1635
Рядом на полях написано: Финогенычъ разсказываетъ, какъ въ охотномъ ряду.
(обратно)1636
[исповедание веры.]
(обратно)1637
Зачеркнуто: только пріѣхала
(обратно)1638
Зачеркнуто: больница
(обратно)1639
Зач.: увеличивала
(обратно)1640
Зач.: три мѣсяца
(обратно)1641
[старинного саксонского фарфора]
(обратно)1642
Зачеркнуто: сталъ главой
(обратно)1643
На полях написано: [1] Долли подъѣхала къ Удашевымъ. Они верхомъ, все блеститъ и красавцы. [2] Не отдавать визита. [3] Маркевичъ.
[4] Маркевичъ гость. Его ругаютъ, а держутъ.
(обратно)1644
Поперек полей написано: «Вотъ, говорятъ, дурная женщина. Только бы посмотрѣли на ея доброту, прелесть».
(обратно)1645
Зачеркнуто: дружескій
(обратно)1646
Зач.: Васъ
(обратно)1647
Рядом поперек полей написано: [1] Дуняша горничная. «Здраствуйте, матушка». «Какъ мы къ вамъ пріѣзжали». «А бунтъ большой былъ». [2] Маркевичъ задираетъ ноги въ англійскомъ платьѣ. [3] Анна очень весела и занята устройствомъ. «Устроила, а чтоже будетъ? Зачѣмъ?»
(обратно)1648
Зачеркнуто: ея нарядъ, запахъ
(обратно)1649
Рядом поперек полей написано: Споръ, что дороже — мужъ или дѣти.
(обратно)1650
Рядом и ниже поперек полей написано: [1] Но и слово мужъ нельзя было сказать. Какой мужъ?
[2] Она поняла, что нельзя пріѣхать, потому что дѣвушки-племянницы. Стало быть, имя ея неприлично.
[3] Удашевъ былъ въ Москвѣ. О матери.
(обратно)1651
Рядом поперек полей и ниже написано: [1] Онъ оскорбилъ ее, она плачетъ.
[2] Онъ былъ жалокъ самъ себѣ и просилъ, чтобы она успокоила, выговорила.
[3] Чтожъ, барышнямъ сказать нельзя.
[4] Маркевичъ.
(обратно)1652
Зачеркнуто: Дура
(обратно)1653
[любовница.]
(обратно)1654
Зачеркнуто: Анна была беременна и
(обратно)1655
Зачеркнуто: Левинъ сказалъ, что онъ не понимаетъ брата Сергѣя Ивановича, но это было не совсѣмъ справедливо. Онъ именно после своей женитьбы пересталъ не понимать его, хотя и не могъ сказать, чтобы онъ понималъ его.
(обратно)1656
Зач.: — Прежде я его совсѣмъ не понималъ именно потому, что я слишкомъ уважалъ его. Я и теперь цѣню и уважаю его. Но прежде я считалъ, что то, что онъ думаетъ, я долженъ точно также думать. И что если я не думаю такъ, какъ онъ, то я виноватъ, я не знаю чего нибудь. Я виноватъ. И что если онъ не одобритъ, не согласенъ съ моими мыслями, то, значитъ, мысль моя ложна, и я хотѣлъ все съ нимъ сойтись.
(обратно)1657
Зач: Ему кажется, напримѣръ, что все это — какъ мужикъ работаетъ, отчего лучше, отчего хуже, отчего онъ бѣднѣетъ и богатѣетъ, — что все это просто, потому что онъ все это переведетъ на отвлеченныя слова: трудъ, затрата капитала и уже съ словомъ обходится какъ ему удобнѣе.
Рядом на полях написано: Онъ не гордится, а все [?] считаетъ.
(обратно)1658
Зачеркнуто: и такихъ людей, какъ онъ, пропасть, — разумѣется, не съ его умомъ, образованіемъ, честностью, но главная разница — мы, грѣшные, живемъ, любимъ что нибудь — не по хорошему милъ, а по милу хорошъ — и прямо бьемся, чтобы сдѣлать то, что мы любимъ. Хотя я не то говорю. Мы никогда не забываемъ того, для чего мы дѣлаемъ, и терпѣть не можемъ самый процессъ дѣланія и потому любимъ все настоящее, а онъ любитъ самое дѣланіе, самую мысль, процессъ мысли, и до такой степени, что получаетъ отвращеніе къ самому дѣлу, ко всему настоящему. Имъ легче съ мыслями обращаться, чѣмъ съ дѣелом.
— А ты думаешь, что онъ не женится?
— Я думаю, что нѣтъ.
Рядом на полях написано: Онъ смиряется передъ братомъ. Кити его утѣшаетъ.
(обратно)1659
Зачеркнуто: и онъ теперь огорченъ
(обратно)1660
Зач.: — Ну, какже ты будешь писать свою книгу?
— Я тебѣ не говорилъ, я бросилъ все, что я написалъ, и больше не буду.
(обратно)1661
Зач.: — A Сергѣй Ивановичъ все тебя упрекаетъ, что ты не служишь.
— А ты?
— Я? нѣтъ.
(обратно)1662
Зач.: Да кто тебѣ задалъ урокъ?
(обратно)1663
Зачеркнуто: — А имъ не совѣстно.
— Вотъ въ этомъ то и разница...
— Такъ какъ ты думаешь — сдѣлаетъ онъ предложенье?
— <Нѣтъ, не возьметъ.> Очень похоже, — сказалъ Левинъ. — Помнишь, какъ бываетъ, что поцелуй не беретъ, — сказалъ онъ, взявъ ея руку и приложивъ только губы. Она засмѣялась, вспомнивъ.
— А теперь беретъ?
— Очень.
— Онъ прижалъ ея руку къ губамъ.
(обратно)1664
[Войдите,]
(обратно)1665
[обливания]
(обратно)1666
[фанфарона, бахвала,]
(обратно)1667
Зачеркнуто: и планами жить въ деревнѣ.
(обратно)1668
Зач.: чтобъ его не обманывали,
(обратно)1669
Зачеркнуто: я устала
(обратно)1670
Зач.: надо послать сказать тѣмъ господамъ, чтобы они не ждали насъ.
(обратно)1671
[не следуетъ заставлять бедного Тушкевича томиться в лодке.]
(обратно)1672
[в деревенском стиле.]
(обратно)1673
[что школы стали слишком обычным делом,]
(обратно)1674
В подлиннике описка: мѣры
(обратно)1675
В подлиннике описка: мѣры
(обратно)1676
В подлиннике: Tocheville, Carleyle, Lews,
(обратно)1677
[— Это можно вычислить, ваше сиятельство,]
(обратно)1678
[Шестью восемь — сорок восемь,]
(обратно)1679
[726 кубических футов воздуха бесспорно необходимы, но мы приобретаем вещь у Бергмана с помощью воздушного насоса выигрываем 200 кубических футов. Это дает нам чистого барыша 2000 рублей.]
(обратно)1680
Зачеркнуто:. и на медленно отчеканивающаго каждое слово <Свіяжскаго> Сергѣя Ивановича.
(обратно)1681
В подлиннике: суммъ
(обратно)1682
Зачеркнуто: только
(обратно)1683
Так в подлиннике.
(обратно)1684
Против этих слов на полях написано: Денежное устройство. Швейцаръ. Экипажъ. Поваръ. Первая коломъ, а 5 соколомъ.
(обратно)1685
Зачеркнуто: хотя, живя въ городѣ, теперь онъ интересовался тѣмъ, о чемъ всѣ говорили.
(обратно)1686
Зач.: соціологомъ. Это былъ сильнаго сложенія плѣшивый человѣкъ въ золотыхъ очкахъ и съ черной бородой, съ чрезвычайно твердымъ и серьезнымъ лицомъ.
(обратно)1687
Зач.: высокій, худощавый молодой человѣкъ.
(обратно)1688
Зач.: занимаясь послѣднее время новѣйшими открытіями по физикѣ, и котораго
(обратно)1689
Зач: той темѣ, которую далъ Котовасовъ.
(обратно)1690
Зач.: Соціологъ
(обратно)1691
Зач.: въ немъ роды и виды
(обратно)1692
Зач.: на нихъ основываетъ отношеніе человѣка къ землѣ.
(обратно)1693
Зач.: соціологъ
(обратно)1694
Зач.: а не порокъ или отсталость
(обратно)1695
Зачеркнуто: поспѣшно откинулъ ту мысль
(обратно)1696
Зач.: развитіе европейское есть общій путь
(обратно)1697
Зач.: сказалъ соціологъ
(обратно)1698
Зач.: Отъ этого то и теорій и гипотезъ такъ много.
(обратно)1699
Зач.: одинъ изъ результатовъ опыта и наблюденія чисто аналитический.
Разговоръ вдругъ перешелъ на философскую тему познанія, но не долго остановился на ней, такъ какъ всѣ собесѣдники не интересовались этимъ, и соціологъ вернулся къ началу. Онъ спросилъ Левина о томъ,
(обратно)1700
Зач.: самый не интересовалъ соціолога, но что этотъ вопросъ былъ поводомъ къ тому, чтобы изложить свою мысль. И дѣйствительно, когда Левинъ сказалъ, что наблюденія и выраженіе общаго сознанія народа указываютъ ему на это, соціологъ отвѣчалъ,
(обратно)1701
Зачеркнуто: Котовасовъ съ физикомъ говорили объ университетскомъ вопросѣ и очень горячились. Левинъ, зная впередъ все, что скажетъ его собесѣдникъ, не интересуясь доводами соціолога, прислушивался и къ нимъ.
(обратно)1702
Зач.: то, что Левинъ былъ несогласенъ съ соціологомъ, ему
(обратно)1703
Зач.: Соціологъ не достаточно еще выработалъ свою теорію, чтобы подвергнуть ее своей собственной критикѣ и изложить въ книгѣ, и потому любилъ излагать ее устно, также какъ Левинъ любилъ излагать свою. И соціологъ давно уже изложилъ свои взгляды всѣмъ своимъ близкимъ, Левинъ же былъ новый человѣкъ, интересующійся этимъ, и потому онъ излагалъ ему.
(обратно)1704
Зач.: и это было ему пріятно.
(обратно)1705
Зач.: и весь университетъ сталъ въ опозицію.
(обратно)1706
Зачеркнуто: Мешевскій біографію читаетъ, а потомъ стихи какіе-то, а я обѣщалъ.
(обратно)1707
Зач.: Тиндаля, только что выписанный имъ,
(обратно)1708
Зач.: въ зданіе стараго университета.
(обратно)1709
Зач.: выставка,
(обратно)1710
Зач.: сожжетъ судъ, а теперь сдѣлаетъ визитъ графинѣ Боль, тутъ же на Кисловкѣ, и вернется въ университетъ посмотрѣть засѣданіе, которое дѣйствительно должно быть интересно. И, простившись съ соціологомъ и Котовасовымъ, Левинъ вышелъ вмѣстѣ съ физикомъ и поѣхалъ на Кисловку.
(обратно)1711
[зятья,]
(обратно)1712
[У меня не было искушений, вот и всё.]
(обратно)1713
[до вечера.]
(обратно)1714
Зачеркнуто: какъ и всегда онъ говорилъ.
(обратно)1715
Зач.: Львовой
(обратно)1716
Зачеркнуто: Но физикъ не обратилъ на эти слова никакого вниманія и продолжалъ свое.
(обратно)1717
Зач.: засидѣлся въ этихъ разговорахъ дольше, чѣмъ думалъ, такъ что опоздалъ на концертъ.
(обратно)1718
[тысячу поклонов]
(обратно)1719
[спокойствие]
(обратно)1720
Зачеркнуто: долго ходила по комнатѣ, сѣла
(обратно)1721
Зач.: мысли эти недолго занимали ее и
(обратно)1722
Зач.: Стива сейчасъ передалъ ей непріятиое извѣстіе, что нужно было еще писать о томъ, что она не возьметъ сына, и надо было ожидать
(обратно)1723
Зач.: спать
(обратно)1724
Зачеркнуто: поѣхалъ къ доктору, все болѣе и болѣе чувствуя все усиливающееся напряженье и вмѣстѣ съ нимъ внѣшнее спокойствіе.
(обратно)1725
[повторяю.]
(обратно)1726
[Ты слывешь человеком свободомыслящим,]
(обратно)1727
[в прежнем положении. ]
(обратно)1728
[Я теперь вовсе не ревнива, если вообще была таковою когда либо,]
(обратно)1729
Зачеркнуто: свѣтскими
(обратно)1730
Зач.: глаза ея горѣли
(обратно)1731
Зачеркнуто: Нѣтъ
(обратно)1732
[Смешно.]
(обратно)1733
Зачеркнуто: одной
(обратно)1734
Зачеркнуто: злыя
(обратно)1735
Зач.: за что и зачѣмъ ему умирать?
(обратно)1736
Зач.: Она вскочила и только что начала
(обратно)1737
Зач.: съ ужасомъ
(обратно)1738
Зач.: Онъ сказалъ: «твоя смерть».
(обратно)1739
Зач.: и вмѣсто постыдной, злой, дурной женщины я буду прекрасная и жалкая, жалкая». И она, не перемѣняя положенія, тихо и сладко рыдала, чувствуя, какъ
(обратно)1740
Зач.: Да и ему, Вронскому, ему бы было хорошо. Онъ радъ будетъ этому. — Она вскочила, дрожа отъ гнѣва, и зажгла свѣчу. — Но чтоже, развѣ я ненавижу его? Я? Ненавижу? Я люблю, люблю его, какъ свою жизнь. Не больше, чѣмъ свою жизнь, но люблю, какъ свою жизнь, и онъ не знаетъ, не хочетъ этаго. — Но она стояла съ свѣчей въ рукахъ у постели. — Это ревность. Это дьяволъ. Сколько разъ это находило на меня. Можетъ быть, это вздоръ. Можетъ быть, онъ теперь одинъ и мучается такъ же, можетъ быть, больше меня». И она почувствовала
(обратно)1741
Зач.: и она видѣла горе своихъ мужей надъ своей могилой и горе Вронскаго и слышала ихъ восторгъ и чувствовала <ихъ> его любовь. — Но гдѣ онъ теперь
(обратно)1742
Зачеркнуто: Въ этотъ же день пріѣхалъ изъ Петербурга Грабе и остановился у нихъ. При постороннихъ Алексей Кириллычъ былъ съ нею какъ обыкновенно, но, очевидно, избѣгалъ съ ней объясненій или ожидалъ, что она сдѣлаетъ первый шагъ, признавъ свою вину. Три дня она не видала его съ глаза на глазъ, и на 3-й день онъ уѣхалъ на дачу къ матери.
Всю эту послѣднюю ночь она провела безъ сна. 28 Мая было то самое Воскресенье, въ которое Вронской предполагалъ уѣхать изъ Москвы, но она сказала, что если онъ не поѣдетъ въ четвергъ, какъ она хотѣла, то въ воскресенье она не поѣдетъ. Онъ уѣхалъ на цѣлый день къ матери, и объ отъѣздѣ не было рѣчи. Если бы она не ссорилась съ нимъ, если бы она
Против зачеркнутого написано: <Униженіе въ мысли вернуться къ мужу, просить его прощенья; униженiе въ разговорѣ съ горничной, униженіе съ Грабе. Письмо отъ мужа.>
(обратно)1743
[надо ковать железо, толочь его, мять...]
(обратно)1744
Зачеркнуто: «Однако нечего чахнуть», сказала она себѣ, вставая, и рѣшительнымъ, энергическимъ шагомъ
(обратно)1745
Зач.: и изящно
(обратно)1746
Зач.: «Надо жить, — сказала она себѣ, — всегда можно жить»
(обратно)1747
Зач.: маленькое овальное зеркало
(обратно)1748
Зачеркнуто: несмотря на то, что передъ ней былъ гребень съ вычесанными курчавыми отсѣкавшимися волосами
(обратно)1749
Зач.: уныло
(обратно)1750
Зач.: Красивы и плечи и руки.
(обратно)1751
Зач.: <и поцѣловала ее.> «А жалко, жалко!» Она поцѣловала свои руки и
(обратно)1752
[в перевалку,]
(обратно)1753
На полях написано: Просить Соню описать туалетъ.
(обратно)1754
На полях написано: <Кокетничаетъ съ Грабе. Онъ прямо говоритъ: «Это нехорошо».
Встреча съ Кити.
Вронскій не вернулся. Пишетъ: «Я пріѣду вечеромъ».
Сцена съ Анной. Не причемъ жить.
Письмо отъ мужа. «Поѣду къ Вронскому, спрошу».
Въ вагонѣ, рѣшеніе, колеблется [?]. Видитъ его съ воспитанницей, улыбку. <Смягчается, и рѣшеніе взято.> Куда ѣхать, что дѣлать? Озлобленіе, отчаяніе, смягченіе <и рѣшеніе>, раскаяніе. «Я мечусь, какъ угорѣлая, и нигдѣ не найду. Или лучше кому. Мнѣ.
Свѣча и потомъ мужичокъ, но поздно.
Вронской раскаивается, ѣдетъ, и на станціи ужасъ.>
(обратно)1755
[свидания.]
(обратно)1756
Зачеркнуто: — Я вѣдь плохой игрокъ въ тонкости разговора, — сказалъ онъ. — Но вы, вѣрно, вы объ Вронскомъ хотите сказать.
(обратно)1757
Зачеркнуто: была или есть
(обратно)1758
Зачеркнуто: даже
(обратно)1759
Зач.: побѣжалъ
(обратно)1760
Зачеркнуто: въ деревнѣ
(обратно)1761
[к своей первой любви,]
(обратно)1762
Зачеркнуто: Грабе остался съ Степаномъ Аркадьичемъ, и они уговорились вмѣстѣ обѣдать съ Туровцинымъ и дамами.
(обратно)1763
Зач.: недѣли двѣ
(обратно)1764
[до вечера, ]
(обратно)1765
Въ подлиннике: аvans
(обратно)1766
Зачеркнуто: долго
(обратно)1767
Зач.: вдругъ сказала ей ея барыня
(обратно)1768
Зач.: взглянула на нее. — Аннушка, я пропала, — сказала она и, закрывъ лицо, зарыдала.
(обратно)1769
Зач.: удерживая слезы и снимая шляпу.
— Аннушка, онъ меня [не] любитъ, онъ измѣняетъ, онъ обманываетъ меня, я на его содержаніи....
(обратно)1770
Зач.: пошла прочь,
(обратно)1771
Зач.: И Анна, чувствуя еще новое униженіе — состраданіе горничной, которое она вызывала, осушила слезы, переодѣлась и съ сдвинутыми бровями пошла къ себѣ въ комнату.
«Нѣтъ, я отомщу, — думала она, — я ненавижу его, и онъ увидитъ, что со мной нельзя шутить. Я убью его. Нѣтъ, я себя убью, и чтобъ онъ зналъ, что онъ убилъ. Пускай онъ живетъ съ ней и пускай онъ будетъ счастливъ послѣ этаго. Да, но онъ будетъ счастливъ. Нѣтъ, пускай онъ думаетъ обо мнѣ. — Она остановилась. — Да, какъ онъ любилъ меня». Она глядѣла на письменный столъ и представляла себѣ его прежнюю любовь и увидала письмо съ надписью почерка Алексѣя Александровича. Она взяла его
(обратно)1772
Рядом на полях написано: зоветъ къ себѣ мужъ
(обратно)1773
Зачеркнуто: или къ старой княжнѣ
(обратно)1774
Зач.: той любовью
(обратно)1775
Зачеркнуто: И вмѣстѣ съ тѣмъ она не переставая думала о Вронскомъ, перебирая въ своемъ воображеніи всѣ сказанныя имъ слова, значеніе каждаго слова, и душа Вронскаго была также обнажена передъ нею, и при этомъ холодномъ, пронзительномъ свѣтѣ она видѣла и въ его душѣ и въ своей по отношенію къ нему теперь въ первый разъ то, что она никогда не видала прежде.
(обратно)1776
Зач.: Вошелъ лакей и доложилъ, что кучеръ Филиппъ сказалъ, что сѣрые не устали и что если прикажутъ подавать, то лошади не отложены еще.
— Хорошо, вели подавать.
— Кушать дома изволите?
— Нѣтъ, — сказала Анна.
(обратно)1777
Зачеркнуто: Онъ радъ этому, потому что воскресенье нынче, и они пойдутъ въ гости.
(обратно)1778
Зач.: Она пошла къ себѣ въ комнату перемѣнить воротнички и бантики и не переставая думала. Она думала теперь о Вронскомъ, о главномъ
(обратно)1779
[у него это в крови.]
(обратно)1780
[острота миновала.]
(обратно)1781
Зачеркнуто: — А, готово? Ну, такъ дай зонтикъ и перчатки. Обѣдать не буду.
Она направилась къ двери, продолжая думать. Встрѣтивъ гувернантку, она замѣтила ея новое платье и зеленый бантикъ и поняла, что она вчера шила, и подумала о томъ, зачѣмъ некрасивы дѣвушки, и что Богъ, видно, за тѣмъ ихъ сдѣлалъ, чтобы они помогали красивымъ, и, взглянувъ на Лили, поняла, какой она должна представляться ей, — такой же, какъ ей самой въ дѣтствѣ представлялась мать въ кружевной косынкѣ на концѣ большого стола въ именины. Она сѣла въ коляску и велѣла ѣхать къ Облонскимъ и подняла опущенную нить своихъ мыслей о своихъ отношеніяхъ съ Вронскимъ.
(обратно)1782
Зачеркнуто: Коляска подъѣхала къ дому.
— Нѣтъ, я не выйду. Ты слѣзай, Петръ, — сказала она лакею. — А ты, Филиппъ, поѣзжай на Нижегородскую дорогу. Вѣдь въ 9 часовъ отходитъ поѣздъ.
— Такъ точно съ.
— Поѣзжай шагомъ, мы успѣемъ.
(обратно)1783
Зачеркнуто: позвонила Аннушку и велѣла пересмотрѣть
(обратно)1784
Зач.: Петру она велѣла оставаться. Черезъ полчаса она вышла и, уложивъ въ ноги мѣшочекъ и закрывшись пледомъ,
(обратно)1785
Зачеркнуто: чтобы сказать что нибудь.
— Кто это? Когда же мы ѣдемъ?
— Когда хочешь.
(обратно)1786
Зач.: Если хочешь, я не поѣду.
— О нѣтъ, поѣзжай.
Вронской увидалъ, что раздраженіе ее не прошло и, рѣшивъ, что поддаваться этимъ безсмысленнымъ требованіямъ нельзя, уѣхалъ
(обратно)1787
[железной рукой]
(обратно)1788
Зачеркнуто: Новое ея состояніе нынѣшняго утра было ей страшно.
(обратно)1789
Зач.: подъ свой портретъ.
(обратно)1790
Зачеркнуто: шаги его затихли.
(обратно)1791
Зач.: къ Кити,
(обратно)1792
Зач.: и чего желала его мать.
(обратно)1793
Зач.: Она ревновала его и потому обвиняла. Кромѣ того, за любовь его къ ней она пожертвовала всѣмъ, чѣмъ можетъ пожертвовать женщина, и потому онъ былъ неправъ, онъ былъ виноватъ за то, что онъ отнялъ у нее часть ея любви, что она любила такой дорогою цѣною, пожертвовавъ всѣмъ, чѣмъ можетъ пожертвовать женщина. И она невольно испытывала за это къ нему чувство гнѣва. Она знала, что выраженіе этаго гнѣва можетъ только еще болѣе охладить его. И потому она удерживалась, чтобы говорить ему про это, и не была съ нимъ естественна. Но не упрекая его словами, она тѣмъ болѣе жестоко упрекала его мысленно, оставаясь сама съ собою, и онъ все болѣе и болѣе становился виноватъ передъ нею.
(обратно)1794
Зач.: и несправедливость.
(обратно)1795
Зач.: думать о томъ, чѣмъ онъ пожертвовалъ, и, главное,
(обратно)1796
Зач.: если бы онъ хотѣлъ, онъ бы
(обратно)1797
Зач.: въ глаза и мысленными упреками, гнѣвомъ,
(обратно)1798
Зачеркнуто: но она не думала, чтобы она могла воротить его любовь привлекательностью, нѣжностью и покорностью: и не разъ, а десятки разъ она пыталась быть, какъ прежде, и нѣжной къ нему, но можно быть нѣжной только взаимно, но всякій разъ взрывы гнѣва дѣлали его положеніе еще худшимъ, и она
(обратно)1799
Зач.: свою
(обратно)1800
Зач.: (онъ признавалъ это)
(обратно)1801
Зач.: и изъ всѣхъ любящій ее одну; ему странны и непонятны были ея переходы отъ страсти къ злобѣ. И чѣмъ сильнѣе страсть, тѣмъ больше послѣ холодной злобы. Для чего она вызывала его на борьбу, въ которой онъ не могъ покориться и
(обратно)1802
Зачеркнуто: Онъ не могъ притворяться съ нею, тотчасъ же
(обратно)1803
Зач.: въ чемъ потомъ самъ упрекалъ себя.
(обратно)1804
Зач.: и она видѣла это.
(обратно)1805
Зач.: Вронскій уѣхалъ на холостой пиръ на Воробьевы горы.
(обратно)1806
Зач.: и не помнила даже, съ чего началось. Всегда такъ бывало, что, объ чемъ бы ни заговорили, оба думали объ одномъ, и при первомъ предлогѣ предметъ разговора забывался, и начинали говорить о томъ, что было близко сердцу.
(обратно)1807
Зач.: и объяснить и найти средство выдти изъ этаго ужаснаго положенія. Съ большимъ усиліемъ она вспомнила наконецъ, съ чего началось. Онъ былъ приглашенъ на холостой пиръ на Воробьевыхъ горахъ, гдѣ должна была быть гонка лодокъ. И разговоръ объ этомъ зашелъ за обѣдомъ при Яшвинѣ,
(обратно)1808
Зач.: — Я думаю поѣхать, — сказалъ Вронской. — И ты бы пріѣхала къ этой сторонѣ рѣки. Очень красиво будетъ.
Анна нахмурилась и сказала:
— Можетъ быть.
(обратно)1809
Зачеркнуто: раздраженная его тономъ.
(обратно)1810
Зач.: что это больно будетъ ему.
(обратно)1811
Зач.: Зачѣмъ вы отравляете свою и мою жизнь? Зачѣмъ вы искушаете меня?
(обратно)1812
Зач.: Это еще больше раздражило ее.
(обратно)1813
Зач.: не интересны ваши планы.
(обратно)1814
Зач.: — Такъ чтоже вамъ интересно? Любовь моя вамъ тоже не интересна.
— Кто вамъ это сказалъ? Я только не понимаю любви, занимающей всю жизнь. Это не можетъ быть всегда.
— А я не понимаю другой. Впрочемъ, не говорите, идите.
(обратно)1815
Зачеркнуто: Она начала съ желаніемъ найти свою вину и только больше и больше видѣла его виновность.
«Онъ все можетъ сказать мнѣ, — думала она, раздражая сама себя. — Почемъ я знаю, можетъ быть,
(обратно)1816
Зач.: и тяготится мною. Онъ можетъ сказать мнѣ: я васъ не держу, вы не хотѣли разводиться съ вашимъ мужемъ, вы можете идти куда хотите. Я обезпечу васъ, если мужъ васъ не приметъ. Почему же ему не сказать мнѣ этого?
(обратно)1817
Зач.: что я была раздражена,
(обратно)1818
Зач.: Она съѣздила кататься въ коляскѣ къ своей Англичанкѣ и до Дѣвичьего поля и, не доѣзжая до рѣки, вернулась назадъ, все перебирая прежнія ихъ ссоры и стараясь отгонять отъ себя раздражающія ее мысли и, пріѣхавъ домой,
(обратно)1819
Зачеркнуто: Она твердо рѣшилась не поддаваться болѣе духу борьбы, овладѣвшему ими, и примириться съ нимъ. Нечего было даже мириться, потому что ссоры не было никакой.
(обратно)1820
[не сочетается]
(обратно)1821
Взятое в этом варианте в квадратные скобки приходится на оторванные края листа и восстанавливается предположительно. В двух случаях, когда утраченные слова не могут быть угаданы даже приблизительно, на месте их поставлен вопросительный знак.
(обратно)1822
На полях написано: Отбирали деньги у нищихъ для угнетенныхъ, которые такъ зажирѣли, что не хотѣли драться.
Свіяжскій и Степанъ Аркадьичъ нетолько христіане, но православные.
У Лидіи Ивановны разрывалось сердце. Дамы во [1 неразобр.] покупали револьверы. Тероръ со всѣми призн[аками]. Встрѣчаясь, боятся, разумъ не обязателенъ. И во главѣ тѣже ограниченные, гордые своей честностью и страшные
(обратно)1823
Зачеркнуто: <Узнавъ про смерть Анны, Алексѣй Александровичъ испыталъ ужасъ.> Алексѣй Александровичъ горячо сочувствовалъ дѣлу. И увлеченіе его этимъ дѣломъ много способствовало ему загладить тяжелое впечатлѣніе отъ смерти Анны. Онъ написалъ нѣсколько записокъ о томъ, какъ должно было вести дѣло. Но взгляды его на рѣшеніе вопроса были различны съ взглядами графини Лидіи Ивановны. Графиня Лидія Ивановна въ этомъ дѣлѣ руководствовалась указаніями Landau. И кромѣ того, любовь ея теперь съ Алексѣя Александровича была перенесена на одного Черногорца.
(обратно)1824
[Вы знаете, граф Вронский тоже отправляется,]
(обратно)1825
[оцепенения.]
(обратно)1826
[ — Поговорите с ним в пути.]
(обратно)1827
[— Вот он,]
(обратно)1828
Зачеркнуто: а потому крикъ все возрасталъ и возрасталъ.
(обратно)1829
Зачеркнуто: ошалѣвшимъ людямъ, бѣснующимся въ маленькомъ кружкѣ, казалось, что вся Россія, весь народъ
(обратно)1830
Зач.: и разумъ уже не имѣлъ никакихъ правъ.
(обратно)1831
Зач.: Являлись извѣстія, которыя всѣ повторяли, нисколько не смущаясь безсмыслицей и невозможностью
(обратно)1832
Зачеркнуто: какъ послѣ 4-й пули русскіе люди умирали, крича: «Ахъ, смерть имъ, о Господи» и «Напредъ».
(обратно)1833
Зач.: дамами и мущинами,
(обратно)1834
Зач.: и нѣмецкимъ волонтерамъ говорили, что они убиваютъ плѣнныхъ, и всѣ находили, что это прекрасно.
(обратно)1835
Зач.: и изъ за мелочнаго тщеславія, изъ моды не отступался отъ этаго права, а готовый на все спокойно ждалъ совершенія своихъ судебъ отъ высшей власти.
(обратно)1836
Зачеркнуто: — Князь говоритъ, что мы кричимъ, какъ лягушки передъ дождемъ, — все также спокойно улыбаясь, сказалъ Сергѣй Иванычъ.
— Нѣтъ, я не про васъ, я про газеты, — сказалъ князь.
(обратно)1837
Зачеркнуто: ту мучительную неясность
(обратно)1838
Здесь, очевидно, какой-то пропуск.
(обратно)1839
Зачеркнуто: «Я понимаю, что человѣкъ нелюбящій можетъ быть невѣрующій».
(обратно)1840
Зач.: Дмитрій.
(обратно)1841
В подлиннике: Общаго плана
(обратно)1842
Зачеркнуто: страшное
(обратно)1843
Зачеркнуто: зачѣмъ же жить? Нельзя жить и надо убить себя.
(обратно)1844
Против этих слов на полях написано: Всѣ теоріи свои — организмъ звѣздъ — и чужія включались свободно, кромѣ матерьялизма, который есть отрицаніе.
(обратно)1845
Рядом на полях написано: Кощунство или подлость. Забылъ дилему. Но любовь нужна, а не слова.
(обратно)1846
В подлиннике: обмѣна.
(обратно)1847
В подлиннике: другомъ.
(обратно)1848
Зачеркнуто: И это какъ возвращаются отъ счастливаго, но заблѵжденія.
(обратно)1849
[рецидив]
(обратно)1850
Зачеркнуто: безъ котораго нѣтъ выхода.
(обратно)1851
Зач.: сосуда.
(обратно)1852
Зач.: И одинъ прямой путь есть вѣра, безъ которой я бы и не могъ жить.
(обратно)1853
На полях против этих слов написано: Православ[іе] противъ катол[ицизма]
(обратно)1854
На полях против этих слов написано: Меду съ огурцами дѣямъ.
(обратно)1855
Зачеркнуто: и Мити тоже не было.
(обратно)1856
Зачеркнуто: едва ли не будетъ больше голосовъ въ ихъ пользу, чѣмъ въ вашу, если также муссировать дѣло, какъ вы.
(обратно)1857
Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891. Редакция С. Л. Толстого. Примечания С. Л. Толстого и Г. А. Волкова. Предисловие М. А. Цявловского. Издание М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 32.
(обратно)1858
Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 35—36.
(обратно)1859
Старший сын Толстых.
(обратно)1860
Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 35—36.
(обратно)1861
Ф. И. Булгаков. «Гр. Л. Н. Толстой и критика его произведений — русская и иностранная». Изд. 3, П. 1899, стр. 86.
(обратно)1862
П. Сергеенко. «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», изд. 2, М. 1903, стр. 99.
(обратно)1863
Эта фамилия не случайна, если принять во внимание, что некоторые особенности внешнего облика Анны, судя по воспоминаниям Т. А. Кузминской, взяты с дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг, которую Толстой встретил в Туле у генерала Тулубьева (Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», часть третья, 1864—1868. Издание М. и С. Сабашниковых. М. 1926, стр. 173).
(обратно)1864
Этот первоначальный облик Анны мог возникнуть у Толстого в такой связи: судьба ее в романе была подсказана Толстому действительным случаем, происшедшим в 1872 г. с Анной Степановной Пироговой, любовницей соседа Толстого по имению — А. Н. Бибикова, который покинул ее. Не будучи в состоянии справиться с постигшим ее горем, Пирогова бросилась под товарный поезд. Толстой сам видел изуродованный труп самоубийцы и испытал при этом очень тяжелое впечатление.
С. А. Толстая так описывает Пирогову: «Анна Степановна была высокая, полная женщина, с русским типом лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная» (Дневники Софии Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 44—45). В дальнейшей работе над романом всюду подчеркивается красота Анны. Лишь в варианте № 20 (рук. № 17) о лице Анны сказано было, что оно было «простое, свежее, румяное, неправильное и чрезвычайно привлекательное». Но затем все это было зачеркнуто и оставлено только одно слово — «простое».
(обратно)1865
Еще раньше, в плане, написанном рядом с началом текста шестой главы, относительно Михаила Михайловича, было записано: «Приходит домой и отравляется».
(обратно)1866
См. Б. Эйхенбаум. «Толстой и Шопенгауэр». — «Литературный современник» 1935, № 11, стр. 144.
(обратно)1867
Позже он именуется Николаем Константиновичем Ордынцевым, Лениным, Левиным.
(обратно)1868
Здесь и в дальнейшем письма Толстого цитируются по тексту приготовленного к печати 62 тома настоящего издания. Письма его к жене цитируются по изданию «Письма Л. Н. Толстого к жене», 2 изд., М. 1915.
(обратно)1869
Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 105.
(обратно)1870
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, 1870—1894. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского, Спб. 1914, стр. 32.
(обратно)1871
Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 36.
(обратно)1872
Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 103.
(обратно)1873
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 41.
(обратно)1874
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, стр. 47.
(обратно)1875
Там же, стр. 49—50.
(обратно)1876
Письма к жене, стр. 104.
(обратно)1877
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, стр. 51.
(обратно)1878
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 48—49.
(обратно)1879
А. Дюма-сын в 1871 г. выпустил книгу, озаглавленную «L'Homme-femme. Réponse а М. Henri d’Ideville». Она представляет собой ответ на статью Анри Идевиля, напечатанную в газете «Soir». С Дюма, в свою очередь полемизировал Жирарден (E. de Girardin) в книге «L'homme et la femme, l’homme suzerain, la femme vassale, réponse à l’Homme-femme de M. Dumas-fils» (Paris, 1872). О книге Дюма Толстой писал 1марта 1873 г. Т. А. Кузминской: «Прочла ли ты «L’Homme-femme»? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчины к женщине». Поводом для ответа Дюма Идевилю послужил нашумевший судебный процесс в связи с убийством мужем изменившей ему жены. Точка зрения Дюма-сына на брак — строго традиционная. Брак — освященное богом установление, в котором мужчина является как бы выразителем божественной воли, ответственным за судьбу женщины. Женщина — лишь орудие в руках мужчины, отражение его творческой силы. Брак конечной своей целью имеет усовершенствование человеческой жизни на основе высокого нравственного идеала. Женщину, нарушившую супружескую верность, мужчина — по мысли Дюма — должен стараться всеми мерами морального воздействия вернуть на путь целомудренной жизни, но если это оказывается невозможным, ее следует убить. На этой точке зрения из участников спора в печатаемом варианте стоит один из участников обеда у Алабиных — Равский.
В окончательном тексте романа женский вопрос фигурирует в ряду других вопросов, по поводу которых ведутся споры за обедом у Облонских, причем речь в этом споре идет специально лишь о женском равноправии; тема же, затронутая в данном черновом варианте, позже более полно была развита Толстым в Крейцеровой сонате.
(обратно)1880
Любопытно, что фамилия «Гагин» заменена здесь Толстым фамилией «Ордин», близкой к «Ордынцев», т. е. к той, которая первоначально присвоена была будущему Левину.
(обратно)1881
В позднейшем варианте (№177, рук. № 99) Анна в беседе с Левиным говорит ему, что она никогда не могла увлечься школой, чувствуя непреодолимую стену между собой и народом.
(обратно)1882
В черновых редакциях романа мы также кое-где встречаем упоминания о мачехе, жившей с Левиным, но эти упоминания сделаны мимоходом. Так, в варианте № 28 (наборная рукопись) брат Левина Николай говорит ему о мачехе: «Ну, а Амалия наша — что же, бросила шалить или всё еще соблазняется? Какая гадина!» Левин на это отвечает: «За что ты ее ругаешь? Она, право, добрая и жалкая старуха».
(обратно)1883
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, стр. 53.
(обратно)1884
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, стр. 55.
(обратно)1885
Подчеркнуто Толстым.
(обратно)1886
«Общество любителей российской словесности при Московском университете». Историческая записка и материалы за сто лет. М. 1911, стр. 135.
(обратно)1887
[если это действительно успех,]
(обратно)1888
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 61.
(обратно)1889
[осторожно,]
(обратно)1890
«Красный архив», 1924, № 7, стр. 251.
(обратно)1891
Рассказ Тургенева, напечатанный в январской книжке «Вестника Европы» за 1876 г.
(обратно)1892
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 82.
(обратно)1893
[что они в этом понимают больше, чем я...]
(обратно)1894
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 81.
(обратно)1895
Там же, стр. 83.
(обратно)1896
Это письмо является ответом на письмо А. А. Толстой от 28 марта 1876 г. Заканчивая его, она писала: «Здесь прошел слух, что Анна убьется на рельсах железной дороги. Этому я не хочу верить. Вы неспособны на такую пошлость» (Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой, Спб. 1911, стр. 268). В письме Толстого на эти недоуменные строки его адресатки нет никакого ответа.
(обратно)1897
Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 108.
(обратно)1898
Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 36—37. Речь идет о главах — XXII—XXIII пятой части по счету отдельного, послежурнального издания.
(обратно)1899
Подчеркнуто С. А. Толстой.
(обратно)1900
Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 36.
(обратно)1901
Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 37.
(обратно)1902
См. Дневники С. А. Толстой, 1860—1891, стр. 109.
(обратно)1903
Там же, стр. 37. Напечатанное курсивом подчеркнуто С. А. Толстой.
(обратно)1904
Н. Н. Гусев. «Толстой в расцвете художественного гения», стр. 223.
(обратно)1905
Переписка Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 118—119.
(обратно)1906
Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 112.
(обратно)1907
См. Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 8—27.
(обратно)1908
См. «Моя жизнь дома и в Ясной поляне». Воспоминания, 1846—1862. Предисловие и примечания М. А. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1925, стр. 109—118.
(обратно)1909
Том 62 наст. изд. См. также Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома а в Ясной поляне». Воспоминания, 1863—1864, М. 1926, стр. 126, и 1864—1868. М. 1926, стр. 22, 118.
(обратно)1910
Сводку сведений о прототипах «Анны Карениной» см. в книге Н. Н. Гусева «Толстой в расцвете художественного гения», стр. 218—-219, и в примечаниях В. Ф. Саводника к изданию «Анны Карениной» Государственного издательства, 2 тт. М.—Л. 1928. См. также Б. М. Эйхенбаум. «Лев Толстой», книга вторая, Л.—М. 1931, стр. 35—37 (о Б. Н. Чичерине и Ю. Ф. Самарине как прототипах С. И. Кознышева).
(обратно)1911
См. Д. Д. Оболенский. «Отрывки (из личных воспоминаний)». — «О Толстом». Международный альманах. М. 1909, стр. 244.
(обратно)1912
См. об этом в указанных примечаниях В. Ф. Саводника к «Анне Карениной» в издании Государственного издательства 1928 г.
(обратно)1913
Исчерпывающий материал по переработке журнального текста романа для отдельного издания см. в т. 18, стр, 459—548, и т. 19, стр. 401—503, настоящего издания.
(обратно)1914
См. Переписку Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым, стр. 134, 138, 143.
(обратно)1915
Подробнее об этом см. в Текстологическом комментарии, напечатанном в 19 томе настоящего издания, стр. 470—473.
(обратно)1916
Подробнее о приемах установления окончательного текста романа см. в Текстологическом комментарии, указ. том, стр. 473—503.
(обратно)
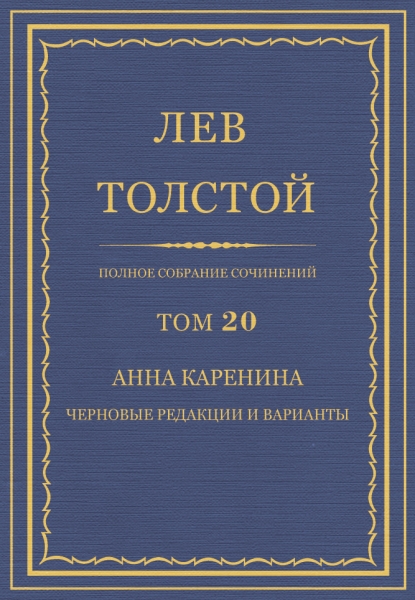

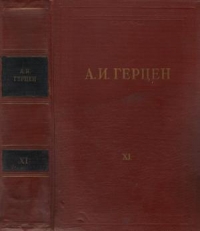


Комментарии к книге «ПСС. Том 20. Анна Каренина. Черновые редакции и варианты», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев