Аркадий Селиванов Чертополох
Повести и рассказы
Чертополох
Повесть
I
Кое-где, на окраинах Петербурга, сохранились еще милые зеленые улочки, уставленные покосившимися деревянными домишками. Они еще радуют взор и сердце провинциала, и в коричневых домиках с мезонинами любят селиться краснощекие курсистки-первокурсницы, тоскующие по родным захолустьям.
Комнаты здесь полутемные и зимой холодные, и молодые ноги ежедневно меряют версты к центру города и обратно, но под окном стоят чахлые березы, общипанная рябина… И чужой, холодный огромный город не так уж страшен.
Если бы не война, трехлетняя прожорливая акула, глотающая каменщиков и штукатуров, то и этой идиллии давно бы уже не было. Уже и зеленые улочки начинали застраиваться желтыми и красными домами-казармами, с лифтами и электричеством, с комнатушками в квадратную сажень. И сейчас, кое-где на ласкающем зеленом фоне, уродливо топорщатся деревянные леса начатых и брошенных построек.
На углу двух таких милых улочек, неподалеку от захолустной речонки Карповки, стоит двухэтажный деревянный дом купца Офросимова.
Сам владелец, Терентий Иванович, живет в квартирке налицо, а две поменьше отдает внаймы парикмахеру Гришину и конторщику Курнатовичу.
Офросимовский дом стоит уже лет тридцать, давно уже покосился и одним боком врос в землю. Красили его последний раз в японскую войну. Был он тогда небесно-голубой, точно бирюза на перстне Терентия Ивановича, а сейчас стал уже серенький с лиловым отливом. Деревянный заборчик местами уже заваливается, направляя в прохожих свои обломанные пики. Эти пики уже, недешево стоят Офросимову. Если бы не революция, то местный околоточный и по сей бы день ходил к Терентию Ивановичу. Приходил бы с напоминанием, а уходил бы с синенькой бумажкой.
Двух вещей на свете не мог терпеть Терентий Иванович: табаку и ремонта. И на квартиры за десять лет ни одной копейки не набавил, лишь бы жильцы ремонта не просили. К табаку же ненависть была фамильная, все Офросимовы были староверами. Дед его и попов не признавал, и хотя сам-то Терентий Иванович уже ходил к единоверцам и даже с отцом Николаем водил дружбу, но все же, отправляя на войну второго сына, наказал ему строго-настрого:
— Ежели пить там выучишься, — черт с тобой, болезнь дурную привезешь — твое дело… Но ежели табакуром вернешься, — на порог не пущу!
— Ладно уж, знаю! — буркнул в ответ Костя Офросимов и, отъехав от родительского дома на приличное расстояние, вынул из кармана новенький кожаный портсигарчик.
А Терентий Иванович постоял на пороге калитки, пока не скрылись за соседним забором извозчичья пролетка, сутулая спина сына в теплой вязаной куртке и черная дворовая собака «Жук», задумчиво потрогал ржавую сломанную щеколду у ворот и, по скрипучей деревянной лесенке, поднялся в квартиру.
Войдя в спальню, узенькую комнату с одним окном, Терентий Иванович подошел к образам, достал из комода желтую восковую свечку и зажег ее об огонек неугасимой лампады. Долго, шевеля толстыми пальцами, втыкал ее в маленький подсвечник, потом постлал перед собой пестрый, ватный, лоснящийся от жира подрушничек и стал молиться. Стоял, сложив на груди крестом руки, не мигая смотрел на темный лик Николы Чудотворца и шептал молитвы:
— Анделы, арханделы… Угодники божии…
Походил по комнатке, присел на кровать в углу и погладил по толстой мягкой спине серого кота, старого глухого «Мурку».
Встал с кровати и снова подошел к иконам, и снова шевелил седыми усами и кланялся земно, опираясь лбом и руками в пестрый подрушник.
Где-то далеко пел рожок автомобиля. Где-то еще дальше жужжал огромный город. Где-то была война, пушки, аэропланы…
Туда ехал сын, второй и последний. Незадачный, непутевый Костька, шелапут, родимый…
— Пронеси Владычица!.. Анделы, арханделы…
II
Парикмахер Гришин, человек больной, чахоточный и ничем недовольный. Живет он в великой тесноте: в двух маленьких комнатушках и полутемной кухне ютятся восемь человек. Гришин женат, у него трое детей, старший уже торгует вечерними газетами, а младшего еще по ночам трясут в люльке. Трясут поочередно, с вечера сам Гришин, страдающий бессонницей, потом, когда он, накашлявшись до полного изнеможения, заснет, к люльке подходит жена парикмахера Ольга Ардальоновна. На рассвете, прежде чем запоет офросимовский петух, люлька уже переходит в распоряжение бабушки Семеновны. А трехмесячный Федор Гришин все еще продолжает кричать слабеньким кошачьим голоском.
Ко всем прежним огорчениям Гришина с недавнего времени прибавилось еще одно: в качестве беженца приехал в столицу тесть Гришина, веселый, но совершенно бесполезный старик Ардальон Егорович, и к тому же, еще не один, вместе с ним явилась и дочка его, девица на возрасте, длинная, тощая, веснушчатая и, для контраста с папашей, вечно угрюмая и злая.
Приехали они в начале мая, откуда-то с Волги, где только что лопнул драматический театр, и Ардальон Егорович, служивший в нем суфлером, остался на волжском бережку, под открытым небом, с одиннадцатью рублями в кармане.
От вокзала до самого офросимовского дома шли они пешочком, не хватило уже и на трамвай. Шли долго, отдыхая на скамейках скверов, любуясь на красавицу Неву, задирая головы, чтобы взглянуть на шпиль крепости, умиляясь на веселые голубенькие стены мечети. Впрочем, умилялся только один отставной суфлер, а дочка его, «молчальница» Лиза, хмурясь и морщась, тащила парусиновый чемоданчик, давно потерявший все свои застежки и перевязанный толстой веревкой.
Веселый Ардальон Егорович даже шутил по дороге:
— А вдруг с нами приключится то самое, что описано в стихах народного печальника поэта Некрасова? А? Помнишь, Лизок? «Закатились прямо к родственнику… Не пустил!»
Пустить-то их пустили, но радости особенной не выразили. Бабушка Семеновна в первый же вечер не вытерпела:
— Мала вам Рассея-то? Нашли куда явиться… Вы бы напредки у знающих людей про цены спросили… Что почем? Масло-то здесь по три с полтиной, а крупы — никакой… А кофе — пять рублей… Путешественники!..
Сам Гришин, вернувшись с работы и узнав о приятном сюрпризе, только махнул рукой, длинной и страшной, как у скелета, молча лег на кровать и принялся кашлять с удвоенной злостью.
Круглое же, давно небритое, личико суфлера лишь в первую минуту выразило нечто вроде смущения, но тотчас же и расцвело добродушнейшей улыбкой.
— Мы же только временно… Так сказать, повидаться после долгой разлуки… А потом и дальше. Правду матушка сказали, — повернулся он к Семеновне, — Россия страна необъятная, и сколько бы немцы ни напирали — есть куда податься. Вот, завтра же утречком пойду в агентство, разыщу старых приятелей… И с первого же аванса — поднесу бабушке кофейку, ливанского, мокко. Изволили пивать? А Лизок мой, пока что, по хозяйству поможет, в очереди постоять и прочее… Она у меня — опытнейшая хозяйка, в Саратове весь дом вела…
— Да что уже… — вздохнула за самоваром Ольга Ардальоновна. — Приехали, так, погостите!.. Вот только спать-то… Теснота у нас.
— А я в кухоньке — успокоил суфлер. — Плед у меня есть аглицкий, износу ему нет… Укроюсь и все тут. Наше дело беженское, не до комфортов… А Лизок — в коридорчике. Она — маленькая, словно мышка.
— Карточки на вас надо завтра выправить, — сказала бабушка. — А то хлеба-то и самим не хватает.
Она уже примирилась с неизбежностью. Даже подвинула к гостям тарелку с хлебом и розовую корочку голландского сыра.
— Кушайте с дороги-то! Вон, Лизавета-то какая заморенная, в лице-то ни кровинки.
— Да-с, беспокоит она меня, — вздохнул Ардальон Егорович. — Только причина не в питании… Доктора говорят: неврастения. Вот завтра пойду!.. Я уже решил: ангажемент на юг. Не иначе. Не погонюсь и за условиями, лишь бы в благодатный климат, к морю, под солнышко…
Но южного моря Лиза и не понюхала, да и солнышко видела петербургское, корректное, без эксцессов. Ангажемента не было не только на юг, но и никуда. Четвертая неделя уже пошла, как они в Петербурге. Ардальон Егорович сначала уходил каждое утро в поиски старых приятелей и знакомых антрепренеров, пока не слег. Старые ноги отказались служить ему. Простуженные в долгие часы сиденья в суфлерской будке, под полом, в сырости, на сквозняках.
— Ревматизм уже тем одним ядовитейшая болезнь, что видимости нет, — говаривал суфлер, охая и потирая колено. — Грызет, как тигра, а снаружи все благополучно. Злой человек и не поверит.
— Молчали бы лучше!.. Злой человек… — ворчала в ответ бабушка Семеновна. — А добрый-то человек на чужую шею не садится. Да и то сказать: хоть и плохи вы и не нужны никому, а все ж из актеров будете, под любой сорт представитесь, и на благородного и на болящего. Вы лучше бы на зятя поглядели для примеру. Человеку до гроба сутки осталось, а небось не ложится. Один работает на всех, и на семью свою, и на гостей дорогих.
— Эх, бабушка!.. Душа у вас какая-то стиснутая, без простора… А сын ваш человек замечательный, двужильный человек, и болезнь у него хроническая, с ней десятки лет живут… И добрый он, словно бы и не сын вам, вчера принес мне в пузырьке одеколону, тройного, растер я ногу и полегче стало.
— Растер ли? Полагаю я, что выпили.
— Ошибаетесь, почтеннейшая, — обиделся Ардальон Егорович и даже к стенке отвернулся. — Тому, кто с мое разного бургонского да Шамбертена выпил, — одеколон не требуется, разве руки вымыть. Закройте-ка дверцу-то, сквозит!
— Тьфу ты! — плевалась бабушка. — Скоморох несчастный, шут балаганный!.. — И, хлопнув дверью, добавляла всегда одну и ту же фразу, горькую и скучную, слова протеста и санкцию рока:
— Принесла нелегкая!
III
А рядом, за тонкой дощатой стенкой, шла другая жизнь, такая непохожая на маету Гришиных. Там с весны поселились молодожены Курнатовичи. Все у них было не так, как у соседей. Те же четыре маленьких покосившихся окна — в тот же палисадник, но с беленькими тюлевыми занавесками, те же скрипучие, много лет некрашеные полы, но устланные пестрыми ковриками и дорожками. На подоконниках стояли тощие, но еще живучие пальмочки и горшки с резедой. По стенкам висели картинки, вырезанные из журналов и собственноручно вставленные Дементием Петровичем в узенькие черные рамки.
В одной из двух комнатушек, «кабинете», стоял у окна письменный столик и, хотя одна из ножек его была недавно сломана и перевязана веревками, но столик был покрыт новеньким и таким изумрудно-весенним сукном, что ему завидовали все офросимовские березы.
В углу над столом висела полка с книгами, а рядом с ней — гитара, старенькая, тихая, тоскующая по вечерам…
Невежественная в музыке соседка — бабушка Семеновна почему-то звала ее бандурой, и, затворяя на ночь свои окна, ворчала с укоризной:
— Опять завел свою бандуру!
Случалось, что Маруся Курнатович тихонько подпевала и хотя была она юной и еще розовой, но петь умела только грустное, отчего после концерта голубовато-серые глаза ее темнели, и склонялась к коленям заплетенная на ночь каштановая коса.
А Курнатович, улыбаясь, поглядывал на жену.
— О чем ты закручинилась?
— Так… — отвечала Маруся. — И сама я не знаю. У меня это с детства, если музыка, так и слезы…
Курнатович вешал на гвоздик гитару, целовал Марусю и шел гулять.
Заходил далеко, на острова, медленно бродя мимо каменных дач, окна которых в это лето были заколочены досками. Сидел на зеленой скамейке у пруда, слушал ночные серенады лягушек, курил…
Белые петербургские ночи ворожили над его непривычной душой, не пускали домой, прогоняли сон.
Белые ночи иногда делали из Дементия Петровича мечтателя.
«Вот, — думал он. — Кончится же когда-нибудь вся эта канитель, и война и революция… Все овцы будут съедены, все волки накормлены, и останутся на земле только люди. И все снова вспомнят забытые слова и тишину опять полюбят. И окажется, что кроме брюха у человека есть еще и сердце, и оно запросит Бога… Есть еще и голова, и она потребует книгу… И руки снова заскучают по труду, по работе над новыми гнездами».
Мечтатель Курнатович бредет к дому по знакомой сонной уличке. В сумраке белой ночи глядят черные окна домов. На углу, прислонившись спиной к заборчику, дремлет милиционер. Широко расставил ноги, обмотанные серыми тряпками, между колен поставил винтовку и обнял ее, прижав к груди, спрятав руки в рукава заплатанной шинели. С Невы тянет утренним холодком, трепетно качаются ветки рябины и шуршат тихонько, словно спрашивают Курнатовича:
— Доживешь ли?
Вот и дом купца Офросимова. Все жильцы его спят, уснул даже в своей люльке неугомонный наследник парикмахера. Спит уже и Маруся. И все окна темны, только в угловом окне у хозяина мерцает желтенький огонек лампадки.
Навстречу Дементию Петровичу выходит из калитки черный «Жук». Лениво зевает, лениво шевелит облезлым хвостом. Подымает правое ухо и слушает что-то в тишине колдующей ночи. Смотрят в туманную даль собачьи глаза. Если бы не сонная одурь, завыл бы…
IV
Бабушка Семеновна с утра ходила за две версты на рынок, вернулась поздно с тяжелым кульком, усталая, распаренная и принесла печальные, жуткие новости:
— Достукались! Картошку уже и за четвертак не укупишь, да говорят, что и той скоро не будет. Ничего уже нет на базаре, все извели таксциями… Торговцы зубы скалят: слобода, мол, теперь, кушайте ее с маслом! И никакой управы. Раньше хоть околоточный ходил да жучил…
— Слушать вас противно, — сипел чахоточный парикмахер. — По околоточном встосковались! Старое поколение… в голове-то у вас тьма еще. Контроль требуется, вот что… Буржуев скрутить да войну эту похерить, тогда и картошки и прочего, хоть облопайся.
— Гм… — деликатно вмешивается суфлер. — Это как сказать… Истина, она всегда по середке-с… Внезапная демобилизация тоже может быть катастрофична, и опять же государственные интересы…
— Интересы… — кашлял Гришин. — Вы хоть когда бы газетой поинтересовались. Все равно так сидите. На вчерашнем пленарном заседании…
— Тьфу ты, пропасть! — перебила Семеновна. — Им про дело скажешь, а они свои мельницы… Ужо! Подведет вам животы-то, ораторы… Легко тут речи-то разводить, а вы бы с мое в очередях поторчали, кули бы эти потаскали, изловчились бы на два целковых восемь ртов накормить.
Хлопнув дверью Семеновна ушла в кухню, а суфлер, потирая коленку, повернулся к Гришину:
— Вы говорите — газеты… Да я, помнится, без газет-то и жить не мог, по несколько штук ежедневно покупал, а только наши газеты разные… Вас, вот заседания да резолюции интересуют, а мне требуется театральная хроника. В ваших газетах про искусство-то ни словечка нет. Словно бы мы и не в столице живем, а в дикой Патагонии…
— Всему свой срок, дождетесь! Пока что, театры ваши лишь для буржуев приноровлены. Для их потехи. Придет время и пролетарскому искусству, вот тогда и в наших газетах писать будут…
— Улита едет… — улыбался суфлер. — Сказал бы я вам… Искусство, батенька мой, одно для всех. Вот, как солнышко на небе, всем светит. А где уж начали делить, ваше да наше, народное да буржуйное… Ах! Там, значит, солнышка-то и не видели, в потемках выросли. И театр один должен быть, как божий храм, для всех открытый. И репертуарчик общий, ни барский, ни мужичий. Так-то вы скорей людей сравняете. Потому и Гамлет и Аркашка — оба люди-человеки. Егалитэ!
Парикмахер сердито повернулся на скрипучей кровати и закашлялся.
— Не время еще… — прохрипел он в ответ. — Поважней дела есть.
— Ваше дело. Нам сговориться трудно, из разного теста мы, а только, по-моему, кроты вы, за деревьями леса не видите. Ничего нет важней просвещения. Все остальное само придет. Вот, вы хотите всех, всех на минимум посадить, а знаете ли, что по этому поводу Шекспир говорит? Устами короля Лира? «Дай человеку лишь одно необходимое, и ты сравняешь его с животным».
— Ваш Шекспир — придворный шут был.
— Что? Ах ты, Фигаро с Бармалеевой!.. Про кого ты тявкнул?
Старый суфлер забыл про свой ревматизм, вскочил с дивана, гневно шагнул к лежащему на кровати парикмахеру и… неожиданно рассмеялся громким добродушным «варламовским» хохотком.
— Господь с вами, батенька… В голове у вас мыльная пена-с! Ха-ха-ха!.. Придворный шут! А кто написал Юлия Цезаря? Кто создал Брута? Но я не виню. Профессия ваша, многосемейность эта… Опять же здоровье… Ишь, как бухаете…
Ардальон Егорович снова опустился на диван и, сморщившись по привычке, потер больную ногу.
— Ох, замучила проклятая, грызет… А мне сегодня в город необходимо…
— Зачем это? — поинтересовался Гришин.
— К приятелю одному. Вчера в газете прочел, не в вашей конечно… Приехал сюда Вовочка Маурин, артист, неврастеник. В провинции гремит давно. Я с ним еще в Казани служил. Человек он душевный, товарищ и все прочее… Вот, к нему и собираюсь. Приду, облобызаю и с места: Выручай! Так и так, мол… Ему стоит слово сказать любому антрепренеру…
— А если не захочет?
— Кто? Вовка Маурин не захочет? Старого товарища из беды вызволить? О-хо-хо! Пессимистище вы, батенька… Все в черном свете. Да я дня бы не выжил, если бы в людей не верил. Отыскал бы веревочку покрепче, поболтал бы ножками и addio!.. финал, занавес. Живите без меня! Нет, не погляжу и на болезнь, перемогусь и хоть на карачках, а доползу до Вовки… Вот после обеда, сейчас же…
— А почему бы не теперь?
Ардальон Егорович махнул рукой и устало закрыл глазки.
— Что с вами разговаривать! Разве вы понимаете, что это значит: артист? Он живет за двоих, за дюжину… Жизнь яркая, ослепительная, а он ее еще с двух концов факелом. Раньше утра не ложится никогда, а сейчас — первый сон видит. Будить нельзя. Но и опоздать не хочется… Потому вот, попрошу я вас, батенька, нельзя ли мне на трамвайчик?
— Ладно уже… Знаю, что зря, но возьмите! Вон там, в жилетке, в кармане.
Суфлер захромал в угол, снял со стула клетчатый жилет и подал его Гришину.
— Мне только на один конец — успокоил он. — Обратно-то я, ого!
— Берите на два, а не то спокаетесь. Вот, полтинник… Сколько теперь за вами? — улыбнулся парикмахер.
— Записано. Все до копеечки… Сегодня же и расчет. Благодарю! Эх! — Ардальон Егорович потер пухленькие ручки и весело подмигнул.
— Не я буду, если, кроме всего прочего, не подкую сегодня Вовку на бутылку доброго коньячишки…
— Мечтайте! — прохрипел Гришин и, свесив голову, начал кашлять долго, с надрывом, со злостью…
А суфлер, кряхтя и охая, присел на корточки перед своим чемоданом и среди старых тетрадок с ролями отыскал смятый фиолетовый галстук и пару пожелтевших бумажных манжет.
— Вот, — сказал он, повернувшись к Гришину и помахивая галстуком. — И галстук этот его же, Вовочкин. У него их четыре дюжины было, а жилетов одиннадцать штук. По гардеробу он всех любовников обскакивал. Н-да… И туфли лаковые у меня были от него же… Душевный парень!
V
В тот же день, в четвертом часу, Ардальон Егорович, прихрамывая и постукивая парикмахеровой тросточкой, шел по Невскому. До гостиницы, где поселился актер Маурин, предстояло еще пройти с версту. Суфлера уже мучила жажда. Враг его, старуха Семеновна, сегодня словно нарочно подала к обеду селедки, да и июньское солнце успело уже раскалить стены домов и расплавить в мягкую кашицу асфальтовый тротуар.
Ардальон Егорович торопился, пыхтел, обмахивал свое бабье красное личико снятой соломенной шляпой и, щуря глазки, старался увидеть часы на думской каланче.
На углу пришлось остановиться. Перед маленьким суфлером была плотная стенка толпы. Около подъезда на табуретке швейцара стоял молоденький безусый прапорщик, повертывал сверток в вытянутой руке, в газетной бумаге, и кричал звонким тенорком:
— Граждане, товарищи, предлагаю аукцион! Американский аукцион в пользу семейств полков… Фунт хлеба, пожертвованный инвалидом-моряком… Три рубля! Кто больше? Четыре!
— Что это здесь? — спросил Ардальон Егорович у стоявшего рядом солдатика, с широкой блаженной улыбкой на круглом лице.
— Здорово! — ответил солдат, не отрывая глаз от прапорщика. — В азарт вгоняет… Давеча на том углу наперсток разыграли, швея поднесла… В двести сорок вогнали! Ей Богу! Качали его…
— Кого?
— Гражданина этого, который выиграл. А он возьми да и обратно. Жертвую, говорит, вали сначала…
Суфлер с минутку потоптался на месте, поглядел на восторженного аукциониста и, спохватившись, стал выбираться из толпы на середину улицы. «Прозеваю Вовку… — испуганно подумал он. — Ишь, толпа-то какая… Все буржуи выползли на солнышко».
Но пройти дальше собора ему не удалось. Наперерез ему двигалась процессия добровольцев. Громыхал военный оркестр. Колыхалось под солнцем ярко-красное знамя. Сотни обмотанных ног стучали по торцовой мостовой. Впереди шел женский батальон. Белые, еще не успевшие загореть лица, узенькие плечи с обвислыми погонами, маленькие, посиневшие с натуги пальцы, сжимающие приклады винтовок, дразнящие солнце штыки и розы, красные смятые розы на многих штыках.
Ардальон Егорович словно забыл о цели своего путешествия, кряхтя взобрался на тумбу, маленькой ручкой прикрыл глаза от солнца и смотрел вослед уходящим… идущим далеко, в окопы, в пекло, на мужскую страду…
Улыбка женского сердца. Ирония взбаламученной жизни. Горькая насмешка, звонкая, пощечина мужскому безмолвию… Жалкие, ничтожные капли отваги в утомленный, равнодушный океан. Искорки энтузиазма под лавиною мертвого холодного пепла… Величайшая в мире страна, двенадцатимиллионная армия, опустившая усталые руки, роняющие меч, и кучка женщин, сестер, юных, вспыхнувших, как спички, дразнящих смерть, мечтающих поднять всю тяжесть, брошенную братьями.
Ардальону Егоровичу стало смешно и захотелось тихонько всхлипнуть, умиленное чувство пощекотало в горле, и невольная злость сжала пухлый кулачок суфлера.
— Эх-ма! — сказал он, слезая с тумбы и, уже выбравшись снова из толпы и спешно ковыляя по краешку тротуара, еще раз оглянулся на желто-зеленоватую ленточку процессии и добавил одно слово:
— Н-да…
Но суфлеру, несмотря на все препятствия, все-таки повезло сегодня. Он встретил Вовочку Маурина у самого подъезда гостиницы, и старые приятели хотя и не облобызались, но долго трясли руки.
— Ты ко мне? — спросил Маурин и, не дожидаясь ответа, помахал палевой перчаткой проезжавшему извозчику.
— Вот что, старина… — сказал он суфлеру. — По лицу твоему видно, что жажда у тебя вселенская, а у меня — аппетит, значит, нам по дороге… Извозчик!
VI
Сегодня праздник, и у Курнатовичей гости. Земляк и родственник Маруси вечный студент Игнатьев и двое сослуживцев Дементия Петровича.
Гости приехали засветло, потолкались в тесном кабинетике и потащили Курнатовичей на острова. Бродили по узеньким кривым аллейкам, улыбались пыльным кустикам акации, ложились на чахлую травку под кленами, где до них уже валялись многие, оставившие на память о себе обрывки газетной бумаги, яичную скорлупу и шелуху подсолнухов.
Студент внезапно влюбился в одну дачу на берегу зеленой тинистой канавки, присел под березой, вынул из кармана маленький альбомчик и срисовал нелепую готическую крышу над английским коттеджем.
Маруся переводила взгляд с розовых черепиц крыши на бледные щеки Алеши Игнатьева и весело смеялась:
— Строил ее немец Мейер для надворной советницы Егоровой, в стиле барокко, пополам с модерном…
— Вот этим она и хороша, — отшучивался Алеша.
— Самые умные в мире собаки — ублюдки, самые интересные люди — пьяные…
— Эк его!.. Напомнил… — вздохнул бухгалтер Воронков. — Теперь бы сюда столик, под березку… Да соорудить бы крюшончик, холодненький, с апельсинчиком… «Эх ты время мое, золотая пора!.. Не видать уж тебя, видно, боле»…
Снова бродили по берегу, купили в ларьке у моста шоколад и молча грызли твердокаменные черные плитки, сидя рядом на желтой скамейке и поглядывая на малиновое солнце, ныряющее в лужицу залива.
Далеко на горизонте, казалось, рядом с красной утопающей облаткой, маячил розовый парус яхточки, а сзади, за спиной сидящих, позвякивали подковы извозчичьих лошадей, и мягко шуршали резиновые шины таксомоторов и военных автомобилей. Почти в каждом из них сидели «товарищи», дымя папиросками, расстегнув воротники гимнастерок и обнимая свободной рукой своих дам в разноцветных газовых шарфах. Обнимавшие руки иногда «шутили», и тогда дамы звонко визжали. Между автомобилями шмыгали трескучие, как фейерверк, мотоциклетки. Отчаянные люди, в пугающих наглазниках и с торчащим во рту свистком, носились, сломя голову, по широкой аллее.
— Оглянитесь, Маруся, — сказал студент, указывая на катающихся. — Новый бомонд на старом пуанте… А только и им невесело. Я часто вглядываюсь в лица солдат и рабочих на улице, в театрах, в трамваях… Везде они хозяева жизни и всюду, как гости.
— Ничего, привыкнут! — усмехнулся Курнатович.
— Нет, не то… — поморщился Алеша. — В дерзком толчке, в нахальном взоре, в положенной на стол ноге, — только близорукие люди видят озорство победы. Нет, в этом… конфуз и страх за завтрашний день и зависть, новая зависть к побежденным… Ах! Я не умею передать свою мысль…
— И не старайтесь! Бог с ней, с политикой… — сказала Маруся, вставая. — Пойдемте пить чай. У меня еще осталось кизилевое варенье, ваше любимое. Последняя банка и уже на донышке, торопитесь!
— А ромом у вас не пахнет? — спросил Воронков.
— Увы! — улыбнулась Маруся.
— Прискорбно! — вздохнул бухгалтер. — А вот меня на днях подцепили, как младенца. Один знакомый мой «человек из ресторана», гордый такой товарищ, не берущий на чай, предложил мне за три красненьких бутылку рома, ямайского, заграничного… Каюсь, не устоял. Принес домой, смотрю — все, как следует: на пробке печать, заграничная бандероль… Открыл, а в бутылке — чай. Обыкновеннейший чай, и даже без сахара.
— Ругались? — усмехнулся Алеша.
— Нет, стерпел. Аз есмь буржуй…
Утомленные, лениво плелись обратно. Постояли на мосту, глядя на мутную зеленоватую воду. Ветхий деревянный мост кряхтел и дрожал под вагонами трамвая, перегруженными распаренным человеческим мясом. В туманном сумраке горели фонари автомобилей, и вспыхивали голубые молнии трамвайных проводов. Дыханье ночи ползло со взморья, тянуло сыростью.
Маруся повела плечами.
— Брр!.. Я никогда не привыкну к этому городу…
— Вы его еще не знаете, — возразил Воронков. — Лето здесь — гадость, тоска, запустение… Особенно в этом году. Но зимой… Я вспоминаю ночь на первое марта. Мне пришлось возвращаться домой пешком через весь город. Нева, звезды, шпиль крепости и тишина. Необыкновеннейшая тишина! Отгрохотали выстрелы, догорели полицейские участки, угомонились грузовики… Покой… И вдруг куранты «Коль славен». Знаете? Стал я на мосту, глянул кругом, и впрямь: славен!
— Вы поэт, — промолвила Маруся.
— Нет, я бухгалтер.
После чаю Дементий Петрович раздвинул ломберный столик и предложил «пулечку по сороковой». Поглядели на часы, но сели.
А Маруся увела студента побродить по их улочке, до единственного фонаря и обратно.
Спавший на крыльце «Жук» вскочил и лизнул Марусину руку.
— Ваша? — спросил Алеша.
— Нет, хозяйская. Бедная собака, ее никогда не пускают в комнаты, хозяин у нас раскольник, и в квартире у него ладаном пахнет.
Алеша молчал. Шел, прихрамывая, рядом с Марусей. Закурил папиросу, затянулся и бросил ее в канаву…
Маруся улыбнулась тихонько, про себя.
— Ну что, Алеша? Вы стали умником? Да?
— Кажется… Я вижу, что вам… хорошо?
— Да, — кивнула Маруся. — Дементий славный… И если бы не моя глупая ностальгия, мне было бы совсем хорошо. Но я, как кошка, уже начинаю привыкать… Вот и эта наша улочка мне уже нравится… А вы все хандрите? В такое время. Господи! Отчего бы вам не пойти в министры, в комиссары, в разные там председатели…
— Не гожусь, — улыбнулся студент. — Я дикий… Да и вообще я маловер, а теперь нужны сектанты, фанатики. Наше время прошло. Мы уже в архиве. Что ж? Мы были дон-кихотиками. Свободу любили, как невесту, прекрасную, непорочную. А сейчас…
Он помолчал, сорвал листик березы и понюхал.
— А сейчас ее берут, как… женщину с улицы. А с нашей magna charta libertatum — стригут купоны. Нет, — повторил он, — я не гожусь.
— Гм… Тогда залезайте по уши в науку.
— Теперь?
— Правда, — согласилась Маруся. — Ну, тогда пишите стихи, рисуйте пейзажи, разыгрывайте Дебюсси… Мало ли что… Нельзя же вечно киснуть?
— Я жду, — промолвил Алеша.
— Чего?
— Мира. Чтобы с первым же поездом махнуть за границу. Поселиться где-нибудь в маленьком бельгийском городке, смотреть на свежие святые раны на старых камнях, слушать «Angélus», перебирать разорванные кружева и… пить.
— Пить? Вы? — улыбнулась Маруся.
— Да, я. Пить мертвую за упокой маменьки нашей России.
— Ой! Не рано ли хороните?
Алеша не ответил. Взял Марусину руку и поднес к губам.
— А оттуда, из милого далека я буду посылать вам письма, длинные-предлинные… И в каждом письме я буду звать вас. И в каждом письме я стану вспоминать о маленьком коричневом домике под старыми тополями… о буром, мохнатом «Полкане», с вечным репейником на спине… Вспоминать об одном ласковом осеннем вечере…
— Пойдемте ужинать! — сказала Маруся.
VII
Суфлер вернулся поздно вечером и громким звонком разбудил только что угомонившегося Феденьку.
— Шляются по ночам, да еще и звонки обрывают, — встретила его Семеновна, но тотчас же и умолкла, взглянув на вошедшего Ардальона Егоровича. Старуха даже попятилась от неожиданного зрелища и дверь забыла запереть.
— Добрый вечер, мадам! — шаркнул ножкой суфлер и рукой в темной перчатке снял с головы новенький котелок.
Прошел в комнату, поставил на стул шляпу донышком кверху, снял и бросил в нее перчатки и начал разгрузку карманов. Вынул коробочку с маринованной скумбрией, сыр, мешочек с жареным кофе, баночку с медом, коробку сигар…
Лежавший на постели парикмахер спустил на пол левую ногу и протер глаза.
— Кажись, все… — произнес Ардальон Егорович, похлопывая по жестким оттопыренным карманам макинтоша. — Ах, нет! Главное-то и забыл. Вот! Пожалуйте сюда, голубушка…
И на столе, посреди всех свертков и баночек появилась бутылка марсалы.
— Заморская, и даже старушка, — сказал суфлер и с горделивой улыбкой потер руки. — Восстаньте, болящие, и воззрите на сей целительный бальзам! А вы бы, матушка, рюмочки нам и прочее… Н-да, доложу я вам… Есть еще дружба на свете!
Гришин опустил вторую ногу и, шмыгая войлочными туфлями, подошел к столу.
— Гм… Чудеса в решете. Где у нас штопор-то? Мамаша, проснитесь!
— Ну-ну, — протянула Семеновна. — Ограбили что ли кого?
— Ограбил! — весело согласился Ардальон Егорович и снова хлопнул себя по боковому карману. — Хватит! Уф! Устал я, признаться… Такой уж денек сегодня! На улицах — кутерьма, в ресторанах — ступа непротолченая…
— Поймали, значит? — спросил парикмахер.
— Чуть-чуть… Опоздай на минутку и… Ух! Я, признаться, сыт, — сказал суфлер, снимая макинтош и садясь к столу. — Великолепнейший беф-буи ел сегодня, во рту тает!.. А с вами чокнусь… Но, прежде всего, должок получите! Вот, соблаговолите сдачу… — и, порывшись в кармане, он протянул Гришину новенькую, хрустящую двадцатипятирублевку.
— Ловко! Ай да мы! — воскликнул парикмахер. — А я, покаюсь, давеча в актера-то вашего не поверил. Так, думаю себе, один пустой променад.
Семеновна принесла из кухни посуду.
— Полуночники! — ворчала она. — Подождали бы до завтрева. Не убежит бутылка-то…
— Завтра новая будет. Не верите, мамаша?
— Да, ну? — изумился парикмахер. — Неужто? Откуда вы достали?
— Секрет, — ответил суфлер и высоко поднял свою рюмку, — Ну-с, прежде всего — за пролетариат! Да здравствует социальная рево…
— Не орите! — дернула его за полу Семеновна. — Опять младенца разбудите.
Пировали долго. На рассвете сварили кофе и пили его с медом. Парикмахер перестал кашлять, хлопнул себя потной ладонью по коленке и решил сегодня выйти на работу.
Ардальон Егорович, с сигарой в зубах, развалился на диванчике и, в четвертый раз, рассказывал о своей встрече с Вовочкой Мауриным. И каждый раз он находил все новые штрихи.
— Я, говорит, второй день тебя ищу. Объездил все театры, хотел было и в адресный стол заехать, да решил, что ты — без прописки. Нынче свобода. Звал к себе в отель. Пристал, как банный лист: оставайся, и все тут!.. В соседний номер водил, показывал… Ковры, люстры, ампир всякий… Но я устоял. Врешь, говорю, меня на эти финтифлюшки не возьмешь. Я демократ и живу в семье честного труженика. Родственные узы… Уф! Устал я, как собака, а сна нету. Впечатлительный я… Вот еще стаканчик кофейку, и в город. Необходимо сегодня побывать кое-где, да и Вовке дал слово — завтракать вместе.
— А службу он обещал? — поинтересовалась Семеновна.
Ардальон Егорович пососал сигару, выпустил клуб серого дыма и сладко зевнул.
— Конечно… Хотя теперь еще не время, — мертвый сезон. Но в августе — само-собой… Вовка без меня и контракта не подпишет. Я его знаю… Ты, говорит, мой верный Лепорелло. Куда я, туда и ты.
VIII
Терентий Иванович сидел у открытого окна, пил чай и читал «Петроградский Листок». Сначала известия с фронта, потом городские происшествия.
Читал он сегодня долго, шевеля губами и двигая седыми, косматыми бровями. Потом положил на стол газету и пошел в свою спаленку. Задумчиво поглядел на огонек лампадки, почесал в затылке, на самой границе лысины и, вынув из кармана ключи, отпер ящик комода.
— О-хо-хо! — вздохнул он, вынимая с самого дна ящика, из-под белья, старый, Бог весть когда купленный револьвер системы «Бульдог».
Подошел к окну, поправил на носу очки и внимательно оглядел со всех сторон свое допотопное оружие.
В последний раз револьвер вынимался из комода лет восемь тому назад, когда Офросимов ездил к себе на родину, но и тогда он был без патронов и лежал на дне чемодана рядом с четверкой чая и пузырьком желудочных капель.
Костя тогда, помогая отцу укладываться, смеялся:
— Что с ним толку, если он не заряжен? Вы, папаша, хотя бы патроны взяли.
— Ладно и так. Я не душегуб, неровен час… Больше для острастки.
Осмотрев револьвер Терентий Иванович снес его в столовую и положил на газету. Походил по комнате, налил четвертый стакан чаю и заглянул в кухню:
— Степанида, кликни-ка Антона!
Антон, офросимовский дворник, мужик пожилой, многосемейный и неграмотный, хозяину приходился дальним родственником и звал его «дяденька».
Остановившись на пороге столовой Антон перекрестился на икону и вздохнул.
— Звали?
— Поди сюда, — сказал Терентий Иванович. — Вот, возьми револьверт.
Антон задумчиво посмотрел на оружие и поднял брови.
— Пошто?
— Ужо сходишь в чайную у моста, знаешь? Поспрошай там, нет ли к ему патронов подходящих…
— Хулиганье там, дяденька.
— Знаю. У них и спроси; немного требуется, с десяток, а то и полдюжины, да торгуйся, лишнего не давай, — все равно краденые.
— Слушаю! — сказал Антон, с опаской взял в огромную ладонь револьвер, сунул его за пазуху и ухмыльнулся в бороду.
— Стрелять будете?
— Не я, а ты, если… в случае чего… Понял? По ночам сторожишь…
— Не… Я не умею… У меня свисток есть.
— Дубина! — рассердился Терентий Иванович. — Вон, в газетах пишут. Страх что… за одну позапрошлую ночь в городе четыре убийства со взломом и краж без счету… А ты — свисток! Кому свистать-то? На всю нашу улицу один милицейский и тот из биллиардной не вылезает. Ступай!
Антон помялся, поморгал глазами и вышел.
А Терентий Иванович, оставшись один, снова начал прогулку по комнате. И на душе у него было нехорошо. «Времечко!.. — думал он. — До чего дожили!.. Надо будет завтра в банк съездить. Невелики деньги — семьсот рублей, а все от греха подальше. Может, оно и верней будет — при себе револьверт-то держать? Антон, какой стрелок? Эх! Угнали Костьку… Озорной парень, — а все защитник. А теперь один в дому… Степанида с одного страху помрет. Только и надежды, что не попустит Господь… Угодники святые…»
— Степанида!.. — крикнул он, подойдя к двери. — Оправь лампадки-то, вишь коптят. О-хо-хо! Что ты там делаешь?
— Ужинала, — ответила Степанида, вытирая рукой губы.
— Вот!.. О брюхе, небось, не забыла. А святые иконы в небрежении… Пожди, зарежут тебя грабители!.. Без покаяния.
— Пущай режут, — отмахнулась старуха. — Не одну меня. Весь свет замутился. Глаза бы не глядели…
— Пошла-поехала… Квартирант-то дома?
— Который?
— Чиновник.
— Нет. Одна жена, да и та у ворот сидит… хахаля своего ждет.
— Кого еще? — нахмурился Терентий Иванович. — Мели!
— Ладно! Скубент-то зря ходит? Намедни сама видела, ручки ей лизал… От меня не скроешь. Все знаю. Вон, старик-то, актер из третьего номера, — без подметок ходил, а теперь франтом, на извозчиках по ночам раскатывает, закуски да портвейны кулями таскает… Вот оно и смекни! Настоящие грабители-то, может, рядом живут, соседи…
IX
Шел дождь. На забытый Богом и солнцем огромный город, откуда-то, с берегов Норвегии, надвинулся антициклон. Холодный порывистый ветер гулял по зеленой улочке. Срывал с березы ранних старичков, первые желтые листья и бешено раскачивал розовые гроздья рябины.
Старая мокрая галка, хлопая взъерошенными крыльями, упрямо цеплялась за качающуюся ветку березы и заглядывала в запотевшие мутные стекла.
Лиловато-серый офросимовский домик стал черным от дождя. Наглухо закрыты старенькие рамы с дребезжащими от ветра стеклами. Методически хлопает незапертая калитка, и под кривым крылечком трясется бедный Жук. Свернулся калачиком, уткнулся носом в мокрые лапы и дрожит мелкой дрожью, поглядывая одним глазом на холодную струйку воды, медленно и неумолимо подползающую под крыльцо.
Маруся Курнатович, бледная и о чем-то тоскующая, лежит на малиновом диванчике, кутается в большой вязаный платок и, сквозь ползущие по стеклу дождевые капли, смотрит на мокрую качающуюся галку.
Маруся думает. А думы ее, так же как и песни, всегда невеселые. Думает она о старухе-маме, живущей в далекой Литве, одинокой, больной и упрямой, ни за что на свете не хотящей переехать сюда из своей голодной деревушки. Думает Маруся и о своем единственном брате Владиславе, пропавшем без вести на румынском фронте. Скоро уже два года, как получили от него последнее письмо, вскрытое военной цензурой, в грязном зашмыганном конверте. Коротенькое письмо с попыткой грустной шутки: «жив, здоров. Иван Петров», с просьбой прислать шоколаду и сухариков.
Мама еще ждет. По ночам молится, пишет письма в штаб полка… И без «хозяина» ни за что не решается продать свою убогую «Хиславку». А сердце Маруси уже угадывает правду. И уже сухими печальными глазами глядит она порой на последний портрет Владислава. Моментальная фотография схватила только знакомую улыбку под светлыми, едва заметными усиками, серой дымкой заволокла глаза и ярким, белым пятнышком показала солдатскую кокарду.
Дождь все идет, вторые сутки. И все сумрачнее и холоднее в маленькой квартирке. Дементий Петрович вчера пробовал затопить печку в столовой. Подкладывал сырые «драгоценные» дрова, сидел перед печкой на корточках, сжег все растопки, четыре газеты, раздувал угольки и бросил. Дрова сердито шипели и гасли, дым гнало в комнату, у Маруси покраснели глаза.
Дождь все идет… Маруся крутит на пальце холодный золотой обручик, потом протягивает руку к лежащей рядом на диванчике раскрытой книге, играет страницами, но читать ей не хочется. И думать скучно и сна нет. Лень встать с места, лень расплести косу. А стенные часики с кукушкой показывают уже четвертый час. Скоро придет со службы Дементий, промокший, усталый и голодный. Хмуро улыбнется Марусе, заглянет в глаза и молча покачает большой стриженой головой.
Маруся встает, вытягивает руки, потом сжимает их, похрустывая пальцами, и идет в кухню. Пора разогревать вчерашний обед, скудный вегетарианский обед, на который уходит половина жизни Маруси и половина всего жалованья Дементия.
У двери звякает колокольчик. Приходит почтальон и приносит книжку журнала и два письма, одно из них Марусе. Пока она обрывает знакомый темно-серый конверт, на губах ее улыбка, мягкая и недобрая. Морщинки досады штрихуют лоб Маруси.
Не выпуская из руки письма, она возится с упрямой спиртовкой, стучит крышками котелков… Потом идет в комнаты, садится у окна, откидывает со лба тонкие паутинки волос и вынимает из конверта письмо, четыре странички, унизанные бисерным почерком Алеши Игнатьева.
«Лежу на диване вторые сутки. Очаровательная погодка снова повторяет моей ноге о том, что однажды она побывала под колесом таратайки. Вокруг меня, на мне и подо мной — газеты. Я уже выучил наизусть все резолюции всех армейских комитетов и теперь зубрю речи делегатов. Курю ароматнейшие папиросы Трезвон, единственные, добытые моей Глашей, после часового стояния в хвосте. Мне скучно, прелестная, далекая Мэри! Кажется, еще немного, и я пойду к вашему добрейшему бухгалтеру Воронкову проситься в конторщики. Стану разыгрывать на счетах веселые allegretto и беседовать о политике с сознательными клерками. И для своей маленькой мечты накоплю много денег. Ох, деньги! Все могущество их познается только в эпохи великих идейных битв.
Деньги выдумал дьявол. Из самого пекла своего брызнул он в землю расплавленным золотом и показал его близорукому кроту-человеку. И с той поры, по всем дорогам мира торжественно двигается сияющая колесница грешного богатства, и ковыляет вдоль заборов противная и грязная, святая бедность. Дьявол любит их встречи, потирает мохнатые лапы и сладко зевает, как купец, у которого надежные и расторопные приказчики…
Так говорила мне моя бабушка, добрая, сердечная старушка, любившая меня не меньше, чем свою кошку.
О, да! Я рано узнал, что такое деньги. Вот, лежу и вспоминаю свое детство. Вы знаете, Маруся, — в нашем городе не было гимназии и меня пришлось отдать в единственный немецкий пансион. Будить меня начинали с петухами, неукоснительно заставляли чистить зубы, отчего мой утренний чай и молоко пахли мятой… В уголок моего ранца, между географией и хрестоматией втискивалась французская булка, хранящая в своем сердце земляничное варенье, барашковый воротник пальто подпирал мой стриженый затылок и, хлюпая высокими калошами, я шел в пансион.
Из всех же воспоминаний о пансионе Мины Эдуардовны, я дотащил до этих дней только глаза директрисы, противные и желтоватые, как тот кофе, которым поили нас во вторую перемену, да еще грязный ноготь на среднем пальце второгодника Пономарева. О, Маруся!.. Если рано или поздно на мою шею накинут милую петлю (неважно, кто принесет веревку: барахтающаяся власть, или торжествующий пролетариат), то я знаю, что и в последнюю минуту, качаясь между святым небом и матушкой-землей и выделывая ногами самый экзотический танго, я вспомню его, этот милый, очаровательный пономаревский ноготок.
Митя Пономарев был в общем симпатичный мальчик, такой веселый, длинный и розовый. Когда в его желудок переходила большая половина моей булки, напоенной ароматом земляники и кожаного ранца, Митя вытирал губы и неизменно благодарил меня щелчком по голове.
Да, это называлось дружеским щелчком. Двенадцатидюймовый снаряд с налета хлопал меня по макушке, в ушах звенела адская канонада, и в глазах моих вспыхивали волшебные бенгальские свечи.
Крепок и вынослив был мой затылок, и эта тренировка была лишь полезна для бедной головы, которую потом так нежно ласкала судьба, но если бы вы знали, Маруся, сколько раз плакал маленький грешник у ног великого инквизитора:
— Хочешь, я буду отдавать тебе всю булку… Понимаешь? Всю! — Но лицо палача оставалось бесстрастным.
— Хочешь, я подарю тебе свою костяную вставочку? И четыре пера… О, Господи! Возьми мою новую резинку, но только не щелкай…
Всесильны горячие слезы человеческие, и дрогнуло однажды сердце мучителя:
— Ладно! Черт с тобой!.. Больше не трону, но с уговором: принеси мне завтра двугривенный.
Я принес, и несколько дней на моей голове спокойно заживали бесчисленные шишки.
После, с переездом семьи в ваш город, меня отдали в казенную гимназию. И вспоминается мне одна весна. Таял снег, таяли сердца гимназистов, и всюду была слякоть… А вам известно, что некая Маруся считалась первой кокеткой, вплетала в пушистую косу коричневые банты и по-весеннему играла голубыми плутоватыми глазками. Тоненькая фигурка Маруси приковывала наши взоры, а розовые пальчики ее ежедневно рвали разноцветные конвертики с неизбежными стихами. Была весна… И я уже был в пятом классе, когда снова попал в невеселую историю. В кармане моего пальто нашли пачку прокламаций. Пачку тоненьких белых листочков, порхавших в ту весну по нашим улицам, точно легкие бесчисленные снежинки. Плохим русским языком они рассказывали прекрасные европейские примеры, и бледные, неразборчивые буквы твердили о ярком солнце свободы.
Мы набивали ими свои карманы, предварительно вынув из них пажеские папиросы и мятные пряники, чувствовали гордость и опасность и мужественно проваливались на экзаменах.
Прокламации нашел в моем кармане швейцар Василий, толстый унтер, с философским складом ума и невольными изъянами дисциплины. В тот же вечер он снес их моему отцу, и все окончилось благополучно, если не считать, что лишний раз я услышал вечный отцовский рефрен:
— Твоя глупая голова не стоит и половины тех денег, что я уже переплатил…
Но вот я закрываю глаза, торопливо, как испуганный рак, прячусь в прошлое и вспоминаю незабудки. На старой картине юности давно полиняли все краски, расплылись очертания милых лиц (кроме одного), и потускнели золотые надежды. Только в одном уголке картины притаилось голубое пятнышко, маленький лужок, усеянный незабудками, и тихонько шепчет мне о таком же голубом небе, о таких же глазах… Там, где сыро, на берегах рек, на лесных болотцах, в глубине оврагов растет незабудка, рожденная в слезах ночной росы и навсегда позабытая солнцем. Я люблю этот бедный цветок, такой глупенький и безгрешный, эту печальную былинку, убравшую свои косы наивным венком, таким же голубым, как ее вечно далекий жених — голубое июльское небо…
Каково, Маруся? Я, кажется, уже следую вашему совету… Разве это не стихи? Сохраните это письмо, эту жалобную болтовню одинокой больной собаки, пусть оно переживет и меня, и бурный, великий и страшный семнадцатый год.
Когда-нибудь, в тихий вечер, вы откроете старенькую шкатулку и покажете это письмо вашим внукам. И юный гражданин российской республики спросит вас:
— Бабушка, это писал твой жених? Он погиб на баррикаде? Да?
И ласковая лампа бросит розовые блики на ваши сморщенные щеки».
Дождь все идет. Маруся спускает на колени письмо и глядит в окно на свинцовые тучи, торопливо бегущие одна за другой, одна за другой… Снова идет в кухню и «на огне семейного очага», в голубоватом пламени спиртовки, сжигает Алешино письмо, и снова на бледных губах Маруси мягкая и недобрая улыбка.
X
— Подожди, старина, что-нибудь придумаем!..
Вовочка Маурин закуривает папироску и разваливается в мягкой качалке.
В большом номере гостиницы светло, тепло и тихо, лишь порой откуда-то снизу долетают звуки музыки, да изредка трещит в коридоре звонок телефона.
Утонувший в глубоком кресле Ардальон Егорович молча любуется на задранные кверху Вовочкины ноги в лаковых туфельках и шелковых оранжевых носках. Потом его глазки останавливаются на крупной жемчужной булавке, небрежно воткнутой в пышнейший темно-синий галстук.
«Должно быть фальшивая — соображает суфлер. — Очень уж крупна. А впрочем… кто его знает? Мальчик талантливый… Какая-нибудь таганрогская купчиха в бенефис…»
А талантливый мальчик, дрыгнув ногами, вскакивает с качалки и бархатным баритончиком выкрикивает:
— Эврика!
— Эврика! — повторяет он потише, задумчиво шагая по зеленому ковру мимо Ардальона Егоровича.
«Молод еще, — думает суфлер. — Подождать бы надо, голуба! До Кречинского-то еще потанцуем…»
— Слушай, старина, — говорит Маурин. — Ангажемент нынче — фантасмагория. В театрах теперь лошади стоят. Даже в импера… то бишь, в государственных, вместо Островского играют в конвенты… Понял? Оставь надежду! Я сам через неделю уезжаю в Москву, буду для экрана выступать в раздирающей драме: «Как хороши, как свежи были розы»… А тебе советую до зимы сидеть у своего цирульника, а чтобы не выгнали тебя на дождичек, есть у меня одна комбинация. Слушай меня в оба уха!
Вовочка бросил потухшую папиросу, повернулся перед зеркальным шкапом и сел против суфлера.
— Ох! — жалобно вздохнул Ардальон Егорович. — Супротив этой ехидны, бабушки Семеновны, никакая комбинация…
— А ты слушай! Денег у меня у самого теперь — не густо. Полсотни я тебе вонзил, столько же еще дам перед отъездом. Но это все. Остальное уже твоя собственная игра ума. Понял?
— Ничего я, Вовочка, не понял, — радостно улыбнулся суфлер. — Но за деньги я тебе по гроб жизни…
— Ладно. Повторяю: остальное от тебя зависит. Сумей так повести дело, чтобы эти твои родственники в тебе американского дядюшку видели. Во-первых… — Маурин загнул мизинец с сапфировым колечком. — Купи себе немедленно сундучок, ящик, все равно какой, лишь бы у него был прочнейший секретный замок, и ключ носи на груди, у сердца. Во-вторых, все свои капиталы держи в этом сундуке, изредка выдавай старухе или зятю рубль-два, вообще гроши, но каждый раз доставай их из сундука. Понял? В-третьих, держи себя барином, а то в последнее время от тебя резинкой пахнет.
— Почему резинкой? — удивился Ардальон Егорович.
— Так… Осел ты очень. Старая рваная калоша. Courage, mon vieux! Езди на извозчиках. Нанимай за углом его за полтинник и подкатывай к дому. Часы я тебе дам, старенькие, накладного золота, почисти их зубным порошком и носи, вынимай почаще, но в руки не давай. Рассказывай о делах, банках, комиссиях… Нынче каждая селедочница спекулирует. А я еще письма тебе — из Москвы настрочу: так и так, мол, устроил тебе ангажемент, да мало дают, всего четыреста, а я, мол, требую вдвое. Понимаешь?
— Начинаю. Эх! Любуюсь я на вас, нынешних…
— Любуйся! В-четвертых, девицу твою надо пристроить. В билетерши пойдет?
— Побежит! Да только… — Ардальон Егорович грустно вздохнул. — Возьмут ли? Очень уж она у меня… На лице — панихида.
— Ничего. Я записку дам к знакомому, в кинематошку… А дочку твою я понимаю: с таким папашей невесело… Ну?
Вовочка Маурин встал и вынул часики из кармана.
— Пойдем вниз. Небось, проголодался? Эх, старина, сумей держать фасон и… Семеновна тебе сапожки будет чистить, а парикмахер твой наследства ждать от богатого тестя… Ха-ха!..
Маурин открыл кожаный несессер, попрыскал на себя одеколоном, поправил булавку в галстуке и, открывая дверь в коридор, изящным жестом пригласил гостя.
— Маркиз, прошу вас следовать за мной!
«Маркиз» потер ручки и засеменил по ковру коротенькими ножками.
XI
Каждый новый день рождал новые темные, сумбурные слухи. Человеческая накипь, загнанная войной в огромный город и взболтанная революцией, теперь всплывала на поверхность. Опустевшие уголовные тюрьмы тщетно ждали своих habitues. Темные руки грелись у костров восстания. Преступление щеголяло в новенькой маске и, под плащом анархизма, прятались рядом кинжал Брута и фомка взломщика. Одинокие беззубые старушонки платили по счетам свергнутой власти, и зарезанные ребятишки попадали в синодик свободы.
Бабушка Семеновна, возвращаясь по утрам с базара, приносила увлекательные рассказы о событиях минувшей ночи.
— В соседней улице, в пятом номере, дворника зарезали. Всех порешили! Младенец годовалый в люльке спал, так и того ножом проткнули. Кровищи сколько!.. Сказывают, что дезертиры, а только никого не поймали. И денег нету, а у дворника-то тыща рублев была накоплена, в сундуке под кроватью лежала. А на углу, у мясника, вчерась ледник сломали — всю телятину уволокли. Поделом ему, рыжему хапуге, по три с полтиной драл…
— Поделом! — соглашался парикмахер. — Всех бы их, толстопузых, на одну веревку…
— Нынче дома никаких денег держать нельзя — продолжала Семеновна, поглядывая на суфлера. — У соседской швейцарихи пальто новое, по весне справлено, семьдесят без мала заплатила… Встретила ее давеча, бежит с узлом в ломбард. «Боюсь, говорит, среди белого дня воруют, заложить от греха».
— Так-то оно так… — задумчиво покачивал головой Ардальон Егорович. — Только и дома опасно и в банках не слаще. В случае чего, первым делом они на банки налетят.
— Там, небось, охрана. Буржуи стерегут, — саркастически улыбнулся Гришин.
— Стерегут? Был я недавно, видел. Два инвалида с ружьишками на лестнице сидят. Только и всего. Подумаешь, охрана! Нет не доверяю я банкам. Да и вообще… — суфлер бросил небрежный взгляд в угол на свой дубовый сундучок. — Деньги — тлен. Кто их видывал достаточно… Была бы голова на плечах, а деньги новые будут.
— Легко вам, папаша, рассуждать… — вмешалась Ольга Ардальоновна. — Не у всякого ваше счастье… А вот у нас опять не слава Богу! Володька вчера три рубля потерял, говорит, что не иначе, как в трамвае обронил, когда с газетами на подножке висел… Я вихры ему надрала… Думаю: врет, паршивец, на халве проел, либо на лимонаде пропил… Да что уж? Денег все равно нету.
— Есть о чем горевать, — махнул ручкой суфлер. — Спросил бы у меня, пострел-газетчик… Хе-хе-хе!.. Дедушка добрый, да и сумма-то — тьфу! Только вот, разменять надо.
Ардальон Егорович, не спеша, подошел к своему сундучку, присел на корточки, спиной к Семеновне, и пощелкал секретным замком.
— Вот, — сказал он, выпрямляясь и потирая спину. — Четвертушечка. Вы, бабушка, дойдите до лавочки, разменяйте, да заодно уж и пяток огурчиков купите, нежинских. Что-то меня на соленое потянуло… Да заодно уж и папирос прихватите. Что их жалеть, деньги-то, бумага… Скоро нашими кредитками стены начнут оклеивать. Падает курс-то… Вот она, ваша революция, — повернулся он к зятю.
— Вот она, ваша война — ответил парикмахер. — Проливы вам требуются, Царьград подавай! Капиталистам рынки нужны, а мы в могилу полезай…
— О, хо-хо! — вздохнул Ардальон Егорович, укладываясь на диванчик. — Поумней нас люди думали. Толстейшие книги написали. А покуда свет стоит, без драки не проживут.
— Проживут. Дайте срок! Только вот силушку бы нам, всем бы заодно. Все бревна с пути раскидаем, весь чертополох выполем… Буржуев этих европейских, что на драку науськивают для своих карманов. Свет-то еще постоит и наше еще возьмет. Рабочему человеку война не нужна. Всемирный пролетариат понимает…
— Ну вот, давно не кашлял? — рассердилась Ольга Ардальоновна. — Дери глотку-то, опять кровью захлебнешься… И как это вам не надоест? С утра раннего политику эту окаянную… Господи, до чего все это очертело!.. Вчера Володьку ругаю, говорю, чтобы к хозяину своему пошел, к газетчику, признался бы, в трешке-то… А он, стервец, туда же, не пойду, говорит, к этому буржую, нешто он поймет? Он, говорит, кажинное утро «Новое Время» читает…
— Хе-хе! — зажмурился суфлер. — Микроб. Эпидемия! Ни старых, ни малых не милует. Чем-то все это кончится? Сдается мне, что — Бонапартишкой…
XII
Все темнее становились вечера, все пасмурней утра. Утихли ветры, расползлись в разные стороны грязно-серые тучи, и снова выглянуло солнце, но это уже было августовское, грустно-холодное, спешившее на ночлег, в теплую стариковскую постель, торопливо нырявшее там, где взморье братается с небом вечерним.
Но зеленая улочка еще не сдавалась. Только единственная липа в офросимовском палисаднике роняла по утрам свои золотисто-темные листья, да с каждым днем краснели кисти рябины, оттягивая к земле тонкие, полуобнаженные ветви.
Терентий Иванович, постукивая по мосткам суковатой палочкой, шел из церкви. В кармане теплого ватного пиджака-пальто лежала завернутая в носовой платок половинка просфоры; другую половинку он съел еще в церкви, держа ковшиком ладони и медленно жуя беззубыми деснами черствое, безвкусное тесто. Просфора была о здравии воина Константина и много их было таких же, поданных старушонками и унылыми бабами за несчитанных воинов.
Но в церкви было малолюдно. Шушукались у выручки две монахини, да шмыгала валенками по каменному полу старуха-богаделка, бродя под киотами и собирая догорающие свечки. И свечей горело мало, да и те все больше тоненькие, пятикопеечные, лепты вдовиц. Мужчин в церкви почти совсем не было. Кроме Терентия Ивановича, только двое русых парней в новеньких шуршащих ситцевых рубахах, да еще один старенький отставной полковник. Он глядел на икону, помаргивая слезящимися глазками, кивал головой и крестился, небрежно пошевеливая пальцами под ложечкой.
«Щепотник… — косился на него Терентий Иванович. — Ишь пуговицы чистит!.. А, небось, тоже приплелся, ваше благородие… Поди, и у тебя сыновья-то в окопах».
Лениво и негромко гудел диакон на амвоне, грустно и словно нехотя мурлыкали певчие. И казалось, что строже, чем всегда, хмурились лики угодников на старых почерневших иконах. Тускло поблескивали золоченые ризы Богородицы, одинокой, с каждым днем все больше забываемой молитвенницы.
— Прощайтесь с Матушкой-то!.. — сказал Терентию Ивановичу знакомый староста. — Увезем скоро. Приказ был. Эвакуация. Напирает враг-то…
— Напирает… — согласился Терентий Иванович, оглядывая полутемную, почти пустую церковь. — Со всех концов… Замутился народ. На митинги валом валит; а в храме божьем хоть шаром покати. Но еще придут. Еще придут православные!.. Далеко не ускачешь! Вспомнят еще Царицу Небесную… Польют еще пол-то слезами… Ужо!.. А куда повезут-то? — спросил он помолчав.
— Да неизвестно еще доподлинно. Сказывал отец Николай, что в Вятку, либо на Волгу куда…
— В наши места? Чего лучше? Пусть погостит. По крайности там в почете будет. У нас народ-то еще не порченый…
— Да и в целости, — поддакнул староста. — А то у нас на прошлой неделе чуть беды не вышло. В алтаре, в окошке, ночью решетку сломали. Да видно помешал им кто-нибудь… Ушли.
— Стеречь надо, — нахмурился Терентий Иванович.
Староста махнул рукой и звякнул ключами.
— Кому стеречь-то? Четверо сторожей у нас было, а нынче всего один, да и тот пьяница, ханжу глушит. А и прогнать нельзя: грозит, я, говорит, всю вашу лавочку сожгу, довольно… Поторговали Богом-то!..
— Ужли ж никакой управы?
Староста хмыкнул носом и, послюнив пальцы, стал считать жирные разбухшие марки.
На углу встретил хозяина «Жук», весело взвизгнул и с размаху ткнулся в живот Терентия Ивановича. А в калитке стоял Антон и ухмылялся.
— Приехали! — сказал он.
— Кто? — спросил Терентий Иванович, замахиваясь палкой на «Жука».
— Константин Терентьич, и в полном здравии… Только загоревши очень.
Офросимов молча поглядел на дворника и, сняв с головы плюшевую серую шляпу, не спеша перекрестился, по-староверски, двумя перстами.
— Ну? — спросил он, входя в столовую и видя только согнутую спину сына, возившегося с чемоданом. — Отпустили? Забраковали значит?
Костя Офросимов, черный от загара, улыбаясь, сверкнул зубами и, подойдя к отцу, поцеловал его сначала в руку, потом в желтую щеку.
— Нет, папаша. Я дней на пять, самое большее на недельку. Я прислан на съезд, делегатом.
— Делегатом? Это тебя-то? — прищурился Терентий Иванович. — Что ж они там сдурели все, в земле-то сидючи?
— Не смейтесь, папаша! — отвернулся Костя. — Меня еще в прошлом месяце хотели в председатели ротного комитета, да я отказался…
— Так… Пей-ка лучше чай-то, грейся! — сказал Офросимов, снимая пиджак, и крикнул в кухню: — Степанида, тащи пирог! Словно знали, — добавил он улыбаясь, — с грибами и капустой загнули. Удалось муки достать, с полпуда, да уж больно цена-то кусается… А как у вас там? Насчет еды-то?
— Ничего. Пока сыты. На нашем фронте благодать! Теплынь, сливы растут, яблоки — пятачок пара.
— А в сражениях был?
— Нет еще, — улыбнулся Костя. — Да надо полагать, и не придется… О мире шибко толкуют. Тоже и немцам надоело. А у нас весело. Командиров сменили, новых повыбирали, нашим батальоном подпоручик командует и за всем в комитет бежит. Умора!
— Так… ешь пирог-то, остынет… Делегат! Выходит, что и там такая же канитель… Ну, значит, пиши пропало! Съедят нас немцы.
— Подавятся! — успокоил сын. — Аннексий не дадим.
После обеда Костю разморило.
— Двое суток не спал — сказал он, зевая, — одиннадцать верст на крыше ехал.
— А ты приляг с дороги-то! — посоветовал Терентий Иванович. — К самовару разбудим.
Костя послушался. Снял сапоги, отчего по всей квартире запахло кожей, и, укрывшись шинелью, моментально заснул.
А Терентий Иванович походил по своей спаленке, послушал, как в соседней комнате храпит делегат, и пошел к жильцу Курнатовичу.
Мывшая посуду Степанида от великого изумления, выронила из рук тарелку и долго, соображая что-то, трясла седой головой.
Войдя в квартирку Дементия Петровича, Офросимов поискал глазами икону и сел против хозяина около маленького письменного столика.
— Извините, — сказал он, кланяясь вошедшей Марусе. — Маленькая просьбица у меня. — Вот… — он расстегнул пиджак и вынул из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
— Завещаньице домашнее составил я на днях. На всякий случай. Все под Богом… Очень прошу вас подписаться свидетелем. Две подписи есть, третьей не хватает. Не откажите!
Курнатович подписал.
— На войну что ли собираетесь? — пошутил он.
— Война нынче повсюду, — сказал Терентий Иванович, пряча бумагу. — А смерть, она — тихоня, упреждать не станет.
XIII
— Бедная ты моя, фиалочка южная!.. Завяла ты здесь совсем. Бледненькая, сидит нахохлившись и песенки свои забыла.
Курнатович подошел к жене и ласково погладил каштановую, наспех и небрежно заколотую, косу Маруси.
— Нет еще, — улыбнулась она, беря руку мужа, и тихонько пропела тоненьким голоском: «Я увядаю с каждым днем, но не виню тебя ни в чем»…
— Да, а все-таки это моя вина: я помню, ты не хотела ехать сюда, звала в Харьков. Меня соблазнили письма Воронкова. И правда, зарабатываю-то я много, но все уходит в эту бочку Данаид. Этот месяц у нас опять нехватка. А скоро зима. У тебя нет шубки… И дров нужно запасти, а то замерзнем. Домишка-то этот гнилой, сквозь стены продувает. Поискать бы другую квартирку?
— Не стоит. Я уже привыкла.
— Хуже всего, что весь день ты одна… — сказал Дементий Петрович. — Соседи наши… Бог с ними! От хозяина постным маслом пахнет, от парикмахера — аптекой несет. Старухи еще какие-то… Не с кем слова сказать.
— И не нужно. Я не скучаю, — вздохнула Маруся. — Есть книги, газеты… Заведу себе котенка… Куплю вот завтра шерсти и начну вязать тебе шарф, потом напульсники… Потом Алеше… Потом…
— А потом, в один печальный вечер, я найду мою Маруську на веревочке, на гвоздике, а вот тут на столе — записку: «в смерти моей никого не винить»…
— Никого, — грустно улыбнулась Маруся. — Никого, кроме войны и революции.
Курнатович закурил папиросу и потолкался по кабинетику.
— Знаешь что? Пойдем сегодня в кинематограф!
Маруся поморщилась.
— Не люблю я.
— Ну, все-таки, люди там, музыка, Глупышкины… Здесь недалеко есть приличный театрик… Пойдем?
— Уговорил!
Маруся потянулась, взглянула в окно на быстро темнеющее небо и ушла в соседнюю комнатку одеваться.
А Дементий Петрович в ожидании присел к столу и задумчиво пощипал бородку.
«Нет уж, — решил он. — Никакого рая в шалаше не будет. Сейчас она скучает, потом она станет злющей и…»
— Маруся! — крикнул он. — Хочешь, вместо кинемо, поедем к нашему студиозусу?
— Нет, — ответила она и, хлопая дверцей шкапа, снова замурлыкала вполголоса надоевший романс: «Я увядаю с каждым днем»…
— Знаешь, — сказала Маруся, выйдя на улицу и похлопав перчаткой по черной добродушной морде Жука. — Я сегодня в одной газетке прочла забавную и грустную историю. В каком-то городке, в Сибири, пришел в редакцию газеты солдат и принес письмо… Трогательное такое воззвание к «братьям и сестрам», бросьте, мол, смуту, тушите огонь, спасайте Рассею… По-моему, даже неглупое письмо. Но, конечно, оно не подошло, и солдатику вернули его… Знаешь, что он сделал? Схватил топор и отрубил себе правую руку… Пропадай, говорит, если не сумела написать, как следует.
— Гм… Похоже на анекдот, — улыбнулся Курнатович. — Ну? Это ты к чему?
— Когда я прочла, мне вспомнился Алеша. Он словно бы уже авансом, заранее отрубил себе обе руки…
— Фу!.. — рассмеялся Дементий Петрович. — Твой Алеша просто лентяй. И к тому еще нытик. Пойдем скорей! Я не люблю никуда опаздывать. А этот солдатик — молодчина! И пример многим: сколько рук сейчас не умеют, а пишут…
При виде Маруси, вошедшей в фойе театрика, на постном личике Лизы появилось что-то вроде улыбки.
— Здравствуйте! — сказала она, отрывая билетики.
— Вы здесь? Давно? — спросила Маруся.
— Нет, вторую неделю… Войдите, сейчас первая картина.
И, освещая путь электрическим фонариком, Лиза вошла в темный, наполовину еще пустой, зал.
— Кто это? Знакомая? — спросил Курнатович.
— Да. Наша соседка. Дочь старого актера.
— Видишь? И она пристроилась. Не чета нашему Алексею, человеку Божию…
Маруся промолчала.
На экране была Венеция, милая, солнечная и скучная, давно знакомая всем и каждому. Палаццо дожей, площадь Марка и, конечно, голуби, и, конечно, гондолы…
Маруся тихонько зевнула и стала слушать музыку. Играли трио. Виолончель пыталась зарыдать, но только хрипела, мяукала дешевенькая скрипка и четко, машинально барабанили по клавишам пианино руки невидимого тапера. И Марусе казалось, что этот человек сидит там внизу, полузакрыв глаза, и что у него болит поясница, и он думает о политике и мечтает записаться в кооператив.
После Венеции потянулась драма из великосветской жизни, в семи частях. Красавица итальянка купалась в Средиземном море, играла в теннис и в каждой картине меняла по два туалета. Изящные маркизы и знаменитые скульпторы играли в карты, ездили в автомобилях и, закатывая подведенные глаза и портя свои прически, изображали муки ревности…
«Глупо все это и пошло, а… красиво, — думала Маруся. — Есть же где-то иная жизнь. Флирт, искусство… Красивые слова, счастливые лица… Живут же люди без красных флагов, без наших дрязг»…
И, словно угадывая мысли жены, Дементий Петрович склонился к ее уху и шепнул:
— Вот они, настоящие-то буржуи… А за них теперь у нас каждый учителишка географишки отдувается.
Маруся улыбнулась.
— А как тебе понравилась эта Франческа в купальном костюме.
— Гм… Ты, наверно, лучше.
Маруся умолкла. «Что из того? — подумалось ей. — Ее судьба вперед известна: тесная кухня, обед на спиртовке, дежурство в хлебном хвосте, штопанье чулок… Быть может — ребенок, тогда еще и пеленки… Быть может, какая-нибудь маленькая удача, значит — новая квартира и те же гости, преферанс, споры о большевизме, оборончестве, о гидрах контрреволюции… Письма Алеши-Поповича, никудышного российского молодца, влюбленного в чужую жену и в собственную хандру… А там и старость, желтые щеки, руки, черные от картошки, коса, облезлая от зеленой скуки… И в прошлом ничего… И в „заветной“ шкатулке пусто. Разве — счет от прачки. А там и смерть, глазетовый гроб, и в гробу махровая дура — примерная жена, честная подруга банковского клерка Курнатовича, „гитариста и покорителя“ провинциальных девиц»…
Антракт. Под потолком театрика, одна за другой вспыхивают электрические лампочки. Музыка умолкает. Лиза отдергивает бурую полинявшую портьеру, и густая толпа новых зрителей разливается по театрику.
Маруся сидит прямая и неподвижная. Слегка закушена нижняя губа, и чуть сдвинуты тонкие брови.
Дементий Петрович заглядывает сначала в программу, потом в глаза жены:
— Что ты? Устала? — спрашивает он. — Голова болит?
— Немножко, — отвечает Маруся и глядит, не мигая, на курчавый затылок сидящего перед ней прапорщика.
Потом на экране «любимец публики Макс», знакомый до тошноты, проделывает в сотый раз одни и те же незамысловатые трюки, но Маруся неожиданно улыбается, встряхивает головой и, отыскав в темноте руку мужа, ласково сжимает его пальцы в фильдекосовой перчатке.
Подведя Марусю к калитке, Курнатович выпускает ее руку и подает ключ от квартиры.
— Ступай, ложись, моя детка, а я еще посижу здесь. Чудесный вечер, жалко уходить с улицы.
Он подходит к скамейке у ворот и садится рядом с Антоном.
— Покурим, дядя? — говорит он, доставая портсигар.
Антон берет кривыми пальцами тоненькую папироску и косится на темные окна хозяйской квартиры.
— Благодарим! Не любит сам-то…
— Да он, поди, уже спит, — успокаивает Дементий Петрович.
— Нет. Не спится ему нынче. Сын-то позавчера опять на позицию уехал… Да и грабителей опасается. По ночам все духовное читает… Того и гляди на двор выйдет, для проверки…
— Должно быть у него денег много?
— При капитале, — кивнул Антон. — Раньше-то трактиры держал, четыре заведения, а как война — прикрыл.
— Так… — Курнатович бросает в канаву окурок и, сдвинув на затылок шляпу, смотрит на вечернее небо. Из-за крыши соседнего дома медленно выползает розовый месяц.
— А что, барин, слышно насчет замиренья? — спрашивает Антон.
— Да ничего нового… Ждать надо.
Антон ухмыляется.
— До кой поры ждать-то? — и, понизив голос, сообщает по секрету: — Буржуи не хотят. Нам это известно. Они с немцем заодно.
— Ерунду порешь, дядя… чушь! — говорит Дементий Петрович.
— Не, барин, ты послушай: летом был я в деревне, дома значит… У нас барыня по соседству, Дугина помещица, богатейшая, а коров у нее не доят. Постановили, значит, чтобы никто. По рублю давала, только без последствий. Она и осерчай: «Ладно, — кричит, — вот придут ерманцы, покажут вам, согнут спины-то»… Это, барин, ты как понимаешь?
— Дура она, барыня ваша. Только и всего.
— Ого! Нет… А значит стакнулись они…
Антон помолчал и, почесав бороду, подвинулся к Дементию Петровичу.
— Я, конешно, человек неученый… Мое дело дрова да помои таскать… Ну, скажем еще, ханжу пить… А только промеж господ и я разговоры слыхивал. Малость смекаю…
И, снова помолчав, он тяжело нагнулся к самому уху Курнатовича и добавил шепотом:
— Господа хотят на прежнее поворотить. Чтобы, значит, опять крепостные права…
Курнатович весело рассмеялся.
— Ну, ну! — сказал он. — Чудак ты, дядя! Да разве же это возможно? Ты подумай, ведь у нас теперь республика.
Антон ничего не ответил. Встал со скамейки и, выйдя на середину улицы, поглядел на окна дома.
— Должно, в самделе, спит, — решил он, возвращаясь к калитке. — Окромя лампадки, никакого свету… О-хо-хо!.. — зевнул он. — Была у меня книга, барин, — сам-то я неграмотный, а парнишка читал… — вот какая книга…
Антон показал руками.
— Все в ней прописано, и про Москву, и про татар… И про Новгород тоже, что было там, значит, такое же настроение… И промеж себя склока. Брат на брата… Головы рубили, с моста в воду скидали… Да. Я так полагаю, что теперь таких книг уже нету… И колокол у них был, на площади. Как зазвонят в него, все и знают… Да, а только я боюсь… Меня еще о прошлый пост, в марте месяце, таскали… Сказывай, говорят, в котором номере у вас городовой живет? Штыки наставили, веди, требуют, к нему на квартиру. А городовой-то у нас, в третьем номере жил, действительно, да уж недель пять, как съехал. Говорю им, не верят. Укрываешь! — кричат. Разволновали меня… Я к хозяину, за расчетом, да на утро, чуть свет, собрал мешок да и на машину. Ну их к дьяволу, боюсь я… У меня в деревне четверо ребят…
— Ну, пойду спать, — сказал Дементий Петрович вставая. — Прощай, дядя! На, возьми папирос-то, покуривай, а то заснешь.
— Вот, спасибо! — ухмыльнулся Антон и свободной рукой подержался за свою рыжую ватную шапчонку.
XIV
Бабушка Семеновна забежала к Степаниде на одну минутку, за утюгом, да заговорилась…
— Несчастливей моего сына, почитай, что и на свете нет. Провалялся две недели, едва отдышался, встал вчера, и на тебе! Новая беда! Точил бритву о ремень, а она и сорвись и палец-то без мала напрочь отхватил. И без того живые мощи, а теперь еще крови выпустил… Ну и лежит опять пластом. Если б не Володька, внучек-то мой, с голоду бы сдохли. Он теперь один добытчик. Допреж того газетами торговал, а теперь папиросами занялся.
— Нешто лучше? — спросила Степанида.
— Не в пример! Мать-то укараулит табак да и набьет, а он торгует готовыми. Сотню-то в шесть целковых вгоняет! Парнишка шустрый, надувает мать-то, не без того… Но, все ж, кабы не Володька, пропали бы…
— А что же этот, актер-то? Сама я видела, на извозчиках раскатывает. Неужели не поможет на бедность?
Семеновна махнула рукой и присела на табуретку.
— Скупей черта! Сундук завел и все деньги под замком держит. По ночам считает, дождется, пока все заснут, зажжет огарок и, босиком, к сундуку своему… Я, как-то, разом, и войди… гляжу: он у сундука-то, поджавши ноги, словно турка… А деньжищ-то, мать моя, доверху! Да чуткий он, старая крыса, обернулся и хлоп крышку. А сам хихикает: «Бессонница у вас, бабушка? Не спится нам, старикам»… Язва такая…
— Откудова у него капиталы-то?
Семеновна поставила на колени утюг и развела руками.
— И сама я ума не приложу. Сказывал, что от приятеля какого-то… Только сказкам-то этим никто не верит. Знаем мы приятелей!.. Не иначе, как жульничает. Краденое скупает, либо в карты где мошенничает… Старик прожженный, из актеров, дочка-то евоная сказывала, — по всем городам колесили… И ведь какой притворщик! Таким сиротой казанским прикинулся спервоначалу-то… Пешком пришли, у дочки одно платьишко на плечах, сам-то без подметов… Ниже травы, тише воды… А нонче уже фордыбачит. Хлеб ему не хорош принесла, кофей жидок сварила… Лежит на диване фон-бароном и сигарой дымит. А зять-то чихает от табачищу, а терпит. Дурак дураком… Старик-то его семь раз переживет…
— А может он в шайке какой — атаманом? Мало ли нынче, — вставила Степанида. — Вон опять контору ограбили, большие тыщи взяли…
— Кто его знает, — вздохнула Семеновна. — Человек он потайный, сразу не раскусишь… Ну, заболталась я, а у самой плита затоплена… Дрова-то нынче золотые, семьдесят без мала за сажень… Забеги вечерком-то!
— Ладно, — ответила Степанида и, пожевав губами, решила: «Одна шайка! Все вы хороши!.. Не я буду, если не ограбят они нашего фефелу Иваныча… Никакие лампадки не помогут».
А сам «атаман шайки» в этот час уже ехал в трамвае. Коротенький Ардальон Егорович, зажатый между полной дамой и усатым унтером, качался из стороны в сторону и тщетно старался уцепиться за ремень над головой. Вытягивался на носках, тыкался рукой в стекло, пыхтел и, кончилось тем, что, на повороте, с размаху уселся на колени сестры милосердия…
— Пардон, извиняюсь! — сказал он вставая. — Толкают и, к тому же, качка…
— Фу, Ардальоша, какой ты стал моветон… — услышал он сзади чей-то знакомый бархатный бас.
Суфлер с трудом повернулся, и маленькие глазки его радостно засверкали.
— Буркачев! Ты? Какими судьбами? Давно?
Сидевший рядом с «сестрицей» военный санитар, улыбаясь, пожал маленькую лапку суфлера.
— Я уже давно тебя признал, вижу качается человече… Как живешь?
И, не дожидаясь ответа, кивнул на свою соседку.
— Мой товарищ, Софья Павловна… Ничего, не красней, друже, она у нас добрейшая… Ты, собственно, куда?
— В город…
— А именно?
— Да, так… — замялся Ардальон Егорович, — на Невский.
— Ну, так решено: едем к нам обедать! Как делишки? Впрочем, вижу. Молодчина! А помнишь саратовского буфетчика? Ха-ха! Сейчас наша остановка. Софья Павловна, подвигайтесь!
День Ардальона Егоровича начинался прекрасно. Продолжение было еще лучше. Оказалось, что бывший оперный хорист Буркачев уже второй год в столице, «окопался» санитаром в одном из частных лазаретов и живет, как у Христа за пазухой.
В чистенькой белой комнатке, уставленной «гигиенической» мебелью, хозяина встретил обрадованный такс и заворчал на суфлера.
— Не бойся, — сказал Буркачев, — он только ворчит, а зубы у него старые… Садись сюда к окошечку и кури, можешь даже вздремнуть, а я на минутку в палату… Паренек один, совсем уж было на выписку, да вздумал в трамвай на ходу вскочить… Ну, и снова-здорово!.. Я сейчас… Софья Павловна! — крикнул он в соседнюю комнату. — Рыжичков нам не забудьте… И зеленого лучку! — И, хлопнув гостя по плечу, подмигнул левым глазом.
— Смекаешь, что к чему?
— Есть? — блаженно улыбнулся Ардальон Егорович.
— Эге! На апельсинной корке, со льда… Жди!
Угостили суфлера на славу. И грибки, и огурчики; телятина и поросятина, и борщ и кисель… И даже белый пшеничный хлеб, чего он уже с месяц не едал. А во время обеда хозяин дважды подходил к шкапу и подливал в графинчик.
— Матерь Божия! — умилялся Ардальон Егорович. — Чего у вас нету? Вот, жизнь-то.
— Да-с, я на эту войну не в обиде, — признался хозяин. — Поотъелся здесь. Никаких очередей не знаем. Всего везут пока… Только вот, эвакуацией стращают, а то ничего… Жить можно! Раньше-то строгости были, старший врач — собака. А теперь мы его скрутили, по струнке ходит. Свобода! Пациенты мои в одних халатах на солнышко выползают и, как тараканы, во все стороны. До ночи не соберешь. Торговлю завели, кто чем… Одно слово — республика! А Софья Павловна у нас президентом. Только ее и побаиваются. Она у них в наказанье ноги запирает.
— Как? — поперхнулся суфлер.
— А так. Возьмет протезу и под замок. Товарищ и сидит, кается…
Софья Павловна шмыгнула черными маслянистыми глазками.
— Не слушайте его. Он сам их голосом ушибает. Начнет орать — мне даже страшно.
— А петь бросил? — спросил Ардальон Егорович.
Буркачев отмахнулся.
— Где там… Разве для больных иной раз «Марселя» тявкнешь, или Шумановских гренадеров. Это они любят. Пианино у нас было, да недавно отобрали. Баронесса одна жертвовала, а мужички у нее усадьбу распотрошили, ну барыня и обиделась. Эх, Ардальоша!.. Сказано: гора с горой… Где ж ты живешь-то? И дочка с тобою? Помню я, бывало, словно Велизарий…
— У родных живу, у зятя… — ответил суфлер. — Человек он простой, товарищ и все прочее… А в общем ничего. С напором человек. Уверовал и шабаш! У него и живу, временно, конечно. В Москву собираюсь. За меня там приятель один хлопочет. Вовка Маурин. Слыхал?
— Слыхать не слыхал, а на афишке видывал. Так ты, стало быть, пока в ожидании? У моря погоды?..
— Говорю тебе: хлопочет. Не веришь, могу письмо показать, на днях прислал, пишет, что дело на мази. Вовку — нарасхват. Он теперь с экрана не сходит, ему стоит пикнуть…
После обеда Буркачев вызвал в соседнюю комнату Софью Павловну и погудел за дверью своим протодиаконским басом, после чего вышел к гостю красный и сердитый, но хлопнул его по плечу.
— Идем! — сказал он. — Я тебя провожу. Беда с бабами… А туда же о равноправии пищат.
Выйдя на улицу, Буркачев разжал огромный волосатый кулак и показал суфлеру пачку кредиток.
— Хватит? — подмигнул он весело. — Тут, брат, неподалеку кабачок один имеется, кавказский. Какого ты мнения насчет кахетинского? А?
— Год не пивал! — подпрыгнул Ардальон Егорович. — Только уж того, извини, на мой счет.
— Да ну! — пустил санитар с «мефистофельским» сарказмом. — А ты знаешь ли цену-то?
Суфлер замялся:
— Ну, рублей пять?
— Хо-хо!.. Старая ты собака, а все глупая. Шагай лучше!
Ардальон Егорович сконфуженно умолк и едва поспевая за длинноногим санитаром, подумал: «Бывают же дни… Уж коли человеку повезет, так»…
— Стой! — сказал Буркачев. — Здесь. Держи фасон! А то, если кто в градусах уже… Не дадут.
В кабачке приятели засиделись до ужина. Заказали шашлык и снова пили. Сначала за искусство, потом за Реймский собор и, под конец, за здоровье Софьи Павловны.
— Святая женщина! — гудел санитар, обсасывая свои понурые хохлацкие усы. — Меня четвертовать мало… Если бы не она, быть мне под судом. Я еще при старом режиме старшего врача послал в нехорошее место. Дунувши был. Она упросила. Ты не смотри, что она из шкловских мещанок. Она, брат, акушерские кончила и на медицинские метит…
Из кабачка вышли последними, задолжав грузину за одну бутылку, взятую с собой, и на улице решили ехать к суфлеру.
— Познакомлю тебя со своими, — уговаривал Ардальон Егорович. — Сам увидишь, какие это люди. Особенно, зять мой… Он хоть и парикмахер, а по уму Ллойд-Джордж… Угостим его, — хлопнул он себя по карману с бутылкой. — А то он все больше одеколон… А после этого зелья, ты знаешь, на другой день ничего горячего нельзя… ни чаю, ни супа… Огнем палит. Едем!
Ехали в трамвае и потом долго шли по кривым темным улицам. Суфлеру изменяли ноги, и он едва не сполз в канаву. Буркачев успел схватить его за рукав макинтоша.
— Слаб ты стал, Ардальоша, — заметил он. — А помнишь, в Саратове? По двое суток с пристани не слезали… Эх! Что ни говори, революция и все такое… А если бы прежние времена воротить. Помнишь? Графинчик на двоих — сорок копеек… Стерлядку кольчиком закатишь… А пиво? Да еще какое пиво! Жигулевское, — двугривенный бутылка…
— Запел панихиду… — бормотал Ардальон Егорович. — Все еще будет. Руси веселие… Пришли! — остановился он. — Вот здесь, с угла, в калитку…
— Поздновато… — икнул Буркачев. — Поди, спят уже… Да и Сонька моя, — язва! Два дня пилить будет. Тебе-то хорошо, ты свободный гражданин… А меня связала нелегкая сила…
— Здравствуйте вам! — обиделся суфлер. — Ты мне товарищ или нет?
— Ну, ладно уж… Веди!
Ардальон Егорович вскарабкался на крыльцо и стал подниматься по скрипучей лесенке. Шел он в темноте, ощупью, цепляясь за перильца. На площадке остановился, поискал в кармане спички и не нашел.
— У тебя есть? — спросил он Буркачева и, не дожидаясь ответа, двинулся дальше. — Черт с ними! — решил он. — Я и так найду.
Пошарил по стенке и, нащупав ручку двери, дернул ее к себе; потом, откачнувшись вперед, стукнулся плечом о косяк, и шагнул в темноту.
XV
Степанида все свои дела переделала. Накормила хозяина ужином, вымыла всю посуду и решила перед сном сходить к соседке Семеновне, поглядеть из кухни на актерщика, послушать, поразнюхать… Тихонько от Терентия Ивановича отперла двери и вышла на лестницу. Послушала, как свистит ветер на чердаке, как на улице у ворот, протяжно, подвывая, лает Жук… «Поленом бы его огреть!.. Чего Антон смотрит»? — подумала она и постучалась к соседям.
А Терентий Иванович, подремав с часок после ужина, встал с кровати, обулся в старые уютные валенки и начал свою обычную ночную прогулку по квартире, от окна в спаленке до двери в кухню и обратно.
Опустив лысую голову и заложив за спину руки, шмыгал он тихонько по давно некрашеному пестрому полу. Изредка подходил к столу, убавлял огонь в лампе, одергивал конец камчатной скатерти или присаживался на диване в столовой, около печки, рядышком с дремавшим «Муркой». Гладил серого кота по жирной спине, щекотал за ухом, часто разговаривал с ним.
— Что, Мурка? Спишь? Жирная скотина… Отъелся? Опять вчера сметану уволок у старухи… У, негодяй! Драть тебя некому…
Кот выгибал спину, мурлыкал и свертывался калачиком.
Терентий Иванович вставал с дивана и снова ходил, ходил… И за маленьким сухоньким старичком двигалась следом длинная черная тень. Скучно было купцу Офросимову.
Вся жизнь его прошла на людях, за стойками трактиров, среди галдящей и хохочущей, часто пьяной толпы посетителей «Венеций», «Коммерческих» и «Фантазий».
При покойнице жене Терентий Иванович домой являлся только ночью, усталый, оглушенный маршами трактирных оркестрионов, валился на широкую пуховую постель и моментально засыпал.
Часто смеялся над каждым, кто при нем жаловался на бессонницу:
— Поработай с мое, — уснешь!
Но война закрыла «монопольку», и Терентий Иванович подумал, огляделся, прикинул на счетах и решил, пока что, отдохнуть. Одни из своих «заведений» просто прикрыл, другие передал своему буфетчику и заскучал. Узнал бессонницу, мысли всякие, вспоминал о Боге. В загаженной, в прочно засоренной всякими делами и делишками душе своей, откопал жалость… К самому себе, к покойнице жене-старухе, к солдатикам безруким и безногим… Мало ли? Только допусти себя до этого, а уж на свете найдется кого пожалеть…
Да и жизнь-то кругом стала теперь нехорошая, какая-то непонятная. Начальства — никакого и поборов с тебя — никаких, но, зато, и спокойствия нет. «Вот, — думал он. — Того и гляди немцы сюда придут, а куда бежать? Везде то же, по всей Руси такой разгардераж, что антихристу самая пора… Да и по железным дорогам… тоже, натерпишься, в его-то годы на крыше ехать… И виноватых нету. Смут-то всяких на его веку достаточно бывало, но раньше все так и знали: студенты виноваты, они народ мутят…» А нынче и студенты какие-то непонятные. Шел недавно Терентий Иванович через площадь, видит, стоит грузовик, и студенты из него в толпу листки бросают и речи говорят. Не любит он в толпу лезть, но, все же, подошел к краешку и послушал… Студент, как есть, при всей форме и даже брюки с бахромой, а говорит дело. «Россия, мол, погибает, спасать отечество нужно… Все должны соединиться и, по-хорошему, без драки, без самоуправства. И правительству, мол, необходимо доверять»… Вот тебе и студенты!..
Иногда, в такие ночи, когда уж очень «на душе неудобно», Терентий Иванович запирался в спаленке, стоял перед иконами, повторял молитвы и клал земные поклоны. Отсчитывал их по лестовке, пока не разбаливалась спина, и не начинали дрожать колени… Изредка доставал из комода старые книги в черных кожаных переплетах, доставшиеся ему от покойного дедушки, разгибал желтые страницы и читал жития святых.
Но читать любил он стоя, при свете восковой свечи и вполголоса, заунывным тоном, как читают монашенки по покойникам.
Вот и сегодня, находившись досыта по комнатам, Терентий Иванович погасил для экономии лампу в столовой и пошел в спаленку.
Надел очки, перекрестился и раскрыл толстую книгу на закладке.
Тихо в спаленке. Ровным розоватым огоньком горит желтая свеча. Мерцают потемневшие, кованные ризы на иконах. Печально глядят большие темные глаза Тихвинской Богородицы. Пуще прежнего хмурится седой Никола Мирликийский… И только на устах Саровского пустынника готова вспыхнуть благостная, простецкая улыбка.
Терентий Иванович глубоко вздыхает, протирает полой халата стекла очков и склоняется над книгой.
Читает он долго, стоя перед комодом, тянет священные слова о кротком смирении гордых и знатных, о великом упрямстве всходивших с улыбкой на костры… Изредка он вздыхает, умиленно и жалостно, и снова читает.
Но вот, не кончив даже слова, он поднимает голову и прислушивается. В углу, под кроватью, скребется мышь. И только. Но нет, ухо Терентия Ивановича улавливает еще какие-то далекие, неясные шорохи. Словно бы повизгивает дверная ручка, там, в прихожей… Словно кто-то дышит…
Путаясь в длинных полах халата, он подбегает к постели и сует дрожащую руку под подушку. Затем, дунув на свечу, с револьвером в руке, он крадется через темную столовую.
Ошибки нет, вот оно, жданное и страшное… Что-то колышется во тьме, чьи-то невидимые руки шарят по обоям у самой двери… «Они»! — решает Терентий Иванович, и вся сухонькая фигурка его начинает трястись в лихорадке нарастающего ужаса… «Угодники святые, анделы!..» — шепчут сухие горячие губы, и вдруг он слышит чей-то страшный, хриплый и, кажется, пьяный голос:
— Ардальошка, черт! Где ты там?
Терентий Иванович, полуотвернувшись, вытягивает во всю длину руку с револьвером, зажмуривается, стискивает зубы и спускает курок.
XVI
Ардальон Егорович упал у самой двери в столовую, даже руку одну за порог перекинул. Когда сбежались люди и принесли огонь, суфлер уже не дышал. Над правой бровью, ближе к виску, чернела маленькая ранка, и крови из нее вытекло не больше, как с рюмку, а между тем на первый взгляд казалось, что бедный Ардальон Егорович плавает в крови. Падая, он разбил торчавшую из кармана макинтоша бутылку «кахетинского», и темно-пурпурное вино разлилось широкой лужей вокруг убитого старика. Раненый, он вероятно схватился за голову, потому что на ладони откинутой руки в желтой перчатке видны были пятна крови.
Положение тела и самая ранка у виска как будто говорили, что здесь произошло самоубийство, но Степанида, первая, выбежав из квартиры парикмахера и увидев мертвого суфлера, схватилась за седую голову и завопила:
— Убил!.. Кажинную ночь караулил… Загубил теперь свою душеньку… Ой, матушки! Вяжите меня, старую дуру, я всему причина, ослушалась хозяйского приказу, оставила двери незаперты… Ох!
Маруся, бледная, дрожащая, в наспех накинутой кофточке, с распущенной на ночь косой, взяла старуху за плечи, увела к себе в кухоньку и дрожащими руками, расплескивая воду, совала Степаниде ковшик.
— Успокойтесь, выпейте воды!.. — уговаривала она. — Никто не виноват, несчастный случай… Теперь все напуганы, все с револьверами… И хозяин ваш не виноват, за вора его принял… Успокойтесь, родная!..
Внезапно протрезвевший Буркачев, стоя на площадке лестницы, объяснял, как произошла «катастрофа».
— Я в первый раз иду, — гудел он, размахивая длинными руками. — Затащил он меня, по пьяному делу… А у него спичек не оказалось и он все ощупью, все ощупью… Я за ним следом… Тьма кругом, хоть глаз выколи. Только я его окликнул, вдруг, бац!.. Я назад…
Тоненькая Лиза, с головой утыканной бесчисленными бумажными папильотками, билась в истерике на груди мертвого отца, пачкалась в вине и крови и визжала пронзительно, с надрывом, как полицейский свисток. Рядом стоял в одном белье и босой парикмахер, тянул Лизу за руку и, кашляя, хрипел:
— Буржуи, сволочи! Награбят деньжищ и с перепугу палят во всякого… Где он там? Запрятался теперь, кабатчик леший? Врешь! Достанем!
А внизу на крылечке топтался Антон, хлопая себя по бокам, и не мог решить, что он должен теперь делать: идти ли наверх, к хозяину, или бежать в комиссариат?
Любопытный Жук, тихонько повизгивая, старался проскользнуть на лестницу, но всякий раз натыкался на огромный сапог Антона. Отброшенный вниз, он торопливо лизал ушибленные худые ребра и снова крался к двери.
Одна только бабушка Семеновна сохранила полное присутствие духа. Вышла на площадку и, оттолкнув легонько Курнатовича, поглядела на мертвого Ардальона Егоровича, перекрестилась…
— Царствие ему небесное!..
И вернулась обратно.
Порывшись в кухне у плиты, она взяла маленький заржавленный топорик и, войдя в комнату, присела на полу, рядом с секретным сундучком убитого суфлера. В соседней комнате плакал-надрывался в своей люльке одинокий, всеми забытый Феденька, но бабушке в эту минуту было не до внучка.
Старые, жилистые руки Семеновны трудились над упрямым, хитрым замком сундучка, хранящего сокровища безвременно скончавшегося раба Божия Ардальона…
Когда в комнату вошел Гришин, злой и взлохмаченный, и привел тихонько всхлипывающую Лизу, Семеновна уже сидела у люльки, укачивая Феденьку, и встретила их вопросом:
— Милицейские-то пожаловали?
— Нет еще, не торопятся. Приятель то этот, ночной, пошел на угол звонить по телефону, да только я смекаю, что он уже сам стрекача задал. Ищи его теперь!
— Что ж, кому охота в этакую историю лезть? Лизавета, покачай его, — а я мать кликну.
Семеновна снова пошла на лестницу, нагнулась над трупом и долго вглядывалась в лицо Ардальона Егоровича. Принесенная Марусей свечка оплывала от сквозняка, и трепетные тени играли на желтом, кругленьком личике угомонившегося суфлера. Казалось, что, вот, сейчас, он подымет левую бровь, взглянет, прищурившись, на Семеновну и спросит сладеньким голоском: «Что, бабушка? Бессонница?»
Семеновна выпрямилась и тряхнула головой.
Подошедшая сзади Степанида тронула ее за плечо.
— Словно живой лежит… — всхлипнула она в передник. — А уж ничего не слышит. Дочку-то евонную насилу оторвали… Господи, до чего жалостно!..
— Есть чего жалеть! — оборвала Семеновна. — Как жил век свой прощалыгой, так и помер… Без покаяния, как пес… По крайности теперь никого не проведет.
— Грешно, мать моя! — разозлилась Степанида. — Небось, пока жив был, так всем от него пользовались…
Семеновна повернулась, плюнула вниз на лестницу и ушла, не ответив.
На рассвете Ардальона Егоровича увезли в покойницкую ближайшей больницы, а через час по зеленой улочке повели в комиссариат Терентия Ивановича. Убийца, как был в валенках, так и остался и только халат заменил стареньким драповым пальто. Шагал он, сгорбившись, между двумя милиционерами, и тут же сбоку шел Антон и поглядывал на опущенную хозяйскую голову.
«Кайся теперь!.. — думал он. — Изведали, дяденька, сколь легко… револьверты эти? Меня заставляли»…
Терентия Ивановича нашли в спаленке, в уголке у печки. Сидел он на стуле, поджав ноги и спрятав руки в рукава халата и вздрагивал тихонько, словно от озноба.
Боялись входить к нему, думали, стрелять будет.
Только Степанида, просунув в дверь голову, позвала хозяина.
— Терентий Иваныч, зовут вас!.. Начальство требует. Чтой-то вы, ровно бы не в себе… Не по нароку убили, сам он виноват… Разберут дело-то… Нате-ка, пальтецо я приготовила… Да, может, водицы подать?
Терентий Иванович, молча, переоделся, положил перед киотом три поклона и вышел в столовую.
Вежливо поклонился комиссару и, уходя, на пороге наказал Степаниде:
— Сходи к отцу Николаю. Отписать надо Костьке-то… Пускай, если можно, отпросится сюда…
А выйдя уже на крыльцо и увидя Антона, горько усмехнулся в бороду:
— Проспал-таки, дубовая голова! Подмойте там… лестницу.
Едва увели Терентия Ивановича, чуть только рассвело, к офросимовскому домику с разных сторон потянулись любопытные. Идучи на базар, завернули в зеленую улочку бабы с мешками и корзинками, приехали на извозчике два репортера, собралась кучка рабочих с соседнего завода.
Посреди улицы остановился проезжавший грузовик с дровами. Любопытный шофер слез и, работая локтями, втиснулся в середку толпы. Прибежали оборванные мальчишки. Под предводительством румяной нарядной «сестрицы» приплелись на костылях инвалиды из ближайшего лазарета.
Подняв головы, глядели на закрытые окна офросимовской квартиры, переходили с места на место, спрашивали друг друга… У самой калитки стояла неизвестная бойкая бабенка, весело улыбалась, показывая крупные белые зубы и стрекотала ярославским говорком:
— Жильца своего убил. Спервоначалу выселить его хотел, да не удалось, нынче на этот счет руки коротки… Ну, он заманил его к себе и прикончил…
— Так… — сказал кто-то в толпе. — С ним шутки плохи! Купец Офросимов — человек сурьезный, я его девять годов знаю…
Высокий рабочий с темным испитым лицом усмехнулся и махнул рукой:
— Слушайте вы ее!.. Врет она. Слышала звон, а откуда он? Тут другая причина: купец этот краденое скупал, да возьми его и обсчитай. Ну, слово за слово, дошло у них до драки, он его и пырнул под ребро…
А напротив, на тротуаре, стояла публика почище. Вертлявая барышня в коротенькой, до колен, юбочке и желтых высоких сапожках дергала за рукав своего кавалера безусого юнкера:
— В чем дело? Узнайте, пожалуйста! Это митинг?
— Артиста одного убили, кажется, известного; мне говорили фамилию, да я забыл… Романическая история…
Одинокий милиционер, щупленький юноша в желтой смятой шляпе, переходил от одной группы к другой, волоча по земле тяжелую винтовку, и говорил, забавно хмуря брови:
— Разойдитесь, товарищи, не дозволено!..
— А людей резать дозволено? — усмехался ядовито седенький старичок, швейцар из углового дома. — Где ты раньше был?
Курнатович открыл окно, высунулся, поглядел вниз, послушал и сказал жене:
— Маруся, оденься-ка, пока что… Да шляпки не надо. Накинь платок. Я тебя провожу к Воронковым. После службы зайду за тобой. Обедать-то сегодня придется в столовке.
Бледная, не спавшая всю ночь, Маруся подняла на мужа усталые глаза.
— Я боюсь, что подожгут дом…
— Ну, что ж? — усмехнулся Дементий Петрович. — Сгорят твои книжки да моя гитара… Скорей, детка! Потом не выбраться отсюда. Слышишь, как галдят?
— Дема, я лучше поеду к Алеше?.. — сказала Маруся.
— Как знаешь.
Курнатович повертел в руке янтарный мундштучок и, взяв его в рот, крепко стиснул зубами. Так крепко, что янтарь хрустнул и разломился.
XVII
Падали желтые листья. Последний неожиданно теплый сентябрьский день, догорая над старым опустошенным парком, позвал Марусю к знакомому пруду.
— Пойдемте подальше, Алеша! — позвала она в свою очередь. — Там у пруда есть скамейка под кленом. Необыкновенный клен, вот увидите. Он один еще держится. Мы с ним давно знакомы. Пойдемте, я вас представлю.
— Там наверно болото теперь, — возразил Алеша, но улыбнулся и послушно захромал за Марусей. — Не так скоро! — попросил он. — Ваш клен подождет, а по мне так и здесь хорошо. Люблю я осень!
— Как все упадочники? — улыбнулась Маруся.
— Как все одинокие, — ответил он и, помолчав, добавил: — Как вы сами, Маруся. Недаром, когда петь начнете, все у вас в миноре выходит. Славянская душа… Остановитесь на минуту! Послушайте! Что? Вспоминаете? «Завершительный ропот шуршащих листвою ветров»…
— Только без стихов! — поморщилась она. — Довольно с меня и ваших писем. Лучше помолчим и подумаем. Каждый о своем.
— Помолчим! — согласился Алеша.
Перешли через старенький мостик с зелеными перильцами, прошли мимо белого павильона в греческом стиле, со сломанными колоннами. Молча повернули на узенькую, усыпанную листьями, дорожку, молча взглянули в глаза друг другу и улыбнулись.
— Когда вы уезжаете? — спросила Маруся.
— Теперь скоро, — ответил он. — Война уже кончена. Осталось только уплатить по счету. Но меня уже здесь не будет.
— Кто же должен платить?
— Тот, кто пировал во время чумы. Ах, Маруся!.. Быть может, я скоро вернусь. Когда настанут великие дни покаяния… С заунывным звоном стареньких колоколов, с черными ризами…
— С постным сахаром… — улыбнулась Маруся.
— Да. Дни великого народного поста. И тогда опять придет весна, и снова будет светлая пасхальная ночь. Последняя, Маруся. И мы снова увидим свою маму, старенькую, убогую, избитую Русь… И сарафанишко ее узнаем, и зипунишко на плечах, ветхий, посконный зипунишко, тот самый, в котором она еще в лавру хаживала, к Сергию игумену, Гришку проклинаючи… И посошок ее знакомый, крепкий еще посошок, на долгую еще путину хватит его…
Маруся с тихой и недоброй улыбкой заглянула сбоку в некрасивое желтое лицо своего спутника.
«Алексей, человек Божий… — подумала она. — Поехал!.. Словно кликуша…»
— Да, Маруся, — продолжал он, снова хромая по коврику шуршащей листвы. — И друзья и враги наши все учли, все взвесили, обо всем догадались… Лишь одно они забыли.
— Что?
— Бога нашего. Старенького, русского Бога…
— Скучно все это, Алеша… — вздохнула она. — Да и старо. Помнится, я уже читала об этом. У славянофилов кажется…
— Нет, Маруся, это не то… Славянофилы в народ верили.
— А вы?
— А я в иконку, в дощечку древнюю. В стихиры покаянные. Ах! У каждого народа своя марсельеза…
— Вот, и пришли, — остановилась Маруся. — Видите мою скамейку? А над ней красные, широкие ладони? Ни у кого таких нет. Только у моего старика-клена… Сядем здесь, отдохнем и обратно…
Алеша молча опустился на низенькую, вросшую в землю скамью. Вынул папиросы, закурил.
Маруся, вскочив на скамейку, сорвала с дерева несколько багряных, но еще гибких листьев, и села рядом с Алешей.
Солнца уже не было, и все кругом быстро темнело, точно кто-то невидимый ходил по высокому храму и гасил свечи, одну за другой…
— Отчего бы вам, Алеша, не пойти в монахи? Вот, как тезка ваш, Алеша Карамазов. Помните?
— Я уже думал об этом, — усмехнулся он. — Только я жизнь люблю. Я еще жадный…
— Ступайте, Алеша! — смеялась она. — Ряса вам пойдет больше, чем эта тужурка. У вас волоса вьются, вы их — локонами до плеч… Купчихи станут к вам ездить. Икры, семги навезут. У вас, вон, и руки красивые… Вы их в миндальных отрубях мойте, они станут белые и нежные… И так приятно будет целовать их…
— А вы приедете?
— Непременно! И не одна, притащу с собой нашего хозяина «убивца»… Вы ему грех отпустите, а он вам за это вклад на вечное поминовение убиенного актера.
— Да, а чем же кончилась эта история?
— Пока ничем. Старик еще сидит под арестом. Приехал с фронта сын его. Из молодых, да ранний… Первым делом набавил на квартиры… А актера этого недавно похоронили. Мы собрали на венок ему… Должно быть на первый и последний…
Маруся умолкла и задумчиво поиграла сорванными листьями. Подобрала их в тон, от желто-розовых до темно-кирпичных, сложила веером и закрылась от Алеши.
Он вынул из кармана часы и поднес к близоруким глазам.
— Поздно уже, Маруся! Вы так далеко завели меня. Отсюда до трамвая версты полторы… И уже темно, мы потеряем дорогу. Идем?
— Подождите, Алеша… Еще немножко! Мне уже больше не придется побывать здесь. Одной так жутко… А Дема теперь председателем какого-то районного комитета, бегает с толстым портфелем и каждый вечер на заседаниях…
— А вы все одна… Что вы теперь читаете?
— Улыбнитесь авансом: шикарнейшего француза Эдмона Ростана. Что? Кончила «Романтиков», начала «Орленка» и бросила… Очень уж все это… земляника в январе.
— Для нас? Да. В том и горе, что из наших орлят вырастали совы…
— Нет, увольте! Все эти шпаги, знамена, реликвии… Французским комми — это импонирует…
— Ах, Маруся!.. — засмеялся он. — Какая вы стали модернизованная из цирка «Модерн»… Нет, послушайте, лучше, я расскажу вам один милый анекдот: однажды Сенкевич встретился с Ростаном. — «Немногого стоит литературная слава, добытая саблей пана Володыевского!» — усмехнулся французский поэт. — «Да и невысок тот Олимп, куда можно вспорхнуть на крыльях Орленка!» — ответил польский романист. Знаменитые патриоты, увы, Маруся, — патриоты, отвернулись и разошлись, но за их спинами арбитр Петроний, молча, пожал руку поэту Сирано, и панна Анеля ответила на ласковую улыбку принцессы Мелиссанды…
— Вот панне Анеле я сочувствую! — тонко улыбнулась Маруся и, оглянувшись назад, дотронулась до Алешиной руки. — Оглянитесь! — шепнула она, и улыбка сбежала с ее губ.
В нескольких саженях от скамьи, на узкую, кривую дорожку вышли из-за деревьев три человека, двое подозрительных штатских и солдат.
— Пойдем! — сказала Маруся дрогнувшим голосом.
— Успокойтесь, Маруся!.. — ответил тихо Алеша, пожимая ее руку. — Не обращайте внимания… А бежать бесполезно.
Он закурил папиросу и затянулся глубокой, нервной затяжкой.
Три пугающе безмолвных человека медленно подходили к скамье. Высокий солдат, в распахнутой шинели, без погон, шел впереди.
Маруся, не мигая, вглядывалась в его лицо, желтевшее в сумерках вечера. Разглядела широкий вздернутый нос, темную квадратную бородку… Уронила свой веер и крепко прижалась к плечу Алеши.
Солдат остановился в двух шагах от скамьи и поднял руку с папиросой:
— Товарищ, дозвольте прикурить!..
Алеша стряхнул пепел, приподнялся и, в ту же секунду, упал навзничь, больно ударившись головой о чугунную спинку скамейки. Высокий солдат качнулся вперед и обеими руками стиснул его горло.
Маруся вскочила и крикнула дико и страшно, но тотчас умолкла. Широкая потная ладонь закрыла ее рот. Маруся дернула головой, и ее мелкие, острые зубы впились в руку безусого стройного юноши в шоферском кепи. Он глухо вскрикнул, согнулся и, взмахнув другой рукой, ударил Марусю рукояткой револьвера. Удар пришелся сзади уха, туда, где изогнулась каштановою змейкой шелковистая прядка.
— Ловко! — сказал третий, не принимавший участия и спокойно стоявший поодаль, с руками, засунутыми в карманы серого пиджака.
— В один секунд управились! Только стоит ли овчина выделки? Кроме одежи, кажись, ничего… А, впрочем… — усмехнулся он, подходя, — открой-ка ей рожу-то… Гм… Курсисточка невредная!
1918 г.
Под старыми соснами
I
Древние сосны стояли на бессменной страже вокруг монастыря. От соблазнов мирских, от прихода незваных гостей охраняли его глубокие овраги и мшистые, коварные болота.
Долгие, никем несчитанные, годы монастырь жил своей тихой замкнутой жизнью, и крепче железных вериг, прочней оград каменных сковал сердца и мысли братьев суровый, монастырский устав.
Но где-то там, далеко за темным лесом, за ярко-зеленою топью, была другая жизнь, неустанная, неугомонная. Работали и умирали люди и на смену им, из темного, бездонного колодца жизни, природа черпала новые, бесчисленные силы. И как вешние реки, зацелованные солнцем, разливались широкие озера жизни. Затерянные, забытые Богом деревни вырастали в поселки. Осушались болота, вырубались лесные чащи, перекидывались мосты через реки, и с каждым годом, шаг за шагом, все ближе подходил к монастырю мир, голодный и жадный, не покладающий рук. И волны жизни, смелые и любопытные, подбегали уже к самым вратам монастырским.
Но, чем быстрей вертелось колесо городской жизни, чем выше вздымались фабричные трубы, тем бережнее становились люди к монастырским угодьям, тем милей и отрадней был для них этот зеленеющий тихий оазис среди гранитной и шумной душевной пустыни.
И чудом красивым и светлым казалось порой, что грохочущий, неведающий преград, поток победоносной жизни не смыл еще этот одинокий островок тишины и беззлобного мира.
II
Непобедимый бессонный завоеватель, жизнь остановилась у стареньких врат монастыря, но человек нашел иные пути. Смиренным богомольцем в лаптях и с котомкой шагнул он за ветхую ограду. Оставил позади все помыслы земные, всю суету сует и с открытым сердцем вечного ребенка пришел под угрюмые сосны. Напился жаждущий у чистого источника немудрствующей веры, прикоснулся к столетним святыням и понес обратно чистые и хрупкие дары обители: смирение — в мир сильных, незлобие — в кровавую битву из-за куска хлеба и тихий огонь в пучину житейского моря.
Пришли и другие люди. И не одни только старые лапти шептались о ступени монастырского храма. Случалось слышать, как позванивали шпоры и постукивали высокие каблучки дамских ботинок.
И скоро не вмещал уже храм богомольцев. И скоро рук уже не хватало у братии, чтобы хлебов напечь и квасов наварить для трапезной.
Тогда четверо старцев, ревнующих о тишине, просили смиренно игумена дозволить им кельи свои поставить подальше от храма, в далеком и диком уголке леса, куда и солнце не заглядывало сквозь ветви столетних елок.
Игумен благословил и в то же лето старцы, с помощью братии, сколотили себе немудрые избушки. Стояли они одна от другой неподалеку и добрых три версты было от них до монастыря.
Прожили в них старцы зиму, а по весне и пятая келья стала рядышком. Построил ее игумен для старца Виталия — молчальника. И поселился в ней Виталий, третий год уже взявший на себя обет молчания и свято его соблюдавший. Хотя и не просил старец, но понял игумен, что не лежит душа Виталия к новому шумному укладу монастырской жизни и что ищет она тишины и спокойствия.
III
В тесной келье старца Виталия пахнет травами, полевыми цветами. Любит он бродить по сенокосу, собирать голубоокие и желтоголовые цветы, только что срезанные острой косой. Но сам их не рвет никогда, бережет их короткие жизни. Всюду, на окне, на единственном столике в углу кельи, за старинными темными киотами приютились увядающие былинки, со своим пряным запахом безмолвного умирания. В толстых книгах священных, между желтыми страницами, лежат сухие незабудки, шуршащие васильки и астры. Служат они Виталию закладками, отмечают слова писания, излюбленные старцем.
Часто сидит он, согнувшись над пестрою жатвой, перебирает сухие цветы такими же сухими, непослушными пальцами и тихо улыбается своим думам. В частую сетку собираются морщинки вокруг ласковых глаз Виталия и улыбаются вечно безмолвные уста его, спрятанные под белыми усами. Вечно безмолвные уста…
Со страстного четверга пошел уже третий год молчанию старца. Однажды испытал его Господь и покарал себя Виталий до могилы.
Два года тому назад, когда Виталий жил еще со всей братией, приставлен был к нему для услуг молодой послушник Павел. Розовый и чернявый, быстрый в движениях и скорый на язык. Что привело его сюда — неизвестно, но только не к месту он был в этой тихой обители. Не показался он старцу, невзлюбил он его, но и Павел заплатил старцу той же монетой: чем мог, досаждал и всячески испытывал его терпение.
В четверг же поздним вечером, когда старец возвращался из храма от двенадцати евангелий, застал он Павла в своей келии, курящего табак. Выбил старец из его руки толстую вонючую цигарку и тут же растоптал ее. Но вскоре и отошло недавно умиленное сердце, сказал он Павлу: «Иди с Богом!» — и нагнулся к цигарке, хотел выбросить ее из кельи. Поднял цигарку старец, взглянул и снова выронил… Затрясся от гнева, подбежал старыми ногами к окну, где лежали его книги, открыл одну, другую и понял: не хватало одной страницы в Псалтыри, наискось была вырвана она и скрутил из нее свою поганую цигарку святотатец Павел. Распалилась душа старца, поднял он руку свою, чтобы ударить Павла, но тот увернулся, шмыгнул в дверь кельи, да еще и хихикнул ехидно.
Тут-то и согрешил старец. Бросил он с порога, вдогонку Павлу, слово тяжкое, стопудовое… Осквернил свои уста непотребной хулой. Смрадную брань изрекли они в ночь на великую пятницу.
До утра стоял Виталий на молитве. Много раз обернулись в руке его длинные четки и каждое зерно их было глубоким поклоном земным, тяжким поклоном недужного старца.
Встало весеннее солнце, запели птицы за окном, но все еще не было мира в душе Виталия, сокрушенный и кающийся пошел он к игумену. Рассказал про грех свой и просил благословить его на великую епитимью, на молчание до смертного часа.
Игумен долго уговаривал старца. Жалел он в нем клирика, жалел его голос сладкий и трогательный, исторгающий часто слезы душевные у тех, кто слышал Виталиево чтение. Но ползал у ног его старец, плакал скорбно и молил покарать его вечным безмолвием. И уступил Виталию игумен.
Вскоре ушел из монастыря послушник Павел, но старец часто думает о нем. И нет уже сомнений у Виталия, что человек этот и в монастырь приходил лишь затем, чтобы испытать его душу.
И с того же дня, как замолчал Виталий, снова сошла в его душу прежняя тишина. Так же радостно улыбаются его глаза людям, солнышку, цветам и птицам. Так же покойно и ровно бьется старое сердце, сердце седого ребенка, не знающее грядущего дня, не ведающее о том, как много и мало дано человеку. Что властен он наложить на себя любой обет, но бессилен отогнать искушение и что нет победы без борьбы, как нет и жертвы без муки.
IV
Троицын день в монастыре престольный праздник. Еще в субботу с утра переполнилась богомольцами небольшая монастырская гостиница. Не вместила она и половины православных и многие после всенощной заночевали под открытым небом. Легли вокруг храма на молодую травку, покрылись зипунами и прежде, чем заснуть, долго смотрели в ласковые звездные очи теплой ночи весенней.
А с утра воскресенья потянулись в монастырь из города кареты и коляски, привезли они помещиков окрестных и купцов-богатеев.
Где же было старенькому храму вместить всех паломников? Далеко вокруг него разлилось человеческое озеро. Стояли под солнцем на монастырском дворе и в тени под деревьями. Не слышали ни возгласов, ни пения. Не видели икон святых, но крестились усердно и кланялись, припадая к земле, шептали молитвы свои собственные, с детства знакомые и голубое небо висело над ними куполом вселенского храма и благовоннее росного ладана пахли сосны и ели весенней смолой.
Поздно отошла обедня. Высоко уже стояло солнце, когда вышел из храма крестный ход. Расступались серые волны людские и двигался между ними золотистый поток. Колыхались хоругви и желтые огоньки свечей. Взволнованно и радостно переговаривались старые монастырские колокола. И всюду была красота, та, что крепче уз земных, сильнее страха загробного привязала к себе простое народное сердце.
А после долго еще тянулась общая трапеза. По очереди садились богомольцы за длинные столы. Всех накормил монастырь, напоил своим квасом шипучим.
Утомился отец-игумен, едва ноги держат. Отдохнуть бы теперь, а вместо того, едва отошла трапеза, пригласил он к себе в келью просторную гостей праздничных, дворян и купцов именитых, что не скупились на жертву обители от своих достатков.
Тут же, рядом с хозяином, сидит и отец Вонифатий, соборный протопоп из города, и мать Стефания, игуменья дальнего женского монастыря, и даже полковник Власенко, недавно назначенный здешним полицмейстером.
А поодаль, у окна, рядом с пышной махровой геранью, сидит молодая вдова купеческая Серафима Филиппьевна. Уважает ее отец-игумен за жизнь ее строгую, благочестивую, за постоянные заботы о нуждах обители.
Много интересных и почтенных гостей сегодня у отца-игумена, но всех любопытней фигура Володи Кирьюшина.
Назад тому года четыре умер Володин отец Семен Иванович, ситцевый фабрикант и многих домов и окрестных имений владелец. Кроме всего прочего, оставил он единственному сыну наличными без мала полмиллиона. Схоронил папашу Володя, сдал все дела старому приказчику, а сам махнул за границу, да и пробыл там три года с лишним. Говорят, что вокруг света объехал и в Америке побывал.
Что он там делал, — неизвестно, но, однако же, капиталов родительских не растранжирил и, вернувшись домой, приказчика своего усчитал до копеечки. Не пьянствовал и не развратничал, жил, как следует, но была и у него одна слабость: помешался Володя Кирьюшин на эксцентричности. Янки, что ли, его заразили, или папашина куражливая натура сказалась?.. Не было дня, чтобы Володя не выкинул какого-нибудь фокуса: то кучера своего оденет бедуином в чалму и в бурнус, то особняк свой городской велит выкрасить в серебряную краску… О многих его чудачествах рассказывали в городе, но и в них не выходил он из рамок дозволенного и никого ни разу не обидел.
Вот и сегодня Володя шутом нарядился: одел костюм белый фланелевый, что для тенниса, цветную сорочку мягкую, а на ноги — галоши высокие, ботики. Так и в храме отстоял, так и к отцу-игумену пришел.
Сидят гости, беседуют, пьют чай с медом из монастырской пасеки.
— Тесен храм-то у вас, тесен… — говорит отец Вонифатий. — Неужели же и в сем году не приступите к постройке?
— Повременить надо… — отвечает отец-игумен и звучит печально бархатный голос.
— Еще одно лето упустите.
— Что же поделаешь? Не сподобил еще Господь… Казны не хватает. Бедна еще обитель наша…
Вздохнул отец-игумен и опустил свою львиную голову.
Помолчали с минутку.
Тогда Володя Кирьюшин вставил в глаз стеклышко, да и спрашивает:
— А сколько еще не хватает у вас?
Встрепенулся отец-игумен.
— Да без мала тысяч двенадцать не достает еще против сметы.
— Гм… — произнес Володя и задумался о чем-то.
А на лице отца-игумена уже сияние. Молча и ласково смотрит он на Володю. И все вокруг притихли в ожидании и думалось каждому. «Что ему стоит? Возьмет и отвалит»…
А Володя поднял голову и спрашивает снова:
— А правду ли я слышал, что есть в вашей обители старец-молчальник?
Изумился слегка игумен: при чем, мол, здесь старец?.. Но отвечает:
— Не обманули тебя, сын мой, есть. Отец Виталий. Третий год уже безмолвствует…
Встал Кирьюшин, посмотрел на всех и говорит:
— Что же? Я согласен пожертвовать эти двенадцать тысяч, если отец Виталий по моем покойном батюшке панихидку отслужит…
На всех словно бы столбняк нашел. Знали все про Володины фокусы, но такого не ожидали. Сидят все немые и неподвижные… Только полковник крякнул негромко и поправил орден на шее.
Первым опомнился протопоп Вонифатий. Строго взглянул он на Кирьюшина.
— Покойный родитель ваш был благочестивый человек, а не вложил в вас страха Господня!.. Неподобные шутки шутите!..
Но остановил его отец-игумен, скрыл огорчение свое и улыбнулся благодушно:
— Нет греха превыше соблазна… Но Господь умудряет сердца. Пусть будет по желанию твоему. Если и старец того же захочет, я не препятствую.
И велел он сходить за отцом Виталием, знал, что он неподалеку на пасеке бродит.
Не обидел Господь умом отца-игумена. Недаром, в нестарых еще годах своих, уже стоял он во главе обители. Понял он, что улыбнулась уже богатая жертва Кирьюшина, но хотел еще извлечь иную пользу для монастыря.
Верил он в твердость старца-Виталия, знал, что не нарушит он обета своего и при всех посрамит дерзкого миллионщика. И предвидел игумен, что с этого дня наипаче вознесется слава старца-молчальника, а с ним и всей обители и принесет она плоды сторицею.
Так оно и сбылось. Пришел на зов старец Виталий, выслушал Володину просьбу и посмотрел на него пристально голубыми старыми глазами. Всего оглядел он: и пробор его безукоризненный английский, и стеклышко в правом глазу, и даже ботики его высокие… Искал чего-то старец взором своим, может быть сходства телесного с послушником Павлом, но улыбнулся Виталий кротко и ласково, издали благословил Володю крестным знамением, поклонился отцу-игумену и всем гостям его и вышел.
Склонялось уже солнце к закату своему, Последние песни свои допевали птицы в кустах. Медленно шел лесною тропою старец Виталий. Возвращался он в келью свою и всю дорогу с безмолвных уст его не сходила кроткая улыбка. Спускался вечер уже, когда добрел старец до своей избушки. Присел он на пороге и отдохнул недолго. Поглядел на вечернее небо, на первую звездочку бледную, потом вошел в свою келью, зажег свечу восковую, достал Псалтырь и открыл ее на излюбленном месте. И в сотый раз прочел он древние слова царя-псалмопевца, близкие сердцу Виталия: «…да не возглаголют уста мои дел человеческих»…
V
Любит старец Виталий тихие ночи летние, особенно, когда месяц серебряный встанет над соснами. Бродит он в такие ночи по сонному лесу, или стоит подолгу недвижный, словно слушает что-то: быть может, шорохи ночные, вздохи теплого ветра, или душевные думы свои, безмолвные молитвы…
Добрый ласковый друг эта ночь для таких, как Виталий. Всю свою нежную тихую красоту открывает перед ними природа и, если есть на земле радость чистая, то пьет ее человек этой ночью, в гармоничном слиянии душевного мира с тишиной и покоем природы.
Но один ли старец молчальник сегодня во власти красоты ночной, во власти чар ее знойных, пуще вина опьяняющих?
Кто идет там лесною тропинкой, весь залитый лунным светом? Не вдова ли молодая Серафима Филиппьевна?
Невдалеке от стоявшего тихо Виталия прошла она и узнали ее глаза его старые, но зоркие. Знакома она была старцу. Не раз и не два он беседовал с ней, пока еще не было запрета на его устах. Знал старец и мужа ее покойного… Но сегодня должно быть забыла о муже Серафима Филиппьевна. Не одна она бродит по сонному лесу. Рядом с ней идет новый друг ее ласковый. Обнял он плечи ее молодые, шепчет в ухо ее и целует на ходу жаркую щеку вдовы. Впервые видит его старец. Высокий и стройный, с черной бородкой на белом лице. Серая шляпа с большими полями… Много нынче всякого люда в обители. Много греха…
Не видать уже Серафимы Филиппьевны. Прошла она с другом своим. Скрылись они за деревьями и шаги их смолкли.
Вышел на полянку старец. Присел, на мшистый бугорок и опустил на руки старую голову.
Словно крадучись, неслышно подошло к нему из далекого прошлого давно забытое, давно схороненное… Восстали из прошлого бледные призраки, тени любимых пришли и стучатся в старую грудь Виталия. Немного их. Недолгой и неяркой была его жизнь в миру. Мало было в ней радости, мало солнца и смеха. В полутемном амбаре отцовском прошло его детство. В ссорах с женой нелюбимой, в торговых обманах, обвесах, да в диких попойках прошла его молодость. А потом разорился отец его, обанкротился и умер, оставив сыну долги свои неоплатные. Пуще прежнего запил Виталий, точно мстил он кому-то, последние крохи свои разбрасывая по грязным, зловонным трактирам. И бросила его в то время жена, ушла от него с годовалым ребенком.
Недлинный, но страшный и темный путь прошел Виталий, пока не укрыли его стены монастырские. В какой-нибудь год один изведал он всю бездну нищеты и падения человеческого. Но кроткой и выносливой была душа Виталия. Не мог бы и жить человек с этой памятью темной, но дано ему Богом забвенье. Очистилась душа его и сошло с нее прошлое, словно струпья проказы после купели Силоамской. Простое, беззлобное сердце его, бессознательно жаждавшее тихой любви, утолило теперь свою жажду.
Но и в жизни Виталия, в сумерках вечных, был один солнечный луч, мгновенно блеснувший, но греющий вечно.
Была у него сестра Степанида, вечно больная, хромая, убогая… Обидел ее Бог красотой и здоровьем. Не нашла она мужа себе и, схоронив отца, ушла в дальний монастырь. В целом свете только одна она и любила своего бесталанного брата Виталия.
Седьмой десяток идет уже старцу Виталию, но крепок еще он телом, закалил себя воздержанием долгим и в тихой жизни монастырской не чает еще близкого конца своего. Но если бы еще и вторую жизнь прожил старец и тогда не забыл бы он встречи одной.
Сидел он на пристани у дверей трактира, грязный, опухший от вина, оборванный… Жмурился от яркого солнца, думал думы свои полупьяные. Жадным взглядом встречал всех, входивших в трактир: нет ли между ними приятеля, не угостит ли кто-нибудь с похмелья… И есть уже хотелось и затянуться табаком до одури… И вдруг, женский голос, негромкий и робкий и что-то родное в нем, страшно знакомое…
Поднял Виталий голову, — стоит перед ним монашенка, маленькая, худенькая, вся закуталась в черный платок, одни глаза видны карие, близорукие… Молча с минуту глядел в них Виталий, встал машинально, скривил в улыбку пересохшие губы:
— Здравствуй, сестра!..
Протянул ей руку и застыдился…
А Степанида опустила глаза, тронула его за плечо и тихонько сказала:
— Пойдем отсюда.
И пошли они. Впереди монашенка хромая, убогая… Сзади Виталий, громоздкий и страшный, растерянный и послушный, как ребенок.
Гудели пароходные свистки. Грохотали подводы ломовые. Крутилась пыль на мостовой и слепила глаза. Кричали что-то во след им лабазники и хохотали жирным смехом. Свистали мальчишки… Торопилась Степанида. Ковыляла она молча, нескладно махая левой рукой. Кончилась улица. Выглянуло из-за последнего дома зеленое поле. Оглянулась вокруг Степанида, свернула в траву и остановилась. Уронила книжку свою с позументным крестом на черной клеенке, вскинула худые руки и повисла на шее Виталия.
— Братец!.. Родимый… Несчастный мой!..
Долго сидели они на желтой, спаленной солнцем, траве. Плакали оба. Затихала жизнь на пристани. Над рекой подымался туман. Потянуло холодом ночным. Вздрогнул Виталий, запахнул свои лохмотья, съежился… Встала Степанида, отвернулась в сторонку, достала на груди у себя сверточек бумажный и протянула брату:
— Возьми. Тут двадцать рублей… Справь себе одежу чистую, в баньку сходи…
Поднялся и Виталий с травы. Взял деньги, потупился…
— Прощай, братец! Спаси тебя Господь!
Поцеловала его, вытянулась на здоровой ноге и перекрестила.
— Об одном тебя прошу: брось вино. Грех я взяла на душу: не мои это деньги, обительские… Именем Христовым собраны. На спасенье твое даю их, а если пропьешь… Ох, Господи!.. Братец… И мне не будет прощенья…
Подняла свою книжку, оправила платок на голове. Долгим, печальным и ласковым взором заглянула в опущенные глаза Виталия. Еще раз, как в детстве, прижалась к широкой груди его и ушла, качаясь на больных ногах, утонула в сумерках вечерних.
Все это вспомнилось старцу в тихую ночь. Долго сидел он, недвижный, согбенный… Закутался в облачко месяц и стало темнее под соснами. Предутренний ветер тихонько качнул их вершины. И показалось старцу, что неподалеку простонал кто-то жалобно и тихо, не то ребенок, не то филин пучеглазый… И снова уснули кусты и деревья.
VI
Господь в эту ночь посетил своим гневом тихую обитель. Случилось небывалое, пришло нежданное.
Первый колокол утренний прогудел тихонько и замер. Встрепенулся отец-гостинник, сотворил крестное знамение и стал обходить своих постояльцев. Подойдет к каждой двери и стукнет трижды негромко. Проснутся богомольцы и откликнутся отцу гостиннику. Но тщетно стучался он в дверь Серафимы Филиппьевны. Не отозвалась ему молодая вдова. Толкнулся покрепче отец Никодим. Подалась дверца под рукой его, распахнулась. Никого нет в маленькой комнатке, пуста она и кровать стоит несмятая. Удивился отец-гостинник. Знал он, что любила поспать Серафима Филиппьевна, иной раз так и не выйдет к ранней обедне.
Не было и в храме Серафимы Филиппьевны, не пришла она и в трапезную. А лошадка ее стоит в монастырской конюшне и кучер Сенька при ней.
Приступили к нему: не видел ли?
— Нет, — говорит. — Со вчерашнего обеда не видал я хозяйки. Ничего не знаю…
Доложили отцу-игумену.
Обеспокоился он очень. Призвал к себе отца Никодима и Сеньку, расспрашивал… Даже отдыхать не лег сегодня. Ходил по келье своей, разводил руками недоуменно и повелел, чтобы иноки, после вечерни, обошли всю рощу монастырскую. Снарядил послушника в город, чтобы узнать, не вернулась ли домой Серафима Филиппьевна. Но и сам знал, что не могло того быть. Не ушла бы она, не простившись с ним, да и зачем бы ей идти пешком, когда своя же лошадка дожидается.
Любит жизнь загадывать загадки мудреные. Умница был отец игумен, а и тот, как ребенок, запутался.
А не успели еще и отзвонить к вечерне, прибежал к отцу игумену послушник Василий. Бледный, дрожащий, едва отдышался… И поведал он страшное: видел он Серафиму Филиппьевну, лежит она в лесу под кустиком, неподалеку от Старцевых келий. Посинела с лица и, кажись, бездыханная…
Не дослушал и до конца отец-игумен, всплеснул руками горестно и в лице изменился… Но совладал с собою, сотворил крестное знамение и послал тотчас же в город известить властей. А сам поспешил в рощу. Пошли за ним иноки старцы и юные. Потянулись богомольцы любопытные. И докатилися волны житейские до старцевых келий.
Не ошибся послушник Василий. Под кустом орешника лежит Серафима Филиппьевна, разметавши руки белые. Не вздымается грудь молодая высокая и не видят глаза ее солнышка. Посинело и распухло лицо ее и растрепаны русые косы.
Перекрестил покойницу отец-игумен, понурил львиную голову и пошел обратно, согбенный и словно смертельно усталый.
А вскоре и власти приехали. Начались допросы, протоколы… Обшарили всю рощу монастырскую, оглядели елку каждую, заглянули под каждый кустик. Ничего и никого не нашли. Одно только ясно для всех: задушена прошлой ночью вдова купеческая Серафима Филиппьевна. Задушена и ограблена: сняты с рук ее драгоценные перстни и браслеты, подарки покойного мужа.
Долго в тот вечер сидел у отца-игумена гость нежданный, полковник Власенко, затянулась беседа их до полуночи.
А ранехонько утром пришла в монастырь старуха Митревна, кухарка покойницы Серафимы Филиппьевны. Как узнала всю правду, так и пала на землю, заплакала старая, завыла.
А потом поднялась, да и говорит:
— Ведите меня к генералу. Знаю я, кто порешил покойницу. Сенька-душегубец!.. Попался он недавно на краже овса и решила хозяйка прогнать его… Нового кучера подыскивала. А он, злодей, при всех на кухче обзывал ее словами нехорошими и грозился, что попомнит его Серафима Филиппьевна…
Допросили снова Сеньку кучера, обыскали его, все сено перерыли в конюшне обительской, — ничего не нашли. Сенька божится, что и в уме не держал такого… И спал всю ночь около лошади…
На всякий случай связали Сеньку и увезли в город. Порешили, что зарыл он где-нибудь награбленное… Лес-то велик, под любым деревом можно схоронить до времени.
А за Сенькой увезли и покойницу. Уехали власти, разошлись богомольцы… Но замутилась уже чистая река монастырской жизни. Не скоро вернулась прежняя тишина душевная. Долго еще по вечерам шептались иноки и косились пугливо на темную рощу и жарко молился отец-игумен, поминая рабу Серафиму.
VII
Все видел, все слышал старец Виталий. Долго глядел он в лицо покойницы и видел Сенькины слезы невинные. Один в целом мире знал он, с кем провела молодая вдова свою ночку последнюю. Хотел бы навеки забыть эту встречу старец Виталий. Много раз темной ночью стоял он на месте проклятом, плакал слезами жгучими, выливал в них смятенную душу свою. С вопросом тягостным смотрел он на звезды безмолвные, без числа вопрошал он Господа своего: «Скажи мне, Господи, путь, в он же пойду»… Начал старец поститься сугубо. По суткам не вкушал он пищи, позабыл о ложе своем и долгие ночи стоял на молитве. Заболел уже старец Виталий. Дрожали и подгибались старые ноги, колотилось в груди усталое сердце. Но за болью душевной не слышал он недугов своих. Изможденной, дрожащей рукой перелистывал он книги священные, все искал в них слова тайные врачующие. Но и на сей раз не отверзлись уста его безгласные. По-прежнему молчал старец. Победил искушение великое, и по слову Давидову: «бых, яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения».
VIII
Надвинулась осень недобрая. Ясное небо закрыло свинцовыми тучами. Угнала за теплое море певуний лесных и привела с собой ветры холодные. Злые и беспощадные накинулись они на рощу печальную и сорвали уборы ее золотистые. И заплакало небо слезами унылыми, каждодневными. Застонали по ночам, закряхтели сосны-старухи древние и казалось, что никогда уже не вернется в монастырскую рощу весна молодая, прекрасная… Как не вернется и в душу старца Виталия прежняя радость тихая…
Словно осень, печальный, бродил он по темному жуткому лесу. Тихо плакало небо над ним и ветер трепал его белые волоса. И в ночь непогодную простудился жестоко старец и не мог уже встать поутру с убогого ложа своего. Лежал бессильный и кашлял негромка и глухо.
Днем навестил его сосед по келье старец Пафнутий. Посидел в ногах Виталия, послушал кашель его. Как добрая старая нянька укрыл его ветхим подрясником ватным, напоил липовым чаем. Вспыхнуло жаром старое тело Виталия и забылся он к вечеру.
Услышал игумен о болезни старца и пришел в его келью. Отпустил на отдых отца Пафнутия и остался один при больном.
Душно в маленькой келье Виталия, пахнет сушеными травами и липовым цветом. Мигает огонек лампадки перед старым темным образом. За окном злится ветер осенний и стучат по стеклу бесконечные капли дождя.
Тянется ночь безрассветная. Вздыхает тяжко старец недужный. Полымем пышет лицо его. Мечется он, словно хочет стряхнуть с себя сны тяжелые. Шевелятся уста его, молчавшие так долго, и роняют едва слышные слова. Бредит старец Виталий. Обнажает он душевные раны. Шепчет вопросы свои безответные. Слушает бред его отец игумен. Сидит неподвижный и скорбно глядит в ночную тьму…
К утру уснул старец. Долетел издалека первый звон, робкий и тихий, затерянный в шуме лесном. Встал игумен, укрыл больного, благословил его и вышел.
IX
В эту ночь был перелом болезни Виталия. Господь не призвал еще к себе старца-молчальника. Отгорело старое тело и словно сожгло свою муку душевную. Успокоился духом Виталий. Слабый, разбитый, лежал он в своей келье, дремал, или думал о чем-то. Но час за часом, день за днем, возвращались к нему силы. Угасавшая жизнь разгоралась.
Стал уже бродить по келье старец. Начал снова читать свои книги священные. А когда выпал первый снег, повис на елках рыхлыми пушистыми шапками и мягким белым ковром устлал кочковатые полянки, вышел из кельи старец Виталий, вздохнул полной грудью и тихо побрел к монастырскому храму.
Не было уже прежней рощи с трепетом листьев, с улыбкой солнечной, со всей ее глубокой, неугомонной жизнью. И не было уже прежнего старца Виталия. Ушла с лица его тихая улыбка и нет уже во взоре его ласки сердечной. Снова бьется ровно старое сердце и вновь тишина в душе Виталия; только это уже тишина зимнего поля под снегом холодным… Душевные муки и бури осенние не проходят бесследно и ждать нужно солнца весеннего, чтобы сбросили реки свои ледяные оковы, чтобы души усталые нашли свою радость.
И тянулись короткие зимние дни, бесконечные зимние ночи…
Но на первой неделе великого поста выпал ясный солнечный день и пришла в обитель радость нежданная.
Приехал поутру Володя Кирьюшин, отстоял обедню и, когда пошли иноки со сбором обычным, Володя вынул из кармана и положил на блюдо лепту свою, бумажку желтенькую, сложенную вчетверо. Постоял еще недолго, потом вышел из храма, сел в свои санки американские и уехал. Даже и к отцу игумену не зашел.
А когда развернули бумажку Кирьюшинскую, то и увидели, что это банковский чек на двенадцать тысяч.
Возрадовался отец игумен и захлопотал с того дня. Начал к постройке готовиться. Засыпалась келья его чертежами, прейскурантами разными!.. Толпились в ней архитектора и подрядчики. И нежданно ожила и проснулась монастырская роща. Пришла из города артель дровосеков, рассыпалась по сонному бору и застучали с утра до вечера острые топоры. Застонали столетние сосны и повалились в глубокие сугробы.
Невелика была порубка, берег рощу отец игумен, взял из нее только необходимое для нового храма, но все же много деревьев упало, много добрых приятелей старца Виталия. С грустью смотрел он на свежие пни. Для него ведь и роща, и поле, и луг были храмом прекрасным, вечным домом Творца вездесущего…
Побывал в лесу отец игумен, поглядел на порубку и зашел к старцу Виталию. Недолго отдохнул он в его келье. Рассказал про свои хлопоты, про заботы хозяйские, порадовался выздоровлению старца и заторопился уходить. Но на пороге, приоткрыв уже дверцу, задержался на минутку и сказал, не глядя на Виталия:
— А Семена-то, кучера покойницы Серафимы Филиппьевны, вчера судили в городе. Никаких улик не оказалось. Оправдали его начисто…
Сказал и вышел и дверь прикрыл за собой. И давно уже смолкли шаги его по хрустящему снегу. Но все еще стоит недвижно старец Виталий, словно слушает еще песню райскую, словно боится прогнать нежданную гостью свою, радость светлую, необъятную…
X
Пасха была поздняя. На вербной раскрылись почки, прилетели грачи хлопотуны домовитые. Заторопилась весна, хозяйничала в роще, сгоняла снег в овраги, устилала полянки зеленым ковром. Подсушила дороги окрестные и потянулись в монастырь богомольцы-говельщики.
Долог стал уже день весенний, но и его не хватало отцу игумену. Торопил он всех, подгонял с работами; хотелось ему еще на Святой сделать закладку нового храма. Но пришла Страстная и уступило земное. Прикончились работы в обители. Потянулись исповедники длинной вереницей, понесли грехи свои. Загорелись в храме свечи тоненькие, бесчисленные огоньки покаяния. Зазвучали напевы печальные.
Вместе с матерью, бедной бабой Аксиньей, пришел в монастырь Егорка. В валеных сапожонках своих прошагал он путину немалую, верст пятнадцать, а то и побольше. Много раз по дороге принимался он хныкать, каждый раз получал подзатыльник и под конец уже не протестовал, молча сопел носом и тянулся за юбкой Аксиньи. Да и отдыхи примиряли его с тяжестями пути. Садились под дерево на молодую травку и закусывали. Егорка стягивал с головы отцовскую шапку, зажмурившись крестился на солнце и принимался за хлеб. Хлеба дорогой не жалели, запивали его квасом из бутылки и снова шагали.
Егорке с заговен пошел шестой год, и это его первое путешествие. Но по дороге не было ничего интересного, шли мужики и бабы, ехали деревенские телеги. Было скучно. Попалась, правда, навстречу собачонка пестренькая, понюхала Егоркины валенки и побежала рядышком, но и ту прогнала Аксинья.
Но зато, когда к вечеру добрались до монастыря, протискались в церковь, побывали в трапезной и улеглись спать в гостинице, Егорка и о сне забыл. Лежал рядом с матерью и думал о бесчисленных, диковинных вещах. Закрывал глаза и все видел золотые иконы и громадные подсвечники, нарядную барыню в широченной шляпе и карету с фонарями, отца игумена в длинной мантии и офицера в красных штанах и с длинной, звякающей саблей… Не скоро заснул Егорка, но и снилось ему тоже небывалое и невиданное.
XI
Истомила Аксинью дорога вчерашняя. С трудом отстояла она в храме долгую службу, но, когда ударили к вечерне, застыдилась баба остаться в гостинице, взяла Егорку и поплелась вослед за богомольцами. Но не удалось уже ей пробраться в храм, постояла в притворе, помолилась недолго и надумала грешное: пойти в рощу, в сторонку от глаз людских, выбрать место тенистое и прилечь там подремать с часок.
Идет Егорка с матерью, маленький такой, в гости к соснам великанам. Знает их Егорка и не боится ни капельки. В таком же лесу дремучем стоит их деревня и целыми днями пропадают в нем ребята. То по грибы, то по ягоды. Бродят под деревьями словно овцы пестрые, пока не проголодаются.
Далеко зашла Аксинья, чуть видна колокольня монастырская. Прилегла под елкой тенистой, вытянула ноги усталые, зевнула и наказала Егорке:
— Поиграй тут… Вишь, цветики белые, нарви их покуда. Да не ходи далеко… Волки.
Постоял Егорка с минутку, подумал о чем-то, поглядел на мать, на цветы… Чуть не каждый день пугают волком, а до сих пор еще видать его не приходилось. В волка из ружья стреляют… Можно тоже и саблей зарубить, вот если такой, как у вчерашнего офицера.
На лужайку спрыгнула кокетливая трясогузка, покачала длинным хвостом и снова улетела.
Егорка стал собирать цветы. Обошел всю лужайку, нарвал уже порядочный пучок, но поглядел на них и бросил. Что в них хорошего? Все, как один, белые… Егорке больше нравится, когда цветы пестрые, красные, желтые, вот, как у них на горке. Хорошо тоже, когда одуванчики пушистые стоят, как турки. Хватишь его с размаху палкой и голова долой, точно саблей срубил. Снова вспомнилась вчерашняя сабля, длинная, блестит…
А с сабли Егоркины мысли перескочили на посох отца игумена. Тоже — штука!.. Ну, посох-то он и сам добудет, если захочет. Стоит только поискать в лесу, мало ли всяких палок?
Егорка поправил шапку на голове и пошел на поиски.
XII
Стемнело в келье у старца Виталия. Не видны уже слова священные и сливаются буквы. Закрыл он книгу и вышел из кельи.
Весенняя ночка лампады свои зажигала. Бежал гонцом ее прохладный ветерок, шептался с елками кудрявыми, встретил старца Виталия и поиграл его седыми волосами. К звездам далеким тянулись вершины деревьев и старцевы думы беспечальные и в ответ улыбались им звезды молчаливые.
Бредет тихонько по темному лесу старец Виталий и вдруг слышит: плачет кто-то негромко и жалобно, хнычет в кустах. Перекрестился Виталий, раздвинул кусты и вгляделся в сумрак старыми глазами. Стоит под елкой мальчуган в большой шапке и трет кулаками глаза. Метнулся было в сторону, как заяц испуганный, но увидел старца и уставился на него.
Улыбнулся Виталий кротко и ласково и поманил его рукой. Малыш шагнул навстречу и снова захныкал.
Подошел к нему старец, погладил по мокрой от слез щеке, молча заглянул в карие глазенки. Вот, такой же был и его Ванюшка, когда ушла жена Виталия. Где он теперь? Если и жив еще, то должно быть, тоже старик уже… Ничего не известно Виталию. Семнадцатый год пошел, как умерла сестра Степанида. От нее только и слыхивал изредка старец о семье своей.
Молча глядят друг на друга Егорка и старец Виталий. Повстречались под старыми соснами утро и вечер, закат человеческой жизни с восходом. И тянутся нити незримые, крепкие вечные нити от старого сердца усталого к чистому сердцу ребенка.
Егорка отер слезы, забыл все свои недавние страхи и взял за руку старца Виталия.
— Дедушка, пойдем к мамке.
И тихо ответил Виталий:
— Пойдем.
И пошли они рядом по узкой тропинке лесной.
Крепко держался за руку старца заблудившийся Егорка и все заглядывал из-под шапки на звезды высокие и на дедушкино лицо, освещенное тихой улыбкой.
Так и во двор монастырский вошли они вместе, рука с рукой. Лишь у храма разлучила их Аксинья. Кинулась она с плачем к Егорке и спряталась на ее груди русая Егоркина голова.
А старец Виталий понес к отцу игумену грех свой… А после, за три долгие года впервые, поднялся на клирос церковный и долго в ту ночь читал он страсти Христовы, голосом тихим и в начале слегка хриповатым. Но, с каждым словом о муках последних страдавшей Любви, крепчал его голос и прежняя кроткая ласка звучала в нем, красота умиленного сердца.
И снова, как прежде, проникал он в людские печальные души, трогал в них струны забытые, согревал упованием новым. Умилением сладким вздымались сермяжные груди и крестили их мозолистая руки.
И плакала тихо Аксинья в углу, прижимая к себе Егорку. Слезами радости, легкими, светлыми… Слезами, роднящими с небом далеким… Собирают их ангелы в урны алмазные и к престолу Творца несут эти слезы, как самый бесценный и чистый дар печальной земли. Ибо не часто горит для людей солнце радости. Ибо редкая гостья она и так мало ее на темной земле.
1913 г.
Ближе к звездам
I
Не работалось. Мысль, как усталая, измученная кляча, едва тянулась, каждую минуту грозя остановиться.
Даже перо сегодня, более, чем обыкновенно, цеплялось за бумагу и притягивало все невидимые, досадные пылинки. Папироса ежеминутно гасла, спички ломались…
Пролинг в сущности догадывался о причине: всему виной — какой-то дурацкий «Петроний», тиснувший вчера в «Вечерних Отголосках» свою злую рецензию.
«Нет еще стиля, но уже громадные претензии»… «Вымученные сюжеты, и вечная подражательность в обработке»… «Дешевая философия»…
Да. Все это черным по белому в отзыве «Петрония» о рассказах Ольгина, он же Пролинг.
Бедный автор бросает перо, закрывает глаза и рисует себе наружность своего критика.
— Должно быть, какая-нибудь жирная свинья и даже не в ермолке… Сам, конечно, бездарен, а вот пристроился к газете и мнит себя арбитром искусства… Небойсь и место тепленькое… В редакции берет авансы, а с нашего брата взятки… Знаем мы этих «художественных» критиков…
Пролинг дернул стулом, встал, заходил по комнате и даже замурлыкал вполголоса чьи-то вспомнившиеся куплетики:
Отзыв — то чернее ваксы, То приятен без конца. Впрочем, все идет по таксе…После куплетов стало как будто бы легче. Пролинг спрятал в стол свою рукопись, оделся и вышел на улицу.
II
Осенний петербургский полдень встретил Пролинга мелким дождем и порывистым ветром. Пришлось поднять воротник пальто и нахлобучить шляпу. Бесцельная прогулка по Невскому сегодня не улыбалась, и хотя Пролингу есть еще не хотелось, он все же, спрятав руки в карманы, зашагал в кухмистерскую.
О-хо-хо… Пролинг уже давно работает, но ему не везет. Стоит только пристроиться к какому-нибудь журнальчику, или газете, вперед уже известно: издание прогорит, или закроется «по независящим причинам»…
О чем только он ни писал? Собачьи выставки и малороссийские спектакли, чрезвычайные посольства и дефекты водопровода… Пробовал пускаться на хитрости: свои собственные оригинальные стихи выдавал за переводы из Сюлли-Прюдома и Бодлера. В провинции, случалось, печатали, но известно — какой там гонорар… Да и тот высылали неаккуратно. Переменил несколько псевдонимов… Долгие ночи корпел над идейной четырехактной драмой… Эх!.. А вот обедать ходит в греческую кухмистерскую, да и то не каждый день…
Пролинг повертывался спиной к ветру и сквозь стиснутые зубы ворчал по адресу сытого критика:
— Нет, поглядел бы я на тебя в моей шкуре. Какой бы у тебя стиль оказался? Легко вам на трюфелях-то с ананасами… Эстеты!..
III
Было так приятно после дождя и пронизывающего ветра окунуться в спертый, дымный воздух кухмистерской.
В низеньком полутемном подвальчике тепло, пахло подгорелым жиром и кислой капустой. Большинство посетителей пили чай и над маленькими столиками колыхался теплый пар. Механическое пианино, исполнявшее «Ой-ру», оглушительно трещало кастаньетами. За буфетом стоял хозяин, обрусевший грек, перетирал стаканы и звенел чайными ложками.
Пролинг сел в уголок на свое излюбленное место у пожелтевшей искусственной пальмы и спросил обед.
Здесь, как это ни странно, в чаду и дыму, под треск и грохот кабацких мотивов творил он свои стихи и фантастические новеллы. Часто после скверного обеда, за стаканом остывшего чая, сидел он часами неподвижный, одинокий, улыбающийся своим мечтам, красивым образам, шепчущий звучные рифмы сонетов, не видевших печати.
Красива душа мечтающего. Часто звучат глубокие струны, поют еще неслыханные мелодии. Кто умеет поймать их на бумагу, тот властелин толпы, а кто не умеет, — тому, как Пролингу сейчас, стройная тонкая девушка в черном платье и белом переднике подает на стол жидкий суп, пахнущий вареными тряпками.
— Новенькая, — решил Пролинг, взглянув на девушку и долго, позабыв о суше, следил взглядом за ее фигурой.
Было в ней что-то… Этакое… Рядом с неуклюжей, краснощекой Марфушей, она казалась переодетой маркизой, исполняющей обязанности служанки на празднике в Трианоне.
Когда она после супа принесла Пролингу традиционные битки «по-казацки», он не утерпел и слегка смущенный спросил:
— Вы здесь недавно?
— Второй день, — мягко прозвучал ответ, и ее темные, чуть-чуть печальные глаза поднялись на Пролинга.
«Ой-ру» сменила «Веселая вдова». За соседним столиком громко спорили и стучали крышкой чайника. Пролинг давно уже отодвинул битки, пьет чай, курит и фантазирует.
Кто она? Быть может, случайная шутка природы, в грубой деревенской среде, вырастившей этот тонкий печальный цветок? Или продукт нашей действительности, — девушка с темным прошлым, упавшая до чайной лавки с тем, чтобы завтра ночью выйти на улицу? А может?.. Дочь какого-нибудь неудачника, эмигранта-француза, виконтесса де… Де… Ну, все равно, — героиня романов Терье? Так красив тонкий профиль, такая изящная простота прически, скрытая грация движений…
Пролинг улыбается своей мечте и внезапно его охватывает желание шутки, тонкого и хитрого подвоха: он жестом подзывает девушку и, с серьезным лицом, опустив глаза, спрашивает:
— Combien?
— Quarante, — машинально отвечает девушка и, вспыхнув отворачивается.
Пролинг весело улыбается, платит деньги, застегивает пальто и идет к дверям. Проходя мимо смуглолицего хозяина, он кивает в сторону девушки:
— С обновкой!..
Под черными исполинскими усами показываются желтые кривые зубы и хитро щурятся маленькие черные глазки-маслины.
— Хе-хе!.. А вы с ней потолкуйте… Она у нас образованная, хе-хе!.. Фельетоны читает…
Пролинг оборачивается, бросает прощальный взгляд и выходит.
Ночью долго горит лампа, совершенно забывается господин «Петроний» и на белые страницы тетради, строка за строкой, ложится сонет, слегка грешащий рифмами, но полный красивой грусти по женщине-грезе, вечно жданной и никогда не встречаемой.
IV
Нет, давно уже умер романтизм и не воскреснуть ему в наши дни. Под петербургским небом быстро вянут хрупкие цветы красивой грезы. Из холодного гранитного города навсегда ушла фантастическая сказка.
Не прошло и недели, как Пролинг уже знал все подробности.
Не была она ни дочерью деревни, ни виконтессой. Слегка необычайный маскарад объяснялся так просто и был так понятен в борьбе за кусок хлеба.
Вчерашняя курсистка без родных и знакомых в чужом городе, достаточно поголодавшая. Правда, — она уже третий год замужем, но муж ее студент, такой же бедняк, второй месяц уже лежит в постели и медленно, страшно медленно оправляется от плеврита, потерял уроки, забросил работу…
— У нас есть мальчик… Ему скоро будет год, — сообщила она, слегка розовая и запыхавшаяся от беготни с дымящимися чайниками.
— Как же вы сюда-то попали? — дивился Пролинг.
— Очень просто. Обегала все канцелярии и конторы, истратила все деньги на публикации в газетах и перед праздниками, когда мы уже съели последнее пальто мужа, случайно разговорилась с квартирной хозяйкой, она кузина здешнего хозяина, и, вот, я здесь…
— Устаете, поди? — посочувствовал Пролинг.
— Не без того… Хотя уже привыкла, — улыбнулась Лидия Антоновна.
Как-то сразу и легко открыла она Пролингу свое инкогнито. Чутьем узнала в нем такого же бедняка-интеллигента.
— Что же дает вам этот труд?
— О, миллионы!.. Не смейтесь. Я здесь в тепле, всегда сыта и каждый вечер приношу домой около рубля, а иногда и больше… Но, слава Богу, — теперь уже недолго… Мужу с каждым днем лучше, он уже начинает работать…
— Барышня, заведите «Китаянку», — просит компания торговцев-разносчиков, и Лидия Антоновна спешит к замолчавшему на минуту пианино.
— Но, ведь, здесь случаются и пьяные… — как-то заметил Пролинг.
— А где же их нет? Только пьяным я не подаю. Для этого у нас есть подручный Василий. Он же, в случае чего, исполняет и функции полисмена.
Пролинг слушал Лидию Антоновну, снова следил за ее мелькавшим в разных углах белым передничком и уже не фантазировал.
— Черт знает что!.. Америка какая-то!.. — думал он. — А случись такое с нашим братом? Многие ли бы из нас пошли в трактирные лакеи? А, ведь, это все же лучше уксусной эссенции. Двужильные эти женщины, когда любят…
Тихая сладкая грусть обволакивала сердце Пролинга.
— Счастливец! — думал он по адресу мужа Лидии Антоновны. — Случись заболеть такому одинокому бобылю, как он, Пролинг, — ни одна рука не поддержит, ни одна душа не затуманится, ничьи глаза не улыбнутся ему с ободряющей лаской.
Вот, он коротает здесь свои скучные печальные вечера. Издали любуется на отблеск чужого далекого счастья. Бегут безостановочно часы, дни и недели… Неутомимая рука времени зачеркивает страницу за страницей в книге его жизни, серенькой жизни вечного мечтателя, вечного неудачника…
V
— Зайдемте к нам, муж еще не спит, — предложила однажды вечером Лидия Антоновна. — Он давно уже знает вас из моих рассказов.
Пролинг согласился.
Длинный темный и холодный туннель ворот громадного дома. Бесконечная узкая лестница с запахом кошек и жареного цикория.
— Высоконько! — заметил Пролинг, пыхтя и отдуваясь.
— Ближе к звездам! — улыбнулась Лидия Антоновна.
Когда прошли кухню и кривой коридор, она стукнула в маленькую желтую дверь и, не дожидаясь ответа, открыла ее.
В небольшой низкой комнатке было душно и накурено. На столе у окна стояла маленькая лампочка без абажура и тускло освещала желтые обои, узенькую кровать и рваную кушетку неопределенного цвета.
— Знакомьтесь, — сказала Лидия Антоновна, — это Пролинг.
С кушетки, не спеша, поднялся высокий худой студент, откашлялся, протянул гостю руку и сказал;
— Сурмин. Раздевайтесь.
Пока Пролинг снимал и вешал на гвоздик у дверей пальто, хозяин застегнул тужурку и освободил от книг и газет один из двух стульев.
— Садитесь! — предложил он и подвинул гостю коробку с табаком и гильзами. — Курите!
Пролинг двинул стулом и тотчас же в углу за комодом захныкал ребенок.
— Пил он молоко? — спросила Лидия Антоновна.
— Пил, конечно, — ответил Сурмин и посмотрел на гостя.
— Я слышал вы пишете?
Пролинг слегка замялся.
— Не стесняйтесь, — улыбнулся Сурмин. — Я — тоже, пока был здоров, тянул эту лямку.
— А вы где работали? — спросил Пролинг.
— Вы лучше спросите, где я не работал? Скучно перечислять; и везде за гроши… Да-с, литература требует от человека сорок лошадиных сил, или гения и свободы…
Помолчали. Детский плач за комодом шел крещендо.
— Когда же ты кончишь ходить в свой трактир? — спросил Сурмин, не глядя на жену.
Лидия Антоновна грела на лампе стакан с молоком и при вопросе мужа, как бы извиняясь, улыбнулась Пролингу глазами.
— Грек просил остаться до конца недели…
— Вот она, кадриль-модерн, — усмехнулся Сурмин.
— Я здесь с ребенком нянчусь, а жена… Changez vos places!..
Пролинг уже ругал себя за свой визит и молча разглядывал хозяина. Желтое лицо, полузакрытые очками, серые глаза, бесцветная бородка…
Сурмин поднял голову.
— Вы, кажется, поэт?
— Пишу немного, — сознался Пролинг.
— Ну, так посмотрите вокруг и вдохновитесь… Опишите-ка нашу семейную идиллию… Ха-ха!..
Лидия Антоновна взглянула на мужа. На мгновение сдвинулись темные дуги бровей.
Пролинг встал.
— Не хотите ли чаю? — предложил Сурмин.
— О, нет. Я уже пил, благодарю! Да мне и пора… — заторопился гость.
— Посидите! А, впрочем, от этой музыки каждый рад бежать без оглядки…
Лидия Антоновна подняла на Пролинга печальные глаза и молча пожала руку.
Сурмин проводил его на площадку лестницы.
— Навещайте Лидию, пока она там… — попросил он и неожиданно мягкая нота прозвучала в дрогнувшем голосе. — Она храбрится, но… сами понимаете… А с будущей недели заходите ко мне в редакцию, потолкуем… Постойте, я дам вам адрес…
Сурмин порылся в кармане тужурки и вынул полусмятую карточку.
— Вот, до свиданья, спасибо!
Он кивнул головой и захлопнул дверь.
Пролинг стал спускаться по лестнице. Под ноги ому попался рыжий взъерошенный кот, сердито фыркнул и, задрав хвост, проскочил наверх.
На нижней площадке горел маленький фонарик. Пролинг остановился и поднес к глазам карточку. На пожелтевшем картоне мелким шрифтом было напечатано: Андрей Петрович Сурмин (Петроний). Сотрудник газеты «Вечерние Отголоски».
— Н-да… — протянул Пролинг, задумчиво опустил голову и вышел на улицу.
Спускалась ночь. Гасли один за другим последние огни магазинов. Толстый необъятный лихач остановился на углу и молча покосился на Пролинга. Быстро и бесшумно пронесся автомобиль и на мгновение залил ярким светом мокрую мостовую. На темном небе смутно белел далекий отблеск электрических фонарей.
«Ближе к звездам!..» — вспомнилось Пролингу и с молчаливой лаской улыбнулись ему темные глаза, печальные глаза жены Петрония.
1913 г.
Обыкновенная сказка
I
Лягушки квакали, квакали и, наконец, умолкли. Нехотя встало старое, утомленное солнце, поплыло по небу, согрело и оживило пруд, редкую рощицу, далекие, черные фабричные трубы. Весь мир согрело оно и миллионы влюбленных лягушек.
Согрело солнце и старого волка. Вылез он из-под куста, облезлый, голодный и злой. Поджал, по привычке, ободранный хвост и, хромая на подбитую ногу, пошел в город.
Шел он навстречу угодливым собакам, глупым баранам и злым обезьянам. Да, он шел навстречу людям.
Нос по ветру у старого волка. И, с каждым шагом, все сильнее пахнет дымом фабрик и ладаном кадильниц, розами теплиц и трупами покойницких, потом рабочих и пачулями уличных кокоток.
С каждым шагом острей запах города.
II
А в городе, на самой людной, а значит и самой холодной, улице жила женщина. Обыкновенная сказка моя и героиня ее такая же.
Красавица для влюбленных в нее, дурнушка для завистниц. Умница для побежденных и глупышка для победителей.
И потому еще была она обыкновенной, что была продажной. Ведь нет же в мире непродажных женщин. Каждую можно купить, только одну покупают лестью, другую — славой, а третью — деньгами.
И те, что продают себя за деньги, самые умные из них, потому что знают настоящую цену и славе и лести.
Знали ее Магдой. Но эта Магдалина еще не торопилась каяться. И много еще давали ей имен и названий. Один поэт называл ее лилией белой, другой, за золото волос, — солнышком утра.
Паспортист же местного участка не был поэтом и писал: проститутка.
И за стихи и прозу Магда платила улыбкой, беспечной и милой.
III
Когда над северным городом вставало весеннее утро, Магда просыпалась. Потягивалась под голубым одеялом и привычным жестом брала со столика ручное зеркало.
Из причудливой рамки смотрело на Магду то розовое, то бледное прекрасное лицо и улыбались бархатные глаза. Глаза, уже забывшие слезы ребенка и еще не знающие слез женщины.
Вместе с Магдой просыпался и мистер Рэджи. Он зевал во всю свою широкую пасть и тоже сладко потягивался, выгибая спину и виляя обрубленным хвостом.
Рэджи был бульдог уже не первой молодости, тигровой масти и безобразный до очарования.
Он ходил за своей хозяйкой всюду и каждое утро, высунув кончик языка, с хладнокровием истого англичанина, смотрел на Магду, выходящую из ванны, розовую и прелестную, как оживленная Галатея.
IV
В полдень приходил поэт.
Кругленькую фигурку на кривых ножках украшала лысая голова. Черные зубы прятались под рыжими усами и щурились ласково подслеповатые глаза.
Природа любит эти шутки: тонкое, ароматное вино наливать в безобразную бутылку.
Иногда поэт приносил свои стихи, красивые и чистые, как первые ландыши, грациозные, как ядовитая змея.
Чаще беседовал с Магдой, сидя у ее ног на оранжевом шелковом пуфе, смешной и покорный.
Полный тихого любованья и красивой грусти, он все свои речи сводил к тихой, настойчивой просьбе:
— Полюбите меня, Магда. Пусть это будет лишь капризом вашего сердца. Пусть это будет лишь одно мгновение, ведь никто же в этом мире не оценит его моей ценою. Не для себя прошу я, но лишь во имя той красоты счастья, той искры мгновенной, что вспыхнет во мне. Новые, еще нетронутые струны зазвучат на моей бедной лире. Я найду еще неслыханные аккорды, еще не рожденные созвучия. Пусть душа моя сгорит в этом пламени радости, пусть мое завтра будет полным горя и вся жизнь моя пыткой брошенного сердца… О, Магда!.. Это недорогая цена даже и за одну строфу, прекрасную, как вы, моя богиня.
Магда слушала и улыбалась, — потому ли, что ей нравились эти речи, или только потому, что у нее были прелестные жемчужные зубы.
А бедный поэт продолжал:
— Вы, женщины, и страдания — единственные авторы всей красоты в искусстве. Мы все, поэты, артисты, музыканты, ваятели, — только скромные посредники между вами и толпой. Человечеству не суждена еще роскошь иметь Данте без Беатриче, Бетховена — без страдания. Я знаю, Магда, что моя любовь не нужна вам, но, ведь, в мире только то и прекрасно, что бесполезно. Однажды в жизни нагнитесь, Магда, поднимите на вашей дороге мое сердце, мою любовь, эту глупенькую, скромную фиалку. С милой, шаловливой улыбкой прижмите ее к своим устам, потом пусть ваша нежная рука оборвет ее лепестки и бросит их снова в пыль и грязь этого города, в тоску моего одиночества…
Магда снова улыбалась.
— Я не люблю фиалок, — говорила она, — я люблю только розы, розы, безумные в своей дерзкой красоте, пьяные своим ароматом.
И умолкал поэт, опустив безобразную голову, и молча смотрел на него немигающими глазами умница Рэджи.
Тогда вставала Магда, стройная и тонкая в своем теплом плюшевом халатике, подходила к Рэджи и тихо ласкала его тонкой, точно изваянной из мрамора, рукой.
— Один только Рэджи умеет молчать, — говорила она. — Только он не надоедает мне своей любовью. Взгляните на него, мой поэт, он так же красив, как и вы, но не кокетничает своим умом, не прихорашивается звучными стихами…
Поэт улыбался, брал шляпу и тихо целовал руки своей богини.
— До свиданья, Магда, — говорил он, уходя. — Я вернусь еще. Я не был бы поэтом, если бы не верил в чудо. Я буду и завтра стучаться в двери вашего сердца…
— Оно глухое, мой друг — отвечала Магда — Оно не услышит и не скажет вам: entrez!
— О, нет! Я открою эту дверь, но должно быть не раньше, пока сломаю и свой последний ключ — сострадание…
Поэт уходил.
Тихо, неслышно двигалась из угла в угол фигура задумчивой Магды и, медленно повертывая страшную голову, следил за ней взором угрюмый Рэджи.
V
Старый волк давно уже стоит на перекрестке двух улиц. Ждет он товарища своего, Федьку-маркера. Ворчит про себя старый волк и косит маленькие злые глазки на безмолвного и неподвижного, как статуя, городового.
Несколько раз уже нарядные обезьяны вынимали изящные портмоне и совали медные монеты в грязную шершавую лапу. И движения доброго сердца были так красивы и непринужденны, и так осторожны, чтобы не запачкать лайку перчаток.
Наконец, приходит Федька-маркер, красивый и нахальный, молодой и опытный.
— Пойдем, — говорит он старому волку, и оба они молча шагают по узкому, полутемному переулку.
Старый волк заглядывает в карие глаза своего спутника.
— Когда же? — спрашивает он.
— Сегодня, — отвечает Федька-маркер.
И в темном, грязном подвале трактира долго шепчутся два волка, старый и молодой, беззубый и зубастый.
Гаснет весенний день. Желтым огнем мерцают сквозь табачный дым трактирные лампы.
Ходит, разбегается по волчьим жилам водка и туманит хищные головы.
А трактирный орган и трещит и хрипит. И плачет визгливо и тянет:
«Последний нонешний денечек»…А там, за окном своя жизнь. Труд до изнеможения, роскошь до пресыщения… Тихий свет семейного счастья, пламя разврата. Лампа ученого над старыми книгами… Аккорд симфонии в благоговейной тишине…
Там своя жизнь старого города. И сказкой кажется она, знакомой и чуждой, несбыточной сказкой.
VI
В четвертом часу дня, у подъезда дома, где живет Магда, останавливается автомобиль.
Лучом внезапным сверкает золотой позумент на фуражке швейцара, словно ветром сорванной с головы.
Не спеша, поднимается по лестнице банкир. Бесстрастно и холодно гладко выбритое лицо.
Сломя голову, бежит на звонок накрахмаленная камеристка и снова улыбается Магда.
— Здравствуйте, Магда, — говорит банкир. — Я жалел, что ехал к вам в закрытом экипаже. Уже весна, и я рад ее приходу.
— Что вам весна? — смеется Магда.
— Не смейтесь, — говорит банкир, закуривая сигару, — с приходом весны мои акции у вас идут на повышение. Я знаю, скоро вас потянет на юг, под лазурное небо. И я буду вашим спутником.
— А если не потянет?
Банкир не отвечает. Он задумчиво ходит из угла в угол и двигается за ним тонкая струйка синего благовонного дыма.
— Если бы я не был банкиром, я был бы путешественником. Всю свою молодость я шатался по белому свету. Я знаю, где рай земной, и этот рай будет вашим, Магда. Я покажу вам все, что есть в мире прекрасного. Я найду такое солнце, под которым растает ваше ледяное сердце. В Индии, у одного магараджи, моего друга, есть дворец под Бенаресом. Вы будете в нем хозяйкой и если не станете моей там, то, значит, нигде и никогда…
— Ах, не искушайте напрасно, — улыбается Магда. — И, кроме того, я боюсь за ваших клиентов, — банк всегда в опасности, когда его директор становится поэтом.
— Не бойтесь, Магда! — отвечает банкир и бледным огоньком вспыхивают усталые глаза. — Вы — редкая жемчужина и у меня хватит золота для ее оправы. Такой красоте, как ваша, тесен этот город, ей нужен весь мир. Я повезу вас на берег Средиземного моря и волны его будут ласкать новую Фрину. Я дам вам высшее женское счастье всеобщего восхищения. Я покажу вам кровь на арене цирка и покажу вам золото на столах рулетки. И вы будете играть. Вы будете проигрывать мои деньги и полною чашею пить сладкую страсть игры, невыразимую прелесть азарта… Я покажу вам ангелов Рафаэля и химеры Notre Dame de Paris… Я сведу вас в Лувр и в грязный кабак на глухой улице Уайт-Чепля. Я покажу вам жизнь, Магда. И вы будете моею. И когда мы вернемся сюда, я построю дом, в котором будет все прекрасное, что только вы заметите и найдете в целом мире. Я построю храм, достойный вас, и вы будете в нем богиней милосердия… Да, богиней милосердия. Каждое утро к вам будут приходить десятки и сотни обездоленных людей и вы будете их спасеньем, их добрым ангелом… Лично я не нахожу в этом никакого вкуса, но у вас другое сердце и все это наполнит вашу жизнь. И ваше имя, Магда, будет на всех устах…
Банкир умолкает и смотрит на часы.
— Я не ревнив, Магда, — добавляет он, застегивая перчатку. — И когда все будут у ваших ног, я не стану мешать свободному выбору вашего сердца.
Погасла сигара и погасли холодные глаза банкира.
— До свиданья, Магда, — говорит он, пожимая ее, слегка похолодевшие, пальцы. — Я умею ждать, а вы подумайте… А пока, вот, возьмите маленький задаток.
И темный кожаный футляр ложится на колени Магды.
Банкир уходит.
Хлопает внизу дверь подъезда, рявкает гудок автомобиля, а Магда все еще сидит неподвижная и задумчивая, но уже играет улыбка в уголке рта и под стрелами ресниц и открывает Магда кожаный футляр.
На фиолетовом бархате тихо дремлют искристые зерна. Погасающий день не разбудит их уснувших молний. Но встает Магда и зажигает ночные огни. И живет ожерелье, трепещут алмазы и огненной струйкой бегут между тонкими пальцами.
Магда зовет к себе Рэджи и одевает алмазную нитку на его толстую, крепкую шею. И молча сидит перед ней равнодушный и дремлющий Рэджи, но она тормошит его и пляшет радуга вокруг страшной головы и весело хохочет Магда.
VII
Когда на улицах зажигают фонари, перед домом Магды, на красивой танцующей лошади, медленно двигается конный городовой, а немного дальше на углу останавливается его двойник, неподвижный, как изваяние из темной бронзы.
И не спеша, посматривая по сторонам, прогуливаются вечерние прохожие, рослые, плечистые, с лихо закрученными усами.
С медной, ярко начищенной бляхой на широкой груди, стоит у ворот старший дворник и в трепетном ожидании, словно прилипнув к парадной двери, замирает швейцар.
Но, вот, у подъезда останавливается скромная карета и из нее выходит крепкий, высокий старик.
Бережно, точно хрустальную люстру, вешает швейцар генеральское пальто и долго смотрит во след старику и кажется жизнь ему сказкой.
А Магда на верху, в своем будуаре, мельком оглядывает себя в широкое зеркало и медленно идет навстречу всесильному гостю.
— Bonjour! — говорить генерал. Не спеша, одну за другой, целует руки Магды и зорко смотрит в лицо.
— Вы сегодня бледны, моя радость. Вы совсем не выезжаете, затворница.
— Откуда вы знаете?
— Я знаю все… — слегка морщится генерал и опускается в широкое кресло.
— Я знаю всех, кто бывает у вас.
Мгновенный, неуловимый луч испуга промелькнул в бархатных глазах Магды, но она уже улыбается.
— Кто ж эти все?
— Пока только двое, поэзия и биржа, — отвечает генерал. Ироническая улыбка кривит сухие тонкие губы. — Я не жаден, пусть их любуются вашей красотой.
Магда уже весело смеется.
— Ох, mon general, как вы великодушны… Но… мне уже начинает надоедать ваше отеческое всевидящее око… Я уже подумываю уехать.
— Милая Магда, я сумею удержать вас.
Генерал встает и задумчиво ходит по комнате.
— Вы забыли наш уговор? Я просил у вас полгода ожидания. Только полгода, а затем…
Теперь встает и Магда. Высоко вздымается грудь ее и сходятся темные дуги бровей.
— А если я уже не хочу. Слышите? Не хочу ничего того, что будет затем?..
Генерал пожимает плечами и продолжает свою прогулку.
— Вы больны, Магда. Весна портит ваши нервы. А, впрочем… Как вам угодно. Каждую минуту вы можете нарушить наше условие…
— И вы, конечно, будете мстить?
— О, нет. Я только умою руки.
Тихо в комнате. Магда снова опускается на свой диванчик и сидит задумчивая и безмолвная. Все еще сдвинуты брови, но уже гаснет гневная вспышка и ровнее дышит высокая грудь.
И в тишине неожиданно мягко звучит старческий голос:
— Вспомните, милая Магда, сколько раз я исполнял прихоти вашего доброго сердца. Вы никогда и ничего не просили для себя, но всегда для них... И я был верным слугой ваших желаний. Я делал все, что было в пределах моей власти и моей солдатской присяги. Я много сделал, Магда, и кто знает?.. Еще не зашла моя звезда…
Умолкает генерал. Садится рядом с Магдой и берет ее руку в свои жесткие сухие ладони.
— Черствым, стариком без сердца, — зовут меня люди. Но вы, моя Магда, умница Магда, вы знаете — а la guerre, comme a la guerre… Люди… Ох!..
Долго и желчно смеется старик.
— Высоко дерево человеческой подлости, Магда. Снизу-то его и взглядом не окинешь, а вот как взберешься по нашей лестнице, так и встанет оно перед тобой во всей своей красе. Люди… Они знают каждый шаг моего пути, каждое слово мое им известно и сосчитаны все ордена… А знал ли я когда-нибудь личное счастье?.. Знал ли я… Впрочем, зачем это?
Генерал встает и снова ходит из угла в угол, но уже, как искры под пеплом, вспыхивают под густыми бровями маленькие серые глаза.
— Я солдат, Магда. Таким я был для них и останусь. Я поставлен на страже «сегодня», и все его враги — мои враги…
— А сколько невинных? — тихо спрашивает печальная Магда.
— Что делать? Что уж мы? Но, говоря высоким штилем вашего поэта, и под ногами идущего широким полем к далекому храму часто гибнут цветы…
— Так там хоть храм.
— Храм? Ха-ха!.. Плохой материал человечество, Магда, ненадежные кирпичи современные людишки, не хватает им цемента справедливости и никогда, никогда не закончат они постройку своего храма. А если и закончат, то все равно на фронтоне, вместо гордой надписи: «человеческое счастье», историки напишут; «театр-иллюзион»…
Смеется старик и хочется Магде подразнить его.
— А если напишут «свобода»?
— Ох, Магда… Пробовали уже… Свобода — прекрасное блюдо, только его нужно подавать под соусом культуры, иначе derenge d’estomac…
Морщится Магда, а старик уже вынимает часы.
— Разболтался я с вами, а меня ждут. Ну-с, моя радость, заключим пока перемирие… Успеем еще повоевать. Не прислать ли вам завтра лошадей? Вам нужен воздух.
— Нет, mersi! — отвечает Магда и дает ему свои руки.
Из-под стола выходит Рэджи и провожает генерала.
Магда снова одна.
Раскрывает она желтый томик, машинально пробегает глазами по черным строчкам чужих светлых вымыслов и снова бросает его.
Подходит к роялю, поднимает крышку и, не дотронувшись до жадных клавиш, отходит к окну и опускает тяжелые занавеси.
Вот она уже у зеркала. Непослушная золотая прядь волос целует белый лоб Магды. Горят неспокойно глаза.
— Рэджи! — зовет Магда и тянет к себе за короткие уши вечно оскаленную морду.
— Рэджи, ты слышал? «Только двое», сказал он. Только двое…
Затихают колокольчики смеха, нервные и серебристые, и смотрит на часы нетерпеливая Магда.
И снова тормошит она бедного Рэджи. Но Рэджи привык уже, он знает: Магда ждет.
VIII
И поздней ночью, когда город засыпает в своей холодной каменной постели, по черной лестнице приходит Федька-маркер.
Магда сама открывает ему. Радостно хлопочет вокруг стола, за которым сидит ночной гость, смотрит на него, не отрываясь, пока он молча ест и пьет, вытирая рукавом красные губы под черными усами.
Потом она ждет его в своей спальне, юная, благоухающая…
Трепещет в грубых и сильных объятиях тело Магды, опускает она длинные ресницы на горящие счастьем глаза и медленно, жадными устами, пьет поцелуй… Поцелуй, в котором для нее все — и красота поэтического вымысла, и безумная роскошь богатства, и все обаяние человеческой власти.
IX
Тихо, почти без шума, проворно работают опытные руки. С легким жалобным стоном открываются тяжелые ящики шифоньера, шелестят шелковые ткани причудливых платьев, в белоснежный и рыхлый сугроб сбиваются батистовые сорочки Магды.
Ищут проворные руки. Молча работает Федька-маркер. Старый волк ему помогает.
А на ковре у своей постели лежит бездыханная Магда. Раскинуты белые точеные руки. Спелым, золотым снопом лежат расплетенные косы… Широкая рана на шее Магды.
Вечное, красное ожерелье подарил ей Федька-маркер.
Вся кровь уже вытекла. Разбросала она красные цветы по бледно-зеленому пушистому ковру. И лежит среди них Магда, прекрасная и бледная…
Работает Федька, торопится. Изредка вскрикнет глухо от боли, проворчит:
— Не хотела добром…
Левая рука у него обмотана платком Магды и сквозь тонкую ткань уже просочились красные капли. Это Рэджи оставил на память.
Честно сражался угрюмый бульдог. Мертвой хваткой впился он в разбойничью руку и не разжались бы стальные челюсти, если бы не старый волк. Со всего размаху хватил он между ушей тяжелыми каминными щипцами.
Издыхает в углу теперь Рэджи.
Но, вот, и шкатулка Магды. Знакома она Федьке: сколько раз Магда доставала из нее деньги, легкие деньги, не трудом, не потом добытые.
Здесь же лежат и кольца Магды, и браслеты, и серьги…
— Пора, — говорит старый волк, шагает через неподвижную Магду и, словно сам с собой, бормочет:
— Эх!.. Не надо бы… Больно уж баба-то добрая…
— Сволочь!.. — цедит сквозь зубы Федька-маркер, нагибается и плюет в лицо, прямо в мертвые, застывшие глаза. В милые глаза Магды, позабывшие слезы ребенка и не узнавшие слез женщины.
1913 г.
Арпеджио Филипьева
Есть такой добрый старик херес Амонтильядо. В пыльной холодной бутылке долгие годы дремлет испанское солнце. Зимним вечером, когда вьюга за окном пляшет огненный матчиш, слуга приносит к нам доброго старика и в наших стаканах плещутся расплавленные топазы. В душной, прокуренной комнате порхает едва уловимый нежный аромат далекого горячего юга, вздрагивает сонное сердце, вспыхивает скучающий взор…
Точно по взаимному молчаливому уговору меняется беседа и, затаив обиду, выходят за двери законные неотвязные подруги наших дней — политика и биржа.
Мы расстегиваем слегка на две пуговки наши сердца, сердца сорокалетних юношей, оглядываемся затуманенным взором на прошлое и говорим о женщинах, о любви и красоте… Старик Амонтильядо слушает наши речи и желтые глаза его поблескивают задорно и весело.
— Кто из вас, господа, помнит еще Анну Думерг?
— Гм… Помнят ее все, а некоторые хотели бы забыть…
С минуту мы молчим, полузакрыв глаза, и тонкая, гибкая женщина стоит перед нами с веселой, беспечной улыбкой и вечно печальными глазами.
— Она кончила плохо, — говорит один из нас.
— Она кончила прекрасно, — возражает всезнающий Филипьев, толстый и лысый сангвиник, автор изящных салонных новелл. — Анна кончила прекрасно и ее смерть была лучшей страницей из всех ее романов.
Мы иронически улыбаемся.
— Помнится, не она была автором своей смерти и неповинна в ее красоте…
Филипьев укоризненно качает лысой головой.
— Вы ничего не знаете, господа. Вы читали газеты, были на процессе, но вы ничего не знаете.
Он еще кокетничает, ждет наших просьб. Но старик Амонтильядо уже спешит на помощь нашему любопытству, и веселый Филипьев рассказывает нам грустную историю милой Анны, вечной грешницы, наказанной за свою единственную первую молитву.
— Вся жизни Анны была похожа на перевернутую книгу, с перепутанными страницами. Она читала ее сзаду наперед и кончила тем, с чего начинают все чистые, девственные души.
Я недорого дам за все слезы первой обманувшей любви: в них больше сладкой грусти, чем отчаяния, это почти всегда красивые похороны с благоуханием еще живых цветов и черной креповой вуалью, из-под которой уже мерцают взоры весенних надежд. Анна знала другую могилу сердца, вырытую ее же руками, руками тридцатилетней женщины, уставшей грешить, начинающей молиться…
Кумир толпы, пожалуй, и до сегодня еще не забытый нашими психопатками, Андрей Корчагин давно уже сменил свой скучный фрак на живописный костюм каторжника, и руки артиста, самой природой созданные для воздушных арпеджио, теперь уже привыкли справляться с заступом в сыром и темном руднике… Люди зовут это торжеством правосудия, возмездием за грех, но, господа… Бедняга пианист был только орудием убийства, а истинным виновником, вдохновителем и злым творцом этого кошмара — был рубин… Да, большой и красивый рубин, кусочек красного холодного и дразнящего пламени, оправленный в брошку Анны…
Корчагин был пятью годами старше Анны, но в нем жила душа артиста, душа вечного ребенка, ясная и чистая, как обломок горного хрусталя. Грязь нашей жизни, конечно, и на ней оставляла свои милые брызги и умные пятна, но вдохновение, бившее живым и бурным ключом, смывало их так легко, почти бесследно.
А душа Анны, душа настоящей женщины, это почти всегда потайный сундучок неисправимого скряги, подбирающего всякую дрянь на своей дороге. Чего только нет в таком сундучке? Алмазы первых слез и грязные, дешевые монеты чувственности, бесценное кружево грезы и рваные тряпки женского тщеславия, увядшие лепестки благоухавшей надежды и сорные травы вечных уловок, вечной лжи… И все это хранится так свято, с такой любовью до самой могилы. О, если бы женщины умели забывать, а мы смогли бы поверить в это забвение!.. Тогда Фауст не искал бы свою Гретхен и черный зверь ревности зачах бы от скуки безделья…
Первая встреча их произошла случайно на моих глазах в салоне баронессы В.
Печальный взор Анны, конечно, был патентованной мышеловкой для уловления таких мечтателей, каким был Корчагин, но я не знаю, что остановило на нем внимание этой женщины. Неужели только шумиха, поднятая вокруг его имени бутербродными рецензентами?
Их познакомили и четвертьчасовая беседа закончилась, по доброму обычаю, просьбой женщины сыграть ей что-нибудь такое… шопеновское.
Пианист, как водится, немножко поломался, но все же подошел к роялю и сыграл berceuse.
Вы знаете, конечно, эту колыбельную песенку Шопена и помните, как умел баюкать Корчагин. С тех пор, как существует наша бедная планета, известны только два рецепта брать сердце женщины: дразнить бесконечными уколами, как дразнят быка на арене, или завертывать его в нежную, теплую ватку внимания и ласки и баюкать, баюкать…
Утомленное сердце Анны оценило berceuse, а безмолвная печаль ее глаз спеленала капризного бородатого ребенка, и с того вечера начался тридцать девятый и последний роман m-me Думерг.
Через два месяца Анна перевезла к Корчагину свои бесчисленные баулы и картонки и они зажили maritalement… О, конечно, этому предшествовала полная ликвидация прошлого. Женщины так любят эти ликвидации.
В первое время их жизни вдвоем я часто бывал у них. В гостиной плавал тонкий аромат «Divinia», любимых духов Анны, на рояли лежали дамские шляпы и маленькие перчатки, а на устах пианиста мелькала счастливая улыбка.
Умница Анна не забывала ни одного из аксессуаров семейной идиллии. У них был превосходный стол. Нужно было видеть Анну, когда она, тонкая и стройная, в темной блузке, украшенной единственно рубиновой брошью, хозяйничала в своей маленькой столовой. Как хлопотали ее беленькие проворные пальцы, сколько глубокого внимания уделялось температуре лафита и хитрой кофейной машинке. И как ласково мерцали печальные глаза Анны при взгляде на своего нового bebe, кушающего восхитительный салат селлери.
— Какая жуткая, манящая красота в этом камне… — обмолвился я однажды, глядя в красные мерцающие огоньки ее рубина. — Давно он у вас?
— О, да, — ответила Анна с нежной и тихой улыбкой. — Это память покойной сестры… Я не расстаюсь с ним никогда.
Часто после обеда мы переходили в гостиную, и Андрей играл. У него был прекрасный рояль, тщательно выбранный, с небольшим, но певучим, ласкающим тоном, удивительно подходившим к индивидуальности артиста.
Эх, господа, я уже едва ли когда-нибудь услышу снова такую музыку. Менестрелей, соловьев и наших артистов нужно слушать тогда, когда они влюблены и сердца их раскрываются, как почки деревьев весной… В остальную пору их жизни — скучно: виртуоз берет верх над поэтом и над вдохновением царит техника.
Я любил эти вечера, и мне каждый раз приходилось сделать усилие над собой, чтобы уйти из этой атмосферы красивой поэзии и тихой, безоблачной радости. Но нужно ли говорить, что эта идиллия продолжалась недолго. Счастье людей — такая хрупкая севрская статуэтка, и люди станут богами, когда сумеют отлить ее из вечной бронзы.
Вскоре, в один из вечеров, послушный черный рояль Андрея обмолвился мне своей маленькой тайной и нечаянно шепнул, что по ясному звездному небу любви плывет издалека черная тучка.
Глаза пианиста, как прежде, улыбались его любимой и прежней лаской звучал его голос, а чуткие, внимательные клавиши уже заглянули на донышко его сердца, взяли в себя неуловимый трепет дрогнувшей руки и отдали его струнам рояля, не умеющим лгать…
Я невольно взглянул на Анну, как всегда в эти минуты, безмолвную, неподвижную… Едва уловимая горькая улыбка тронула ее губы, поцеловала чистый лоб и спряталась под ресницами темных, печальных глаз.
Дня через два, господа, если помнят некоторые из вас, мы собрались на вокзале и проводили Корчагина на юг, в его последнее турне.
Анна осталась в городе. Я ехал вместе с нею от вокзала. Почти всю дорогу мы молчали, но сердечность проводов и выпитые при этом два стакана вина настроили меня лирически и шевельнули во мне невольное участие к бледной молчаливой спутнице; прощаясь с Анной, я спросил:
— Что с Андреем? Что мешает вашему счастью?
Анна ответила не сразу.
— И вы уже заметили… Ну, что же? Я вам скажу…
И, пожав на прощанье мою руку, она промолвила с тихой, грустной улыбкой:
— Мое прошлое… Мое милое прошлое.
Ну-с, провожали мы Корчагина месяца на два, а не прошло и недели, как он уже вернулся, и, глядя на похудевшее, бледное лицо пианиста, так нетрудно было верить в его дорожную простуду и мучительную лихорадку. Да, в сущности, это и было недалеко от истины: какая-то душевная малярия сжигала этого человека с его обнаженными нервами и бессонным воображением. Эх, господа, я не сумею рассказать вам и половины правды, которую поведал мне бедняга Андрей, в один из вечеров наших холостых пирушек вдвоем, незадолго до катастрофы.
Каких только милых чудовищ не послано добрыми богами на землю для утехи человеческого сердца, но страшнее их всех черный зверь ревности к прошлому. Что значат все муки Отелло? Черный венецианский ребенок, говоря по правде, погиб лишь от «бездействия власти». Любой современный губернатор выслал бы с острова юного соперника Кассио и заснул бы безмятежным сном на груди своей застрахованной Дездемоны.
А где ваше оружие, где тот яд, которым вы отравите изящных джентльменов, явившихся из милого далека и навсегда поселившихся в памяти любимой женщины, этих неуловимых и бесплотных суверенов ее сердца? Кто вырвет злые цветы вашей фантазии и какое солнце прогонит ваши ночные кошмары?
Нужно отдать справедливость Андрею: он долго и упорно боролся со своими невидимыми врагами. Заглядывал в глаза своей любимой, в самую глубину ее красивой и чистой печали и шептал: «С такими глазами — не лгут». Ловил нотки искренней радости в ее смехе, слушал ее голос, тихие и нежные, простые и милые слова любви и верил им на короткое прекрасное мгновение. Целовал ее тонкие руки, обнимал ее стан и твердил себе: «Красота божественна, красота — правдива»…
Увы, наступал час разлуки или приходила ночь, забывшая о сне, напоенная ароматом ядовитых желаний, и в их пламени сгорала едва рожденная маленькая вера.
Улыбнитесь же, господа, над безумными муками большого ребенка, повторяющего до утра свои вечные вопросы: «Каких объятий, поцелуев, какой ласки не изведала еще эта женщина? Кто подскажет ему слово любви, еще не слышанное ею? Кто научит его жесту, который бы она не видала уже так много, так много раз?..»
Нескладно устроена жизнь, господа!.. Измены дон-Жуана мы зовем красивым исканием идеала, измены донны-Жуаниты — позорным пятном. Мы требуем от женщин веры и не прощаем ошибки. Perpetuum mobile — камни, побивающие грешницу. Я благоговейно целую их, как апофеоз человеческой справедливости.
Анна видела и понимала его муку, но не было слов на ее устах, скованных сомнением Андрея. Да и что могла она сделать? Разрубить свою грудь, вынуть маленькое уставшее сердце и показать любимому, чтобы он видел всю его печаль, все забытые могилы прошлого и первую, тихую молитву?..
Анна порвала все прежние знакомства, по неделям не выходила из дома, на глазах Андрея сожгла в камине поблекшие фотографии и давно увядшие сухие розы, все эти маленькие реликвии сердца, эти печальные мумии его прежних властителей.
Андрей молча смотрел на искупительный костер, но и в пламени его упрямый атеист видел лишь поцелуи Анны, легкие и нежные, незримо прильнувшие к сухим лепесткам сжигаемых цветов, к горящим милым портретам.
Да и знал он, что не все еще сгорело на этом костре. Между вещами Анны, среди кружев и лент, хранилась еще пачка писем. Анна предложила сжечь и их, но Андрей неожиданно отказался, даже просил ее не трогать писем. Это уже и ему казалось святотатством.
— Оставь их, — просил он, целуя ее руки. — У людей нет более священных гробниц, нет могил, дороже этих… Вот, лежат они, брошенные и забытые среди пыли и хлама, и безмолвно хранят свои маленькие тайны, свои бесценные алмазы человеческой скорби и радости, всю бессмертную жизнь души, раскрывшейся однажды… Не трогай их, Анна!..
— О, мой поэт, — улыбалась женщина. — Пусть будет по-твоему; спите, покойнички!
И в тот вечер Андрей, быть может, в последний раз, подошел к своему роялю и рассказал тишине самую волшебную из сказок жизни, самую красивую из ее легенд: рассказал о том, что в печальную душу, смятенную ураганом ревности, среди темной ночи бессонных сомнений, заглядывают кроткие звезды забвения и полное муки сердце, так просто и братски протягивает руку чужому страданию…
Да, господа, все это — только легенда. Пришел новый день и привел с собой старые муки. И с этого дня болезнь Корчагина принимает новую форму, любопытную для психиатра.
Все призраки прошлого Анны, все черные думы о солнечных днях ее сердца, красота ее тела, хранящая прежние ласки, печаль души ее, ничего не забывшей, все слилось для него в один аккорд глухой, безмолвной и ежедневно растущей ненависти к рубину… К бездушной дорогой побрякушке, никогда не сходившей с груди его Анны.
О, нужно ли говорить, что никогда, ни одной минуты Андрей не верил в то, что этот камень получен ею от сестры.
В книге прошлой жизни Анны его воображение отыскивало самую темную нечистую страницу и этот рубин горел на ней красной, позорной печатью, как щедрая плата за ослепительный грех. Это был красный палач, вечно терзавший душу Андрея. Рубин смотрел в его глаза и днем и вечером… И даже ночью, обнимая любимую, Андрей не забывал, что тут же, рядом, на столе лежит и он, ненавистный, проклятый, и в ночной тишине тихо дремлет притаившийся красный огонь…
Как поступила бы Анна, если бы Андрей поведал ей свою муку? Быть может, ответила бы своему большому bеbе веселым смехом умной женщины, смехом, от которого еще больней бы сжалось его измученное сердце, или прошептала клятву, которой бы он не поверил. И если бы она сняла с груди свою реликвию и навсегда похоронила ее на дне своих ящиков, или далее продала, что изменила бы эта жертва? Тайна души этой женщины была бы еще темнее, а печаль ее глаз еще красноречивей для сердца Андрея, не умеющего верить.
И так тянулись отравленные дни, сгорали бессонные ночи и безмолвный Яго-рубин делал свое дело.
Молчала грустная Анна и молчал позабытый рояль. И тихо пришло неизбежное… В руке Андрея вспыхнул огонек револьвера, и навсегда остановилось утомленное сердце женщины.
Вы помните, это произошло вечером, и всю ночь Андрей провел около мертвой Анны. Целовал холодные руки, смотрел в милые черты, все прощал, за все благодарил… Дальше и дальше отходили недавние призраки, такие смешные уже, такие ненужные… За окнами просыпалась жизнь, далекая и чуждая, и утренний свет заглядывал на бледное лицо женщины и тихо улыбался ему проснувшийся рубин, красный камень, холодный, как тело Анны, маленькая жалкая игрушка, уже мертвая и безвредная…
Филипьев умолк.
В наступившей тишине прозвучал чей-то вопрос:
— А этот рубин?.. Неизвестно от кого? Или и вправду от ее сестры?
Добродушная улыбка скользнула под усами Филипьева.
— Гм… Так и быть уже, господа, покаюсь: рубин был мой. Я купил его в Париже в одну милую весну своей жизни и тогда же подарил Анне…
Тускло догорают свечи. Желтый свет их устало борется с непрошенным утром. Кто-то зевает… Вялые пожатья рук, и мы расходимся в разные стороны, маленькие песчинки человеческой пустыни, пестрые стекляшки калейдоскопа жизни…
1914 г.
Одержимые
I
Старинные буфетные часы захрипели, откашлялись и не спеша отсчитали восемь ударов.
Бритоголовый и усатый лакей Никанор, дремавший в углу, прислонясь к белой изразцовой печке, встрепенулся, протер салфеткой заспанные глаза, зевнул и, «пустив электричество» в среднюю люстру, принялся обряжать столы.
В руках у Никанора замелькали лебедиными крыльями белоснежные, туго накрахмаленные скатерти, зазвенели тоненьким чистым голоском хрустальные рюмки и стаканы, загрохотали тяжелые дубовые стулья.
На пороге боковой двери появился буфетчик, или, по-клубному, эконом, Тимофей Петрович, длиннобородый, солидный и благообразный, как соборный протодиакон.
Никанор подышал в глубокий фужер, вытер его и, посмотрев на свет, повернулся к вошедшему.
— А кто сегодня дежурный-то? — спросил он.
— Сидоревич.
Никанор опустил руки и горестно воскликнул:
— Господи! Позавчерась дежурил и снова…
Тимофей Петрович сочувственно махнул рукой.
— Любитель, — сказал он. — Что ему делается? За всех дежурит, кто ни попроси.
— Так ведь это что же?.. Одно остается: расчет просить. Ведь он меня со свету сживает. Намедни за то, что жульен неподогретый подал, он меня на трешницу оштрафовал и дубиной обозвал…
— Это уж у него первое удовольствие… А ты не забывай, наука…
— Да ведь нешто все упомнишь? У меня четыре стола было и везде гости. Сами знаете.
Тимофей Петрович снова сочувственно махнул пухлой рукой и вздохнул.
— Нам тоже не слаще, — сказал он. — Во все нос сует и на кухню бегает.
— Вот Ирод азиатский! Прости, Господи! — заключил Никанор, с треском положил на стол последнюю вилку и пошел переодеваться в форменную темно-синюю куртку с золочеными пуговицами.
Оставшись один, Тимофей Петрович подсел к столу, вытащил из внутреннего кармана длинный список членских долгов «по буфету», помусолил карандаш и, сморщив лицо точно от зубной боли, принялся на свободе за свои подсчеты и записи, бесконечные и безнадежные, как мечты поэта.
II
А сам «Ирод азиатский», старшина «Симфонического» клуба, Василий Васильевич Сидоревич, в этот час сидел за обедом со своим старинным приятелем, земским врачом Никитиным, и говорил:
— Не рассуждай, Саша, и не спорь лучше… В кои веки, быть может, в первый и последний раз в жизни, удалось тебе вырваться в столицу, и ты уже собираешься повернуть оглобли?
— Служба, да и жена ждет… — пробовал протестовать розовый добродушный блондин Саша.
— Служба — ерунда, а жена — вдвое! Успеете еще осточертеть друг другу. Да что там толковать! Я тебя не выпущу.
— Я и так уже вторую неделю…
— Подумаешь, какая вечность! Да ты еще и Петербурга-то не видел, как следует. Где ты был? Музей, публичная библиотека, клиника. Это как раз то, что и смотреть-то не стоило, потому что все это за границей у немцев в семь раз лучше. По улицам еще ходил, казармы наши да каланчи разглядывал, или памятниками российских гениев, Пушкина да Глинки, любовался… Ну, из-за этого и приезжать-то не стоило. А что еще ты видел?
— Был в балете.
— Это вещь. Но этого мало. В балет надо ходить годами, чтобы понять и полюбить. С первого раза только в глазах мелькание. Ну, а где же еще? В загородных эдемах был? А в фарсе, в оперетке? А в ночных барах? А в наших клубах, наконец?
— Ну, клубы-то и у нас имеются, — улыбнулся Никитин.
— У вас? Ах, ты, младенец! Знаю я ваши провинциальные «собрания», где пьянствуют армейские бурбоны, скачут козлами под музыку разбитого рояля местные девицы и телеграфисты, а их папеньки от скуки и для геморроя просиживают до утра за копеечной мушкой, или винтят по сотой… Знаю я, бывал. Правда, карты у вас в каждом доме, играют все, и попадьи, и грудные младенцы, но разве же это игра?.. Разве это игроки?.. Так, мелкота одна…
Сидоревич поперхнулся и залпом осушил бокал пива.
— Ну, не скажи… — протянул Никитин. — Прошлой осенью у нас была анафемская игра. Нотариус Калинин всех обобрал: более двух тысяч в одну неделю…
— Хо-хо-хо!.. Обобрал!.. Целую неделю — обирал и две тысячи! Хо-хо-хо!.. Ну, и пижон же ты, Сашка! Нет, решено: я сегодня же тебя свезу в наш клуб, где я старшиной. Вот увидишь, что значит настоящая игра…
— В другой раз лучше, — сказал Никитин.
— Нет, нет. И не думай удрать, — не выпущу. Человек! — крикнул Сидоревич. — Счет. Живо!
— Да я спать хочу! — протестовал Никитин.
— Ерунда! У нас и спать можно. В — «советской» на диван уложу. Едем! Эх, ты, провинция матушка!
III
В «Симфоническом» собирались поздно. Только к полночи освещались все комнаты и составлялся первый стол. Члены и гости, приходившие в клуб ранее этого часа, обычно блуждали, как одинокие мухи, в полуосвещенной столовой, или сидели в читальне, в десятый раз перелистывая страницы иллюстрированных журналов.
И хотя на одной из стен читальни, под самым портретом знаменитого писателя, висел печатный аншлаг: «Просят не разговаривать», но просьба эта никем не исполнялась. Изнывающие от скуки и нетерпения игроки болтали без умолку, вторично переживая все впечатления минувшей ночи. Здесь обычно подводились итоги вчерашней игры, подсчитывались свои и чужие проигрыши и выигрыши, вспоминались все наиболее яркие моменты вчерашних «меток», цифры ставок, количество открытых «девяток».
Когда Сидоревич и Никитин вошли в читальню, там было уже человек пять читателей, вернее, слушателей, потому что тощий и длинный адвокат Токарский сидел на кожаном диване, размахивал, как флагом, газетой на палке и «смачно» с тончайшими нюансами, передавал вчерашний «инцидент».
— Когда подсчитали удар, оказалось более восьми тысяч. Один Реблович поставил три в круг, да одну на свое. Понимаете? Я стою напротив банкомета и вижу, что у него манжеты дрожат. Ну, думаю, зацепили здорово, не уйдешь. Ну-с, мечет и открывают на первом «табло» два очка, на втором Реблович, как ни тянул, а больше четверки не вытянул, и на третьем — очко. Понимаете? Ну, думаю, пахнет комплектом; на тройке и то куш. И вот он открывает восьмерку пик, даму, уже не помню какой масти, и… — Токарский сделал эффектную паузу, — и двойку! Жир! Понимаете?
— Бывает… — отозвался из угла мрачный брюнет и злорадно усмехнулся.
— Жир, — повторил Токарский, — девяносто шестой пробы. Ну-с, гони, значит, денежки. Начинается расплата. Мелкоту всю согнал, заплатил Мееру шестьсот и… стоп машина. Обращается к Ребловичу: «Снимите до завтра». А тот в ответ ни звука, молчит и ногти чистит. Туда, сюда, по всем карманам, — не хватает. Понимаете?
— А что же тут непонятного? — спросил Сидоревич и подмигнул Никитину.
— Не мешайте, Василий Васильевич! — отмахнулся Токарский. — Ну-с, натурально, к Трифону, а тот только руками разводит «ни копейки, мол, нет, Реблович все забрал»… Зовут Семена Ивановича, — та же история. Понимаете? А Реблович покончил с ногтями, спрятал в карман ножик и говорит: «Позовите дежурного старшину».
— И все-то вы врете, Токарский, — снова вмешался Сидоревич. — Не «позовите» он сказал, а «попросите старшину». Эх! Пойдем лучше, Саша, погреемся, хватим-ка, пока что, пуншу горяченького… — и, подхватив Никитина под руку, он повел его в столовую.
— Заметался вчера один тут, — сказал он. — С кем грех не бывает? Ну, записали, сегодня внесет. Вот и все. А эти господа и рады… Сами арапы pure sange, а уж другому не спустят.
IV
Когда Сидоревич, «в обход закона», ввел Никитина в игорную залу и покинул его среди хаоса, в облаках табачного дыма, Никитин даже слегка растерялся, до такой степени была необычна окружающая обстановка.
Игра шла за шестью столами, и какая игра! Скромному провинциальному доктору никогда и не снилась эта вакханалия богатства, азарта и беспечности. Пачки сторублевок, тяжелые кучки золота и вороха небрежно скомканных мелких кредиток ежеминутно переходили из рук в руки, брались без улыбки радости, отдавались без вздоха огорчения, точно это были не деньги, не деньги — эквивалент земного благополучия, а лишь пестрые, разноцветные игрушки, которыми небрежно и вяло перекидывались взрослые, и в большинстве уже седые, дети.
Банкомет, худощавый, благообразный старичок, вынимал из кармана пачки денег и с равнодушным, скучающим видом отдавал своим партнерам целые маленькие состояния в десять, двенадцать тысяч рублей. Отдавал только потому, что в трех, лежащих перед ним плоских и полусмятых, картах не хватало одного очка.
— Господи! — думал Никитин. — Да ведь на эти деньги можно у нас, в N-ске, купить и дом, и землю и до конца дней прожить, как у Христа за пазухой.
Он отходил к соседнему столу, но и там видел ту же картину: безмолвную, тихую и огненную пляску азарта, холодное до цинизма отношение к деньгам.
Изредка лишь кто-нибудь, да и то из мелкотравчатой молодежи, бормотал глухое проклятие, или нервно двигал стулом, но корректные соседи тотчас же косили на него сердито-недоумевающие глаза и дружно шикали, и неопытный экспансивный игрок сконфуженно затихал.
— Ну, на первый раз довольно, — произнес Сидоревич, неслышно подошедший к зачарованному приятелю. — Пойдем ужинать. Я тебя познакомлю с одним коллегой. Что, здорово? Почище вашего N-ского клуба? То-то, пижон. Идем!
— Откуда у них столько денег? — спросил Никитин.
— Откуда? Гм… Биржа, тотализатор, другие клубы… Водоворот. А кто-нибудь и свои кровные спускает, и это случается, а то и похуже…
— А что?
— А это, когда уже казенные идут в оборот, или доверительские. Всяко бывает. Идем, я тебя познакомлю с доктором Дерновым, славный парень, хотя теперь уже и не играет, бросил, но из могикан и когда-то гремел.
В столовой было уже людно и весело. За большим столом сидели три дамы в компании с бритолицыми актерами, пили шампанское, громко болтали и хохотали. Юный офицерик и несколько штатских толпились у стойки буфета, спорили, поздравляли кого-то с выигрышем и чокались большими, «двухспальными» рюмками. Неслышно лавируя между стульями и жонглируя подносами, шмыгали лакеи и Никифор с ожесточением вертел в холодильнике пузатую бутылку.
За столом Сидоревича сидел полноватый шатен средних лет с подстриженными усами и маленькой, остроконечной бородкой.
— Знакомьтесь, — сказал Сидоревич, — коллеги, Дернов, Никитин… Заказывай, Саша, а я сейчас… Меня рвут на части…
— Я слышал, вы приезжий? — спросил Дернов, добродушно улыбаясь.
— Да, — ответил Никитин.
— И в нашем клубе впервые?
— Здесь? Да.
— Ну, так я вам искренно завидую.
— Чему? — удивился Никитин.
— Я всегда завидую, когда встречаю человека, который еще впервые подходит к какой-нибудь интересной и новой для него стороне жизни.
— Но я это уже видел и раньше, — Никитин кивнул на двери в карточную, — хотя, конечно, и не в таких размерах…
— Нет, вы и сегодня еще не видели. Это лишь внешность игры: крупные ставки, быстрое богатство… Все это лишь внешность, и малоинтересная.
Никитин пожал плечами.
— Да, да, — продолжал Дернов, — и не сегодня, да еще и не скоро, надеюсь, вы увидите главное: однообразную и многогранную, простую и страшно сложную психологию игрока.
— Ну, что, Саша? Заказал ужин? — подбежал Сидоревич. — Нет? Э! Я вижу, вы уже мудрствуете лукаво. Вы, доктор, предложили бы лучше нашему гостю добрую котлету сначала, а уже потом бы и угощали его вашей философией. Ты, Саша, его не очень слушай; он ведь тоже был нашего поля ягодка, а теперь завял и философствует. Дай ему волю, так он сейчас бы потребовал кареты скорой помощи и всех этих лордов и джентльменов, всех нас вкупе отправил бы на десятую версту, в психиатрическую…
Дернов тонко усмехнулся.
— Ну, вам-то лично эта опасность не угрожает. Вас-то я не тронул бы.
Сидоревич поморщился, но тотчас же махнул рукой и закричал:
— Никанор! Что, же ты? Карту, вино, шевелись!..
Никанор бросил свое скучное занятие, выхватил из ведра бутылку, запеленал ее в салфетку и стал разливать в широкие бокалы холодный, бледно-золотистый мумм.
— А вы не играете? — спросил Дернов.
Никитин слегка замялся и порозовел.
— Нет, то есть, играл еще студентом и в карты, и на биллиарде, но потом… не приходилось.
— Где ему! Птенец еще… — сказал Сидоревич. — Да и жены боится. А знаешь, что? Таким, как ты, желторотым, всегда везет вначале. Вот, после ужина, поди и поставь quel-que chose. Пари держу, что возьмешь.
— Нет, не стоит… Да, у меня и денег при себе немного… — улыбнулся Никитин.
— Что значит немного? Хотя бы рубль один есть, и довольно. Я однажды с рубля сделал четыреста.
— Искушайте, искушайте, Мефисто, — засмеялся Дернов. — Счастье коллеги, что он приезжий, а то вы и его втянули бы в болото.
— Ну, уж и болото… Что он может проиграть? Несколько рублей. А выиграть может уйму денег, накупит здесь жене подарков разных, финтифлюшек столичных, да и махнет к своей дражайшей… То-то встретит она его… — Сидоревич захохотал и запел своим bier-басом:
И не будет конца поцелуям…Дернов слегка потянулся и встал.
— Ну, господа, до свидания! — сказал он. — Мне пора бай-бай, — и, пожимая руку Никитина, добавил:
— А все-таки — мой добрый совет, коллега, завтра же укладывайте чемоданы.
V
Хмурый и кислый петербургский полдень смотрел в окно скромного номера на только что проснувшегося Никитина.
Обычно розовое лицо молодого врача сегодня пожелтело и слегка опухло. Александр Викторович морщился от головной боли, сжимал руками виски и старался припомнить вчерашнее. Закурил папиросу, приподнялся на локте, долго и внимательно рассматривал пестрый дикий рисунок коврика у кровати и вдруг вспомнил.
Вскочил с кровати, бросился в угол к дверям, где на стуле и на полу лежало его платье, сброшенное вчера наскоро, как попало, дрожащими от нетерпения руками обшарил карманы сюртука, вынул небольшой портфель, раскрыл его и засмеялся тихим, радостным смехом большого ребенка.
Он опустился на кровать и, как бы не веря еще своим глазам, точно боясь прогнать волшебный сон, долго перебирал в руках деньги, пересчитывал их, раскладывал по одеялу и позванивал тяжелыми золотыми монетами.
— Шестьсот тридцать бумажками и сорок пять золотом. Ух!.. — шептал Александр Викторович, и широкая счастливая улыбка не сходила с его лица.
Собрал деньги, сунул портфель под подушку, закурил и снова растянулся под одеялом, блаженно жмуря глаза и вспоминая вчерашнюю ночь.
Все было как во сне! Когда ушел Дернов, пили еще вино, кофе и ликеры. За их столом на месте Дернова сидела стройная брюнетка с трагическим лицом и лукавой улыбкой, чокались, пили за ее здоровье, потом ходили с Сидоревичем в карточную и Никитин играл.
Помнится, он стоял у стола и ставил деньги вначале, как автомат, безвольно повинуясь указаниям Сидоревича, и с недоумением видел, как его скромная ставка росла, удваивалась после каждой сдачи карт. Сидоревич, как и всегда, когда ему случалось распоряжаться чужими суммами, проявлял в игре безумную, головокружительную смелость.
Напав на неудачную для банкомета талию, когда начиналась так называемая «раздача», он мог зарезать своими ставками любого банкомета. В таких случаях говорили: «Сидоревич землю роет» и часто просили его снять или уменьшить ставку, но Сидоревич был неумолим, на все просьбы качал отрицательно головой и стоял внутренне кипящий от нетерпения, натянутый, как струна, но внешне — спокойный и невозмутимый. Обычно кончалось тем, что безденежный или трусливый банкомет бросал талию и Сидоревич, не спеша, забирал свои деньги и отходил к другому столу в поисках новой жертвы.
Но так играл Сидоревич только «на чужие», когда же ему случалось играть на свои, он был неузнаваем, сжимался, уменьшал ставки, подолгу выжидал карту, менял табло и, в большинстве случаев, ограничивался мелким выигрышем в несколько рублей. В таких случаях он улыбался, называл себя «курочкой, которая по зернышку клюет»… и хитрыми, умными глазками посматривал на зарвавшихся игроков.
Вчера в сотый раз оправдалась теория Сидоревича, о том, что пижон, играющий впервые, — проиграть не может. Пятнадцать рублей Никитина, через несколько удачных и смелых «ударов» выросли почти в пятьсот и в этот момент Сидоревича позвали в кассу.
— Подожди, я сейчас, — сказал он Никитину и убежал.
Никитин остался у стола, сжимая в руке свое богатство и растерянно улыбаясь.
— Сделайте игру, — громко предложил банкомет и взглянул на Никитина.
Почти не отдавая себе отчета в своих действиях, но повинуясь какому-то внутреннему толчку, Никитин поставил все свои деньги.
— Игра сделана, — сказал банкомет и в наступившей тишине с мягким шелестом ложились пестрые карты.
— Комплект! — произнес чей-то радостно возбужденный голос и ничего еще не понимающий Никитин видел, как банкомет жестом досады бросил карты и вытащил из кармана толстый черный бумажник.
— Что ты сделал? Неужели поставил? — спросил подбежавший Сидоревич.
Никитин молча кивнул головой.
— Ловко! Молодчина! Ну, для первого дебюта хватит, баста! Забирай капиталы и пойдем.
Вернувшись в столовую, считали выигрыш.
— Ого! — воскликнул Сидоревич. — Без малого тысяча… Для начала недурно. Впрочем, я знал, что ты выиграешь, — это уже закон природы. А теперь скажи мне спасибо и ссуди мне на несколько дней парочку бумажек… Ладно? — и, не дожидаясь ответа, он вынул из пачки двести рублей, небрежно скомкал бумажки и сунул их в жилетный карман.
— Merci! — сказал Сидоревич и махнул рукой Никанору.
Снова пили. Ели какого-то необыкновенного лангуста. Хорошенькая брюнетка звонко хохотала, чокалась с Никитиным и утверждала, что это именно она принесла ему счастье.
— Правильно! — изрек Сидоревич. — Гони-ка сюда сотнягу, — снова взял деньги из лежащей еще на столе пачки и сунул их в замшевый мешочек Софьи Львовны.
— Теперь спрячь, — добавил он, — а то налетит воронье…
Никитин прятал деньги, смотрел на Софью Львовну и все еще молча улыбался блаженной улыбкой.
Помнится, Сидоревич несколько раз убегал от стола и в эти моменты к Никитину подходили какие-то незнакомые, необыкновенно приличные молодые люди и просили «до завтра» мелкие суммы. Никитин давал, чокался с Софьей Львовной и снова пил, пил…
Здесь воспоминания о вчерашней ночи обрывались и дальше уже все заволакивалось розовым туманом.
Никитин бросил папиросу, сладко потянулся под одеялом и мысль его от воспоминаний перешла уже к проектам.
— Необходимо сейчас же поехать и купить подарок Лиле, — решил он. — Только что же купить? Серьги разве? Милая! — подумал Никитин с внезапным приливом нежности к своей далекой скромной жене. — Я знаю, ей давно уже хочется иметь маленькие бриллиантовые серьги — «росинки», точь-в-точь такие, как у прокурорши… Вот обрадуется-то!
Он вскочил и стал поспешно одеваться.
— Завтра же махну домой, — решил он. — Бог с ним, с Питером, всего не увидишь…
Одевшись, Никитин еще раз пересчитал, улыбаясь, деньги и уже взял в руки шапку, как в дверь номера постучались и на пороге появился Сидоревич.
— Уже? Молодчина!.. — сказал он. — Я думал застать тебя еще в постели после вчерашнего… Ну, тем лучше. Едем.
— Куда? — спросил Никитин.
— Куда? Ловко!.. Как это вам понравится? Сам же вчера пригласил нас завтракать, а теперь спрашивает: куда?
— Разве? — сконфузился Никитин. — Прости, забыл. Очень уж я вчера того… на радости…
— Ну, ладно, едем. Ты поезжай вперед в тот ресторан, где мы вчера обедали, займи кабинет и распорядись, понимаешь? А я следом за тобой, только за Софочкой заверну.
— Как? И она?
— Ну, это уже, действительно, того… — захохотал Сидоревич. — Совсем значит память отшибло. Сам же ты целовал ей ручки и взял с нее слово, что сегодня завтракаем.
— Эх! — поморщился Никитин. — Я уже хотел ехать завтра, а сегодня купить кое-что…
— Успеется, и завтра купишь. Будь спокоен — Гостиный двор не убежит. Бери шапку.
VI
— Такие случаи бывали, — говорил Сидоревич, сидя в санях рядом с румяной от мороза Софьей Львовной. — Паренек он немудрый, но таким-то и везет. Вспомни Куликова, тоже с грошей начал, а теперь видела, какие бриллиантища закатил он своей Маруське?.. Не пройдет номер, — черт с ним, пусть едет к своей благоверной, а в случае чего — дура будешь, если упустишь.
— Размечтался, — улыбнулась Софья Львовна. — Было бы, с чего раздувать; скорей всего, что твой зеленый медикус сегодня же лопнет, как мыльный пузырь.
— Ну, нет. У меня на этот счет нюх безошибочный. Вот вспомни мое слово. Только нас-то, бедненьких, не забудьте…
— Небойсь, напомните, — ответила Софья Львовна и звонко захохотала.
А в это время, пока лакей татарин, жирный, гладкий и розовый, как йоркширский поросенок, сервировал завтрак, зеленый медикус в ожидании Сидоревича ходил из угла в угол по пушистому ковру кабинета, хмурился, покусывал губы и ругал себя тряпкой, пьяницей и даже развратником.
Все еще не мог он стряхнуть с себя утреннюю мечту о скорой милой встрече с темно-серыми «строгими» глазами Лили и неудержимо тянуло его домой в атмосферу чистоты и порядка трезвой трудовой жизни. И почти до физической боли мучило его несоответствие своего настроения с окружающей обстановкой.
Впервые еще бедняга Никитин мучился этой болью и не знал еще иронии жизни, не знал, что самое искреннее раскаяние и самые чистые, трезвые и благородные мысли посещают душу чаще всего на утро после пьяного разгула, острыми зубами грызут совесть до первой новой рюмки и затем испаряются, пропадают бесследно, как трагикомический призрак.
— Черт с ними и с деньгами-то! — пилил себя Никитин. — Пришли махом и уйдут прахом. И дернула меня нелегкая связаться с этим пьяницей и бездельником. Вчера бы еще мог уехать и теперь бы уже подъезжал…
— Тот же и мы, — сказал Сидоревич, входя в кабинет. — Скучаешь? Распорядился? Ну, разоблачайтесь, драгоценнейшая. Шурка, возьми же хоть муфту у моей дамы…
— Он еще не проснулся, — засмеялась Софья Львовна.
VII
— Рецидивист, — улыбнулся Дернов, здороваясь в читальне с Никитиным. — Опять к нам пожаловали? Слышал о вашем вчерашнем успехе и огорчился. Лучше, если бы судьба с первого же раза дала вам хорошую встрепку.
— Почему?
— А потому, что для меня уже, как дважды два, — ясно ваше настроение, ваши мечты и я знаю, что вы уже не уедете завтра, вы уже отравлены. Иначе, зачем вы здесь?
— О, нет, сегодня в последний раз, а завтра уеду во что бы то ни стало… — протестовал Никитин с искусственной горячностью сомневающегося в себе человека. Ему были и неприятны слова Дернова, и, в то же время, что-то тянуло его к этому человеку, так не походившему на Сидоревича и всех окружающих. И с приливом невольной откровенности он добавил, понизив голос: — Может быть, вы и правы, — пожалуй, я и отравлен уже, но… у меня есть противоядие — служба и жена…
— Почти у каждого из них, — Дернов указал жестом на карточную комнату, — есть и служба, и жена, и семья…
— Да, но… — Никитин слегка покраснел. — Я еще так недавно женат и люблю жену, страшно скучаю…
— Увы, я не хотел бы быть пророком, но и любовь бессильна. Грусть разлуки вы прогоните новыми впечатлениями, жгучим волнением игрока, наконец, вином, а сознание своей вины перед любимой и одинокой женой и муки раскаяния с успехом вытравите угодливыми софизмами, соображениями о том, что добытые игрой деньги еще более скрасят вашу общую жизнь, увеличат благополучие любимой женщины и доставят ей же еще новые, неизведанные радости…
Никитин молча слушал эту спокойную, слегка ироническую тираду и думал: «Он прав, тысячу раз прав: разве не тянуло меня утром к Лили, а теперь я снова здесь».
— Поверьте мне, коллега, — продолжал Дернов. — Яд не в том, что в несколько минут, благодаря случайному капризу Фортуны, вы становитесь обладателем шальных незаработанных денег, не в том, что вчерашний бедняк, считавший копейки, сегодня может швырять, не задумываясь, сотни рублей, но в том, что каждый счастливчик случайную комбинацию карт и свое слепое счастье — приписывает лично себе, своему уму, характеру, знанию игры, своей смелости. Он растет в своих собственных глазах и, что еще хуже, в глазах окружающих по мере своего выигрыша. Вчерашнее абсолютное ничтожество, какой-нибудь полуграмотный приказчик, банковский клерк, или канцелярский чиновник, мечтавший, как о пределе земного счастья, о десятирублевой прибавке к жалованию, завтра уже, с небрежной, скучающей миной на плоском лице ставит на карту сумму, равную его годовому бюджету. Всю жизнь пивший только водку и скверное пиво, завтра он уже разбирается в марках шампанского, морщится, отведав плохо согретый поммар, обвешивается, как старая кокотка, бриллиантовыми кольцами и брелоками, швыряет только что закуренные рублевые гаванны и покупает себе женщину, хотя и продажную, и подержанную, но все же такую, о которой еще вчера не смел и мечтать и до которой ему далеко, как до звезды небесной. Ох! Поистине, можно было бы захлебнуться в этой пошлости, но, к счастью, эти типы недолговечны. Из сотни этих мыльных пузырей, едва ли один сумеет остановиться вовремя, удаляется под сень струй, открывает бакалею, кассу ссуд, или дом терпимости, и доживает свои дни мирно и беспечально, окруженный уважением добродетельных мещан… Большинство же кончает плохо. Лопается с треском, чаще всего с какой-нибудь растратой, или хотя бы с последним комплектом, открытым «на арапа», и, отбившись уже окончательно от трезвой трудовой жизни, становится клубным паразитом, выклянчивающим у выигравших трешки и рублики «на извозчика», ужинающим за счет счастливчика и если еще не шуллерничающим и не ворующим деньги, то только благодаря трусости и полной бесталанности…
В дверях из столовой остановился Сидоревич и махнул рукой Никитину.
— Пойдем, — сказал он, — я составил для тебя стол. Садись и попробуй себя в роли банкомета.
Никитин поднял голову, слегка помялся, с виноватой улыбкой, кивнул своему собеседнику и пошел в карточную.
— Когда придет твоя очередь метать банк, — предупредил Сидоревич, — за себя ставь сколько хочешь, но не забудь поставить красненькую за нас. Понимаешь? Пятерку за Софью Львовну, она просила, и пятерку за меня, я потом отдам.
VIII
Банк у Никитина долго «не завязывался». Он метал уже несколько раз, закладывал различные суммы, требовал новые карты, но все было тщетно, вчерашнее счастье сегодня ему изменяло и все его банки срывались по первой, или второй карте. Деньги его медленно таяли и в бумажнике оставалась уже единственная сторублевка.
Сидоревич несколько раз подходил к столу, молча смотрел на игру своего приятеля, махал разочарованно рукой и отходил с кислой миной.
— Сделайте ромбус, — тихо, почти шепотом, посоветовал Никитину сидевший рядом с ним «на швали» безусый блондинчик, во весь вечер не поставивший ни одного рубля, но внимательно, хотя и платонически следивший за ходом игры.
Никитин взглянул на него с недоумением.
— Когда придешь ваша очередь, вы лишний раз перетасуйте карты. Это называется «ромбус», — пояснил блондинчик. — Часто помогает.
Никитин послушался.
Блондинчик был прав. Банк завязался, Никитин метал, бил карту за картой и на столе перед ним уже лежала плотная горка денег, возраставшая с каждым новым ударом. Никитин метал, как автомат, глядел на деньги, невольно улыбался, пробовал мысленно подсчитать свой банк и сбивался.
Блондинчик суетился, привстал со стула, подвигал к Никитину деньги, давал сдачу партнерам и громко, радостным голосом приглашал:
— Сделайте игру.
Наконец, талия кончилась.
— Баста! — сказал Сидоревич. — Бросай, Саша. Второй такой «иерихонки» не замечешь. Забирай деньги и идем.
Блондинчик опасливо покосился на Сидоревича, но не утерпел, склонился к уху Никитина и шепнул:
— Это я вам посоветовал сделать ромбус, и видите, как кстати… Не можете ли вы мне ссудить до завтра рублей десять… или пять…
Никитин молча подвинул к нему несколько мелких кредиток и встал.
— Идем, идем! — повторил Сидоревич. — Бери деньги, там сосчитаем.
Считать деньги пошли в «комитетскую».
— Подальше от глаз, — пояснил Сидоревич.
Притворил двери и даже спустил портьеру.
— Ну-с, приступим, — сказал он, садясь за стол против Никитина и потирая руки. — Вываливай капиталы, так. Считай сотни, а я всю мелочь…
Выигрыш оказался значительным. Сидоревич вооружился мелком и подвел итог.
— Четыре тысячи шестьсот двадцать… Ну, и везет же тебе. В одну талию и на сравнительно плохом столе — этакую суммию. Молодчага! Ну-с, спрячь четыре тысячи, спрячь, вот так… а из этих я беру себе двести, да столько же для Софочки, на ее долю. Понял? И вот, что…
Сидоревич вынул часы.
— Теперь еще рано. Здесь тоска. Я сегодня свободен — все говорит за то, чтобы махнуть куда-нибудь за город в место злачное. Ты посиди здесь минутку, а я сейчас закажу автомобиль и предупрежу Софочку, пусть она захватит подругу. Сегодня, брат, и я хочу иметь свою даму…
Сидоревич сорвался с места и пошел к дверям.
— А все-таки ты, Шурка, свинья! — сказал он, обернувшись. — Я тебя и сюда затащил насильно, почти на аркане, и играть уговорил, и все… Ты с грошей сделал этакую уйму денег, а мне хоть бы спасибо сказал… Ну, ладно, с тебя сегодня угощение…
Никитин остался один, прошелся из угла в угол по мрачной полуосвещенной «комитетской», закурил папиросу, жадно затянулся, вспомнил сегодняшний завтрак, глаза Софьи Львовны, ее звонкий, задорный смех, маленькую ножку… потрогал снова карман сюртука, где лежал разбухший бумажник, и самодовольно улыбнулся.
IX
Для компании, или, как говорил Сидоревич, для «гарнира», прихватили с собой скучающего без денег и ангажемента актера Рассомахина, известного вруна, парадоксалиста и экспромтиста и через полчаса бешеной автомобильной гонки очутились в загородном шантане.
Софья Львовна привезла с собой подругу Катишь, высокую и плотную блондинку, с лицом Гольбейновской мадонны и с темпераментом маринованной стерляди. Софочка любила возить ее с собой «для контраста».
Заняли просторный кабинет, поручили составление дальнейшей программы Рассомахину и пока что занялись вином и поджаренными в соли фисташками.
Рассомахин приставил палец к носу, комически наморщил лоб и изрек:
— Первым номером ангажируем неаполитанцев. Вдвойне приятно слышать настоящее итальянское bel canto и созерцать остроумное решение еврейского вопроса.
Софья Львовна в знак согласия тряхнула темными буклями и через несколько минут в кабинете рыдали две гитары и сладковатый тенорок пел: «Addio bella Napoli». Потом усатый и совершенно лысый баритон затянул что-то панихидное, оказавшееся прологом из «Паяцов».
Никитину стало грустно.
К нему подсел Рассомахин.
— Доктор, пропишите себе пол унции веселья, — посоветовал он — Живите, мой молодой друг, настоящим. Оно всегда прекрасно и главная прелесть его заключается в воспоминании ошибок прошлого и в сознании неизбежности повторения их в будущем…
Никитин улыбнулся и потянулся со своим бокалом к Софье Львовне.
После неаполитанцев пригласили «интернациональный» хор, затем цыганский и стало веселее, потребовали еще вина и поили смуглых и желтоглазых цыганок.
Мэтр-д’отель, солидный и представительный, как президент парагвайской республики, почтительно склонялся к плечу Рассомахина и шептал:
— Осмелюсь доложить, для хора можно и другую марку… Прикажете Дуаэн-с?
Рассомахин небрежно махал рукой и цедил сквозь зубы:
— Оставьте.
Софочка неожиданно вскочила с дивана, подобрала юбки и сплясала матчиш.
Сидоревич пришел в неистовый восторг и в свою очередь попробовал исполнить «казачка».
А Рассомахин уже развалился на диване рядом с запыхавшейся розовой Софочкой и вполголоса читал ей только что сочиненный экспромт:
О, танец огненный матчиш, Ты сердцу внятно говоришь, Что не уйдет из наших лап Счастливый эскулап…Софья Львовна хохотала и зажимала ему рот маленькой хорошенькой ручкой, вчера еще только побывавшей у маникюрши.
Маринованная и неподвижная Катиш неожиданно проявила жизнь и вытерла маленьким платочком пот со лба Сидоревича. Отпустили цыган и послали лакея за mademoiselle Фероси.
Софочка выбрала из вазы громадную грушу, бросила ее на колени Никитина и попросила:
— Доктор, препарируйте ее для меня…
Никитин потянулся за ножом, толкнул актера и извинился.
Рассомахин встал в позу уличного оратора, вдохновенно взъерошил волоса и простер вперед руку:
— Если когда-нибудь сбудется золотая мечта человечества и на земле наступит царство разума, добра и справедливости, то первое, с чего начнут люди; выкинут из лексиконов за ненадобностью два слова: «merci!» и «pardon!».
Сидоревич захохотал.
— Поехал… — сказал он, махнул рукой, сел за пианино и, с неожиданным искусством, заиграл своими толстыми и короткими пальцами модную шансонетку.
В кабинет впорхнула тощая и длинная, как каланча, mademoiselle Фероси.
* * *
На рассвете подали счет в красных линейках и длинный, как полотенце. Полупьяный Никитин платил и улыбался. Возвращались все вместе в одном автомобиле, причем Софье Львовне, из-за тесноты, пришлось поместиться на коленях у доктора. Всем было очень весело, в особенности на крутых поворотах. Сначала развезли дам. Потом провожали доктора до гостиницы.
Заспанный швейцар подал Никитину телеграмму. Доктор пошатываясь, добрался до своего номера, подошел к окну и развернул телеграмму:
«Что задерживает? Здоров ли? Жду. Лиза».
Никитин тупо посмотрел в окно, зевнул, добрался до кровати, попробовал развязать галстук, но махнул рукой и лег, не раздеваясь.
X
Незаметно и быстро, как во сне, промелькнула неделя. Пророчество Сидоревича сбывалось. Никитин все еще не уехал, каждый вечер бывал в клубе и играл с неизменным счастьем.
У Софьи Львовны были уже дорогие бриллиантовые браслеты и броши. Самого Никитина Сидоревич перетащил уже в первоклассный отель и даже уговорил его купить «по случаю» небольшой автомобиль. Несмотря на безрассудные траты, подарки и кутежи, несмотря на постоянные займы Сидоревича и Рассомахина, на подачки бесчисленным «арапам», у Никитина уже лежало в банке на текущем счету более пятнадцати тысяч. С каждым днем он увеличивал игру и о нем уже говорили, на него уже охотились крупные игроки из других клубов.
Сидоревич преисполнился глубоким уважением к своему «нюху» и плавал в эмпиреях. Да и сам Никитин понемногу уже входил во вкус денег и столичной жизни: приобретал с каждым днем гастрономические познания, посещал балет, оделся у лучшего портного, купил дорогой хронометр и только улыбался при мысли о своей службе в провинциальной больнице. Все еще не собрался написать жене о своем неожиданном счастье. В глубине души он все еще не терял надежды вырваться из этого омута, помчаться к своей Лили и предстать пред ней с сердцем полным любви и с руками полными подарков. Не хотелось предварительными письмами портить радость неожиданной встречи, неожиданного известия о богатстве. Ограничился успокоительной телеграммой: «Здоров. Задерживают дела. Хлопочу о переводе. Приеду на днях. Целую».
Да и уехать теперь было бы, по меньшей мере, глупо. Счастье бывает один раз в жизни. Это он и сам знает. А Сидоревич и другие опытные игроки твердят ему в один голос, что прервать полосу счастья нельзя, необходимо использовать ее до конца и что бросить теперь игру — это значит ограбить самого себя. Правда, он выиграл уже много, но кто поручится, что это уже предел его богатства? Разве не бывали случаи выигрышей в десятки, даже в сотни тысяч? Чем он хуже какого-нибудь купца Сидоркина, выигравшего несколько каменных домов, или того мальчишки-студента, который в один месяц «сделал» более ста тысяч?
Из-за простой сентиментальности, из-за скуки по жене, имеет ли он право манкировать своей будущностью?
Все эти мысли и вопросы копошились в докторской голове в те редкие минуты, когда он бывал один и не спал.
Была и еще одна душевная царапинка: его отношение к Софье Львовне. Помнится, он еще недавно искренно недоумевал: как это можно, любя горячо одну женщину, быть в связи с другой? Оказалось, что можно, и он кругом, страшно виноват перед своей Лили. Единственное утешение, что она никогда не узнает об этом. Да и то сказать: взглянул ли бы он на какую-нибудь Софочку, если бы здесь была его жена, если бы не эти постоянные безумные кутежи, не этот вечный дурман в голове и от вина, и от неожиданного счастья? Вот и вчера, провожая ее после обеда, зашел он к ней на одну минуту и остался и не мог уже уйти от этой женщины, умной и живой, как десять бесенят, не мог уже оторваться от этой новой, неведомой еще, грешной и волнующей красоты…
Так бежала жизнь, пестрая и беззаботная, и ни единого облачка не было на горизонте.
В одиннадцатом часу вечера, свежий, великолепно выспавшийся Александр Викторович вошел в карточную и, улыбаясь, пожимал руки своих бесчисленных новых знакомых. Все пасынки Фортуны, все матерые клубмены и вылощенные до приторности «арапы» тянулись к нему, как к новому восходящему светилу, к новому калифу карточного царства.
Моментально составили стол и усадили Никитина визави мрачного нефтяника Бардымова, причем, на заранее, чуть ли не со вчерашнего вечера, абонированных «швалях», поместились два присяжных расчетчика, знаменитых необыкновенно наметанным глазом, проворством рук и вечно-безденежной придержкой в долю банкомета.
Никитин все еще непослушными, неумелыми руками перетасовал карты, вынул новенький, изящный и солидный бумажник, и игра началась.
И снова, как и вчера, медленно зеленело лицо Бардымова, самоуверенная улыбка играла на губах Сидоревича, а проворные цепкие пальцы расчетчика загребали и подхватывали все ставки и подвигали их к Никитину.
Пока готовили новую талию, ментор Сидоревич обежал вокруг стола и склонился к уху Никитина.
— Не довольно ли? — шепнул он. — Пришел Низовский. На прошлую талию он ничего не ставил, только смотрел, а теперь… Не люблю я этого волкодава.
— Ничего, — улыбнулся Никитин, — посмотрим, что поставят.
Отставной полковник Низовский, толстый, красный и лысый, отодвинул плечом стоявшего перед ним маленького арапчика Хавкина, протиснулся к столу и бросил в крут толстую пачку сторублевок.
— Сколько? — спросил расчетчик.
— Шесть тысяч, — ответил Низовский, отвернулся и стал раскуривать длинную черную сигару.
Глаза расчетчика, как две маленькие мышки, забегали по ставкам.
— Весь удар — восемь тысяч триста, — сказал он Никитину.
— А сколько в наметке?
— Около пяти.
Никитин на мгновение задумался. Его давно уже предупреждали относительно Низовского. Страшно богатый, с железным характером и выдержкой в игре, полковник «волкодав» считался самым опасным понтом, уже пустившим по миру десятки банкометов.
— Ну-с, — произнес Бардымов и с ехидной улыбочкой уставился на банкомета.
Никитин слегка вспыхнул и дал карту.
— У банкомета жир! Комплект! — выкрикнул сбоку Никитина чей-то высокий и звонкий голос.
Никитин машинально повернул голову и узнал в толпе розового альфонса Барчальского, которому он прошлой ночью отказал в займе пятидесяти рублей.
Бардымов беззвучно захихикал, а полковник с досадой почесал в затылке.
— Не знал я… — буркнул он соседу, — мало поставил.
Никитин бросил талию и подвинул своему добровольцу-крупье груду бумажек и золота. Началась расплата.
Через час Сидоревич стоял в будке телефона и со злостью давил кнопку.
— Алло! Кто говорит? Ты, Софи? — спрашивал он. — Можешь не приезжать, не трудись. Наш идиот наскочил на Низовского и вбухал ему все… Пять тысяч навару, да столько же своих… Что? Да, да. Я его останавливал, да что с болваном?.. Потом я достал ему полторы у Синицина, да еще у Трофима взял он восемьсот… Что? Теперь чист, взял у меня на извозчика и пошел ужинать «на запиши». Каков гусь!..
XI
К удивлению самого Никитина, первый проигрыш, несмотря на значительность потерянной суммы, не произвел на него глубокого впечатления. Жаль было денег, конечно; слегка ругал он себя за то, что не послушал совета Сидоревича и зарвался, но в конце концов еще слишком сильна была его вера, в свою счастливую звезду, еще не чувствовал он измены Фортуны и во всем происшедшем винил лишь свою собственную жадность.
— Завтра отыграюсь, — решил он, пошел в столовую и с давно небывалым аппетитом поужинал.
Кое-кто из игроков, в большинстве случаев должники Никитина, заходили в столовую, присаживались к его столу и выражали свое сочувствие, но Александр Викторович в ответ только улыбался и махал рукой.
— Ничего, — говорил он. — Вперед наука, не зарывайся.
Пришел и Рассомахин.
— Наскочили? — спросил он. — То-то. Теперь вы получили полное боевое крещение. А в общем «безумству храбрых поем мы песню»… Если уж разбивать лоб, то, конечно, об такую несокрушимую пирамиду, как этот colonel Низовский. Эге!.. — подмигнул он, оглянувшись вокруг. — Сегодня, доктор, вы хотя отдохнете от дамского общества. Наша премудрая София сегодня отсутствует. Да хранит меня Создатель от дурных пророчеств, но… очаровательные женщины и корабельные крысы часто обладают даром предвидения.
— О, нет, — засмеялся Никитин. — Я еще не собираюсь пойти ко дну.
— Аминь! — сказал Рассомахин и потребовал кофе и ликеров.
Сидоревич подвел к столу Дернова.
— Вот, — сказал он, кивая на Никитина. — Полюбуйтесь на этого красавца. Полез с голыми руками на волкодава и в результате — чист, как…
— «Как молитва ребенка», — подсказал Рассомахин.
— А где же были вы? — усмехнулся Дернов.
— Где был я? — Сидоревич даже побагровел. — Спросите-ка его сами, что я говорил ему?
Рассомахин протянул Сидоревичу рюмку шартреза.
— Выпейте-ка лучше, многоуважаемый староста, — сказал он. — Я слышал, что среди лиц, подвергшихся гильотинированию, не принято сожалеть об испорченном проборе.
— Много отдали? — спросил Дернов.
— Порядочно… — поморщился Никитин. — В общем сделал разницу в двенадцать тысяч.
— Ого! — протянул Дернов.
А Никитин снова подивился своему хладнокровию.
«Двенадцать тысяч, — думал он. — Бог ты мой! Что, если бы рассказать это Лили и всем нашим?.. Этакая суммия. И ведь почти не жалко… Черт знает, как скоро привыкаешь к деньгам»…
Расходились, как и обычно, на рассвете.
Свежее мартовское утро, неожиданно ясное улыбнулось в лицо Никитину, когда за ним закрылась тяжелая дверь клубного подъезда.
— А не пройдемся ли мы немного? Вы где живете? — спросил Дернов. — Смотрите, какая благодать. Стыдно ехать.
— Охотно, — согласился Никитин и вздохнул глубоко, всей грудью.
— Ну-с, коллега, — сказал Дернов, беря Никитина под руку, — когда же мы едем домой?
Никитин молча пожал плечами.
— Та-ак-с… — протянул Дернов. — Вы простите меня, что я вторгаюсь… Если вам неприятно — не скрывайте, пожалуйста.
— О, нет, — улыбнулся Никитин. — Я благодарен вам, но… после сегодняшнего проигрыша…
— Вот-вот, — подхватил Дернов. — После сегодняшнего проигрыша вы более чем когда-либо должны решиться на отъезд. Я не знаю, конечно, сколько именно, но предполагаю, что у вас еще остался значительный выигрыш и теперь, или никогда… Дорогой мой… — продолжал Дернов и ласково прижал к себе руку Никитина. — Я пережил когда-то то же, что и вы, только еще в большем масштабе… И у меня был момент, когда не хватило капельки воли, чтобы перетянуть проклятую чашу, чтобы сделать из своей жизни что-нибудь более чистое и разумное, чем эта действительность. Я теперь уже morituri, моя песня спета, но вы… Ах! Вы молоды, здоровы, женаты на любимой женщине, на руках у вас интересное и полезное дело и ко всему этому еще несколько свободных тысчонок в банке, подаренных вам улыбкой судьбы. Господи! Да чего еще вам не хватает для счастья? Ну, что еще вам нужно?
Никитин молчал.
— Уезжайте, Александр Викторович, — повторил Дернов, снова прижимая к себе локоть Никитина. — Мне страшно хочется, чтобы хотя один хороший человек выскочил невредимым из этого омута. Это не дно жизни, нет. Для многих — даже вершина их земного благополучия, но вглядитесь внимательнее во всех этих клубменов, в Токарского, Рассомахина и даже вашего покорного слугу, — ведь, все мы — бывшие люди, и только. Страсть к игре, привычка к бессонным ночам, к вечным неожиданностям и вечным упованиям на его величество случай стерли с нас все профессиональные, а боюсь, что и культурные, черты, вытравили из наших душ способность реагировать на что-либо вне магического круга данных и битых карт, меток и девяток. Вечная черная месса азарту. И как непростительно ошибаются те, кто объясняет это общими причинами, кто приписывает это явление лишь сумеркам нашей действительности, всеобщей реакции, обманувшим надеждам и затемнению недавних идеалов… Давно уже, более десяти лет, я в этом омуте и знаю, что и политическая борьба, наиболее острая, гипнотизирующая и подчиняющая себе человеческую душу, и она бессильна. Даже в недавно минувшие годы освободительного движения процветала игра, и тогда я так же видел вакханалию азарта. Играли все. Улица, широкая улица пришла и затопила все клубы. Старики, юноши, женщины — все бросились в игорные притоны. Многие так и ходили прямо с митинга — к зеленому столу и обратно. Теперь все это сузилось, кристаллизовалось. Среди игроков остались только наиболее отравленные, наиболее одержимые. Теснее замкнулся круг, но тем удушливее атмосфера и тем опаснее она для таких новичков, как вы.
Дернов умолк и закурил папиросу. Разгоралось тихое мартовское утро. Из-за крыш домов блеснули розовые лучи. Безмолвная и пустынная улица медленно оживала. Загрохотали тяжелые ломовые подводы. Потянулись одна за другой серые волны рабочего люда. Маляры, плотники и вечно напудренные, как классический Пьеро, штукатуры шли нестройными рядами посреди улицы, размашисто шагая и тяжело ударяя о камни мостовой своими подкованными сапогами. Курили, перекликались. Некоторые из них подталкивали соседей и с добродушной улыбкой кивали на двух клубменов, молча и медленно идущих с бледными, утомленными лицами.
— Вот, — улыбнулся Дернов, — мы в их глазах — загулявшие баре. Пожалуй, они завидуют нам. О-хо-хо! Сколько раз бывало наоборот. Сколько раз мне случалось, вот так же, как и сегодня, возвращаясь из клуба, встречать этих людей. И усталый, проклинающий себя и судьбу, холодеющий при мысли о завтрашних займах, изворотах, компромиссах, сколько раз я искренно завидовал этим людям — бодрым и свежим, спокойным и уверенным в своем труде и куске хлеба… Как подумаешь, — единственная привилегия российского интеллигента в том, чтобы всячески, с искусством, непостижимым для мужика, испортить свою жизнь. Одно это мы и умеем в совершенстве.
— Ну, зачем так мрачно? — засмеялся Никитин. — Вот через месяц приезжайте-ка к нам. У нас по весне рай земной. Покупайтесь в реке, походите по нашим лесам…
— Не обо мне речь, — махнул рукой Дернов. — Сами-то вы когда еще попадете в этот рай?
— Попаду, не бойтесь. Послезавтра приходите провожать.
На углу расстались и Никитин повернул к своему отелю.
— Ну, — думал он почти вслух, — пора и честь знать. Спишу завтра со счета пять тысяч, две отдам Синицину, восемьсот Трифону, а на остальные попробую… И, что бы ни было, домой! Все равно — у меня еще останется десять тысяч.
ХII
Вот уже пятый день рядовых проигрышей. С того вечера, как он нарвался на Низовского, у Никитина уже ни разу «не было в наваре». Счастье, как женщина, изменило ему неожиданно и бесповоротно. Что бы он ни делал, метал, или понтировал, спускался ли до рублевых ставок, или, наоборот, с холодной отвагой отчаяния, ставил на одну карту всю свою наличность в несколько сотен рублей, все фатально вело его к неизбежному минусу.
Сегодня он проиграл последние три тысячи и, кроме того, задолжал еще Бардымову шестьсот рублей.
Сидоревич и Софочка пока еще не в курсе истинного положения вещей. Александр Викторович давно уже скрывает от них настоящие цифры своих проигрышей. Он все еще «держит фасон», живет в том же безумно дорогом отеле, засыпает Софью Львовну корзинами ее любимых желтых роз и поит шампанским Сидоревича и Рассомахина. Но сегодня он уже нищий. Сейчас у него в кармане около рубля мелочи. Кредит его тоже уже пошатнулся. Карточник Трифон, обладающий сверхъестественными сведениями и предчувствиями относительно каждого из игроков, сегодня уже отказал ему в ста рублях.
— Боже мой, что делать? — думал Никитин, с тоской во взоре оглядывая игроков. Болезнь его вступала уже в свою последнюю фазу. Он уже не сомневался, он уже свято верил в то, что если бы сейчас еще оставалось у него хотя бы несколько рублей, то все еще можно было бы спасти. Он отыгрался бы, непременно отыгрался. И в мозгу Никитина уже горел вопрос, с которым все несчастные игроки ежедневно засыпают и просыпаются, живут и умирают, — вопрос: «где, у кого достать денег?»
Никитин подошел к одному из столов.
Игра продолжалась. Пужиков, постоянный крупье Никитина, теперь уже сидел рядом с Бардымовым и, с той же деревянной улыбкой на длинном лице, загребал ставки и с быстротой молнии отсчитывал сдачу.
Никитин жадными глазами следил за игрой и, заметив, что один из его должников, коротенький путейский инженер, только что снял с табло более ста рублей, он обошел вокруг стола и, слегка краснея, прикоснулся к плечу инженера.
— Виноват, маленькая просьба: за вами, помнится, есть маленький…
Инженер не дал ему договорить.
— Как же, как же, — перебил он, — я вам должен, но, к сожалению, пока еще не при деньгах… — и заметив, что Никитин смотрит на скомканную и зажатую в его руке пачку денег, инженер кисло улыбнулся…
Даже и малоопытный Никитин не сомневался, что слова инженера — сплошная и обычная ложь, но… оставалось только молча пожать плечами.
Александр Викторович машинально вынул часы. Было «по-клубному» рано: всего второй час ночи. И вдруг его осенила счастливая мысль: он вспомнил, что Сидоревич как-то рассказывал о клубных ростовщиках и, между прочим, о швейцаре Иване, дающем любые суммы под бриллианты и золотые вещи. Никитин быстро сбежал по лестнице, поманил пальцем Ивана и отошел в угол вестибюля.
— Вот, — сказал он, вынув часы и отстегивая от жилета массивную цепочку. — Возьмите до завтра… И дайте сто рублей.
Иван кашлянул, оглянулся вокруг и, взяв из рук Никитина часы, подошел к электрической лампочке. Взвесил на руке цепь и, отковырнув толстым кривым ногтем крышки часов, долго и внимательно рассматривал механизм.
— Извините-с… — сказал он почтительным тенорком, возвращаясь к Никитину. — Можно бы и больше-с, но сейчас-то, как на грех, при себе такой суммы не имеется… Рублишек семьдесят наберется…
— Все равно, — решил Никитин, — давайте. — Не считая, зажал в руке засаленные бумажки, наглухо застегнул сюртук и вернулся в карточную.
За средним столом метал Токарский. Тощему адвокату за последние дни повезло и он даже как будто бы пополнел. Воткнул в красный галстук булавку с громадным желтым топазом, стал необыкновенно молчалив и почти не вынимал изо рта вечно дымящейся черной сигары.
Никитин поставил на второе табло весь капитал.
Минуты тянулись бесконечно. Внутренне похолодевший Никитин затаил дыхание и закусил губу.
На втором табло открылось восемь очков. Никитин облегченно вздохнул и впился взором в карты банкомета.
— Девятка, комплект, — процедил Токарский сквозь зубы, вынул изо рта сигару и не спеша собрал все ставки.
Никитин отошел от стола и опустился на первый свободный стул. Ноги его слегка дрожали. Во всем теле он почувствовал неожиданную слабость. На лбу его выступил холодный липкий пот. За минуту до того страшно натянутые нервы теперь упали. Все звуки слились в его ушах в глухой далекий звон. Перед глазами замелькали бесчисленные черные мухи… Он в изнеможении откинулся на спинку стула, закрыл глаза, пошатнулся и тихо, почти без шума соскользнул на пол.
К нему подбежали несколько игроков и два лакея. Подняли, усадили на стул и дали воды.
Игра продолжалась. Тасовавший карты для новой талии Бардымов слегка заинтересовался, привстал и, взглянув на бледного Никитина, пожал плечами.
— Неудивительно, — сказал он, — при здешней вентиляции…
Неожиданно, словно из-под земли, появился Сидоревич, взял Никитина под руку и, с помощью Рассомахина, повел его в комитетскую. Больного уложили на кожаный диван, расстегнули на нем платье, положили на голову холодный компресс и послали в карточную за Штерном.
Отпетый игрок Штерн, бывший когда-то серьезным и талантливым хирургом, давно уже махнул рукой на медицину, забросил практику и теперь все дни спал, а ночи проводил в клубе. Он вошел в комитетскую, недоумевающий и сердитый, только что оторванный от игры, и, не выпуская из руки горсточки золотых, склонился над Никитиным. Пощупал пульс, передвинул зачем-то компресс и задумчиво посмотрел на стоявшего рядом актера.
— Ну, что? — спросил Сидоревич.
Штерн перевел на него глаза и кисло усмехнулся…
— Опять бить начал, — сказал он, — после комплекта взял куш на двойке.
— Что? Да вы про кого? — побагровел Сидоревич. Штерн недоумевающе поднял брови.
— Про Бардымова, конечно. Он мечет.
— Тьфу! — плюнул Сидоревич, хотел выругаться, но сдержался и, махнув рукой, выскочил из комитетской.
Через час приехала Софья Львовна. Уже совершенно оправившийся и лишь слегка бледный и молчаливый Никитин ужинал и пил шампанское. Беседа не вязалась. Сидоревич ругал Штерна, а Рассомахин неожиданно погрузился в меланхолическую задумчивость.
Выбрав момент, Никитин вышел в буфетную и подозвал Никанора:
— Сегодня я платить не буду. Запиши.
— Слушаю-с, не извольте беспокоиться, — осклабился Никанор и, согнувшись крендельком, добавил. — Прикажете и господина Сидоревича?
Никитин взглянул на него с недоумением.
— За ними должок-с… — пояснил Никанор, — Напомнить им не осмелюсь, но если разрешите к вашему счету…
— Э, все равно! Припиши, — Никитин махнул рукой и вернулся в столовую.
Софья Львовна сегодня ухаживала за ним, как нежная сиделка, наливала вино и обмахивала Никитина своим веером.
— Бедненький, — думала она, — нужно его сегодня приласкать на прощанье…
Никитин не представлял для нее уже никакого интереса. Это был выжатый лимон, но Софочка иногда позволяла себе маленькую альтруистическую роскошь. Разошлись против обыкновения рано, в четвертом часу ночи.
Сидоревич, прощаясь, отвел Никитина в сторону и спросил:
— Что это с тобой? Сколько же ты продул сегодня?
— Все, — улыбнулся Никитин. — Я теперь чист.
Сидоревич посмотрел на него круглыми глазами, тихонько свистнул и пошел в карточную.
— А где же ваш автомобиль? — спросила Софья Львовна, когда Никитин помогал ей сесть в извозчичью пролетку.
— В починке, — ответил Александр Викторович и в темноте весенней ночи тихонько вздохнул. Еще третьего дня, утром автомобиль был продан им за полцены и деньги проиграны.
Софочка нежно прижалась к его плечу и шепнула:
— Мы едем к вам. Сегодня я хочу быть вашей сиделкой… Хорошо?
Никитин молча отыскал в муфте и благодарно пожал узенькую теплую ручку…
В восьмом часу утра, — почти не спавший всю ночь Никитин, лохматый и полураздетый, бродил, неслышно, как тень, по мягкому ковру своего номера, курил, вздыхал и морщился.
В голове его крепко сидела новая и, как ему казалось, спасительная мысль: покаяться Софочке, поставить ее в курс своего отчаянного положения и попросить у нее дня на два, на три что-нибудь из подаренных им бриллиантов, ну хотя бы серьги и браслет.
«За серьги в закладе дадут не меньше тысячи, да за браслет рублей восемьсот, — соображал Александр Викторович. — За уплатой Бардымову, швейцару и Никанору, останется еще сумма, на которую, при осторожности, можно будет отбить в два вечера половину всего проигрыша»…
Заглядывал за японские ширмочки, на розовую, свернувшуюся калачиком и сладко похрапывающую Софочку, вспоминал ее вчерашние горячие и, как ему казалось, искренние ласки и отвечал себе: «Согласится. Она хорошая, добрая»…
Отходил к окну, закуривал новую папиросу и снова сомневался.
«Нет, — думал он. — Ни за что не даст».
И снова Никитин шагал из угла в угол.
Солнечные лучи заглянули в окна, скользнули из-под тяжелых малиновых занавесей и засмеялись на зеркалах и позолоте картинных рам.
Отель просыпался. За дверью, по толстому мату коридора забегали лакеи. Где-то задребезжал звонок телефона. В дверь номера постучали.
«Опять телеграмма…» — подумал Никитин, с горькой улыбкой. Подошел к двери, отпер и отшатнулся в ужасе, с широко раскрытыми глазами…
На пороге стояла его жена, Лили, побледневшая и чуть-чуть похудевшая, но радостная, сияющая ласковой и милой улыбкой, протягивала к нему руки и говорила:
— Злой, недобрый!.. Забыл меня совсем. Забросил. Я ждала, ждала и не вытерпела… Гадкий!.. Милый!..
1914 г.
Ночные звоны
I
Никанор Демидович умирал долго и не торопясь. И то сказать, — от больших тысяч, из собственного каменного дома, кому же хочется в сырую могилу? Соседний гробовщик сапоги износил, ходивши и утром, и вечером за справками к дворнику. А все домашние прямо извелись. Третьи сутки лежит, не открывая глаз и бессловесный, пищи и воды не принимает, только хрипит.
Монашенка из подворья, мать Юлиания, давно уже на кухне сидит, пьет чай и закусывает. И узелок с псалтырью и желтыми свечками лежит неподалеку, а кто знает, скоро ли еще он понадобится? Доктор еще вчера поутру сказал, что больной безнадежный, да, ведь, докторам-то поверить, тоже…
Экономка Мироновна которую ночь уже не спит, все думает:
«Хорошо, как не встанет… Хорошо, если это уже конец… А что, если и доктор врет, и гробовщик понапрасну ходит? Все ключи у нее, вчера еще из-под подушки больного достала, все теперь в ее власти, да как бы не было повороту. Помнит она такой же случай: года три тому назад вот так же слег Никанор Демидович, тоже не пил, не ел, и тоже два доктора ездили и рукой махнули, а он через неделю и встал. Похудел, да пожелтел, да еще злющей стал вдвое, только и всего… И полный отчет потребовал, до последней копеечки, и старшего дворника прогнал. Да. Вот и девчонка тоже: сидит у себя, книжку читает, а уши поди навострила, слушает. Как бабы завоют, так она и выскочит, а уже при ней какая же работа. Даром, что тихоня, а знает, где и что… И опять же — наследница…»
Мироновна кривит в усмешку тонкие губы и снова думает и вздыхает так протяжно и громко, что мать Юлиания спешит утешить:
— Никто, как Бог, Его воля… Никто бо не весть ни дня, ни…
— Ладно уже… — перебивает ее Мироновна. — То-то и оно: не весть!.. Вам бы, матушка, спать пора… Ложились бы с Богом, а в случае чего — разбудим. Ваше от вас не уйдет…
Мироновна, сердито хлопнув дверью, выходить из кухни. Едва слышно шуршат по паркету войлочные туфли, и в полутемных комнатах, освещенных одинокими лампадками, медленно движется длинная тень высокой и худой старухи.
У притворенных дверей в спальню Никанора Демидовича Мироновна останавливается и слушает. В груди и горле Никанора Демидовича по-прежнему хрипит и булькает. В щелку двери видна широкая кровать и огромное тучное тело больного, закрытое шерстяным полосатым одеялом. На смятой подушке тускло блестит лысина Никанора Демидовича. Глаза его закрыты, и прямо в потолок уставилась седая, всклокоченная борода и длинный, заострившийся клювом нос.
Смотрит Мироновна на хозяина и слушает хрипы его, словно по ним разгадает она свою загадку: встанет или не встанет?
II
«— Мне страшно… Ваши глаза, маркиз, ослепляют меня своим блеском… Заклинаю вас Мадонной, пощадите меня!
— А вы меня щадили? В вашем сердце нашлась ли хотя капля сострадания?..
— Ах!..
Графиня Эльвира, более бледная, чем ее батистовый пеньюар, в изнеможении падает в глубокое кресло и опускает на глаза длинные шелковые ресницы.
Маркиз одним прыжком эластичного тигра подскакивает к окну, в течение секунды пристально всматривается в ночной мрак и делает рукой быстрый, как молния, знак своим сообщникам. Тяжелые шаги хрустят по гравию и две тени…»
Маленькая керосиновая лампочка под бумажным абажуром гаснет. Сливаются буквы, и путаются строчки романа. Феня трет покрасневшие глаза и сердито дует в стекло лампы. Длинная и узкая, как вагон трамвая, комната теперь освещена лишь маленьким красноватым огоньком лампадки и узенькой полоской света из топящейся в углу круглой печки.
Феня потягивается, зевает и ложится ничком на кровать, уткнувшись носом в подушку и выставив острые локти. Худенькая, узкоплечая девочка, малоподвижная для своих пятнадцати лет, печальна и молчалива, как все в этом доме.
Приподняв голову, Феня смотрит, не мигая, на огонек лампадки и в маленькой голове, под русой жиденькой косой, лениво, как сытые тараканы, ползают скучные мысли:
«Сегодня суббота, значит, завтра можно спать хоть до обеда. Дяденька болен и в церковь не потащит… Утром завтра, как всегда, приедет доктор Миллер. Суровый, длинный, в очках… Брюнет с жесткой бородой с проседью… На кого-то он похож? Если бы не очки, то, пожалуй, на испанского короля Филиппа… Особенно, когда в шубе нараспашку… А дяденька все болеет… Может быть, помрет скоро… Будут читать монашенки, петь панихиды. Народу разного наберется в комнаты, накадят ладаном… Потом повезут на кладбище. Все поедут в каретах… Оттуда к кухмистеру, к тому же, на площадь, где и бабушку поминали. Зима теперь, холодно в могиле-то… „Все там будем“… — говорит мать Юлиания…»
Тихонько скрипнув, распахивается дверь, и в комнату заглядывает кухарка Васса.
— Где ты? Спишь, что ли? Иди ужинать.
Феня повертывается на бок и, подумав, отвечает:
— Не хочу я. Ужинайте без меня…
— Что же ты в потемках-то?
— Керосин весь… Налей, пожалуйста.
Васса берет лампу, вздыхает и ворчит:
— Вот уж ненапасная… Словно ты пьешь керосин-то? Вчера наливала… Ох!.. Спроведала бы дяденьку-то… Плохо ему.
Феня досадливо дергает худым плечом и садится на кровать.
— Что я помогу? Я не доктор.
— Ну, все же ты племянница… Один, ведь, он… Вся родня в тебе.
— Господи!.. — Феня хрустит тоненькими пальчиками. — Оставьте вы меня в покое… На что я нужна? Ведь, дяденька все равно никого не узнает.
— А все же… Люди скажут, что…
Феня вскакивает с кровати.
— Какие люди? Где они? Ты, да мать Юлиания… Да еще эта… крыса, ябеда?
— А ну тебя!.. Ученая больно… Сиди тут…
Васса сердито машет рукой и уходит, шмыгая теплыми валеными сапогами.
Снова скрипит дверь, и снова Феня одна в полумраке. Тоненькая фигурка быстро двигается по комнате между дверью и окном. Злобно кривятся бледные губы Фени. Она кусает их и шепчет:
— Все она! Все — она, ехидна… Некого уже мутить. Некому сплетничать. Лежит уже он, не слышит, так Вассу подсылает… Люди скажут! За собой бы смотрела лучше. Все ли сундуки обшарила? Ябеда, жаба старая, воровка!..
Фене хочется заплакать, мучительно хочется сломать что-нибудь, разбить, завизжать, закричать диким голосом на всю квартиру… Она подбегает к столу, и новенький черный карандаш с треском ломается пополам и летит в угол.
Васса приносит лампу, долго чиркает спичками и зажигает. Потом подходит к печке в углу, кряхтя приседает на корточки и долго ворочает кочергой толстые, ярко-красные поленья. Лицо у Вассы становится малиновым, и поблескивает кончик носа. Феня снова ложится на кровать лицом к стенке.
Васса с минуту молча глядит на узенькую спину Фени, на коричневую ленточку в ее косе и снова вздыхает, колыхая жирной грудью.
— Поела бы чего… Я суп разогрела… Может, яиц отварить? Кто его знает, какой твой жеребий? Помрет если, куда пойдешь? Может, и без куска насидишься…
Феня не отвечает. Вцепилась зубами в подушку и молчит.
— Хорошо, как отпишет тебе в духовной-то… не то, куда сунешься? Жила бы покойница бабушка… О-хо-хо!.. Кто сироте свой? Кто уму-разуму научит?
— Уйди ты, ради Бога!.. — кричит Феня — Что я вам сделала? Господи!..
— Шш… — Васса испуганно машет руками. — Что ты? Сдурела? Дяденька кончается, а ты орешь. Скажи на милость, и слова нельзя молвить… Мамзель какая, нервы у нас… Оставайся, коли так, торчи одна, пока не выгнали на улицу… Тоже!..
Васса фыркает, как жирный сердитый кот, и уходит в кухню.
Феня, сжавшись в комочек, тихонько плачет. В соседней комнате бьют часы, и девять тяжелых ударов звучат громко и протяжно, точно ночью, на пустынной площади.
Наплакавшись до скуки, Феня встает с кровати, садится к столу и подвигает к себе толстую, растрепанную книгу. Узенькая впалая грудь еще вздрагивает, и покрасневшие глаза Фени еще роняют последние слезинки, но вот они уже бегают по черным строчкам и единственный друг ее, — роман безымянного автора, — делает свое дело.
Фени уже нет в этой комнатке, она уже далеко, вместе с бедной Эльвирой, на темной ночной дороге, у стен старого замка…
«…Черный, наглухо закрытый экипаж маркиза, запряженный парой резвых чистокровных коней, мчался, как бешеный, по темной дороге. Косматые тучи закрывали звезды, и ночной ветер, глухо завывая, качал ветвями столетних каштанов. Безмолвный кучер, вооруженный длинным бичом, стегал лошадей, и без того уже летящих точно от погони.
Внутри кареты, на мягких темно-фиолетовых подушках раскинулось безжизненное тело графини Эльвиры. Стройная фигура несчастной женщины казалась белой лилией, смятой и брошенной ураганом жизни.
Эльвира все еще была в обмороке. И, если бы не едва приметные колебания высокой груди, маркиз мог бы подумать, что он везет уже только холодный труп, только прекрасные останки измученной графини. Глаза маркиза пронизывали ночной мрак и, с невыразимой лаской, скользили по прекрасным, мраморным чертам его добычи.
— Эльвира! — шептал он. — Моя теперь, навеки!.. Велика моя вина перед тобой, но и бездонно раскаяние…
А карета, качаясь, как корабль в бурю, мчалась все вперед, вперед… Навстречу весеннему утру, навстречу счастью…»
III
В десятом часу вечера пришел старший приказчик Матвей Григорьевич и принес ключи от лабаза. Низенький сухой старичок, с редкой бороденкой на желтом лице, как всегда передал ключи Мироновне, и прежде, чем затвориться в своей комнатке около кухни, с порога обернулся и, не глядя на экономку, спросил тихо:
— Ну?
Мироновна кашлянула и так же тихо ответила:
— Все то же. Хрипит. Сходи ужо сам-то… Погляди.
— Ладно. Ужо, обогреюсь.
Из кухни выглянула Васса, и Матвей Григорьич весело улыбнулся:
— Чайком бы угостили, Васса Миколавна. Озяб я…
— Пройдите в кухню. Самовар вас дожидается, кипел, кипел…
— Задержался я сегодня. Народишко все… Да и опять же без хозяина…
— То-то… — Васса громко вздохнула. — Плох хозяин-то… По всему видать, не жилец он больше…
— Каркай еще, каркай!.. Глядела бы за самоваром-то… — окрысилась Мироновна и, позванивая ключами, поплыла к больному.
— От слова не станется… — проворчала Васса, а Матвей Григорьич поглядел экономке вослед и лукаво подмигнул Вассе:
— Убивается горемычная… Хи-хи!..
Васса тихонько прыснула и закрыла рот ладонью. Матвей Григорьич ткнул ее в толстый живот указательным пальцем и пошел пить чай.
Сидевшая в кухне около самовара мать Юлиания, при входе Матвея Григорьича встала, отряхнула с груди крошки ситника и поклонилась в пояс.
— А, — кивнул он. — Караулите? Ну, ну… Наливайте, Васса Миколавна.
Две первых чашки он выпил в сосредоточенном молчании, а за третьей обтер ладонью седые усы и прищурился на монашенку.
— Вот-с, теперь у нас пост, и, к тому же, звание ваше иноческое, а вы, матушка, как я ни погляжу, — все чай пьете.
Мать Юлиания смиренно опустила глаза:
— Всяк злак на потребу…
— Всяк ли? Чай-то где растет? В Китае. Китайцы его и солят и собирают, а китайцы — нехристи. Они в Будду веруют. Есть такой, фарфоровый… То-то… Наливайте-ка, Васса Миколавна… Н-да. Погляжу я на вас, матушка, — легкая ваша профессия… Лампадочку затеплить, читей-миней почитать, чайку попить… Не то, что мы, грешные: день-деньской на ногах, да еще и на стуже…
— Каждому свое…
— Свое. Гм… А может, я не хуже вашего сумею по покойникам-то читать… Может, я внутри-то самый покаянный человек? А только, с мальчонок еще не к тому приставлен.
Тонкие губы монашенки кривятся в усмешку:
— А коли так, — вы и шли бы в обитель. Никогда не поздно. О-хо-хо… Пустословие одно. Прости вас Господи!.. Пойду-ка я к болящему…
IV
В спаленке Никанора Демидовича тесно и душно, но светло. Все стены до потолка увешаны образами. Старые темные лики угодников глядят из тяжелых киотов, из-под кованых, золоченых окладов. И перед каждой иконой горит по лампадке. Среди них есть и неугасимые. Наблюдает за ними старая Мироновна, утром и на ночь оправляет их, подливает масла, снимает нагар и кладет перед ними земные поклоны. Ей одной доверил Никанор Демидович свою «часовенку», и нет сюда доступа никому, ни кухарке, ни Фене.
Два старых темно-красных комода прижались в угол около кровати, гордо выпятив свои круглые животы. Один из комодов с секретными замками и с колокольчиками внутри. Весело звенят они, когда выдвигаются глубокие ящики, и весело становится хозяину: доверху набиты ящики разноцветными бумагами, большими и поменьше, то мягкими, то хрустящими. Часто, затворившись в своей «часовенке», Никанор Демидович берет длинные ржавые ножницы и отрезает от бумаг купоны… Синие, зеленые и розовые цветочки на дереве земного благополучия. Собирает он жатву свою, посеянную за долгую жизнь и политую слезами, своими и чужими.
Но, вот, уже вторая неделя идет, как бездействуют ножницы Никанора Демидовича. Лежит он сейчас без движения, длинный и желтый. Еще суровее лицо, еще строже, чем всегда, сдвинуты косматые брови.
Тихо дремлет Никанор Демидович, не хрипит уже, да, кажется, и не дышит. Снится ему последний сон, но уже не расскажет он его поутру старой Мироновне… А та уже стоит на пороге его спаленки, и из-за ее плеча глядят на хозяина острые глазки Матвея Григорьича.
— Кажись, уснул, — шепчет Мироновна.
Матвей Григорьич шагнул вперед, наклонился, над кроватью, послушал, потрогал хозяйскую руку и обернулся к Мироновне:
— Шабаш!.. — сказал он. — Преставился. Царствие небесное…
Трижды перекрестился на иконы, опустился на колени и тихонько стукнул лбом в зеленый коврик у кровати.
— Ну-с? — спросил он, вставая. — Ключи у тебя?
В руке Мироновны тихонько звякнула связка ключей.
— Ладно, — сказал Матвей Григорьич.
— Притвори-ка дверь…
V
Глаза у Фени покраснели и болят, затекла нога, но спать ей не хочется. Книга не пускает. Лизнув указательный палец, Феня переворачивает страницу.
«— Это бесполезно… — сказала графиня. — Клянусь вам, — я никогда не стану вашей… Раньше убью себя!
Маркиз с дьявольской улыбкой пожал плечами.
— Не забывайте, что у меня есть могучий союзник — время. Остынет ваш гнев, высохнут слезы и… ваша молодость и моя безграничная любовь — возьмут свое.
— Никогда!
Грудь Эльвиры высоко вздымается, и в прекрасных глазах ее леденящее презрение…»
Феня отрывается от книги, подымает голову и слушает. Где-то вдали звенят маленькие колокольчики, поют о чем-то серебристыми голосками.
Феня узнаёт их песенку.
«Поздоровел… — соображает она. — Встал, должно быть. Деньги считает… Или… это…»
Под красными веками Фени вспыхивает хитрая догадка, и губы кривятся злой усмешкой.
Феня быстро снимает башмаки и в одних чулках крадется по темным комнатам к спальне Никанора Демидовича, где все еще хохочут маленькие колокольчики, спрятанные в секретном замке пузатого комода.
Поглядев с минутку в замочную скважину, Феня неслышно скользит обратно, затворяется в своей комнатке и, улыбаясь, натягивает башмаки.
— Попалась теперь ведьма!.. — шепчет она. — Ужо! Рассчитаюсь с тобой, погоди! Приедут утром батюшки, после панихиды все расскажу отцу Артамону… Ладно! Запрячут тебя в тюрьму. Узнаешь!..
VI
Стоявшая в углу спальни, склонившись над маленьким сундучком, Мироновна схватывается за голову, вскакивает и спешит к комоду, около которого беспомощно топчется смущенный и испуганный Матвей Григорьич.
— Лезет тоже, не спросясь… Набат поднял… Людей тебе надо? Свидетелей мало? Не совался бы, коли не знаешь… Задави тебя окаянная!.. — шипит Мироновна, возясь с замком комода, захлопывая и выдвигая ящики.
А колокольчики, веселые, малиновые, заливаются…
— Девчонка не спит еще. Дошлая на пакости. Сразу смекнет, а завтра такого наболтает… Останешься доволен. Чёрт!..
— Кто ж его знал? — оправдывается Матвей Григорьич. — Я только руку засунул… А ты должна бы упредить.
Наконец, колокольчики умолкают, Мироновна тихонько отворяет дверь и слушает. Из комнаты Фени доносится шорох, слышны шаги, скрипит стул… Мироновна сжимает кулаки и смотрит в упор на Матвея Григорьича. В круглых зеленоватых глазах старухи животная злоба, страх, почти безумие. На губах пузырится пена.
— Что теперь? — хрипит Мироновна. — Беспременно слышала… Донесет завтра. Как пить дать. Пропали наши головы… Обыскивать станут, куда спрячешь?
— Придушить ее… — предлагает Матвей Григорьич, тихо, чуть шевеля засохшими губами.
— Ну? А потом что? У… Осел старый! Помощничек!.. Ха!..
Мироновну внезапно осеняет блестящая мысль. Старуха шмыгает за двери и, затаив дыхание, крадется по темному коридору. Простоволосая, с всклокоченными седыми космами, худая, длинная, сейчас она похожа на старую злую кошку…
В конце коридора Мироновна пригибается и почти ползет, шаря руками по полу. Чуть слышно звякает чугунная вьюшка печки, и старуха на секунду замирает, прижавшись к стене. Потом поднимает с полу вьюшку, шарит рукой по теплым обоям, находит дверцу и медленно, медленно, ощупью, без единого звука закрывает печную трубу…
В комнатке Матвея Григорьича качается желтый огонь свечки, и по розовым обоям танцуют длинные тени.
Матвей Григорьич сидит на кровати, крепко сжав руки, и, не спуская глаз, смотрит на середину стола, где неровной горкой топорщатся смятые сторублевки, выигрышные билеты и разноцветные акции. Тут же, рядом, искрятся два бриллиантовых кольца, медальон и горсточка золотых монет.
Мироновна сидит у стола, держит на коленях старую енотовую шубу Матвея Григорьича и в распоротую подкладку зашивает пачки бумажек. Кривые, дрожащие пальцы плохо повинуются старухе. Гнется иголка, рвутся нитки…
Дня через три, проводив старого хозяина на кладбище и честь-честью помянув его блинками с киселем, Матвей Григорьич поедет в деревню. Давненько уже не бывал он в родных местах. Да и старым костям пора на отдых. У Матвея Григорьича застужены ноги, ревматизмы одолели, авось на вольном-то воздухе, да на летнем солнышке…
Шьет Мироновна, торопится, а рядом за стенкой, в кухне, спят две праведницы: толстая Васса и мать Юлиания. Крепко уснула Васса и снов никаких не видит. По широкому потному лицу кухарки шмыгают юркие тараканы, ситцевое одеяло сползло на пол, а Васса тихонько похрапывает и до самого утра и не повернется…
Вот у монашенки сон легкий и чуткий. Мать Юлиания часто просыпается, охает. Глядит в темноту и слушает. А чуть задремлет, сны видит. То будто лес шумит, то вдруг бубенцы зазвенят, словно тройки едут. Мать Юлиания кашляет, вздыхает и шепчет молитвы…
VII
«…Медленно тянутся скучные дни, Эльвира по целым часам не отходит от окна своей сказочно богатой темницы. Глядит на старые, покрытые седым мхом, стены замка, на столетние деревья запущенного парка. Всей тоскующей душой, всем страдающим сердцем графиня далеко отсюда, в милом отцовском поместье, где ждет ее бедная мать, проливающая неутешные слезы. Там Эльвира была веселым и беспечным весенним цветком, там родились ее первые мечты о счастье. Увы, они привели ее сюда!..»
У Фени болит и слегка кружится голова. В маленькой комнатке жарко и душно. Девочка глубоко вздыхает, расстегивает пуговки на груди и снова склоняется над книгой:
«По ночам, когда в высокое венецианское окно глядят серебряные звезды, графиня не спит. Неслышно скользит она по пушистому ковру своей тюрьмы и слушает ночные шорохи, завыванья ветра и глухие удары колокола на башенных часах. Эльвира не решается лечь в свою роскошную белоснежную постель. Не смеет смежить утомленные, заплаканные глаза. Графиня чутьем угадывает замыслы дерзкого, ослепленного страстью, маркиза. Кто знает, какие потайные ходы устроены в этом средневековом замке? Стоит только Эльвире уснуть, как без звука откроется секретная дверь, искусно спрятанная за картиной, или зеркалом, и войдет маркиз, безумный от любви, пьяный от страсти, сильный и гибкий, как тигр, не знающий пощады…»
Феня откидывается на спинку стула и сжимает ладонями виски. Книга и лампа тихонько уплывают, и перед глазами Фени мелькают маленькие черные мухи, кружатся в бешеном вальсе и начинают расти… Вот, уже не мухи, а пушистые хлопья странного, темно-серого снега падают с потолка медленно, медленно…
Феня делает над собой усилие, встает и неровной походкой идет к двери. Сердце хочет выскочить из худенькой груди и внезапный припадок мучительной тошноты и слабости подкашивает ноги Фени. Она падает на кровать и лежит, закинув голову, судорожно глотая душный воздух. Потолок комнаты становится розовым, потом зеленым… Потом в потолке открывается маленькая дверца, и входит маркиз. На нем малиновый бархатный камзол. Маркиз улыбается и машет длинным гибким хвостом. Медленно, шаг за шагом он подвигается к Фене и протягивает огромные руки в черных перчатках. Где-то звенят колокольчики, сначала тихо, потом все громче, громче… Кто-то положил на голову Фени большой колокол и бьет в него часто и мерно… Страшные, черные руки маркиза сжимают горло Фени…
1915 г.
В пять утра
I
Надежда Леонтьевна молчала, бледная, с закрытыми глазами.
— Вы безумная мотовка! Разве можно так, без оглядки, тратить свои силы? Играть каждый вечер!.. Что с вами будет к концу сезона?
Вместо ответа Надежда Леонтьевна молча пожала худенькими плечами, закутанными в мех голубой лисицы.
Директор театра сердито повернулся к окну, стал смотреть в широкое стекло автомобиля.
— Я одного не понимаю, — не вытерпел он через минуту. — За что я плачу сумасшедшие деньги этой восковой кукле Волжиной? За весь месяц она выступала один раз и то лишь потому, что вы застряли в поезде. Помните?
— Помню, — улыбнулась Надежда Леонтьевна. — Еще бы я забыла! Я храню вырезки. Помню и восторги этого из «Отголосков»… Как же! «Вчера был дебют новой жемчужины труппы… Поздравляем дирекцию!.. Налицо все задатки крупного дарования, очаровательная внешность»… Ха!.. Помню!
— О-хо-хо!.. — вздохнул директор. — Подумаешь, рецензент из «Отголосков»!.. Кто их читает? Только мы, несчастные.
Он нагнулся и взглянул на маленькие часики, вделанные в стенку автомобиля.
— Так… Второго половина. А завтра репетиция.
— Вам-то что? Спите до вечера.
— Гм… Может быть мне и в контору не заглядывать? Передать вам и кассу, и контракты, и все? Оно бы кстати. И так уже в вашем распоряжении и труппа, и репертуар…
— Репертуар! Второй месяц ни одной новинки.
— А кто же тому причиной? Вы бракуете все пьесы… Да еще и читаете их по неделям. Авторы ходят, ходят… Смотреть жалко! Взять к примеру, хотя бы, эту… Как она? «Крылья Икара». Чем не драма? И рольки есть отличные и вообще, на мой взгляд, пьеска — хоть куда! С настроением и все такое… Кто ее знает? А вдруг — боевик? А вы ее забраковать изволили… Вчера автор был, молодой такой, веселый. Я ему возвращаю пьеску, а он смеется: «Ничего, — говорит. — Я терпеливый, лет через десять куда-нибудь пристрою»… Ха-ха-ха!..
— Ах, эти авторы!.. — морщится Надежда Леонтьевна. — О чем они думают, когда пишут свои пьесы? Хотят удивить мир! Гениальные головы и в каждой по дюжине откровений! Небо у них поет, волны — грустят. Герой не говорит, а вещает, как Заратустра, героиня непременно под семью покрывалами и, вместо монолога, должна плясать под звуки «marche funebre» и притом еще ее спина выражает «всю скорбь одинокой души»… Бр!.. Чего только нет в их несчастных тетрадках? И Бог, и Антихрист, и космос!.. А сцены не знает ни один из них. Судите сами. Вчера еще я видела такую ремарку: «Елена сидит с ногами в углу на розовой кушетке и играет своими косами. На ней — бледно-голубой дорожный костюм»… Каково? Боже мой! Откуда они? Где они живут, эти сочинители?
Автомобиль замедляет ход и сидящий за рулем огромный мохнатый медведь яростно нажимает на грушу сирены.
Надежда Леонтьевна хватается за виски.
— Что там еще? И так уже сегодня мы еле ползем…
— Туман! — успокаивает директор. — Эх, а как же в старину-то? Знаменитую актрису Лекуврер в портшезе носили…
— Положим, что этого не было. Путаете, как всегда.
Автомобиль останавливается у подъезда громадного пятиэтажного дома.
— Приехали! — говорит директор. — Подождите, я еще, за ужином, поспорю с вами…
— Не придется, — обрывает Надежда Леонтьевна. — Я ужинать не буду. Так устала… Прямо в постель.
— Вот-те на!.. А я, признаться, думал…
— Напрасно! И не выходите. Я одна поднимусь. Каждый раз, как я с вами в лифте, — у меня сердце неспокойно… Bonne nuit!
II
Надежда Леонтьевна, как всегда, заснула сразу, глубоким сном без сновидений. У нее здоровые нервы. Знатоки театра говорят, что это — минус артистки. Но Надежда Леонтьевна и сама избегает сильно драматические роли; ее амплуа — «гранд-кокет».
В белой спальне темно и тихо. Погашена даже маленькая лампочка под желтым шелковым абажуром. Надежда Леонтьевна дает ночью полный отдых своим глазам, вечно утомленным огнями рампы. На ее постели, на голубом одеяле, спит, свернувшись в пушистый и мягкий комочек, белая ангорская кошка «Муська».
В столовой бьют стенные часы и в белую спальню доносятся пять негромких мелодичных ударов. Из-за низенькой японской ширмочки поднимается чья-то смутная тень и чуть слышный шорох долетает до слуха «Муськи». Она поднимает голову и смотрит в угол. И на постели Надежды Леонтьевны вспыхивают два земных фосфорических огонька.
Чья-то темная рука тянется к стене и скользит по обоям. «Муська» приготовилась к прыжку, прижала уши и замерла и только нервно вздрагивает ее длинный пушистый хвост. Темная рука на стене скользит все ближе и ближе и неожиданно встречает препятствие. Высокий столик на трех ножках качнулся два раза и упал, увлекая за собой хрустальную вазочку и тяжелую бронзовую пепельницу. «Муська» фыркнула и спряталась под кровать…
Надежда Леонтьевна проснулась.
— Кто здесь? — спросила она, поднимая голову и вглядываясь в темноту.
Никто не ответил. В белой спальне по-прежнему темно и тихо и только «Муська», услышав голос хозяйки, мяукнула протяжно и жалобно.
Надежда Леонтьевна приподнялась на подушках, послушала с минуту глухие и тяжелые удары своего сердца и привычным движением руки повернула выключатель. Под потолком вспыхнули матовые лампочки.
Надежда Леонтьевна оглянулась и, вскрикнув, откинулась на подушки. Дыхание остановилось в ее груди и красивые, темно-серые глаза актрисы, с безмолвным ужасом уставились на высокого человека, неподвижно стоявшего в трех шагах от постели.
— Тсс… ни звука! — предупредил он и вытянул правую руку, вооруженную револьвером. — И не вздумайте звонить! Как видите, я достаточно вооружен, чтобы заодно с вами убить и вашу служанку.
Ночной гость оглянулся вокруг и спрятал револьвер в карман пальто.
— Поверьте, я не собирался вас будить… — сказал он с неожиданной улыбкой. — Я только искал выключатель и впотьмах зацепил за эту финтифлюшку… Спокойствие, madame! Вашей жизни и вашему здоровью ничто не угрожает, если, повторяю, вы будете благоразумны. А пока будьте добры указать мне: где ваши ключи от этого бюро, да заодно и от шкафа?
— Там… В сумочке… — пролепетала Надежда Леонтьевна, едва шевеля пересохшими губами и указывая взором на кресло.
— Меrci! — сказал вор, вынул ключи и подошел к бюро. — Я, конечно, предпочитаю наличные… I’argent comptant — это мечта каждого из нас, но, знаете? И в бриллиантах есть своя красота. Так вы уже разрешите мне захватить с собой и то, и другое…
Он отпер бюро и стал рыться в ящиках.
— Я боюсь напрасно задержать вас… Может быть, вы согласитесь помочь мне? Быть моим гидом в поисках золотого руна? Скажите, в котором ящике деньги?
«Господи! Он еще издевается…» — подумала Надежда Леонтьевна, но покорным и дрожащим голосом ответила:
— В верхнем, с левой стороны.
— Так… Благодарю вас! — сказал вор, пряча в карман изящный, темно-синий портфельчик с золотыми монограммами.
— А бриллианты и прочее?
— В среднем ящике… Черная шкатулка.
— Гм… Так. Ого! — воскликнул он. — Да вы, если не королева, то принцесса бриллиантов! Раз, два, три… Какой солитер!..
Он повернулся и поднял к свету руку с крупным камнем.
— Вот, что называется: талант артистки в кристаллизованном виде! Взгляните: он ослепляет, в нем все лучи, он играет так же… как вы на сцене!
Сердце Надежды Леонтьевны сдавила мучительная жалость к дорогим, любимым вещам, красивые глаза наполнились слезами, но бледные губы «гранд-кокет» улыбнулись, и она спросила:
— А вы меня видели?
— О!.. Много раз! Еще на днях я до боли отхлопал ладоши, испортил свой баритон, вызывая вас, и бросил к вашим ногам прелестную розу, купленную за последние тридцать копеек…
Вор снова нагнулся над шкатулкой.
— Гм… Браслеты и кольца… медальон, а в нем, конечно, портрет? Ну, я его вынимаю, вот!.. Для вас он — реликвия сердца, а для меня — только лишняя улика… Гм… Я очень жалею, что не могу захватить с собой и эту великолепную шкатулку. Я так люблю старинные вещи, но она не войдет ни в один из моих карманов. С вашего разрешения, я возьму этот платок и завяжу в него всю эту роскошь и красоту, так же, как старушка богомолка завязывает свои медяки. Вот, готово!
Пока он болтал, завязывая украденные вещи, Надежда Леонтьевна, повернув тихонько голову, рассматривала своего ночного гостя.
«Какой худой и желтый… Должно быть, только что убежал из тюрьмы, — решила она. — Господи! Хотя бы уже уходил скорей… Надо запомнить все: нос с горбинкой, глаза?.. Кажется, серые… Шатен, высокий, черное пальто с барашком, серые брюки… Боже мой! Если бы можно было сейчас же… по телефону, в полицию»…
Точно угадав ее мысли, вор обернулся с веселой улыбкой:
— Вы, конечно, находите, что мой ночной визит затянулся и только любезность хозяйки мешает вам указать на двери.
Он вынул из кармана черные часы.
— К сожалению, — вздохнул он, — я еще должен воспользоваться вашим гостеприимством. Мне еще рано. Я вижу на вашем столике папиросы, вы разрешите мне?
— Пожалуйста! — сказала Надежда Леонтьевна и невольно улыбнулась. Очень уже комичным и диким показался ей весь этот разговор с бродягой-вором, ночью, лежа в постели.
Вор закурил папиросу и, задумчиво опустив голову, прошелся два раза мимо кровати, бесшумно ступая по мягкому, серебристо-серому ковру.
— О!.. — воскликнул он, останавливаясь и смотря в угол. — Какая у вас кошка! Очаровательная, белая и пушистая, точно снежный комочек… Киска!
Вор подошел к «Муське» и взял ее на руки.
— Славная киска! Хочешь к хозяйке, в теплую постельку? Гоп! — он положил кошку на одеяло. — Спи здесь. Вот!.. Она уже мурлычет. Как это мило, что у вас только эта киска… С собаками у нас обыкновенно испорчены отношения.
— В прошлом году у меня был сенбернар, — вздохнула Надежда Леонтьевна.
— Я очень рад, что его уже нет, — засмеялся вор.
— Ну, — сказал он, садясь в кресло рядом с кроватью. — О чем бы нам побеседовать на прощанье? Представьте: меня ждут мои сообщники… с минуты на минуту сюда могут войти ваша горничная, или, может быть, даже у вас есть лакей, наконец, мало ли кто? И тогда мне придется пустить в ход свои игрушки: револьвер и нож и… Да, оставаясь здесь, я рискую свободой, быть может, — жизнью, но… Мне не хочется уходить отсюда. У вас здесь так хорошо, уютно. Так много вкуса вложено в каждый уголок этой комнаты… Вы не жалели ни денег, ни забот и как я вас понимаю! Будуар артистки — это студия художника. Здесь она, наедине со своим зеркалом, творит образы, изучает каждый жесть своих рук, каждую линию тела. Сотни раз повторяет одно и то же слово, добиваясь нужной интонации. Часами смотрит на свое лицо, на игру глаз, на секрет своей улыбки, то нежной, то страстной, то полной иронии… Вот, как ваша в эту минуту.
Он умолк и, нагнувшись к «Муське», пощекотал ее за ушами.
— Да, — продолжал он, задумчиво улыбаясь, — здесь женщина ведет счет своим первым морщинкам, первым седым волосам, здесь она плачет тихонько над уходящим летом жизни и здесь же постигает искусство борьбы со своим страшным врагом — временем, забывая, что и осень бывает по-новому красива, что и у нее есть свои чары… Да, только после долгой работы здесь в этой студии, можно бесстрашно подставить себя под огни рампы и с иллюзией правды повторить на сцене ложь искусственных модуляций и рассчитанных жестов, всю ложь, сфабрикованную в этой комнате.
Вор закурил папиросу и покачал головой.
— А все-таки мне придется уйти отсюда и я унесу с собой ваши деньги и драгоценности, и воспоминание об этой ночи, и, пожалуй, кусочек счастья… Ах, не смейтесь над этим словом! Вы знаете, что в театре жизни счастлив только тот, кто уходящему часу хотел бы крикнуть: «bis!»
Он замолчал и, опустив голову, смотрел на рисунок ковра.
— Кто вы?.. — спросила Надежда Леонтьевна и сама улыбнулась наивности вопроса. Он поднял голову.
— Кто я? Разве вы еще не догадались? Я — ночной вор грабитель… К сожалению, в нашем кругу не принято иметь при себе визитные карточки.
— Могу я вас просить? — сказала Надежда Леонтьевна. — Дайте мне воды.
Вор встал и, налив воду из графина, подал актрисе.
— Меrci! — сказала Надежда Леонтьевна и, высвободив из-под одеяла руку, взяла стакан.
Пока она пила, вор молча любовался ее рукой тонкой и белой, такой красивой на голубом атласе одеяла.
— Как это все необыкновенно, — произнес он, снова опускаясь в кресло. — Сегодня, этой ночью, вы всецело в моей власти и она безгранична. Я не ошибусь, предполагая, что еще никогда ни один мужчина не обладал такой властью над вами. Один призрак опасности, мимолетный каприз, или игра слишком натянутых нервов и — я вас убиваю. И заметьте, в моем распоряжении несколько вариантов драмы: я могу выстрелить в вашу золотистую головку, вот сюда, повыше уха… Могу заколоть вас кинжалом, одним ударом в сердце, в маленькое испуганное сердце и, наконец, могу вас задушить, стиснув вот этими руками вашу тонкую белую шею. И завтра утром найдут вас здесь бездыханную, безмолвную и правдивую, как Дездемона, убитая рукой Отелло. И все станут подозревать романическую историю… Ха-ха! И только пропавшие деньги и бриллианты откроют им, что ваш благородный мавр был также и вором. А между тем, — продолжал он, улыбаясь, — я готов вернуть вам ваш браслет, вот этот с сапфирами, прелестный браслет, лишь за то, чтобы вы позволили мне застегнуть его на вашей руке и поцеловать ваши пальцы. Можно?
В голове Надежды Леонтьевны мелькнула новая страшная догадка: «Сумасшедший!..» — и снова сердце и горло ее сдавил холодный ужас. «Господи, что же мне делать?..» — взмолилась она и, незаметно, под одеялом, перекрестив грудь, испуганно заглянула в глаза вора, но не прочла в них ничего, кроме веселого вопроса.
— Можно… — ответила она, протягивая руку.
Вор встал на одно колено, застегнул браслет и склонился к ее руке с коротким, почтительным поцелуем.
Затем он снова занял свое место и полузакрыл глаза.
— Гм… — произнес он тихо. — Признайтесь, вас очень удивляет мое поведение? Вы тщетно стараетесь понять: отчего я не ухожу?
— Да, — ответила Надежда Леонтьевна.
— Гм… Всему виной — ваш швейцар, аккуратный и богомольный старикашка. Ровно в семь он отпирает парадную дверь и принимается за уборку лестницы. Начинает, конечно, сверху, с пятого этажа. Я могу выйти отсюда только в этот момент. Понимаете? Когда дверь уже отперта, а ваш верный страж еще наверху… Не могу же я компрометировать даму!..
Он засмеялся и встал.
— Теперь уже недолго… — утешил он, взглянув на часы. — Скажите, — спросил он, хлопнув себя по боковому карману. — Сколько здесь, в вашем портфеле?
— Больше тысячи!.. — вздохнула Надежда Леонтьевна.
— Ого! Вместе с бриллиантами это составит кругленькую сумму. Н-да… Завтра я уже буду далеко отсюда и — кто знает? Может быть, с вашими деньгами я захочу… Как это говорится: «встать на путь долга и начать жизнь честного труженика»… Ха-ха!..
Вор подошел к зеркалу, оправил галстук, смахнул пыль с рукава пальто и повернулся к Надежде Леонтьевне.
— А, все-таки, сознайтесь, — сказал он, — вы не очень скучали? В моем визите была для вас и доза романтики, и жуткие миги, и красота ночной баллады… Словом, все!..
Надежда Леонтьевна снова почувствовала прилив храбрости.
— И даже мораль? — спросила она с великолепной интонацией иронии.
— Ах! — поморщился он. — Мораль вообще — досадный прыщик на божественно чистом лице красоты… А в нашей басенке — мораль одна: спальню каждой принцессы бриллиантов должен охранять или апаш, или сенбернар. Addio, signora!
Поклонившись и застегивая на ходу пальто, вор пошел к двери, но, проходя мимо постели актрисы, он неожиданно остановился.
— У меня есть одна просьба, — произнес он тихо и нерешительно. — Если бы вы согласились исполнить ее, то… я готов вернуть вам все, и ваши деньги, и бриллианты, и уйти отсюда таким же бедным, каким я вошел…
— Говорите! — вспыхнула Надежда Леонтьевна. — Все, что я в силах… Боже мой! Да я клянусь вам всем, что есть святого…
— Тсс!.. — остановил он, поднимая руку. — Клятвы женщины… Что может быть искренней? Их произносит само сердце с тем, чтобы на завтра выбросить из памяти. Нет, пусть это будет только вашим капризом. Вот, я отдаю вам все…
Вор расстегнул пальто и, вынув из кармана портфель и узелок с вещами, положил их на постель Надежды Леонтьевны.
— Я должен покаяться, — сказал он. — Я — самозванец. Я присвоил себе бесправно чужое имя, гордое имя вора. Увы! Я — только автор, бедный автор без имени, без друзей — и вот моя пьеса…
Он снова полез в карман и, вынув толстую тетрадку, положил ее рядом с портфелем и узелком.
— Да!.. — сказал он, отвечая улыбкой на безмолвный вопрос темно-серых глаз актрисы. — «Крылья Икара», в четырех актах… Судьба пьесы в ваших руках… Возьмите ее! Зажгите для нее огни вашего театра и вдохните жизнь в мою героиню!..
Он опустил голову в почтительном поклоне, повернулся и вышел, быстро и бесшумно исчез за дверью белой спальни.
1916 г.
Девушка, потерявшая сердце
I
В пятницу утром молодой, уже известный, но еще талантливый автор «Необыкновенных рассказов» Чарльз Тикстон, как всегда, работал в своем кабинете.
Только что выбритый, пахнущий мылом и одеколоном, одетый в неизменный черный жакет, Тикстон стоял перед высокой конторкой, положив на нее локти и слегка кекуокируя ногами. Такова была его обычная манера «творить».
Когда Чарльз садился в черное кожаное кресло, за огромный письменный стол, — это всегда отражалось на его рассказах: юмор таял, как сливочное мороженое в июле, на дне души появлялась сладковатая грусть и мысли двигались тяжело и нудно. В такие минуты взор Тикстона становился даже печальным, и бедный автор кончал тем, что бросал перо, с грохотом отодвигал свое мягкое, уютное кресло и торопился на улицу. Чарльз Тикстон более всего на свете боялся двух вещей: мистики и меланхолии.
Итак, в пятницу утром перед дверью загородного домика Тикстона остановился шоколадный автомобиль. Шофер-негр с лицом и руками того же, темно-шоколадного, цвета раздвинул в широкую улыбку пурпурные губы и заглянул сквозь стекло вовнутрь автомобиля.
Дремавший на эластичных шоколадных подушках мистер Картинг, один из восьми секретарей сахарного короля Томаса Гудля, открыл сначала глаза, потом дверцу автомобиля и, высунув голову, спросил:
— Здесь?
— Да, сэр, — ответил шофер и, снова улыбнувшись, показал два ряда крупных жемчужин.
Картинг вышел из автомобиля, поднялся на крыльцо маленького домика, и указательный палец его, в коричневой лайке перчатки, крепко придавил белую кнопку звонка.
II
Секретарь мистера Гудля сидел на диване Тикстона, поставив рядом с собой сверкающий цилиндр, и молча смотрел на писателя.
Тикстон, по-прежнему стоявший у своей конторки, аккуратно взрезал запечатанный конверт и вынул из него письмо сахарного короля. Письмо было кратким и сухим, настоящее письмо человека, которого считают в полумиллиарде долларов:
«Томас Гудль просит мистера Тикстона немедленно приехать к нему для беседы по важному делу».
Первым движением Тикстона была радостная улыбка, но губы его остались неподвижны. Затем, в правой ноге писателя появилось мучительное желание сделать необыкновенное «па» еще никем невиданного танца, но Тикстон справился и с этим. Вот, с мыслями, завертевшимися под безукоризненным пробором, было труднее: «Его зовет сам Гудль!.. Мистер Гудль не привык ждать… Важное дело… Гм… В Америке нет дела без гонорара. Скорей! Живо в дорогу! Гоп!..»
Но Чарльз Тикстон не мог бы считаться спортсменом, если бы не владел также и тормозом. Через две секунды он был уже спокоен. Сложил письмо сахарного короля, подвинул к себе листик почтовой бумаги и не спеша вывел на нем своим четким, слегка кривым почерком: «Прошу извинить. Меня задерживает дело первостепенной важности: неоконченная страница рассказа: „Фиолетовая корова“. Чарльз Тикстон».
Заклеив конверт, Тикстон подал его Картингу.
— Вот, — сказал он, — мой ответ мистеру Гудлю.
Личный секретарь сахарного короля встал и, взяв в одну руку письмо Тикстона, а в другую свой цилиндр, внимательно заглянул в темно-серые глаза писателя:
— Если я не ошибаюсь, мистер Гудль ждет вас?
— Вы не ошибаетесь, — ответил Тикстон и, весело кивнув Картингу, склонился над рукописью «Фиолетовой коровы».
Картинг вышел. Шоколадный шофер стиснул гуттаперчевую грушу и в тихой зеленой уличке раздался рев тигра — сирены, изготовленной по особому заказу мистера Гудля.
III
Неоконченная страница рассказа так и осталась неоконченной.
Тикстон выкурил две сигары, бродил в течение часа по своему садику, по узеньким, кривым дорожкам, таким же желтым, как усеявшие их осенние листья, и думал обо всем на свете, только не о своей работе.
Да, Чарльз Тикстон — уже известность. Две книжки его рассказов, в которых неумеренная фантазия автора вечно воюет с веселой иронией, лежат на окнах нью-йоркских магазинов, и растрепанные, замусоленные страницы их ежедневно переворачиваются в бесплатных читальнях, Тикстона знают уже и по ту сторону океана. Переводы «Необыкновенных рассказов» изданы в Лондоне, Москве и еще где-то в Японии.
Но Тикстон не сыт, ох, далеко не сыт от своей «литературы». Не будь у Чарльза отцовского домика на клочке земли за городской чертой, ему пришлось бы вспорхнуть к небесам, в тесную конурку на двадцатом этаже какого-нибудь небоскреба-муравейника.
Мог ли Тикстон сегодня утром позволить себе такую юношескую выходку? Конечно, он знает, что всегда полезно «попридержать товар», но… Дело Томаса Гудля — верней всего — только тысяча первая прихоть скучающего миллиардера, о которой он уже забыл раньше, чем маленький бедняк Тикстон успел так «гордо отказать»… Ха! Красивый жест! Кто видел его? Чьи ладони наградят его аплодисментами? Что же? — лет через пятнадцать-двадцать, когда Тикстон распродаст в розницу, за гроши, весь скромный запас своего таланта, своей выдумки и энергии и когда катар желудка в компании с малокровием уложат Чарльза на дно могилы пятнадцатого разряда, а критики туземные и с того берега установят точную биржевую котировку «безвременно угасшего таланта», — тогда с королем сахара Томасом Гудлем баловница судьба сыграет еще один необыкновенный случай: мистер Гудль окажется владельцем автографа знаменитости, удивительного, небывалого, единственного из всей громадной коллекции, — автографа, который достался миллиардеру совершенно даром!
А между тем… Забавно было бы взглянуть поближе на одного из этих королей. Подышать воздухом палаццо на пятом авеню…
Чарльзу вспомнились рассказы его няньки старухи индианки о чудесной жизни в этих домах. По ее словам, там все, сплошь, было из золота: столы, кровати, даже стены… Полы там моют шампанским, лошадей кормят спаржей и ананасами… Ух!..
Тикстон весело рассмеялся и пошел обедать. Под ногами писателя шуршали листья… Тишину осеннего вечера, полную тонкой красивой грусти, неожиданно прорвал знакомый уже Чарльзу бешеный рев тигра. Писатель быстро обернулся и на темной дороге увидел два нестерпимо ярких оранжевых глаза.
Через минуту огромный, длинный, как вагон, шоколадный, казавшийся теперь в сумерках черным, автомобиль Томаса Гудля во второй раз остановился перед домом Тикстона. Писатель негромко, но весело свистнул и отпер дверь.
IV
«Так вот он какой…» — думал Тикстон, рассматривая мистера Гудля, сидевшего на диване, на том же месте, где утром сидел его секретарь.
Вероятно, это же самое думал и Томас Гудль, поглядывая на писателя. Оба молчали. Картинг был тут же, на этот раз скромно поместившись сбоку, на стуле у дверей.
Сахарный король еще не казался стариком. Черный и длинный, как его сигара, сухой и тонкий, как спичка, и совсем не похож на свои портреты, помещенные в нью-йоркских журналах.
Из троих молчаливых джентльменов, сидевших в кабинете автора «Необыкновенных рассказов», — сахарный король был первым, кому наскучило безмолвие. Он шевельнул большим пальцем левой руки в сторону своего секретаря и сказал:
— Объясните!
Картинг облизнул сухи я губы и повернулся к писателю.
— Дело мистера Гудля, — начал он, — следующее: во вторник будущей недели мистер Гудль дает свой обычный осенний вечер. Между другими номерами программы концерта уже получено согласие от певца Карузо, королевы танго и пианиста Падеревского, но мистер Гудль на этот раз желал бы предложить своим гостям что-нибудь новое, иначе говоря, еще никому неизвестное…
Тикстон слушал внимательно, переводя взгляд с миллиардера на его секретаря и обратно. Он уже угадал, в чем заключалось «важное дело» мистера Гудля, и решил «не продешевить».
«Что же? — думал он, внутренне посмеиваясь над собой. — Читал же Вольтер у прусского короля Фридриха. Это уже не его, Тикстона, вина, что в Америке нет других королей, кроме сахарных, медных и керосиновых»…
— Так вот, — продолжал Картинг, — мистеру Гудлю пришла мысль пригласить вас… выступить на его вечере…
— Гм… — произнес Тикстон.
Большой палец мистера Гудля шевельнулся вторично, и Картинг привстал со стула.
— Я еще не кончил, — поспешно сказал он, — мистер Гудль, конечно, предлагает вам самому назначить цену… размер вашего гонорара, но со своей стороны ставит следующие условия: вы прочтете свой новый небольшой рассказ, сюжет которого неизвестен никому, кроме вас, автора, и кроме того даете письменное обязательство уничтожить все черновики рассказа, а единственный экземпляр рукописи, после концерта, передать мистеру Гудлю для хранения в его доме в несгораемом шкафу в течение двадцати лет, считая со дня концерта.
— Гм… А потом? — спросил Тикстон.
— Потом, по истечении этого срока, рукопись возвращается автору, или его наследникам, и они могут ее печатать, вообще поступить по своему усмотрению.
Картинг умолк. В маленьком кабинетике писателя снова наступила тишина, но на этот раз первым нарушил ее Тикстон.
— Я согласен, — сказал он.
— Ваша цена? — спросил Картинг.
— Десять тысяч долларов.
Секретарь молча взглянул на своего патрона. Гладковыбритый, острый подбородок Томаса Гудля качнулся сверху вниз.
Картинг встал и вынул из кармана бумагу.
— Это договор, — сказал он, кладя бумагу на конторку Тикстона рядом с рукописью «Фиолетовой коровы».
Тикстон подписал. Томас Гудль кивнул ему головой и длинные тонкие ноги аиста шагнули к дверям.
— Одну минуту… — остановил его Тикстон и с веселой, откровенной улыбкой заглянул в глаза сахарного короля. — Если не секрет, зачем это? — и рукой, все еще вооруженной пером, Чарльз указал на договор, который Картинг, тщательно сложив, прятал в карман.
Несколько секунд Томас Гудль молча смотрел в смеющиеся глаза писателя, и тонкие губы его чуть тронула легкая улыбка.
Миллиардер повернулся к Картингу.
— Когда я должен быть в посольстве?
— Ровно в восемь, — ответил секретарь, вынимая часы.
— У нас есть еще восемнадцать минут, — сказал Гудль и снова сел на диван.
— Видите ли, мистер Тикстон, — произнес он скрипучим голосом, показывая два передних золотых зуба, — вы, писатели, любите говорить о заветах, идеалах, о вашем вдохновении, о служении народу, но еще больше любите гонорар. Гонорар — деньги. Ваши писанья, стихи, рассказы — товар. И, значит, ваше занятие тоже — дело. А я уже давно заметил, что в вашем деле не все в порядке. Вдохновение должно быть самым дорогим товаром на свете. Искусство должно быть самой дорогой игрушкой. Это — истина, и я должен признать, что живописцы и музыканты начинают уже ее усваивать. Но вы, литераторы…
Мистер Гудль сделал краткую паузу, чтобы выпустить изо рта серое облако дыма.
— Ваш шофер…
— У меня его нет, — сказал Тикстон.
— Все равно, — мой шофер никогда в жизни не повесит у себя моего Ван-Дика, моего Мейссонье и он должен истратить свой недельный доход, чтобы послушать Карузо, но любой поденщик может за один доллар купить и прочесть вашу книгу. Да и вашу ли только?.. Если не ошибаюсь, томик Шекспира стоит еще дешевле. Скажите, какое же удовольствие мне и моим гостям слушать рассказы хотя бы самого мистера Твена, если завтра же они станут известны всем? Понимаете? Всем, у кого хватит денег на газету… Я ваших книг не покупаю, мои друзья — тоже, но после моего вечера они могут сказать, что слышали рассказ Чарльза Тикстона, — такой рассказ, который, кроме них, никто не услышит и не прочтет. Это — монополия, и я за нее плачу. Понятно?
— Вполне, — сказал Тикстон.
Когда автомобиль Томаса Гудля скрылся за поворотом дороги, Тикстон запер дверь и в тихом раздумье вернулся в кабинет. Распахнул окно, чтобы выпустить дым, поглядел в темный сад и, словно обращаясь к кому-то невидимому, громко произнес:
— Десять тысяч… Гм… Хотел бы я знать: почему я не спросил пятнадцать?
V
У Чарльза Тикстона был один неисправимый порок: он не был чистокровным янки. Мать Чарльза была полька и в его жилах текло пятьдесят процентов славянской крови. Это — иногда приносило пользу поэту, но чаще вредило гражданину Северо-Американских Штатов.
От своей матери, которую Чарльз потерял еще десятилетним школьником, он унаследовал, казалось, немного: только серые глаза мечтателя, да еще истрепанную тетрадку шопеновских ноктюрнов. Но тихие ночи, проведенные им с пером в руке, могли бы рассказать о сожженных страницах стихов и о грустной лирике рассказов, никогда не бывавших в руках наборщика.
Соглашаясь на предложение мистера Гудля, Тикстон тогда же вспомнил о своих «залежах» на дне старого чемодана. Конечно, он и не подумает писать новый рассказ, ломать голову над сюжетом, понукать свою фантазию, для того лишь, чтобы пощекотать уши полусонных гостей сахарного короля. Достаточно сделать маленькую раскопку и извлечь на свет божий одну из желтых тетрадок, когда-то казавшихся такими драгоценными.
На следующее утро после визита миллиардера, Тикстон проснулся в великолепном настроении человека, которому улыбнулась судьба, и, наскоро позавтракав, вытащил на середину кабинета свой старый чемодан. На этот раз Чарльзу пригодился его огромный стол. Одна за другой ложились на него забытые рукописи, толстые и потоньше, запыленные и пожелтевшие, как осенние листья.
Вот поэма о тайне мирозданья в тысячу с лишним стихов… Вот толстый роман в жанре Диккенса с добрыми старичками и трудолюбивыми юношами… Стихи, посвященные «ей» — воображаемой богине жадного сердца… Стихи, посвященные «ему», борцу за свободу — Аврааму Линкольну… Пьеска в стихах из эпохи Борджиа… А вот, наконец, и то, что он ищет: коротенькая сказочка о девушке, потерявшей сердце.
Бедная сказочка, наивная, юная простушка, как долго ты была в пыли, забытой, никому ненужной!.. Решено: Чарльз займется ею. Причешет ее непослушные кудри, вплетет в ее темные косы яркие блестки остроумия, оденет ее в тонкое воздушное платьице из символики и минутных настроений и познакомит с королями и королевами на вечере мистера Гудля.
VI
— Здравствуй, Мод! Садись и помолчи минут двадцать, максимум — полчаса.
Не отходя от конторки, Тикстон кивнул головой своей гостье, и снова перо его заскрипело на последней странице сказочки.
Кузина Чарльза молча сняла шляпу и перчатки и, усевшись в уголок дивана, склонилась над принесенной газетой.
Так же, как и Чарльз, — Мод — сирота. Но черноволосая и черноглазая, с тонким станом и ухватками мальчугана, — Мод американка без примеси, вся от узла своих кос до желтых ботинок из толстой кожи.
Мод еще недавно мечтала быть доктором медицины, но микроскопическое наследство, оставленное ей отцом, растаяло раньше, чем получился диплом, и Мод взялась за работу. Теперь она секретарь редакции, стенографистка и корректор нью-йоркской газетки «Вечернее Эхо».
По воскресеньям Мод свободна и навещает Тикстона. Ей нравятся веселые шутки кузена, его маленький домик, чистые, кривые дорожки сада…
Мод любит изредка сунуть нос в хозяйство Чарльза. Отыскать в углу паутину, или брошенный окурок сигары и поворчать на его служанку.
Иногда, когда Чарльз работает, Мод выходит в сад, рвет осенние цветы и, сидя на ступеньках крыльца, подолгу смотрит на розовеющее вечернее небо и на первые, чуть заметные звезды… Тогда Мод тихонько напевает невеселую песенку без слов и черные глаза ее о чем-то спрашивают…
Но это случается редко. Недаром Чарльз, смеясь, зовет ее «патентованным метрономом» и все грозит, что свезет ее в Рим и выдаст замуж за художника-богему.
Неизвестно, что стала бы делать Мод под солнцем Италии; но в Лондоне она маршировала бы в ногу с суфражистками, а в России — мерзла бы в затерянном поселке Нарымского края.
— Готово. Точка!
Тикстон бросает перо и садится рядом с кузиной.
— Рассказывай! Что у вас? Я уже третий день не показываюсь в городе.
Мод кладет ему на колени газету.
— Прочти-ка это… — и длинный тонкий палец Мод указывает на несколько строк в отделе светской хроники.
Чарльз берет газету и читает вслух, улыбаясь:
«На этих днях состоится один из самых блестящих вечеров осеннего сезона. Мы говорим об ежегодном бале у мистера и мистрис Гудль в их роскошном особняке. Как мы слышали, к участию в концертном отделении приглашены самые яркие звезды артистического мира и, кроме того, избранному обществу будет предложен новый рассказ мистера Чарльза Тикстона. Талантливый автор изъявил согласие лично прочесть свое произведение, после чего рукопись рассказа будет тут же сожжена в присутствии приглашенных мистера Томаса Гудля, а пепел заключен в хрустальную урну и передан хозяину дома для хранения в его богатом музее, среди редких уник и бесценных шедевров искусства».
— Это правда? — спрашивает Мод, складывая газету.
— Не все… — отвечает Чарльз с прежней улыбкой, — за исключением auto da fe и хрустальной урны.
— Надеюсь, ты взял настоящую цену?
— О, да!
— Прочти мне, — Мод кивает на конторку.
— Не могу.
— Почему?
— Таково условие: никому на свете…
— Гм… — Мод умолкает и задумчиво глядит на рисунок ковра.
— Чарли, тебе не жаль рассказа?
— Немножко.
— Гм… И кроме того о тебе пойдут некрасивые слухи, сплетни…
— Ох, Мод!.. — Чарльз слегка пожимает лежащую на диване руку кузины. — Мне достанется, я знаю… Но, что же?
Он встает в позу декламатора:
— Грязная сплетня о великом, гениальном писателе Чарльзе Тикстоне пойдет из уст в уста, от поколения к поколению, годы, — быть может, столетия, пока не станет красивой легендой…
— Это — стихи? — спрашивает Мод.
VII
Вдохновенные перья нью-йоркских репортеров пытались описать весь блеск и всю головокружительную роскошь вечера в доме сахарного короля, но и им это удалось вполовину. Неудивительно, что скромный писатель Чарльз Тикстон в первые минуты был подавлен, потрясен, ослеплен… И таки не разглядел, — действительно ли стены и стулья мистера Гудля были из чистого золота.
— Писатели на концертной эстраде почти всегда напоминают селедку в компоте, — тонко заметила мистрис Гудль, обсуждая программу вечера. И потому, уступая ее желанию, решено было чтение рассказа устроить не в концертной зале, а рядом, в смежной с ней огромной библиотеке мистера Гудля.
Когда Чарльз Тикстон сел за маленький столик, положив перед собой тетрадку с рассказом, он не видел ничего, кроме стоявшего рядом громадного черного шкафа, и не слышал ничего, кроме частых, крепких толчков своего сердца.
— Он ничего, но… Никакого колорита! — тихонько шепнула своей соседке хорошенькая блондинка мисс Хопленд, и сентенциозно добавила: — Поэты не должны ничего знать о парикмахерах.
Чарльз раскрыл тетрадку и — в высокую, немного мрачную, библиотеку мистера Гудля тихонько вошла печальная девушка, потерявшая сердце.
Она принесла с собой чуткое безмолвие вечерних полей и скромный пучок ландышей, только что сорванных в темном, бескрайнем лесу. В этом лесу она недавно потеряла сердце. Девушка потеряла маленького красного зверька, неугомонно стучавшего в ее груди, и, с той минуты, она стала бледной, как ландыши, и холодной, как вода в лесном ручье. Упавшая из гнезда, крохотная, беспомощная пичуга уже не увидит над собой синие глаза девушки, омытые слезами, и лесная фиалка не встретит ее ласковой улыбки… Тянется, вьется тропинка жизни и молча бредет по ней печальная девушка, равнодушно встречая вечерние зори, холодно их провожая.
Но если бы знала она, что с каждой страницей, с каждым словом сказочки, все растет и растет любовь к ней в груди корректного, бритого джентльмена, ясный, негромкий голос которого звучит под высокими сводами библиотеки мистера Гудля. Если бы девушка из сказки знала, как жестоко теперь наказан ее бедный автор. Он недавно смеялся над тобой… Змейка иронии целовала его губы, в то время, когда он приглаживал твои непослушные темные локоны… Привычной рукой закройщика рассказов стягивал шелковым корсетом твою юную грудь без сердца и учил тебя манерам леди, чтобы показать гостям Томаса Гудля… Но он забыл в себе поэта, и вот ветер долин растрепал твои косы, аромат поэзии напоил твои ландыши и в тонком, воздушном облаке грезы пропал твой модный наряд. И знаешь ли, печальная девушка, что ты была и осталась чуждой замарашкой для всех этих медных и серебряных королев и королей. Ты пришла и уйдешь из их памяти раньше, чем в столовой мистера Гудля успеют сервировать ужин на плато из бледно-желтых роз. И, если бы у тебя было сердце и ты умела ценить улыбку сочувствия, ты нашла бы ее здесь, в этой комнате, только на старых портретах и в бронзовых глазах бюстов великих фантазеров, великих учителей твоего бедного автора Чарльза Тикстона.
VIII
Хмурое осеннее утро увидело огонь в окнах маленького домика. Молодой писатель, которому вчера аплодировали руки, никогда не раскрывавшие его книг, еще не ложился и ходил из угла в угол, опустив голову. Тикстон еще не снял и фрака, и в кармане его, при каждом шаге писателя, тихонько колыхался синий бумажник и лежащий в нем чек сахарного короля.
Что сказала бы Мод, если бы сосчитала все окурки сигар, брошенные и забытые в самых неподходящих местах? Серое облако табачного дыма висело над головой Чарльза, тихонько двигалось и принимало странные причудливые формы. Если бы Чарльз поднял голову, то, при тусклом, красноватом свете догорающих свечей, он, быть может, увидал бы очертания женской фигуры, неясную тень пани Янины.
Уж не она ли, эта белокурая женщина, безмолвно грустившая по далекой «ойчизне» и так рано засыпанная чужой землей, — прогнала сон из этого домика, открыла пианино и поставила на пюпитр старые ноты, привезенные когда-то с того берега, вместе с девическими платьями и юными надеждами. Быть может, пани Янина, на правах мистрис Тикстон, ласково журила своего неразумного сына Чарльза… Журила за то, что он свое первородное право поэта: снести свои песни толпе — отдал вчера за великолепный суп из черепахи, поданный за ужином мистера Гудля. Кто знает, не она ли вложила в сердце своего сына почти материнскую любовь к проданной сказочке, к этому последнему детищу его фантазии, милому уже за то, что его нет, за то, что на долгие бесконечные годы оно погребено в железном шкафу сахарного короля.
Обычный утренний холодный душ освежил утомленную голову Тикстона, но не изменил его решения: пойти сегодня же к Томасу Гудлю, отдать ему чек и вернуть свою рукопись.
Через час Тикстон сидел в вагоне подземной дороги, и утренние пассажиры, поглядывая на хмурого джентльмена в черном элегантном пальто, задумчиво смотревшего на свои сапоги, ни за что на свете не могли бы подумать, что перед ними сидит самый комический герой самого «необыкновенного» из всех рассказов жизни. Бедняк, везущий миллиардеру Гудлю десять тысяч долларов в обмен за химеру, за каприз авторской души.
Тикстон напрасно торопился. Ему не скоро удалось повидать сахарного короля. Только перед самым обедом у мистера Гудля нашлась свободная минута и он принял писателя.
Томас Гудль внимательно выслушал Тикстона и в черных глазах миллиардера загорелся насмешливый огонек.
— Хорошо, — сказал он. — Но когда вы намерены застрелиться? Можете ли гарантировать, что это случится не позже завтра?
Бледный и утомленный Тикстон все же принял шутку.
— К сожалению, — ответил он, — я решил еще пожить…
— В таком случае договор остается в силе.
Тикстон встал. Теперь уже и он улыбался.
— А не могу ли я узнать, — спросил он, беря шляпу, — зачем нужна моя смерть?
Миллиардер пожал руку Чарльза.
— Видите ли? — сказал он. — Нельзя, чтобы на свете, кроме меня, был еще один человек, знающий, что Томас Гудль однажды нарушил договор.
IX
Был уже вечер и на улицах горели фонари, когда Тикстон вышел от Гудля. Шел дождь и на мокрых тротуарах отражались освещенные окна магазинов. Холодный ветер старался сорвать шляпу с головы Чарльза, но писатель бодро шагал к ближайшему ресторану. Тикстон уже был почти весел и не чувствовал ничего, кроме голода. Он решил сегодня кутнуть и за бутылкой доброго вина заняться одной мыслью, только что мелькнувшей в его голове. Путешествие — вот что теперь будет самым полезным и своевременным. Десять тысяч долларов в кармане — великолепные крылья. На них можно улететь далеко. Еще вопрос: будет ли в его руках когда-нибудь снова такая куча денег!
— Ого! — весело сказал себе Тикстон. — Не каждый день случается торговать сказочными девицами.
Маленький газетчик обогнал его и крикнул хриплым голосом:
— «Вечернее Эхо»!..
«А ну-ка, посмотрим: как о нас пишут?..» — подумал Тикстон, купил маленькую, отсыревшую от дождя газетку, подошел к окну, развернул и… захохотал весело и звонко.
В фельетоне газеты стоял заголовок… Только три слова, жирных, сияющих, милых… «Девушка, потерявшая сердце». Дальше следовал курсив: «рассказ Чарльза Тикстона, прочитанный автором на вчерашнем вечере мистера Гудля», а за ним вся сказочка, целиком, до последней буквы…
* * *
Мод только что кончила работу и складывала пестрые, измазанные корректурные листы, когда в маленькую комнатку «секретаря редакции» влетел Тикстон, стремительный и мокрый, как осенний ураган.
— Кто это сделал? — спросил он, указывая на свой рассказ.
— Я — ответила Мод, опуская глаза и тотчас же негромко добавила, кивнув на соседнюю дверь. — Бедняга-издатель просил меня… Это его единственная надежда поднять тираж газеты…
— О, Мод!.. — Чарльз взял ее руку, выпачканную чернилами, пахнущую типографской краской, и поцеловал раз и два и… пока Мод не отняла…
— Это стенограмма?
Мод молча кивнула головой.
— Но как тебе удалось?
— Ах!.. Я была… так близко от тебя. В углу, за черным шкафом. Буфетчик Гудля — старый приятель нашего издателя… Понимаешь? Но, признаться, — было нелегко. Вот уж никогда бы не подумала, что в доме миллиардера так много пыли… Все время мне страшно хотелось чихнуть…
Выйдя из редакции «Вечернего Эхо», Тикстон дошел до угла, обернулся назад и поднял голову. Сквозь туман и дождь, тусклым желтым пятном светилось окно Мод… Чарльз улыбнулся и, подняв воротник пальто, пошел своей дорогой. Снова вспомнились ему порозовевшие щеки Мод, ее виноватая улыбка и тонкие пальцы, пахнущие краской…
«Гм… — шевельнулось в его голове, — а ведь Мод, пожалуй, тоже… девушка из сказки. Гм… Услуга за услугу. Что, если бы он помог ей найти ее сердце?..»
* * *
Было бы грешно умолчать о том, что на следующее же утро Тикстон отослал мистеру Гудлю его чек. Но следует также добавить, что когда, однажды, в веселую минуту, очаровательная мисс Хопленд попросила сахарного короля назвать ей самого глупого человека в Нью-Йорке, то мистер Гудль все же указал на бедного издателя «Вечернего Эхо».
1916 г.
Женщина с озера
I
Газета прочитана, вся, до подписи редактора, папиросы набиты, и синий галстук завязан хитрым «морским» узлом. Последний взгляд в маленькое зеркальце, еще один «гордый» поворот головы, и Гречихин выходит из комнаты.
Июльский полдень. Душно. Гречихин смотрит на небо, на пыльные листья деревьев и решает: «К вечеру будет гроза». Эта же мысль была у него вчера и будет завтра, пока не пойдет дождь. Тогда Гречихин станет у открытого окна и, с глубоким вздохом, скажет: «Уф!..»
От дачи до парка с полверсты. Пыльно. Желтые туфли Гречихина становятся серыми. На кончике маленького вздернутого носика блестит капля пота и лайковые перчатки прилипают к рукам.
В парке, на берегу маленького озера, вросла в землю кривая зеленая скамейка. Вся она изрезана вензелями и женскими именами, и сидеть на ней нужно спокойно, не двигаясь, чтобы не повредить платья. Над скамейкой старая кривая ива. Кусочек тени. Гречихин садится, снимает шляпу, курит и глядит на сонную зеленоватую воду.
Гречихин ждет. Подолгу, часами, терпеливо и кротко. Иногда он получает награду. Из-за большой белой купальни медленно выплывает лодка и скользит вдоль берега мимо Гречихина. Тогда он поднимается со своей скамьи, подходит к самой воде и смотрит. И улыбается молча. Хочет сказать, крикнуть что-нибудь… хотя бы одно слово, яркое, как солнце, чистое, как лазурь неба, красивое, как «она»… И молчит, робкий и тихий…
А женщина в лодке лениво шевелит тяжелыми веслами, или, бросив их, снимает шляпу и отдает солнцу золотистую голову и круглые плечи под белой блузкой. Белые, открытые до локтя руки нехотя срывают такие же белые водяные лилии. Задорно и весело улыбаются красные губы и хохочут, хохочут серые глаза, поглядывая на Гречихина. Потом весла взмахивают желтыми крыльями, молодое, сильное тело вытягивается, журчит вода — и лодка уже далеко. Вот, она уже у купальни, последний взмах, и маленькое озеро снова спит… И спят наверху неподвижные облака.
Гречихин поднимает голову, обмахивается платком, и снова думает: «К вечеру будет гроза»… Той же пыльной дорогой он возвращается из парка в свою комнатку и медленно, с трудом, снимает тесные, горячие перчатки.
II
Летний отпуск Гречихина подходит к концу. Через три дня помощник журналиста Сухопутного Управления снова вернется в город и сядет за свой длинный стол, обтянутый черной клеенкой. Снова толстые запыленные «дела», горы «исходящих», гнусавый, противный голос делопроизводителя… Сорокарублевый оклад, обеды «от хозяйки», темная клетка на пятом этаже…
А грозы все нет, и озеро все спит. И пустая лодка дремлет на привязи у купальни.
Сегодня ночью Гречихин сидел у открытого окна, длинный и весь белый, без галстука и без перчаток. Внизу, у калитки, кто-то смеялся тихо и радостно. А вдали за деревьями лаяла старая собака и незримый ночной сторож постукивал колотушкой, словно предупреждая воров: «я близко, близко, близко!..»
Гречихин смотрел на звезды, тихонько вздыхал и писал стихи:
Твоя ладья и лилии кругом… Мгновенность встреч и тайна без ответа…Когда луна пряталась за облако, Гречихин зажигал свечку и в пятый раз подходил к зеркалу.
Холодный и вечно злой кусочек стекла говорил одно и то же: «Урод, обезьяна, пугало!..» — и показывал рыжие вихры над низким лбом, близорукие, маленькие изюминки и безобразные оттопыренные уши («мамка плохо пеленала»). Маленький носик стремился ввысь, — к небу, и усы были «считанные»: семь волосков… А сердце было золотое… А душа была широкая, словно океан… И такая голодная. Маленькие глазки жадно ловили красоту, а страшные огромные уши — музыку, и случалось, что под рыжими вихрами загорались смелые искры, вспыхивали зарницы мысли, красивой и светлой… Кто их ловил? Чьи очи ждали их на вечно сером небе, в долгие будни от двадцатого до двадцатого?
Да и то сказать: сам виноват. Долгие ночи украл у сна. Взяли их книги, толстые и тонкие, сплошь ядовитые. Говорили они о людях, которых он не встречал, о жизни, какая ему и не снилась. О невиданных звездах, о неслышанном смехе радости, и все звали куда-то… Куда? И о женской любви говорили они, то громко, то сладко, но зеркало тихонько хихикало… Гречихин разбил уже одно, растоптал ногами. Вот, экономит он на всем, копит деньги и тратит их на костюмы, на шляпы, на галстуки «к лицу»… Гм… К его лицу?
И талантов у него — никаких. Сам знает. Пишет стихи, прячет от всех, а через неделю — в печку. Потихоньку от товарищей брал уроки музыки. Учитель добрый попался, отсоветовал: «Поздненько… Пальцы у вас того…» Голоса тоже нет. Еще в детстве горло простужено, — не звук, а скрип один.
А книг у него было много. И про человека, который смеется. Хорошая книга, родная… Да что? Написать-то все можно. И слава, и герцогиня… О смерти тоже думал достаточно. Но и самоубийство — не для всякого. Отними у него красоту и — что останется? Труп один, мясо для прозекторской.
III
Сегодня утром Гречихин ходил на станцию и встретил женщину с озера. Она шла под синим зонтиком, опираясь на руку маленького, толстого человечка в чесучовой паре и панаме. Узнав ее, Гречихин вспыхнул, хотел повернуть обратно, но уже было поздно. Серые смеющиеся глаза незнакомки уже поймали его, и на губах ее была улыбка… И вокруг Гречихина уже не было ничего. Станция, дачники, зеленые вагоны, — все растаяло, исчезло. Он видел только золотые локоны на ярко-синем фоне и бледное лицо. Она прошла мимо, безмолвная, с легким шорохом белого платья, с легкой волной сладковатых духов, и Гречихин, обернувшись, долго смотрел на синий зонтик. Он был радостно взволнован и не слышал ничего. А женщина с озера толкнула в бок своего спутника и тихонько спросила:
— Ну, что? Годится?
И человек в чесуче внимательно оглядел Гречихина с головы до ног, скривил в улыбку тонкие бритые губы и весело ответил:
— Ого! Еще как! Искать, не найдешь!..
Гречихин купил на станции папирос, выпил стакан кофе и, не заходя домой, пошел в парк, к озеру, на свою скамейку.
Внутри его была музыка, и, если бы на месте Гречихина был оперный Фауст, он встал бы в позу, оглянул деревья, небо и озеро, развел руками и пропел: «Привет тебе, приют священный!..»
Помощник журналиста ограничился тем, что вынул из кармана аккуратно сложенный, цветной платочек, вытер шею и сказал: «Парит»…
Но глаза его прощались с озером, ласкали поникшие листья деревьев и пожелтевшую, спаленную зноем траву. Завтра он уедет в город. В последний раз сидит он на этом берегу.
Сонная тишина вокруг, но уже плещутся весла, и Гречихин поднимает голову. Смотрит, щурит глаза и не узнает. Та же знакомая лодка, желтые весла, но она — другая: стройная фигура женщины закутана в мягкий, полосатый халат, и золотистые кудри спрятаны в синий чепец.
Лодка почти неподвижна. Сидящая в ней женщина встает и ленивым движением сбрасывает халат. Теперь она в темно-синем купальном костюме. Солнце жарко целует ее шею и белые, полные руки, а серые глаза женщины ласково скользят по берегу. Но только мгновенье… Она вскидывает руки к солнцу, потом наклоняется и прыгает в воду. Плеск, брызги, звонкий смех… Она плывет к берегу. Водоросли и лилии расступаются безмолвно и покорно, и над ними качается бледное, прекрасное лицо…
Гречихин, немой, застывший, не отрываясь, глядит в смеющиеся серые глаза наяды. С каждым взмахом белых сильных рук они все ближе, ближе… И вдруг, он читает в них ужас, тоску… Бледное лицо скрывается под водой, и водоросли смыкаются над ним зеленой сеткой. Через мгновенье молодое женское тело беспомощно бьется в воде, опрокидывается на спину, и Гречихин слышит громкий, отчаянный крик:
— Спасите! А-а-а!.. Тону!..
Гречихин вскакивает, в два огромных прыжка достигает берега и, в чем был, даже в шляпе и перчатках, бросается в озеро.
IV
Ночью была гроза. Долгожданная жуткая тьма тихо закутала звезды, холодная зеленоватая молния сожгла полнеба, и кто-то незримый и великий захохотал в вышине. Дрогнули и зазвенели стекла в окне, хлопнула калитка, и на листву и цветы упали первые, крупные, чистые слезы.
— Наконец-то!.. — прошептал Гречихин, подошел к окну и вздохнул глубоко, жадно.
Закрыл глаза и снова вспомнил все… Снова увидел на своей груди бледное лицо и глаза, такие близкие, огромные и почти темные от страха, отчаяния и надежды. Потом улыбка радости и тихое, чуть слышное слово «благодарю!» Белые руки ее обняли его шею и тесно, испуганно прижалось к нему крупное, но странно легкое тело женщины с озера. Высокий и сильный, он стоял на своих длинных ногах, крепко держал добычу, отнятую у озера, быть может у смерти, и в первую минуту не знал, что делать дальше? Шагнул к берегу, но она остановила его испуганным взглядом и по-прежнему тихо, словно ее мог услышать кто-нибудь, кроме лилий и солнца, попросила:
— Нет, нет! В лодку… Прошу вас!.. Мой костюм…
Он понял. Возвращаться по берегу, через поселок в этом виде!
Когда они уже были в лодке, и Гречихин сидел согнувшись, мокрый, нелепый, веселая улыбка снова поцеловала бледные губы наяды, и она, смеясь, укутала его в свой халат и схватила весла…
— Отвернитесь! — сказала она.
Гречихин повиновался, даже закрыл глаза и только слышал, как скрипят уключины, как сильно и жарко дышит ее грудь, да еще журчит вода за кормой, и сладко и пьяно пахнут водоросли, духи, мягкий халатик…
А за окном гроза. Молния пишет на небе огненное слово, и Гречихин читает его…
Что это было? Сказка? Страничка из чужой прекрасной книги? Сон? Нет. В маленькой темной комнате повсюду висят и лежат мокрые вещи. Новенький светлый костюм похож теперь на грязную тряпку, шляпа полиняла и потеряла свою ленту… Даже папиросы плавают в мокрой коробке.
Да, все это было наяву. О! Если бы в Гречихине проснулся поэт, на одну только эту ночь, на один час, настоящий, Божьей милостью поэт… Или музыкант… Он взял бы у грозы ее голос, ее восторг и власть… Он взял бы у молнии ее огонь, ее крылья, и в эту темную ночь, такую же темную, как вся его жизнь, он создал бы песню, поэму или, быть может, только одну жалобу, один стон и бросил его небу и людям и…
— В корзину! В печку!.. — сказал Гречихин, скривив губы, и отошел от окна.
Завтра он уедет, и всему — точка. Он ничего не знает. Он убежал от нее… Едва лодка пристала к мосткам купальни, он убежал от нее, смущенный, дрожащий от озноба, мокрый и дикий… И, конечно — смешной и, уже конечно, безобразный… Вдвое!..
V
— Господин Гречихин, вы опять напутали? О чем вы мечтаете? Куда вы подшили вчерашний доклад?
Гречихин вскакивает, роется в толстых «делах», ищет… Через несколько минут слышит снова:
— Господин Гречихин, дайте мне отношение за номером четыреста семь… Да займитесь вы делом, наконец! Где у вас перечень постановлений?
Помощник журналиста суетится, отворяет и запирает огромные черные шкафы, набитые пыльными бумагами, бегает в регистратуру, орудует толстой иглой, прокалывает пальцы, хлопает штемпелем, лижет второпях конверты…
Гречихин приходит в Управление раньше всех и уходит последним, вместе с курьерами. Пока он сбегает по широкой лестнице и надевает пальто, в голове его еще танцуют описи, справки, номера… Но холодный, октябрьский ветер быстро и бесследно уносит все бумаги, путает номера, сметает всю пыль… И Гречихин снова один. В толпе прохожих, в вагоне трамвая и в своей комнатке, всюду он одинок и всюду с ним его думы…
Придя со службы, он долго пьет чай, стакан за стаканом, последний уже холодный, и ходит по узкой тропинке от окна до печки и обратно. Потом ложится на диван, раскрывает книгу и… путешествует. Вчера он был на берегах Нила, задирал голову, чтобы взглянуть на вершины пирамид, и стрелял в черные головы крокодилов. Сегодня он уже в Италии, бродит между памятниками campo santo, потом едет в Верону и долго стоит перед гробницей с гербом Капулетти. Где он будет завтра? Он и сам еще не знает; быть может, — на севере, в фиордах Норвегии… Не все ли равно? Ведь, и Клеопатра, и Джульетта, и Иордис — так же прекрасны и бледны, как была она. И на устах их та же улыбка… Улыбка женщины с озера.
Изредка Гречихин выходит из дому и задумчиво бродит по улицам. Подолгу стоит перед освещенными окнами магазинов и с одинаковым вниманием разглядывает выставленные окорока и пестрые ситцы, розовые букеты обоев и фарфоровые чашки…
Заходит в кинематографы, слушает музыку и, щуря воспаленные глаза, смотрит на экран. Преступники и сыщики бегают по крышам домов, маршируют английские солдаты, канканирует улыбающийся Макс… Мелькают Альпы, старинные замки, мчатся автомобили… Не все ли равно? Утомленный тапер барабанит ноктюрны и вальсы, старое разбитое пианино дребезжит и гудит… Но иногда на экране скользят деревья, тенистые уголки чужих далеких парков и плещутся маленькие незнакомые волны… Ах! все деревья безмолвны, и все волны мгновенны, но они говорят жадной памяти, и старенькое пианино еще умеет смеяться задорно и весело…
Вот и сегодня, бродящего по темным улицам, Гречихина, точно мотылька на свечку, притянули к себе желтоватые огоньки убогого сарайчика под вывеской «Палас».
Гречихии заплатил тридцать две копейки, взял билет и программку и вошел в холодный, почти пустой и темный зал. Тощая безмолвная девица указала ему место. Гречихин расстегнул пальто, сел и взглянул на экран. Протер глаза, весь подался вперед и вытянулся, неподвижный, даже перестал дышать. Он увидел берег, скамейку и самого себя, стоящего за толстым деревом… Увидел озеро, то самое, и лодку, и ее. Вот она, тем же ленивым жестом, сбрасывает с плеч халат, вытягивает к солнцу руки…
Бледный, с раскрытым ртом, Гречихин снова видит свой сон, приснившийся однажды перед грозой. Ему снова, как тогда, и жарко, и душно… И так же плещется вода, пахнут водоросли. И так же противно липнет к телу мокрое платье. Вот, он снова бежит от лодки и слышит вдогонку тот же звонкий смех и слышит, как в его желтых туфлях хлюпает вода…
Мгновенье, — и на экране ничего. Только в одном углу — желтая заплатка. Под потолком вспыхивают лампочки. Антракт. Мимо Гречихина проходят новые зрители. Господин в котелке наступает на длинные, вытянутые ноги Гречихина и говорит: «Пардон-с!..»
Гречихин разжимает потную ладонь, подносит к глазам смятую программу и читает — «Подвиг Глупышкина. Сильно комическая. Гомерический смех!..»
Гречихин встает и идет к выходу. Тощая билетерша удивленно вскидывает нарисованные брови и провожает его глазами.
Влажный осенний ветер играет полами расстегнутого пальто. Темное небо тихонько плачет. Одинокий извозчик с завистью смотрит на Гречихина, шагающего по лужам с программой, зажатой в кулак, и со счастливой улыбкой на губах.
Обида, жуткая догадка, колючий стыд остались там, сзади, а впереди — новая дума, твердое решение: он будет снова копить деньги, если не хватит — займет, возьмет авансом наградные и купит фильму. Да. Купит длинную ленточку целлулоида, такую хрупкую, злую и милую, и принесет ее в свою комнату и, вместе с ней, к нему войдет польское солнце, сонные лилии и она, женщина с озера…
1916 г.
Костры на вершинах
Памяти А. Н. Скрябина, творца «Экстаза»
Вероника спала. Закутав в отцовский плащ худенькие плечи, она лежала на каменном полу, и в ее бледной узенькой груди дремал вчерашний темный страх. Вчерашняя последняя слеза застыла на щеке Вероники.
Тихой и доброй была эта ночь. Молчали. Десятки глаз смотрели в темноту. Молились беззвучно. Скорбь без слез притаилась под низкими сводами и тихая радость без смеха. Ждали утро.
В углу у двери тускло горел единственный светильник, и красноватый огонек его дрожал, чуть освещая склоненную седую голову и старые руки. Руки в тихой, бесшумной работе. Отец Вероники делает крест. Пара сухих прутьев, один на другом, кривых и черных. Маленький крестик. Утром он отдаст его Веронике, сунет в маленькую дрожащую ладонь.
В углу спит римлянин. Высокий легионер опустил на стол руки, а на них свою утомленную, слегка хмельную голову. Кровь приливает к бронзовому затылку воина, и он хрипит. Копье прислонилось к двери, тяжелый меч отстегнут и брошен на стол, рядом с игральными костями и пустым кувшином. Зубы волка и когти тигра… К чему они здесь, в этот час? За спиной легионера — овцы, кроткие и безмолвные. Тихая, добрая последняя ночь. И не знаешь, коротка ли она, как мгновенье, или, как вечность, без конца.
В полдень скрипят железные двери, и на порог ложится золотой коврик, сотканный из лучей. Чей-то вздох, чье-то женское рыдание… Вероника встает и, стряхнув с волос желтые соломинки, плетет их в длинные косы. Черными змеями ползут они по ее белой тунике, и сама Вероника гибкой испуганной змейкой прижимается к отцу. Он молчит. Старая, мозолистая ладонь тихо гладит голову Вероники. Они выходят, рука с рукой. Вероника вступает на золотой коврик и на миг закрывает глаза: так бездонно сапфировое небо и так жгуч его первый поцелуй.
Сзади кто-то поет. Тихий одинокий голос. Вероника поднимает ресницы. Под ногами ее желтый песок, широкое знойное поле в белом кольце, в каменных объятьях Колизея. Высокие стены, а за ними — глаза. Тысячи. Бессчетные глаза, открытые и жадные.
Христиане идут. По песку арены тянется медленно серая лента. Теперь уже поют все. Отец Вероники сжимает ее руку и тоже поет. Дрожащий старческий голос хрипит молитву. От слова к слову, все громче… Но голос Вероники, звонкий и чистый покрывает его.
В груди Вероники трепещут крылышки маленькой белой птицы. Девочка вытягивается, стройная и тонкая, поднимает руку с черным крестиком и дышит жарко и глубоко. И хочет вздохнуть еще глубже, так, чтобы в узенькой груди свободно взмахнули широкие, белые крылья радости. Чтобы и самой подняться и вспорхнуть под синий купол.
Внезапно она падает. Стальная и бархатная лапа львицы задевает плечо Вероники и роняет ее на песок. Но белые крылья уже раздвигают ее грудь, вот они уже за плечами Вероники и нет уже никого вокруг нее. Только ласковая тишина, только бездонная лазурь и солнечная радость… И Он, близкий и родной, такой знакомый, милый Иисус…
И вся душа Вероники полна одним желанием, одним последним, знойным порывом; сказать Ему… Сказать о своей радости, о великом счастье маленькой Вероники, но… На устах ее нет слов. Точно ландыш, белый и смятый, недвижно лежит Вероника. Безмолвно простое и чистое сердце. И, с тихой, покорной улыбкой, Вероника закрывает глаза.
* * *
Над Кипром всходило солнце. Казалось, что прямо из сонного моря поднимались лучи его, омытые волнами, розовые и чистые. Кланялись ветви деревьев, и первое «здравствуй» шептали листья и травы, стряхивая ночные чары.
Но спал еще белый дворец повелителя Кипра. Как жемчуг в изумрудной оправе садов, дремал он на склоне горы у самого берега. Спали еще воины и рабыни, холодны были очаги, завешаны окна, и желтый шелк занавесей подставлял под лучистые мечи свою упругую грудь, охраняя сумрак зал и сон Пигмалиона.
Царь долго работал вчера. Едва остыл полуденный зной, Пигмалион удалился в свою мастерскую и много часов подряд, в белом дворце не было владыки Кипра, был только ваятель, горящими руками сражающийся с упрямым и холодным мрамором.
Когда за окном угас огонь неба, царь повелел зажечь земные огни и, в желтом мерцающем свете высоких лампад, до полуночи стучал его резец, и темные глаза Пигмалиона, сжигая белую тунику камня, искали под ней линии будущей статуи.
Старик раб, дремавший у входа, проснулся первым. Кряхтя и зевая, выпрямил согнутую спину, протер глаза и вошел в мастерскую.
Розоватый сумрак мягкими волнами приникал к высоким стенам и лежал на мозаичном полу, усыпанном обломками мрамора. Старик подошел к окну и откинул занавес. В углах высокой залы вспыхнула резьба золотых карнизов, и холодным пламенем ответили ей снежно-белые статуи.
Тусклые маленькие глазки остановились на лице мраморной богини, обнаженной и бесстрастной. Он подошел к статуе и тронул рукой ее холодный белые ноги.
— Еще одна… — проворчал он. — Для каменных забыты живые… А жизнь и у царей — одна. Только — одна…
И, качая бритой головой, раб пошел будить господина.
Начался долгий день, полный томящего зноя, полный скучных забот. Царь Кипра, утомленный и бледный, с потухшим взором на сонном лице, слушал гонцов, диктовал свои письма, или молча глядел на синие маленькие волны спящего моря.
Пигмалион ждал рубиновых вестников вечерней зари. Он ждал ночь, с ее прохладой, тишиной и грезой. Проводил улыбкой утонувшее солнце и сам последовал его примеру: бросился в глубокий бассейн и долго плавал в нем, рассекая сильной грудью ароматную прохладную воду. После, впервые за весь день, вспомнил, что голоден, и за чашей золотистого вина, улыбаясь своим думам, слушал грустные мелодии флейтистов.
А когда в вышине над морем загорелись первые, звезды, царь отпустил слуг и одинокий, слушая четкие удары сердца, пошел в мастерскую. Там уже горели огни, и на стенах дрожали тени статуй, то горделиво стройных, то робко склоненных.
Пигмалион остановился перед своим последним созданием. Статуя Галатеи была уже закончена. Прошлой ночью рука ваятеля тронула ее в последний раз и создавший знал, что каждый новый штрих был бы теперь святотатством. У творчества есть грань, и на страже ее стоит красота.
Галатея была недвижной, немой и холодной, но она была прекрасна. Быть может, это больше, чем жизнь?.. Да, среди живых, такой он не встретил ни разу. В какой земле, под чьим солнцем могла бы подняться эта пальма? Небо, одно только небо — родина богинь. Только у ходящих по дорогам эфира могла быть эта поступь. Такая грудь не дышала воздухом земли и этих плеч не смела коснуться туника смертной. И только шею бога обовьют эти руки.
Пигмалион опустил глаза и отошел к окну. Гордая улыбка тронула его сухие жаркие губы.
«А все же она создана мной, — подумал он. — Вот, эти руки смертного боролись дни и ночи, освобождая ее из объятий грубого бесформенного камня. Я разбил ее цепи, сорвал все путы, все покровы… Но кто же я? Лишь раб, вошедший ночью в опочивальню царицы. Как и он, я нахожу ее спящей и не смею разбудить…
И не могу. Здесь конец моей силе, моей жалкой власти смертного…»
Пигмалион обернулся, и взор его снова приник к лицу Галатеи.
«Как прекрасны эти губы, чуть тронутые улыбкой… Тень ресниц скользить по щеке. Длинных ресниц. Они прячут солнце и делают взор ее бездонным и вечно печальным… Богиня! О, если бы ты проснулась… Но нет! Камень, мертвый, глупый камень сильней меня!..»
Пигмалион гневным движением схватил молоток, но тотчас же бросил его и тяжелыми шагами пошел на террасу. Под ногами его хрустели обломки мрамора, и царю казалось, что он слышит смех торжествующего камня, смех старого врага его, вечно отступающего и никогда не покоренного.
Душная ночь встретила Пигмалиона. Спали воздух, и море, и деревья. Молчаливые звезды висели над островом и снизу из темного сада плыл пряный аромат цветов, стыдливых днем и раскрывавшихся во тьме.
Глубоко и жадно дышала грудь царя и, с каждым вздохом, словно старое жгучее вино, пил он знойный недвижный воздух. Долго ходил по террасе большими шагами, гибкий и быстрый, как его думы. Сжимал руками виски и слышал, как стучит в них горячая кровь. Безмолвный и одинокий бросался на каменную скамью и долго сидел, сжимая мрамор пылающими ладонями, смотря на звезды сухими, бессонными глазами… И снова вскакивал и метался между белыми колоннами, как призрак, как раненый лев, как человек, в чью душу вошла дерзкая греза, отрава мысли, хмельной, как эта ночь, и безумной. И, подняв руки к дальним мирам, Пигмалион молился Афродите. Горячий, прерывистый шепот его звучал, как повеление, так много в нем было нетерпеливой жажды чуда, пламени желанья и гневной силы, самой безумной из всех человеческих надежд.
И Афродита услышала его мольбу…
Рука богини коснулась груди Пигмалиона, и страсть — стала молнией, буря — ураганом, мысль — приговором и греза — неизбежностью.
Рука богини взяла руку ваятеля и привела его снова назад, к ногам безмолвной Галатеи.
Пигмалион поднял взор свой, огненный мост перекинул к очам Галатеи, и, светло сгорая, поднялось его сердце.
— Люблю… — сказал он и умолк, недвижный, как лук натянутый и ждущий мига.
— Проснись! Люблю!.. — повторил он и снова умолк.
Ждал. И в тишине, в мерцающем свете высоких лампад, две статуи стояли, одна против другой. Мгновенье, быть может, вечность…
И камень уступил.
Человек, уже знающий, уже властный, молча, жадным взором, пил счастье победы.
Дрогнули и порозовели бледные уста Галатеи. Легкий вздох колыхнул ее грудь. Ревниво опустились ресницы, и шевельнулась прекрасная бледная рука. Одно движенье. Первое. Вниз, к стоящему у ног…
Пигмалион шагнул вперед, сомкнул кольцо объятья и припал лицом к коленям Галатеи, к ее ногам, стройным, уже теплым…
Он молчал. В этот миг он был в той солнечной стране, о которой нет слов на языке человека.
* * *
В книге человеческой жизни много страниц, говорящих о молниях, сжигавших души людей. Много страниц о крыльях Икара, спаленных поцелуем солнца, и о вершинах радости, где вечное безмолвие.
Шли века, уходили боги, вставали и падали царства, но все еще не было имени светлому урагану, уносящему порой, словно былинку, человеческую душу далеко от темной земли.
Люди молились и сражались, творили и умирали, но всегда и всюду за ними шло Молчание последнего мига, и от самых ярких костров на земле оставался лишь пепел немой и холодный.
Но среди нас уже был Одинокий, — тот, кто однажды слышал никем нерожденное слово, и чья-то бессонная воля уже бросила в его душу зерна великой Мечты.
И снова шли годы. На темных и тесных тропинках исканий вспыхивали изредка далекие и бледные огни и, вспыхнув, снова угасали. Тогда Одинокий опускал руку на плечо своего маленького поводыря — Мечты и шел во мраке, медленно, ощупью, но вперед, все вперед… И вела его Мечта, бесстрашная и видящая ночью, потому что у нее были сердце орла и глаза тигра.
По краям темной и узкой тропинки Мечта находила ночные цветы, никем еще не сорванные, благоуханные, на тонких и хрупких стеблях. Она собирала их для Одинокого и, когда он склонял над ними лицо, на бледных лепестках была роса, дрожали слезы ночи, и он пил их, капля за каплей.
И снова шли они вперед, но Одинокий все еще нес в своей груди неутоленную, вечную жажду. Тогда Мечта подводила его к лесному ручью. Холодный и чистый, он торопливо и долго бежал сюда с вершины далеких гор.
Ручей спешил рассказать о многом, что видел на своем пути. О легких беспечных облачках, мимолетно целующих лепестки Эдельвейса, о звездах ночных, таких близких к вершинам, и об алмазах, что луна полной горстью бросает на девственный снег ледников. Говорил он и о темной острой скале, о прикованном к ней Сострадании и об орлах, клюющих грудь Прометея.
Припав к ручью, Одинокий слушал его сказку и пил долго и жадно. И прохладное ложе шелковых трав манило его отдохнуть, опускались ресницы… Но Мечта уже звала его. И снова шли они среди бескрайнего леса, в темноту бесконечной ночи.
И с каждым шагом росла маленькая спутница Одинокого. Неумолимой, сильной и властной становилась она. Одним дыханием своим она раздвигала крепкие столетние деревья. Легким движением ноги сметала с дороги, словно песчинки, тяжелые обломки гранитных скал, и перед лицом Одинокого уже трепетали ее широкие крылья, ждущие бури.
Так шли они молча, часы или годы, — Одинокий не знал. Висела ночь над ними, и спало время. Но однажды вспыхнули в небе зарницы, сожгли темноту и озарили далекие горы.
И движением руки Мечта указала Одинокому на далекий белый храм.
— Смотри, — сказала она, — это дом великого последнего бога. Много имен дадут ему люди: «Примирение» и «Согласие», «Синтез» и «Гармония». Но помни одно: он будет последним на этой земле. И в широкие белые двери его храма войдут рядом: красота и сила, печаль и радость, страсть и молитва. К алтарю его светлый жених Солнце приведет свою невесту Ночь и на последнем брачном пире сольется все, что разделяло людей: мудрость старца и вера ребенка, пляска и гимн, ползущая правда и окрыленная сказка. Здесь зодчий протянет руку воину, и отшельник улыбнется веселому миму. И будет только единая заповедь начертана над белыми дверями: «Пусть каждое сердце принесет свой лучший дар».
Мечта умолкла, погасли зарницы и взор Одинокого снова встретил безмолвную тьму. Но мгновенье уже зажгло в его груди искру того же огня, что горел на алтаре еще неназванного бога. И Одинокий уже был созидающим, он был уже творящим. Охваченный светлым безумием, опьяненный хмелем нездешней радости, он слушал тишину и горячими упрямыми руками гения удерживал небо на темной земле.
И все, к чему, хотя бы на миг, прикасались его руки, спешило жить, все было в действии, в неудержимом полете.
Одинокий поднимал голову, и, повинуясь его взгляду, грозовые тучи содрогались в глухом, тяжелом рыданье. Он приникал к земле, — и огненный вздох вырывался из груди вулкана. Далекий океан слал гонцом своим ночной влажный ураган, и он сталкивался, грудь с грудью, с гибким телом смерча из пустыни.
Звери выходили из лесной чащи и смыкали тесное кольцо вокруг Одинокого. С грохотом, потрясающим землю, падали невидимые скалы, кричали совы в шумящем лесу, рычали львы, хохотала буря и мир, весь мир кружился в бешеном ритме последней пляски.
Одинокий скрестил руки, закрыл глаза и, среди хаоса, слышал только слова, — все те слова, что когда-то горели, рвались и умирали на устах христианских мучениц, древних героев и творцов неумирающей красоты.
И властным голосом сказал он зверям и урагану, грому неба и смеху вулкана, хаосу сказал он:
— Повтори!
И на темной дороге исканий, над головой Одинокого родились звуки, сотканные из последней мольбы и первого торжества. Песнь освобожденного духа, еще не слышанная человеком. Костер восторга и силы, еще никогда не зажженный под небом ночи…
Это была «Поэма Экстаза».
1917 г.
Соболья муфта
I
— В своем каракуле ты сейчас похожа на супругу спекулянта… Недостает только тысячных серег и автомобиля… Мне даже неловко идти рядом с тобой.
Шурочка в ответ весело рассмеялась.
— Ничего… Теперь ведь равенство. Но если я похожа на даму, то бедного студентика могут принять за репетитора моих детей.
— Merci, madame!
Черняев с ироническим поклоном дотронулся до козырька выгоревшей старенькой фуражки и прищурился навстречу солнышку.
— А все-таки пахнет весной!
— Чуть-чуть, — улыбнулась Шурочка и, помолчав, тихонько вздохнула.
— Я считаю минутки… Если бы не ты, я уже давно была бы в деревне. Все равно — влезла бы на крышу вагона, на трубу паровоза, и addio bella болото!.. В каждом своем письме тетушка увеличивает порцию соблазнов. Сирень — это уже старо, и яблоня уже в трех письмах цветет… Теперь она решила, что курсистку следует брать на модную приманку: зовет на агитацию. Мужички, мол, ждут и жаждут просвещенного слова.
— Гм… Дело доброе. А ты когда-нибудь пробовала?
— Нет, то есть… — Шурочка порозовела и, со смущенной улыбкой, призналась:
— Однажды… На улице. Тогда все говорили… Солдаты и бабы в платочках… Мне тоже захотелось. Вскарабкалась я на тумбу, крикнула: «Товарищи!..» — и поперхнулась. Взглянула: все головы, головы, сотни глаз. Тишина такая. Все ждут, а я все свои слова потеряла. Махнула муфтой и слезла. А в толпе смех: «Тю-тю!.. Скисла мамзель». А я горю, пылаю. Красная должно быть, как лента на шляпке. Нет, я не гожусь…
Шурочка умолкла и указала на скамейку под черным голым деревом.
— Сядем?
— Можно, — согласился Черняев. Закурил папиросу, поглядел по сторонам, оглянулся на широкую пустую аллею и склонился к Шурочкину плечу.
— Потерпи, мой зверенышек. Недельки через полторы, много две, я развяжусь со всеми своими делами и вместе поедем. Ладно?
Шурочка молча взяла его руку, холодную и красную, и спрятала в своей муфте.
Апрельское солнце неумело высунулось из-за серой тучки, нерешительно скользнуло по желтому песку аллеи и снова спряталось. Одинокая черная галка покосилась на Шурочку и перелетела на соседнее дерево.
— Теплая штука! — промолвил Черняев, пошевеливая в муфте озябшими пальцами. — При Екатерине с муфтами офицеры ходили.
— Это ты к чему?
— Так… Соболья, гм… На одну такую муфту можно год прожить. Даже военный…
Шурочка чуть-чуть сдвинула узенькие темные брови.
— И даже революционный… Ну?
Черняев высвободил руку, достал портсигар и снова спрятал его в карман.
— Гм… Ну, напрямки, пожалуй, лучше. Шурик, милый, ты не сердись. А только мне страшновато. Я — ты знаешь, гол, как сокол. Уроками, да корректурой — едва сыт. Житьишко — интеллигентское. А ты привыкла в соболях. Вот, поедешь к тетке, в усадьбу, а там, сама говорила, — рай земной, экипажи, лакеи, повара… Музыка всякая, поэзия, пикники, обеды в восемь блюд, а осенью… вместе с мужем на пятый этаж, черную корочку глодать, и то еще, если сама под дождиком в очереди постоишь.
Шурочка засмеялась, негромко, суховатым смешком.
— Так… «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь»… Только… Увы, мой нареченный, я беднее вас. Я выросла в семье, где пять душ живут на жалованье почтового чиновника. Мой старичок-отец по утрам чистит себе ваксой сапоги, и они у него с заплатками, а моя великолепная maman — варит борщ, вкусный борщ, хотя и не всегда с сосисками, и по субботам моет полы. Ах! Виновата ли я, что сестра моей матери, тетя Липа родилась в сорочке? Вышла за купца, прожила с ним пятнадцать лет и благополучно проводила на кладбище. При жизни мужа она и сама не знала, бедны они, или богаты. Покойничек откладывал каждую копейку, жену одевал в ситцы, сам ходил в ватном картузе, держал деревенскую стряпуху, а умер и оставил жене два имения, три баржи и денег уйму. А тетя Липа собак боится, кошек не держит и в целом свете у нее только две слабости: племянница Александра, да еще домашняя настойка на вишневых косточках. В прошлом году, когда мама была больна и думали, что придется везти ее в город делать операцию, написали тетушке Олимпиаде Петровне и получили от нее сорок рублей и собственноручную приписку на бланке перевода: «Все, что могу». А меня она засыпает подарками, шубку, вот эту и муфту, которая вам жизнь портит. И за пансион мой платит, и на курсах, и за абонемент в оперу. И ждет не дождется, когда я приеду, чтобы нянчиться со мной, наряжать меня, как принцессу и, в минуты откровенности, после ужинов с вишневкой, мечтать вслух о светлейших князьях, которые из-за моей руки друг друга на дуэли протыкают шпагами. Да, тетушка моя — факт, и вам придется с ним примириться, или…
Шурочка умолкла, перевела дух и закусила губку.
— Или? — повторил студент, заглядывая в карие опущенные глаза.
— Или… «ступай себе налево, — ему сказала дева»…
Черняев молча усмехнулся в усы.
Солнце прочно спряталось в тучах. Сбоку, с лужайки потянуло сыростью, и с глухим шумом качнулись черные, кривые ветви берез.
Шурочка зябко повела плечами.
— Мне холодно, — сказала она вставая.
Молча пошли к выходу из сада. Шурочка шла, опустив голову и полуотвернувшись от своего спутника. На ее ресницах дрожали первые слезинки.
— Господи! — заговорила она срывающимся голосом, безжалостно крутя пуговку жакета. — В такое время… Послушать вас всех… Сколько слов! Сколько слов! «Равноправие… Дорогу женщине! Женщина такой же человек»… А стоит только этому человеку иметь свой кусок… Стоит только не нуждаться в вашей поддержке… и уже… Готово! Мужское самолюбьишко закусило удила и вот, трагедия. Твое, мое, я бедняк… Что же ты хочешь, наконец? Чтобы я поссорилась с доброй старухой, наотрез отказалась от ее помощи и, в угоду вашему мелкому… Да, да! Забыть старуху, чтобы она спилась от тоски, окружила себя приживалками, богомолками и все свои капиталы рассовала по монастырям? А отец? Через год ему отставка с пенсией в тридцать два рубля. Ты думаешь, что я только о себе хлопочу, и все мои планы, мечты не идут дальше этих тряпок. Ах! Соболья муфта. Да, а раньше была скунсовая, великолепная, но ее недавно разрезали там, дома, и вышел воротник для сестренки и шапка для Петьки.
Шурочка подняла вуалетку и прижала к глазам маленький, скомканный платочек.
— Ну, вот… — развел руками Черняев. — Разве это — моя мысль? Бог с ней, с твоей взбалмошной тетушкой, мне она не мешает, но ведь ясно же, что, узнав о нашей… свадьбе, она тебя и знать не захочет. Вместо княгини, вдруг — гражданская жена нищего студента.
Ласково улыбнувшись он заглянул под шляпку своей спутницы.
— Я уверен, что она и муфту потребует обратно.
— А мы не отдадим! — ответила улыбкой Шурочка. — Вот, затем-то я и зову тебя к ней. Приедешь и как это? «Vеni, vidi»… Сыграешь с ней в преферанс, придешь в восторг от наливки, а тетя Липа — от тебя и… остальное я уже беру на себя и увидишь: к осени она сама начнет нас сватать.
Кстати, теперь и предлог для твоего приезда — великолепный. Скажем ей, что ты агитатор, приехал о земле рассказывать. Хорошо?
Шурочка подняла голову и, как ласковый котенок, прижалась к руке Черняева.
— Милый Дима, не нужно больше об этом. Мне нельзя ссориться с моей деревенской старушкой. Она все мои секреты знает и до сих пор хранит, как могила.
— А много их? — улыбнулся Черняев.
— Не смейся. Благодаря ей, мне удалось скрыть от своих старичков и свой арест тогда… и высылку из города под надзор все той же тети Липы.
— Да, помню, я что-то слышал. И долго тебя держали в узилище?
— Около месяца. Ах, все это было точно в оперетке… и жандармы и тюрьма… смешно и глупо. Забрали сначала мою подругу по курсам, Олечку Вурст, нашли у нее мои письма, записки и решили, что я тоже политическая преступница. Дима, посмотри на меня, — похоже?
— Гм… Маловато.
— Впрочем, — добавила Шурочка, звонко рассмеявшись. — Я тогда была стриженая, после тифа. И книжки у меня были разные… рядышком с «Ключами счастья» — лежал Каутский.
Шурочка умолкла и отодвинулась от своего спутника. Они уже выходили из парка, и порыв холодного ветра встретил их на улице облаком пыли.
— А что сталось с этой, с твоей подругой? — спросил Черняев.
— Ах, ее, кажется, судили… Но меня уже не было здесь. Я уже была на Волге и упивалась парным молоком, сиренью и тетушкиной любовью. А подруга эта… Бог с ней! Она вообще… оказалась хуже, чем я думала.
Шурочка остановилась и заглянула в глаза Черняева.
— Дима значит — до вторника? Раньше не придешь?
— Едва ли удастся.
— Ну, ладно. Я весь вечер буду дома. Приди пораньше! Хорошо?
II
Шурочка проснулась поздно, с тяжелой головой, и долго валялась в постели. Старалась вспомнить свой сон, и ее маленький, слегка вздернутый, носик, смешно морщился.
Снилась ей сначала дорога, длинная, длинная и совсем без конца, потом чья-то черная кошка с зелеными круглыми глазами, а под конец, белобрысенькая Олечка Вурст, вся в веснушках.
Шурочка улыбнулась и пожалела, что нет здесь тети Липы. Знаменитая отгадчица снов была тетушка, самому фараону угодила бы.
А бывшую подругу и вспомнить неприятно: ласкалась, как котенок, умница была, над своей кроватью развесила портретную галерею великих социалистов, а на прощанье оказалась воровкой.
Уехала неожиданно, не предупредив Шурочки и, без ее разрешения взяла из комода восемьдесят три рубля с мелочью… Это бы еще ничего, но пропали и все документы Шурочки: и паспорт, и метрика, и квитанция с курсов, и даже билет в оперу.
Шурочке пришлось хлопотать около месяца, публиковать о пропаже документов на имя Александры Павловны Зверковой, бегать по участкам, телеграфировать тетке… А Олечка эта точно в Америку сбежала. Никаких следов.
После этой «науки» Шурочка решила жить одна. Вдвое дороже обходится и скучней, но зато уже спокойней. Научилась запирать комоды и носить с собой ключи.
А теперь, после объяснения с Дмитрием, Шурочка очень довольна своим одиночеством. Никто не мешает. Ничей любопытно-сочувствующий нос не суется в ее маленькую тайну.
Вот можно и сейчас, на свободе, подумать о нем и обо всем, «что ждет впереди». Ну, хорошо. С тетей Липой она справится, а своих стариков можно пока и не посвящать в эту «тайну». Осенью будет свадьба. Гм… То есть, свадьбы-то, фаты, цветов, подруг, «Исаия ликуй…» и прочего не будет. Снимут комнату побольше, или маленькую квартирку, где-нибудь на острове, и… И начнется всяческая проза. Дима будет бегать по урокам, а она варить обед на керосинке. А Шурочка ничего не умеет… Прощайте, значит, книжки, и музыка, и портрет, милый портрет лорда в Эрмитаже, к которому Шурочка ходит каждую неделю, и шелковые чулки, вот эти, что сейчас так ласково обнимают ее ногу. Да, а все-таки Шурочка влюблена. И все это пустяки. И нет такой жертвы, которую бы она не принесла за одну его улыбку, добрую и в то же время ироническую. За ласковый взгляд его серых, слегка близоруких глаз…
И, вот, сегодня уже пропал весь день. Шурочка встанет, напьется кофе и будет долго-долго возиться с прической. Мягкие, послушные локоны лягут так, как она захочет, но, ведь, сегодня придет Дмитрий и, значит, возня с прической будет бесконечной, и в зеркало будут глядеть сердитые, ничем недовольные глаза Шурочки. Потом она начнет перебирать свои блузки. Бледно-желтая ей к лицу, но у нее слишком глубокий вырез… и Шурочка еще побаивается иронической улыбки. Белая — подарок тети Липы и слишком нарядна, на воротничке настоящий «брюссель». Возможно, что он и не разберет, но довольно с нее уже и тех разговоров о собольей муфте.
Когда же со всем этим будет покончено, тогда начнется самое страшное: потянутся пустые часы ожидания. Маленькая стрелка на золотых часиках остановится совсем. В мыслях будет милая и противная путаница, в книгах — только слова без смысла. И вся эта болезнь называется любовью. Ох! Уехать разве? Поискать лекарства под крылышком у тети Липы?
Шурочке грустно. Опустив руки, она ходит по комнате от коврика у кровати к окну и обратно, вынимает из-за пояса часики и ловит себя на смешном вздохе.
III
Черняев приходит поздно. В руках у него небольшой пакет в желтой бумаге и пучок ландышей, почти еще зеленых, полураспустившихся.
— Однако! — встречает его Шурочка. Голос ее суховат, но в глазах уже улыбка.
— Прости! — говорит Черняев, целуя тонкие, холодные пальцы Шурочки. — Сегодня опять остановились трамваи. Я всюду пешком и всюду с опозданием. Устал страшно!
Он бледен и кажется больным.
Шурочка заглядывает в его глаза. Из-под слегка припухших, обветренных век на нее поднимается чей-то незнакомый, хмурый взор.
— Ты болен, Дима? Простудился?
— Нет, только устал. Я принес вина, — говорит он, указывая глазами на свой пакет. — Вот выпью стакан и оживу. И дай мне чаю, горячего.
Шурочка хлопочет у стола, а гость сидит молча, не поднимая головы.
В руке Шурочки звякает блюдце.
— Нет, ты должен сказать, что с тобой? Что случилось?
Знакомая, милая улыбка трогает его губы.
— Не обращай внимания… Просто нервы… весна…
Шурочка молча и тихо целует его лоб и прядку смятых фуражкой волос.
— Бежать, скорей бежать отсюда, — шепчет она. — Здесь и весна — мученье… И любовь — пытка.
— Пытка! — повторяет новый, незнакомый голос.
— Дима!
— Эх!.. — Черняев встает и подходит к столу. — Выпьем-ка лучше за эту, нашу… пытку. Повторяю, милый зверенышек, не обращай на меня внимания. Я сегодня был на… одних похоронах. Товарища одного хоронил… Славный был парень… но умер и в землю зарыт. Ну, бери же стакан и до дна!
— Кто умер?
— Все равно… Уже не встанет.
Шурочка молчит. Медленно пьет вино и смотрит, смотрит, не отрываясь, на бледное осунувшееся лицо, на лихорадочно горящие глаза своего любимого. В ее груди уже тревога. Черная когтистая лапа сжимает сердце… И Шурочка ничего не может понять. «Экзамены… Переутомился…» — пробует она объяснить и снова заглядываете в чужие, пугающие глаза.
А Черняев курит, не переставая, и молча улыбается своим думам.
Шурочка не выдерживает больше.
— Дмитрий, — говорит она и в ее голосе тоже нет ласки. — Уходи! Я не понимаю тебя сегодня… хуже — я боюсь тебя, такого. Тебе необходимо лечь, выспаться. Завтра я приду к тебе. Завтра ты скажешь мне все… А теперь уйди! Я ждала тебя. Я считала минуты… Одно из двух: или сейчас же все, на чистоту, всю душу… или — прощай!
— Не гони меня, — говорит он и медленно подходит к Шурочке. Берет ее голову в обе руки и целует свою невесту неожиданно горячим, полубезумным поцелуем.
— Прости меня!.. Я не должен был сегодня приходить к тебе. Налей мне вина еще… и себе. И расскажи мне что-нибудь о своей тете Липе… О том, какой у нее рай земной и как мы, взявшись за руки, будем бродить «под кущами райских садов».
Черняев отходит к окну и закуривает папиросу.
Шурочка молчит. Смотрит на свои руки, внимательно, не отрываясь.
— Мы не годимся для рая… — говорит она.
— Гм… Ну, что же? Яблоки растут везде. И каждая Ева умней своего Адама.
— Да? Мне скучно, — отвечает Шурочка и медленно допивает вино.
— А мне уже весело! Ты подумай только, какая это чудесная стальная броня — твои глаза, глаза любимой, зеркало ее души. Вот, я смотрю в них… Ясное небо, хрусталь…
— Продолжай, ты увидишь и слезы.
— Нет, такие, как ты, не плачут. И вообще слезы эти — ваши женские, пора кончить… Вы уже во всем сравнялись с нами, и в труде, и в лени, и в доблести, и… в подлости. Не сердись, детка, есть и такие… Осталось вам только одному научиться: нашему уменью глотать слезы.
— И тогда?
— Тогда начнется великая битва, и мы победим. Ну, расскажи мне, что ты делала сегодня? Читала газеты? Да?
Черняев близко заглядывает в глаза Шурочки, в самые зрачки.
— Нет, я даже не выходила из дому.
— Жаль, сегодня есть кое-что интересное… Впрочем, уходя, я оставлю тебе свою газету. Прежде, чем заснуть — просмотри!
— Чтобы заснуть?
— Нет, чтобы… проснуться, как я.
Шурочка сдвигает брови.
— Дай сейчас! — говорить она.
— После, успеешь — улыбается Черняев. — Сначала дай мне твои руки… И губы… И глаза твои, ясные… И ничего нет. Ты слышишь? Ничего, кроме моей любви к тебе… Ты моя сегодня!..
IV
Рано встает весеннее солнце, но еще раньше уходит Черняев. Тихонько выливает в стакан остатки вина, пьет и долго, задумчиво смотрит на спящую Шурочку. Потом вынимает из кармана смятую газету, медленно, стараясь не шуршать, развертывает ее и кладет на стол, покрывая газетным листом пустые стаканы, корзиночку с хлебом и вазочку с вареньем. С любимым Шурочкиным вареньем из морошки.
Еще один, долгий взгляд на бледное лицо, на опущенный ресницы… и, чуть скрипнув дверью, Черняев выходит.
Шурочка спит. Золотисто-розовые любопытные лучи апрельского солнца обшаривают всю комнатку. Их все интересует: и мягкая соболья муфточка, брошенная на стул у двери, и разорванный кружевной воротничок на Шурочкиной блузке. Они перебирают каждый волосок в расплетенной косе и тихонько целуют розовую руку с ямочкой у локтя…
Нескромные весенние лучи уже проникли в маленькую тайну минувшей коротенькой ночи и теперь они торопливо дочитывают в газете черные строчки, обведенные красным карандашом. Подслеповатые строчки под заголовком: «Девятый список провокаторов». Много их тут… Много слабеньких, свихнувшихся, дешевеньких искариотиков… А в красной рамке — Шурочка, бледная, спящая царевна, тетушкино божество. Полностью она обозначена: «Александра Павловна Зверкова, курсистка, на службе с 1913 г., полезная осведомительница, жалованье 125 руб.»
Бегают по строчкам розовые зайчики, перешептываются и смеются, но не слышит их Шурочка. Крепок сон после ночи весенней. И ровно дышит грудь ее, обожженная первой лаской, первым и прощальным поцелуем любимого.
1917 г.
В белой тишине
I
На длинной белой руке с голубыми жилками тускло поблескивает тяжелое обручальное кольцо. Клавдия Викторовна задумчиво вертит его вокруг пальца, потом захлопывает шкатулочку с принадлежностями manicure и лениво потягивается.
«Глупо все это… — думает она. — Назад не повернешь. Да могло быть и хуже. Каждый жених — кот в мешке. Каждый брак — аллегри. Стива еще лучше многих. Суховат, увяз по уши в делах, в искусстве — профан, но… директор фабрики и владелец каменной стильной дачи на островах, может же позволить себе роскошь любить пейзажи Клевера и стихи Апухтина… К тому же он еще не стар и под руководством такой жены… Гм…»
Клавдия Викторовна досадливо пожимает узенькими плечами.
«Нет, — решает она. — Из этого ничего не выйдет. Красоту нужно чувствовать, эстетами родятся. Степан Егорович так и умрет, не понимая, почему люди сидят истуканами над гравюрами Дюрера…» Уже ясно: дороги у них разные, и друзья, и знакомые и все — отдельное. Она — поэтесса, он — коммерсант. Он встает в восемь утра, она ложится в три. Он по утрам ест холодный ростбиф и читает передовицы, она — пьет шоколад и перелистывает книжки «центофуга». Стива почти не интересуется ее творчеством, она же никогда не спрашивает его о курсах на акции. А все-таки… Жить можно. И у них бывают минуты, даже часы, когда жрец Меркурия вкусно, очень вкусно целует жрицу Аполлона и она, в свою очередь, горячо прижимается к его бритой щеке, чуть-чуть колючей, чуть-чуть пахнущей одеколоном «Фарина».
А все же, два года тому назад, Клавочка мечтала не об этом. Он, ее будущий, казался ей другим. Непременно художник, артист. Тонкие женственные руки, грустный взор. Вокруг них — богема, милая, шумная… Быть может, мансарда, это ничего. Но в углу камин. И сумерки долгих вечеров, и тихие речи, и незримые вечные нити между двумя душами, открывающимися, как ночные цветы… Аромат поэзии, борьба, ступени достижений и, наконец, — слава.
Клавдия Викторовна улыбается, встает с диванчика и через большую, утонувшую в зимних сумерках гостиную, идет к мужу.
— Скучаешь? — спрашивает Степан Егорович, заглядывая в ее глаза. — Я, значит, спутал. Мне казалось, что сегодня ты в опере… А у меня столько дел. Придется даже уехать дня на два…
— Куда?
— За границу, — улыбается он. — В Гельсингфорс, к чухнам. Нужно лично сговориться, им сколько не пиши…
Клавдия Викторовна молча ходит за спиной мужа. Подойдет к окну, взглянет в серое, уже темнеющее февральское небо и снова возвращается к двери кабинета. Высокие, острые каблучки ее туфель бесшумно вязнут в мягком ковре.
— А послать кого-нибудь?
— Некого, — разводит он руками. — Управляющий в Москве, раньше вторника не вернется… Нет, нужно самому. Ты уж поскучай, Клавочка. За это я тебе что-нибудь привезу оттуда.
— Например?
— Ну… — Степан Егорович замялся, и пощелкал пальцами.
— Шведский пунш, — подсказала она, улыбаясь. — Шведскую куртку, шведские сигары…
— Ты права! — рассмеялся он. — Я совсем не знаю, что там у них свое, кроме сметаны… Скучная сторонка!
Клавочка утонула в глубочайшем кожаном кресле-качалке, свернулась клубочком и спросила:
— Когда же ты едешь?
— Да нужно скоренько. Сегодня же, с вечерним поездом.
— Знаешь что? Возьми меня. Я не помешаю?
— Нет, нисколько, — слегка замялся он. — Но, там же и вообще тоска, и тебе придется сидеть одной в гостинице.
— Ничего, — улыбнулась она, закрыла на минуту глаза, дважды качнулась, и, по милому капризу женского сердца, вспомнила почему-то Ибсена… северные богатыри… фиорды…
— Нет, решено! — сказала она, вскочив с кресла. — Я еду с тобой. Сейчас же буду укладываться… В один чемодан… Дня на два? Не больше?
— Понравится, так хоть неделю… Только ты завтра же потянешь меня назад. Я уж знаю.
— Увидим! — ответила она и, шурша коротенькой шелковой юбочкой, торопливо вышла из кабинета.
Степан Егорович задумчиво поглядел вслед, закурил сигару и стал писать письма. Порылся в большом черном портфеле, встал и быстрыми шагами пошел к двери. На пороге круто повернулся, махнул рукой, и, с досадой, поскреб в затылке, испортив свой безукоризненный английский пробор.
II
Клавдия Викторовна открыла глаза, приподнялась на локте и заглянула в окно. Уже светало. Поезд бежал в широком коридоре, с черными, слегка занесенными снегом, стенами. На черном граните ухитрились приклеиться молодые невысокие сосенки. Кусты можжевельника сбегали вниз, к самым рельсам…
— Проснулась? — спросил Степан Егорович. — Что, невесело? — кивнул он на окно. — Природа дикая… А я уже давно не сплю и все думал, будить тебя или не стоит? Через полчаса мы будем в… Хювицке. Ох! Чуть язык не сломал… Под Гельсинки… Есть такая станция, что-то вроде курорта для белых медведей. Если хочешь, выйдем, позавтракаем на вокзале, покатаемся на санках, влезем на горку… Все равно еще рано… А со следующим поездом и дальше… Хочешь?
Клавочка потянулась, зевнула и снова приподняла уголок синей занавески.
— А кофе там есть? — спросила она.
— Великолепнейший и булочки с необыкновенным маслом.
— Ну, хорошо. А ты откуда знаешь? Ты разве бывал здесь?
— Я? Гм…
Степан Егорович нагнулся и поискал под диванчиком теплые ботики жены.
— Где я только не бывал? — сказал он с улыбкой на порозовевшем лице. — Одевайся, Клавочка, сейчас приедем.
— Нет, когда же ты был здесь? С кем?
— Ах, в прошлом году. Здесь комиссионер один жил, у него своя дачка. Я заезжал к нему по делу, от поезда до поезда… Клавочка, осталось четыре минуты…
Клавочка одобрила все: и кофе, и резвую рыжую лошадку и бубенчик под дугой.
Катались после завтрака долго, пока не замерзли. Лесной дорогой, с горки на горку, под ленивыми пушистыми хлопьями. Возвращаясь к станции, остановили лошадку и любовались на школьников. Здоровые, розовощекие мальчуганы на коньках бежали один за другим к невидимой школе, спрятавшейся на высоком холме за густыми, черными елками. Цепкие, как котята, взбирались они на гору и, смеясь, скользили дальше по снежной дороге.
— Счастливые! — вздохнула Клавдия Викторовна. — Здесь так тихо, как… во сне. Я хотела бы пожить в одном из этих домиков под соснами.
— Что ж? Оставайся! — пошутил Степан Егорович. — Я устрою тебя в пансионате, денька на два, на три, и на обратном пути…
— Нет, благодарю, — улыбнулась она. — Я и так уже замерзла. Хочу чаю.
Снова сидели в буфете на станции, пили чай и ждали поезда. Потом Степан Егорович вышел купить сигар, и Клавочка осталась одна. Облокотилась на жесткую деревянную спинку скамьи, зевнула несколько раз в муфту, усталая и сонная от долгой езды на морозном воздухе. Поглядела на желтый сосновый потолок, на занесенные снегом маленькие окна, на черную собачонку, сидевшую у дверей, поджав к груди переднюю лапку. Двери громко хлопали. Входили кондуктора, извозчики-финны в шапках с наушниками и забавными помпонами, изредка заглядывали пассажиры.
Вошла дама в длинной плюшевой шубке, видимо шведка, беловолосая, розовая и рослая и, в двух шагах за ней, человек, закутанный в оленью доху, в высокой котиковой шапке.
Клавочка скользнула скучающим взором по его лицу и выпрямилась, широко открыв глаза. Даже привстала немного, уронила муфту на колени и почувствовала, что ей уже совсем, ни капельки не хочется спать…
А человек в дохе медленно подвигался к ее столику. Шел он усталой походкой, волоча по асфальтовому полу длинные ноги в высоких войлочных ботах. Худой, костлявой рукой расстегнул шубу у воротника и, в свою очередь, взглянул на Клавочку далеким, невидящим взором.
Она взяла себя в руки. Опустила глаза, порылась в муфте.
«Господи, что это за лицо? Где она видела его? И тотчас же решила: никогда и нигде. Красив ли он? Ох! Урод, откровенный, бесспорный!.. Но всех Аполлонов и Антиноев можно отдать за это безобразие… Господи!..»
Урод прошел мимо Клавочки в задний угол и устало опустился на стул. Снял шапку и провел рукой по длинным волосам. Дама его села рядом и вынув из муфты коробочку с папиросами, закурила.
Клавдия Викторовна не могла оторвать взора от лица пассажира. Изучала каждую черту. Высокий бледный лоб, глубоко прорезанный двумя вертикальными бороздами. Желтые втянутые щеки, гладко выбритые, тонкие губы, раз навсегда искривленные горьковато-насмешливой полуулыбкой. Большие темно-серые глаза в темном венчике, глаза, казалось, ничего не видящие, но полные неустанной, напряженной мысли…
Клавочке стало жарко. Она распахнула шубку, сбросила горжетку.
— Не простудись, Клавочка, — сказал подошедший сзади Степан Егорович. — Здесь сквозняки.
— Взгляни туда! На задний столик. Видишь? — спросила она, указывая мужу глазами.
Степан Егорович повернулся, поглядел на пассажира в дохе, на его даму, и на розовом лице фабриканта мелькнул испуг.
— Гм… ну? — спросил он дрогнувшим голосом, переведя на жену смущенный взор.
— Видишь это лицо? — повторила Клавочка. — Что-то необыкновенное… Правда? Ах, как бы я хотела узнать, кто он? Мне даже и не снилось встретить… Только на старых картинах.
Степан Егорович облегченно вздохнул и даже попробовал улыбнуться.
— Уф! Ты про этого длинноволосого? Гм… Мощи какие-то… Я же говорил тебе, что здесь санаторий… Вероятно он оттуда. Больной, по всему видать… Ну, Клавочка, сейчас придет поезд. Застегнись потеплей! Ишь ты раскраснелась после чаю-то… А морозец крепчает, я сейчас смотрел: шесть градусов. Ну, через час с небольшим будем в Гельсингфорсе. Вот, только боюсь, что все отели — битком. Нынче там русских без счету, дела всякие, а есть и такие, что просто попьянствовать наезжают.
III
Клавдия Викторовна сидела одна в номере гостиницы и глядела в окно на улицу.
Ей было скучно, как только может быть скучно в сумерки, в чужом, северном городе.
На эспланаде загорались один за другим фонари, и серебристые полоски света из окон магазинов протягивали коврики на тротуарах, только что посыпанных желтеньким, просеянным песком.
В маленьком скверике, закутавшись в белый снежный воротник, стоял бронзовый Рунеберг. Единственная редкость, поставленная сюда за песни, среди вечно безмолвных сугробов. Под окнами гостиницы позвякивали милые бубенчики маленьких лошадок, запряженных в высокие санки, а рядом, за углом, изредка пробегали зеленые игрушечные вагончики трамвая. Вторые сутки шел снег и ветер с моря гнал мимо окна ленивые задумчивые снежинки.
Клавдия Викторовна посматривала на свои эмалевые часики, садилась в неудобное жесткое кресло из желтого дерева, за такой же желтый письменный столик, покрытый холодной клеенкой, брала листик почтовой бумаги, испорченный до половины рекламами и номерами телефонов, и пробовала писать стихи. Скрипучим пером нацарапала три строчки сонета:
Юдоль тоски. Страна застывших песен, Вечерних снов, и белой тишины. И мертвых рек, непомнящих весны…Потом разорвала бумажку, бросила под стол и прилегла на широчайшую деревянную кровать.
И снова стала думать об утренней встрече: «Кто он такой? Что он делает? Какое великое горе носит он по этой мерзлой земле? Почему нигде, ни за границей, ни в России она не встречала ни разу человека с таким лицом, с такой печатью культуры, мысли, ума? Откуда на этом лице мученика, точно сошедшего с картины Фра-Анжелико; эта улыбка горькой иронии, почти мефистофельского сарказма? Какой недуг выпил блеск и жизнь из его нездешних глаз? Какая бессонная дума сдвинула навеки эти темные, орлиные брови?»
Поднявшись с кровати, Клавочка подходила к зеркалу и поправляла прическу. Снова вынимала из-за пояса часики. «Господи! Где же противный Стива? Куда он провалился с самого утра? Она уже голодна. Давно пора обедать»…
Снова смотрела в окно на замороженного поэта, снова ходила из угла в угол по пестрому коврику с аляповатым рисунком.
«Вот, такие лица у фабрикантов не бывают. Он, конечно, писатель, или ученый… Может быть адвокат, член этого… сейма. Вождь какой-нибудь партии. Хотела бы я услышать его голос. Неужели никогда не загораются эти глаза? Возможно, что он художник. Такое лицо должно быть у строителя Сольнеса. Или нет, нет! У лейтенанта Глана, у героя гамсуновского „Пана“. Да, если бы она умела рисовать, она изобразила бы этого человека в охотничьей куртке, с ружьем в руке, стоящим на лесной опушке, под старой, старой сосной. Или всходящим на высокую башню, с руками, протянутыми к солнцу»…
Стукнув в дверь вошел Степан Егорович, розовый и оживленный.
— Прости, детка, — заставил тебя ждать. Столько дел переделал сегодня. Что, проголодалась? Идем скорей обедать, а на вечер я взял билеты в здешнюю оперетку. Шведская труппа… И, главное, очень удобно, театр в этом же доме внизу, не нужно даже и шубы, и после спектакля — прямо в постельку. А что ты делала без меня? Скучала? Завтра я буду свободен и покажу тебе весь город, и в музей заглянем, и в порт, и обедать пойдем в компании с одним моим здешним приятелем. Пукконен его фамилия. Необыкновенный финн, разговорчивый, и даже смеяться умеет. Вот, увидишь!
Обедали наспех. Ели холодноватый бульон и великолепную, тающую во рту, камбалу, утопавшую в восхитительном масле.
Клавдия Викторовна задумчиво грызла сухие, твердые как гранит, галетки, а Степан Егорович ворчал на официантов.
— Ни по-каковски не желают разговаривать… Ты ему на всех языках можешь объяснить с равным успехом. Скажешь: вилку, а он тащит прейскурант. А туда же, стараются под французскую кухню. Только и хорошо здесь, что пунш. Льду не жалеют. Клавочка, о чем ты мечтаешь? Налей мне кофе. Нужно поторапливаться; шведы народ аккуратный, занавес поднимают минута в минуту…
— А что дают сегодня? Какая оперетка?
— А кто же ее знает? — улыбнулся Степан Егорович. — Я по-шведски не читаю. Да и не все ли равно? Послушаем музыку и спать. Что ты там ни говори, а хорошо выспаться можно только в постели. В поездах я не умею, — стучит, свистит, трясет…
В театр все же опоздали. Первый акт уже кончался. Театральная зала была маленькая, полутемная и наполовину пустая. В антракте потолкались в тесном вестибюле. Степан Егорович закурил черную сигарку, понюхал дым и бросил.
— Этакая скотина! — сказал он. — Чухна богатейшая, за войну сотни тысяч нажил, а сигары курит… Ах, этот Пукконен! Хватает же совести угощать этакой дрянью. Завтра я ему припомню. Пойдем, Клавочка, слышишь звонок?
Клавочка сонно смотрела на сцену, тихонько зевала и морщилась. Примадонна пронзительно взвизгивала на высоких нотах и с застенчивой улыбкой прикрывала коротенькой юбочкой толстые ноги в розовом трико. Безголосый тенор поводил голубыми глазами и прижимал к правому боку широкую ладонь. Хор был лучше и пел старательно, свежими молодыми голосами.
Лицо одной хористки, высокой блондинки, показалось Клавочке знакомым. Она, прищурясь, поглядела на белые, словно льняные, кудряшки, на мраморную шею хористки и вспомнила.
— Смотри! — шепнула она Степану Егоровичу, прислонившись к его плечу. — Это она… вот, третья слева, высокая… Это та дама, что была с ним на вокзале.
— Кто? С кем? — спросил он. — Гм… Да, пожалуй… А, впрочем, все они похожи…
— Нет, это она, — решила Клавочка и ей показалось, что хористка, взглянув в ее сторону, в свою очередь, вздернула кверху подрисованные брови и, улыбнувшись, слегка кивнула головой.
Степан Егорович негромко кашлянул и поднес к глазам афишку.
— Взгляни-ка на потолок — сказал он жене. — В иной конюшне лучше. Даже не покрасили. Голые доски. Убогая сторонка!
«Ну, да… — думала Клавочка. — Несомненно он близок к театру. Быть может композитор, или драматург. Вот и эта была с ним… Гм… Что у них общего? Какая-то хористочка и он. А, впрочем, сердце мужчины… Лучшие из них женятся чуть ли не на своих кухарках… Вспомнить хотя бы историю Захер-Мазоха… Конец Гейне… Это в жизни. А в литературе, Боже мой, сколько таких примеров!.. И разве не глубоко правдив роман Мопассана „Наше сердце“? И разве тот же Глан не искал лекарства у простенькой Евы против яда другой… Но почему она мне поклонилась? Или это только мне показалось?»
После спектакля, поднявшись к себе в номер, Степан Егорович походил по коврику, поглядел на сонную утомленную Клавдию Викторовну и вдруг хлопнул себя по лбу.
— Что же это я? Из головы вон, а у меня еще дело сегодня внизу. Назначил одному покупателю к одиннадцати часам… Ах, ты память какая… Девичья! Ты ложись, Клавочка, а я сбегу вниз в ресторан на полчаса. Может быть прислать тебе чего-нибудь?
— Нет, я уже засыпаю, — ответила она, сидя перед столиком и вынимая из прически гребешки и шпильки. — Не пей много, Стива… — попросила Клавочка сонным голосом и сладко, протяжно зевнула.
— Нет, детка, не беспокойся. Я только на пару слов. Покойной ночи!
И, поцеловав жену, Степан Егорович торопливо вышел, почти выбежал из номера. Спустился этажом ниже и быстро зашагал по жесткому просмоленному мату длинного коридора. Остановившись у крайней двери, он дважды стукнул в нее согнутым пальцем и тихонько кашлянул.
Щелкнула задвижка, и дверь приоткрылась. Степан Егорович шагнул через порог и, улыбаясь, взглянул в серые глаза высокой беловолосой женщины в широком, голубом халатике.
Она молча заперла дверь и, повернувшись, положила на плечи Степана Егоровича свои прекрасные, белые, как сметана, руки.
IV
На следующее утро поднялись поздно. Лениво и долго пили кофе, читали путеводитель по Финляндии.
— Я не слышала когда ты вернулся, — сказала Клавдия Викторовна.
— Да, я старался не разбудить тебя. Ты так крепко спала. Я и сам едва добрался до кровати. Боялся, что усну в ресторане… Ну, что же поедем хотя бы в музей? Нужно же что-нибудь посмотреть.
— Поедем! — встала она. — Знаешь, Стива, я уже соскучилась по дому. Плохая я путешественница.
— Ну, что ж? Сегодня же и обратно, с вечерним поездом, без пересадки, к утру и дома. Я уже все дела покончил, вот только еще сегодня с Пукконеном переговорю за обедом и все…
Взяли таксомотор и в полчаса объехали весь город. Степан Егорович, покачиваясь на подушках, казалось, тихонько дремал, а Клавочка с любопытством глядела на высокие гранитные дома, вывески магазинов, лица прохожих.
— Я все думаю, что бы такое привезти отсюда на память? — сказал Степан Егорович. — Вчера я хотел купить тебе духи. Куда не зайду, везде белобрысые девицы выставляют мне напоказ наши же московские флакончики. Свой у них только одеколон, да и тот смолой припахивает… Надо будет ужо Пукконена спросить, пусть посоветует.
Проехали мимо русской церкви на высокой горке и остановились у какого-то мрачного здания с красной крышей.
— Музей, — произнес Степан Егорович. — Пойдем побродим!
Купили внизу билет и поднялись по широкой гранитной лестнице.
Клавочка залюбовалась.
— Старина! — сказала она.
— Гм… Да, — пожевал губами Степан Егорович. — Тут какие-то рыцари собирались, или что-то в этом роде… Только откуда же у них рыцари? Те же шведы.
По желтым, навощенным полам переходили из комнаты в комнату, разглядывали старинные латы, огромные мечи, шелковые диваны и уродливые кресла. В одной из комнат стояла целиком крестьянская избушка. Клавочка даже вошла в нее через низенькую дверь, поглядела на убогую печку, на корявые деревянные лавки у стен, и тихонько вздохнула:
«Жили же тут люди»… — подумала она и вспомнила о своем будуаре.
По музею бродили гуськом мальчики и девочки под предводительством тощих длинных девиц в черных платьях и в очках. В руках каждой учительницы был толстый каталог и они подолгу стояли перед витринами, растолковывая своему скучающему стаду все великое историческое значение каждой ржавой, зазубренной шпаги. Девочки глядели в рот учительницы, а мальчики старались незаметно поковырять обивку дивана, или плесень на старом рыцарском шлеме.
— Не довольно ли, детка? — спросил Степан Егорович, вынимая часы. — Там еще столько же комнат, но, помнится, все одно и тоже. Поедем-ка лучше на вокзал, запасемся билетами в спальный вагон… Да мне еще деньги нужно разменять, а там глядишь и обедать время. За нами зайдет Пукконен.
Клавочка махнула рукой.
— Как хочешь… Я жалею, что вчера одна сюда не забралась… С тобой невозможно. Посмотри на это знамя!.. Я знаю — для тебя это только старая рваная тряпка… А между тем, если бы только она могла заговорить. Какая бы дивная, увлекательная книга вышла из ее рассказа… Сколько бы славных покойников воскресло…
— Брр!.. Не тревожь их, пусть себе спят, — засмеялся Степан Егорович. — Мне даже холодно стало. Придется за обедом двойную порцию пунша…
Снова ехали по белым чистеньким уличкам, полным смеха бесчисленных бубенчиков.
— Словно вечная масленица — улыбнулся Степан Егорович. — А на кого не взглянешь — физиономия великопостная…
Когда вернулись в отель, на площадке лестницы уже стоял Пукконен, маленький, круглый, как шарик, и розовый.
— Вот он! — сказал Степан Егорович. — Аккуратный старичок, минутки не опоздает. Ну, тем лучше. Будьте нашим гидом. Везите в самую лучшую ресторацию. Кутнем на прощанье!
Пукконен оказался очень веселым человеком, бойко болтающим по-русски; усевшись в таксомоторе рядом с Клавочкой, он тотчас же заговорил о делах:
— Курс падает, как снег, всякий день, всякий час, вагонов ни за какой миллион… Но если Пукконен сказал, то Степан Егорович может спать, как невинное дитя. Все будет сделано срочно. Но вот только цена. Вы обязан мне скидывать один гривенник.
— Ишь ты, — засмеялся Степан Егорович. — И не подумаю. И так дешево отдал.
— Ну, тогда будет аккуратный неустойка. Ну, хорошо мы подождем это говорить. Вы знаете, madame, — повернулся он к Клавочке. — С русским купцом надо торговать после кушаний, тогда он покладный…
Ресторан Клавочке понравился и это очень польстило Пукконену.
— Как в настоящей Европе! — улыбнулся он. — Здесь бывают самый… общественные сливки.
Заняли столик у стены, затянутой гобеленом, под низенькой лампочкой с оранжевым шелковым абажуром. Долго выбирали закуски, и Пукконен переводил на финский язык все гастрономические капризы Степана Егоровича. Откуда-то сверху доносились звуки штраусовского вальса. Неслышно ступая по пушистому ковру подошел мэтр-д’отель и с карточкой в руках склонился за плечом Клавочки.
Клавочка подняла на него глаза и тихонько ахнула. Перед ней стоял он, пассажир в дохе. Только теперь он был в элегантном фраке, свободно висевшем на его костлявых плечах и вместо высоких войлочных калош на ногах его были лаковые туфельки.
Но уродливо-прекрасное лицо его было то же и тем же невидящим взором смотрели на Клавочку его глубокие глаза.
Клавочка беспомощно улыбнулась и побледнела… Потом перевела дух и, сказав себе: «Фу, как глупо!..» — слегка дрогнувшей рукой взяла меню обеда.
Если бы ее спросили какой был суп, она ни за что бы не ответила. Машинально, как автомат, съела какую-то неведомую рыбу и только за спаржей снова подняла от тарелки глаза и оглянулась вокруг. Его уже не было. Шумная компания рассаживалась вокруг соседнего стола. Звуки музыки наверху умолкли. Под потолком залы вспыхнули две громадные хрустальные люстры.
Клавочка рассеянно прислушивалась к словам Степана Егоровича, спорившего с Пукконеном о том, какое вино пойдет лучше к котлетам марешаль и думала: «Сказка кончена! Глупая Золушка проснулась, и принц оказался лакеем. А все-таки он прекрасен и, если дать волю фантазии, то еще ничто не погибло. В мире все бывало. Случалось и принцам путешествовать инкогнито и надевать камзолы конюха. И носить маску… Кто знает его прошлое? Кто скажет, кем будет завтра этот, единственный в мире, человек? Разве дьявол не являлся в шкуре пуделя?..»
Пукконен победил, и решено было спросить бутылку старого «шато-лароз».
Метр-д’отель появился снова. Принес в плетеной корзиночке запыленную бутылку, сам откупорил ее и разлил в стаканы рубиновое благоуханное вино.
Клавочка внимательно поглядела на его руки и вздрогнула. На левой руке не хватало среднего пальца и на кисти белел глубокий, безобразный шрам.
«Только еще этого недоставало! — улыбнулась она. — Быть может, на его спине следы плетей?.. Возможно, что герой моих мечтаний беглый каторжник»…
Разлив вино метр-д’отель отошел, взял из рук официанта ящик с сигарами и понес его кому-то через всю залу.
— Поглядите madame, на этот старший гарсон! — сказал Пукконен, зажмуривая глазки и смакуя вино. — Это очень интересный человек. Выписан из Стокгольм. Богатый, но любит свой дело. И очень несчастлив. Он женатый на одной певиц из оперетт. Она холодный, как снег, и очень бойкий, как бес… Много роман… Из-за нее приезжают здесь специально. Даже из Петроград. Она любит поклонник, а муж нет. Он имеет большую ревность и даже стрелял в один морской лейтенант. А прошлый год хотел на нее вылить кислот, но только сгорел себя левый рука. Один палец совсем долой. Она бегала в Москва, но он поймал. Страшный человек, его зовут Эрик Ландерс. От горя он стал теперь совсем худощавый и очень кашлял…
— Бог с ним! — перебил Степан Егорович. — Мало ли на свете рогатых мужей. Выпьем-ка лучше пуншу, мистер Пукконен! А?
— Мы видели их вчера в этой Ха… Хю… — улыбнулась Клавочка.
— Хювинка, — подсказал Пукконен. — О, да! Он ездил туда отдыхать, очень больной человек. А его жена стоит в ваш отель…
Пукконен сделал паузу, лукаво подмигнул левым глазом и добавил:
— Она очень в русский вкус.
Степан Егорович покосился на Клавочку.
— Вот, далась вам!.. — сказал он с досадой. — Старый вы сплетник, Пукконен…
— Хе-хе!.. — подпрыгнул Пукконен. — Ну, хорошо: будем другой разговор… Вы должны мне теперь уступать ваш гривенник. Madame будет свидетель.
— Снова за то же… — покраснел Степан Егорович. — Почему я должен?
Пукконен подмигнул на молчаливую Клавочку, и круглое, розовое личико его расплылось в добродушнейшей улыбке.
— Есть такой комбинаций, — сказал он.
Степан Егорович поглядел на него, покосился на жену и сдвинул брови, но тотчас же, в свою очередь, весело улыбнулся.
— Ладно! — проворчал он. — Я еще заеду в контору, поговорим. Ловкий вы мистер… и любопытный…
— Очень! — согласился Пукконен.
Клавочка уже не слушала. Полузакрыв глаза, она вспомнила белую дорогу между старых высоких сосен, мягкие ленивые снежинки… И в ушах ее смеялись ласковые бубенчики.
Когда уходили из ресторана, в дверях залы стоял метр-д’отель. Он почтительно посторонился перед Клавочкой и проводил их глубоким поклоном.
V
Устроившись в маленьком купе и растянувшись на своем диванчике, Клавдия Викторовна благодарно улыбнулась мужу.
— Знаешь, я довольна этой поездкой. Я слишком засиделась в нашем гнездышке, а это так освежило меня… Я не на шутку влюбилась в эти елки, и в снег, и в рыжих лошадок…
Степан Егорович был не в духе.
— Есть во что! — ответил он. — Елочки, лошадки… Благодаря тебе эта прогулка вскочила мне в несколько тысяч.
— Почему? — удивилась она.
— Из-за тебя я упустил одно дело, и Пукконен этот… Эх! Все равно ты не поймешь…
— Кажется, я тебе не мешала. Ты пропадал весь день, и даже ночью…
— Пропадал!.. — проворчал он. — Эх! Вот уж подлинно: в Тулу со своим самоваром…
— Стива!
— Да. Я предупреждал тебя, что по делу еду. Все твои поэтические фантазии: то «милые елочки», а не успели приехать — соскучилась. Если бы не ты, я еще бы на сутки остался…
— Почему ты это только теперь говоришь? — обиделась Клавочка. Села на диванчике и отвернулась к окну. — Просто, мне кажется, что ты слишком много пил за обедом. Советую выспаться!
— Одно осталось! — буркнул Степан Егорович, снял шубу и, покрывшись ею, лег лицом к стенке.
Клавочке спать не хотелось. Она сидела в уголке диванчика, вытянув ноги, спрятав руки в муфточку и думала:
«У Степана Егоровича портится характер. Это уже не первая их ссора и, каждый раз, причиной какие-то его убытки, в которых она ни душой, ни телом не виновата. Похоже, что все их семейное счастье зависит от дивидендов фабрики. Стоит пошатнуться его делам и, в их великолепной квартире, с утра до вечера будут кошка с собакой… Пока он не заставит ее сбежать к матери… А там, конечно, развод… И снова жизнь на отцовскую пенсию, счеты с кухаркой, старые шляпки… А она уже привыкла не считать деньги и не думать ни о чем, кроме искусства. Ее сонеты уже появились в трех журналах и говорят, что… Ах! Мало ли что говорят хозяйке дома, после тонкого обеда, прихлебывая кофе с шартрезом, и посасывая хозяйскую гавану…»
Клавочка зябко поводит плечами и кутается в шубку. Степан Егорович уже спит и негромко всхрапывает.
Клавочка глядит в темные стекла окна, провожает глазами летящие мимо искры из трубы паровоза и снова думает.
«Бедный этот Эрик Ландерс! Теперь уже нет сомнений; он всегда был только старшим гарсоном. В будущем, пожалуй, не помешай ему глупая страсть к дебелой певичке, он обзавелся бы собственным отелем и смущал бы своей дьявольской улыбкой глупенькие сердца приезжих Гретхен. Бог с ним!.. А все-таки она ему благодарна. Он заставил ее пережить несколько… забавных мгновений. Он оборвал узду ее безудержной фантазии, заставил даже помечтать, напомнил ее девическое прошлое, когда так легко и просто удавалось подменять жизнь книгой и правду вымыслом…»
Клавочка тихонько улыбается в полумраке купе. «Метр-д’отель» это звучит гордо!.. Был же Рюи Блаз… А впрочем и это лишь приснилось другому мечтателю и фантазеру Гюго. Да, а все же теперь ей никогда уже не удастся вспомнить о чистеньком белоснежном «Гельсинки», без усмешки над собой. И почему-то ей кажется, что это еще не конец приключению, что ей еще придется услышать об этом северном Отелло, который «сгорел себе руку», стрелял в лейтенанта и нажил чахотку, и все это из-за любви к своей «бойкой» Дездемоне…
Клавочку слегка знобит. Она покрывает колени пледом и закрывает глаза.
Хорошо бы теперь, добравшись до дому, переодеться в теплый халатик, сесть у камина в низенькое, глубокое кресло и, глядя на веселый огонь, обдумать одну работу… небольшую новеллу в жанре Джека Лондона, где героем, конечно, будет он, Эрик, героиней — одна мечтательница, а фоном — вся эта дикая, безмолвная природа, страна застывших песен и белой тишины…
Поезд останавливается на какой-то маленькой станции. Клавочка глядит в окно на оранжевые огни вокзала, на черные, мелькающие мимо окон тени пассажиров и красные, качающиеся искорки папирос.
И вдруг она холодеет, вся, до пальцев ног. Сердце Клавочки останавливается от неожиданности и смутного ужаса. Перед ее глазами, на расстоянии аршина, появляется Эрик Ландерс. Несмотря на полумрак, она сразу узнает его лицо, окаймленное мехом шубы. Почти прижавшись к стеклу он смотрит на нее в упор.
Клавочка откидывается назад, и в купе начинается коротенькая горячая борьба двух женщин под одной шубкой: Клавочка уже вскакивает, чтобы разбудить мужа, уже протягивает к его плечу дрожащую руку, но Клавдия Викторовна говорит: «Нет!» — и, с бледной, насмешливой улыбкой, снова опускается на диванчик, и, медленно повернув голову, бросает на окно холодный и чуть-чуть враждебный взгляд. Ландерса уже нет в окне. И Клавочка прижимает руку к своему испуганно стучащему сердцу.
Поезд снова трогается. И снова, вперегонку с ее сердцем, начинают постукивать колеса.
«Господи! Как он сюда попал?» — спрашивает бледная Клавочка, но Клавдия Викторовна пожимает плечами: «Так же, как и все другие… Едет в этом поезде. Все это одни нервы. Нужно постараться заснуть. Вот так! Вытянуться, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. Противные колеса, стучат, стучат… Или это сердце? Господи! Кошмар какой-то… Зачем она поехала? Холодно… И еще впереди целая ночь…»
Клавочка достает из муфты платок и тихонько всхлипывает. Потом, согревшись под шубкой, начинает дремать.
А Степан Егорович, повернувшись во сне, спускает с узенького диванчика сначала руку, потом ногу, и тяжелая шуба его скользит на пол. Тогда он открывает глаза, садится и тупо смотрит на спину жены. У него болит голова, словно по ней стучат колеса вагонов, и во рту — противный медный вкус.
Он протирает глаза, кряхтит и морщится, потом встает, надевает шубу и выходит из купе. Ему хочется пить и тянет на свежий воздух. Степан Егорович, слегка балансируя, бредет по узенькому коридорчику и открывает дверь на площадку вагона…
* * *
Клавочка проснулась от сильного толчка, зевнула и, поднявшись, взглянула в окно. Поезд стоял среди поля, и во мраке смутно белели высокие сугробы.
Вынула часики, с трудом разглядела микроскопическую стрелку и, накинув шубку, открыла дверь.
В коридорчике стоял молоденький офицер и глядел на Клавочку.
— Почему мы стоим? — спросила она.
— Не имею понятия, — улыбнулся он. — Вероятно что-нибудь случилось… Я сейчас узнаю.
Офицер, позвякивая шпорами, пошел по коридору, но не успел дойти до двери, как она распахнулась и кто-то, закутанный в черную шубу, крикнул:
— Человек упал с поезда!
Клавдия Викторовна вернулась в купе и начала торопливо одеваться, долго возилась с пряжками высоких калош, искала булавку от шляпы…
Снова подумала о Ландерсе, и сердце ее сжал суеверный, забытый с детства страх:
«Вот уж поистине дьявол какой-то!.. — подумала она. — Всюду носит с собой несчастье… А может быть это он и упал? Бросился под колеса?»
И Клавочка вспомнила о муже:
— Господи, где же Стива? Вечно провалится!.. Не могу же я одна чемодан и все…
А в это время, далеко позади поезда, копошилась на снегу черная кучка людей. На широкий растянутый брезент укладывали исковерканное, бесформенное тело, обрывки окровавленной шубы, сплющенный ботинок… все, что осталось от Степана Егоровича.
1918 г.

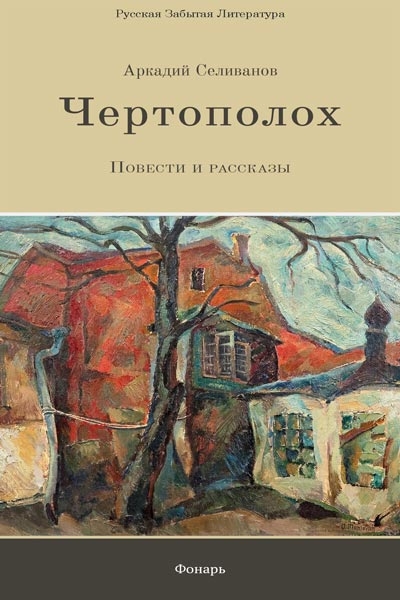

Комментарии к книге «Чертополох», Аркадий Александрович Селиванов
Всего 0 комментариев