Георгий Алексеевич Яблочков Рассказы
Клад
I
— Я, братцы, там уже всё выходил, всё осмотрел, почитай, носом всю землю вынюхал! — с увлечением говорил Степан. — И есть, братцы мои, есть! Должно быть! И грива эта, где у них изба стояла, и речка, что из озера бежит, и болото тут же влево — всё, как на планте указано, так там и есть.
— Да ведь копали уже там не раз, — сказал высокий мужик с кудрявыми волосами и русой бородкой. Его звали Макар. — И ничего не нашли. Знаю я это место: всё оно ровно свиньями изрыто. Да только нет там ничего.
— Да не там, не там рыли-то! На Казанской гриве — вот где рыли. Там точно, что вся земля в яминах. Туда все мужики ходили. И старики ходили, все туда ходили. Про то я тебе ничего не говорю, — может, там есть, а может, и нет, не знаю я. А я тебе про Подборную гриву толкую.
— Это верно, — отозвался третий мужик, огромного роста, широкий, весь, как кустарником, заросший бородой. — Степан правду говорит. Про Казанскую гриву все толковали. Там и рыли. А Подборная грива совсем другое — вёрст оттудова 12 будет. Влево от мельницы взять нужно. Про ту я, почитай, ничего не слыхал.
— Ну-ка, где у тебя план-от? — сказал, подумав, Макар и наклонил лицо над разостланным на траве листом старой синей бумаги.
Разговор происходил в овраге, на маленькой лужайке, окружённой кустами можжевельника. Дальше, спускаясь по крутим бокам широкого оврага, густо росли ели и сосны. По самому дну, журча в зеленой осоке, бежал ручеёк, пробираясь к реке, на берег которой широким раструбом выходил овраг.
Разговаривали трое мужиков из соседней деревни Кузьмина. Двое из них, Макар и лесник Алексей, лежали на животах, головами вместе, а третий, Степан, по прозвищу Колоколец, сидел перед ними на пятках, от живости и волнения ежесекундно меняя положение.
Это он, пользуясь праздничным, днём, созвал своих приятелей в уединённый овраг, подальше от зорких глаз деревни, и убеждал их отправиться с ним добывать клад, зарытый за рекой в лесу.
— Да ты на планту-то ничего не увидишь! — говорил он Макару, вертясь, как юла. — И тебе говорю, всё как есть сходится. Только одному туда и подступиться нечего — хворосту да валежнику страшная сила. Надо там хорошо поработать! Потому-то я и говорю: айда, ребята! Что найдём — всё вместе. На всех хватит. Поработать стоит.
— Так! — сосредоточенно сказал Макар, поднимая бледное лицо. — А к тебе-то это как попало? Откуда ты-то бумагу достал?
— Ко мне-то? — ответил Колоколец. — И это тебе могу сказать. Она у меня, бумага-то эта, уже два с половиной года в голбце лежит. А попала она ко мне вот каким родом: как хотели мы у Голубева дачу отобрать, так я тогда, помнишь, по всем деревням сходки скликал. И тут, втепоры, в Бернихе после, схода мужичок один и говорит мне: «Есть у меня, говорит, бумага одна, давно она сохраняется, ещё отец мой, говорит, как амбар ломать стал, так в стене её нашёл, а что там написано — но знаю, потому я неграмотный. Так вот, мол, посмотрел бы ты. Степан, может, там, насчёт Голубовской дачи что есть». А мы тогда не хотели у Голубева дачу силом брать, а искали документ, потому что говорили старики, что должен такой документ быть. Ну, взял я эти бумаги, пришёл домой, посмотрел, вижу, что написано совсем про другое, я их в голбец на полку и засунул. А мужичок тот вскорости помер. А тут пошла эта разборка, прятался я целую зиму от урядника в подвале, да горевал, да унывал, да так про бумагу и позабыл. А на той неделе, братец ты мой, пошёл я в голбец сапоги новые взять, — в город хотел собраться, — вижу, лежит на полке связочка. Взял её, посмотрел, почитал да так и ахнул! Вот оно счастье-то наше где! Даже про город втепоры забыл — целый день как шальной ходил. Вот как.
— Так! — сказал Макар. — Так мужичок-то этот, говоришь, помер?
— Помер. Как стали мы Голубовскую дачу силом рубить, так тут его стражники в первую голову и пришибли. Дмитрии Сазонов, — слыхал, чать?
— Слыхал, слыхал, — повторил Макар. — Так в стене, говоришь, бумагу-то нашли?
— В стене. Как стали амбар разваливать, так она из тайника и выпала. А дед-то мужика не из Бернихи был, а из Дыхалихи. Теперь и деревни-то такой нет. А прежде, сказывают старики, была такая деревня в лесу, и знались там мужики шибко с разбойниками. А в Берниху он потом перешёл жить.
— Ну-ка! А прочитай-ко ещё разок, что там в бумаге-то?
Сдвинулись, приготовившись слушать, и Степан, сидя на корточках, торжественным голосом начал читать:
— Так вот! «Сказываю тебе, моему внучку: повыше Рассолихи, вверх по Крякше версты три, есть Подборная грива. А от Подборной гривы за Казанским болотом есть озеро Диково, не очень велико, продолистое, один конец в летний восход солнца, а другой на полдень. За озером лес, рамень. На озере грива высокая, а на гриве изба пятистенная, и вкопано три ряда в землю, а от избы шагов сорок погреб дубовый». Понял? Раз дубовый, так, стало быть, дуб в земле не гниёт. Найти его всегда можно.
— Ну, валяй, валяй!
— «В том погребу, — продолжал Степан, — два винные перереза серебра, ларь меди, котёл крестовых полтинников, два сундука золота, медная пудовина мерять деньги. Две доли тому, кто вынет, долю отмерить и половину раздать нищим, а на другую половину построить семипрестольную церковь!» — Махинищу такую поднять! Сколько же там должно быть денег? А?
— Ну, ну, читай! — говорил Макар. — Церкви всё одно ставить не будем. Ещё-то что-нибудь есть?
— Есть! Много ещё есть. Вот слушай! «А за избой в зимний закат солнца схоронен атаман Савелий, в головах у его могилы котёл серебра и сундук в панчах засмоленых, положен шагов двадцать от озера. А есть ещё в озере семь ступеней, под первой ступенью двести целковых. Кто найдёт озеро, бежит из него речка Медянка в летний закат солнца в Крякшу, верста или полторы. Под пятой ступенью трехведерный бочонок серебра и золота».
— Всё?
— Скоро всё. Вот про Дыхалиху-то я говорил: «Выходили мы на Дыхалиху, до неё будет вёрст восемнадцать или двадцать. Где мы ходили, там нет тропы. У нас стояла липа полтретья обхвата. В липе положена шкатулка десять тысяч золотом и ещё три турки заряженных». Всё.
— А про липу я тоже слышал, — снова отозвался Алексей-лесник. — Там в этой самой липе Григорий Артёмов, Ивана Григорьева отец, должно быть, свои деньги-то и нашёл.
— А и верно, братцы! — с увлечением воскликнул Степан. — Помню я теперь! Ещё когда я мальчишкой был, так рассказывали про это. Давно только это было. Лет семьдесят, а то и боле.
— Пожалуй, не мене, — подтвердил Алексей. — Григорий-то Артёмов тут по Крякше покос косил. Ну, и нашёл деньги-то. Так и говорили — в липовом дупле, мол, нашёл. Спрятал их, а лет через пять и стал богатеть. Теперь Ивану Григорьеву, поди-ка, что денег оставил.
— Так как же, братцы? — говорил, сверкая глазами Степан. — Айда, что ли? Попробуем нашего счастья? А?
— Да что же!.. — ответил Макар. — Попробовать надо. Отчего не попробовать. Может, и выйдет что. Только когда?
Июньское солнце лило горячие лучи на спины тесно сдвинувшихся мужиков. Тёмные ели задумались, побелев от жары, стволы сосен вверху пылали, как красные свечи, прозрачным золотом отливали листья нагнувшейся над ручейком молодой ольхи. В сонной тишине чуть слышно журчала вода, в глубине оврага уютно позванивали бубенцы пасущихся лошадей, и в рдеющей под солнцем траве деловито пилили кузнечики.
II
Через полчаса трое мужиков, покончив разговор, выбрались из оврага и разными дорогами направились по домам.
Степан поднялся из оврага в поле и быстро пошёл по тропинке через ржаное поле. Шёл он, размахивая руками, весь подавшись вперёд, и уже по походке можно было видеть, что это человек пылкий, увлекающийся и нервный. Колокольцем его прозвали во время революции, когда, выставив вперёд тощую бородёнку, бледный и со сверкающими глазами, он носился по всем окрестным деревням, без умолку сыпля словами. Его голос подходил к прозвищу — высокий и однотонный, так что от него звенело в ушах.
Алексей пошёл в другую сторону — в соседнюю деревню Косливое, проведать выданную туда замуж сестру, а Макар остался один. Прямо перед ним лежала на большой дороге деревня Кузьмино. Щетинясь соломенными крышами, скирдами и овинами, она улиткой ползла к реке и кончалась часовней, выстроенной на обрыве, на самом берегу.
Сами собой глаза Макара отыскивали то место, где стояла изба Лаптевых. Её можно было узнать по самой высокой в деревне берёзе. Мысли о кладе сразу точно ветром выдуло из головы, и медленными шагами, как человек, которому нечего ждать впереди, Макар побрёл по тропинке через паровое поле вдоль крутого берега реки.
Неподалёку от деревни была усадьба — большой двор с крепкими службами по бокам, и в глубине серый, с зеленой крышей дом. Посредине двора, на кресле с колёсиками, сидел как раз сам барин, помещик Голубев, о котором говорил Степан. Во время революции его разбил паралич, и с тех пор его возили в кресле, из которого важно торчала круглая, как тыква, голова. Рядом с креслом стояли старая барыня, дочка-барышня с двумя собачками, управляющий, кухарка Авдотья, горничная и кучер. Все с почтением смотрели, как барин чесал палкой за ушами двум толстым заграничным свиньям, которые похрюкивали над корытом. Когда проходил Макар, барин выжидательно и строго повернул к нему свои седые усы.
Но Макар не поклонился. Отвернув голову, он ускорил шаги и за садом, протянувшимся между усадьбой и часовней, спустился по крутой тропинке вниз, прямо к землянке перевозчика. Ещё сверху услышал он громкие голоса и узнал один из них: разговаривал Михайла Лаптев, отец Гришки, мужа Варвары. А голос у него был такой, что его можно было слышать с той стороны реки.
Макару не хотелось встречаться с Михайлой. Обогнув сзади избушку, прямо по косогору он вышел к берегу и взял вправо по большой дороге, спускавшейся оврагом из деревни. Голоса замолкли, и Макар оглянулся назад. На лавочке перед землянкой сидели Михайла Лаптев, его сын Гришка, известный в деревне под прозвищем «сопляк», работник Яков из усадьбы, сам перевозчик Матвей и ещё один мужичок, пьяница и милый человек, которого в деревне называли просто Вася. Все упорно глядели Макару вслед, — разговор шёл как раз о нём.
С неприятным чувством Макар поднялся по дороге вверх до своей кузницы, миновав её, взошёл совсем на гору и сел на бревне около часовни. Наискосок сзади него, направо самая крайняя по тому порядку, который раструбом побежал по высокому берегу реки, стояла его изба. Но Макар даже не оглянулся на неё, а понурившись, смотрел на реку.
Направо от перевоза купались ребятишки, быстро плавали блестящие головы, слышались визг и шлепки по воде. На том берегу, скучно жарясь на солнце, желтели пески; дальше за гривой прохладно сверкало осочистое озерко, по берегу которого бежала большая дорога, а направо и налево к самой воде подступал лес. Он начинался ольшаником и ивняком, переходил в осинник и березняк и, то расступаясь перед полянками и лугами, то надвигаясь на самые пески, зубцами поднимался к горизонту.
В этом лесу, влево, может быть, как раз там, где тёмная синева переходила в голубой туман, лежало озеро, около которого был закопан клад. Макар неожиданно вспомнил о нем. Золото, переливаясь, блеснуло перед его глазами, и ему стало сразу легче на душе.
— Макарушка! — окликнул его голос, и на бревно опустился Вася, которого он видел внизу. — Что, словно ворона на сухару расселся да смотришь? Аль тоска заела?
— Так, — уклончиво ответил Макар. — Дело праздничное. Сижу да на реку гляжу.
— Верно, друг, праздничное! — весело говорил Вася. — Только плохие нам с тобой праздники. Одно, видно, у нас горе, хоть и наоборот выходит. Ты бабу бьёшь, а меня баба бьёт… Слушай, друг, одолжи гривенник. Смерть выпить хочется. Завтра, ей-ей, отдам.
Макар молча вытащил из кармана кисет, отгрёб табак и вынул из завязанного узла гривенник.
— Вот спасибо, милая душа! — обрадовался Вася. — Уж такое ли-то спасибо, что и сказать нельзя. Сейчас, значит, прямым манером к Фёкле и — шкалик. А то думал-думал, что бы у Хамы скрасть, ничего не вышло. Хотел было платок у стервы стянуть, да увидала, чуть кочергой не убила.
— О чем внизу говорили? — небрежно спросил Макар, свёртывая себе крючок.
— Внизу? — остановился Вася. — Вот, брат, чуть-чуть не забыл. Нарочно и пошёл-то к тебе, чтобы сказать, а вдруг из башки выскочило. О тебе, Макар, говорили. Так-то на тебя Михайла Лаптев зол, что и сказать нельзя. С Яковом говорили, с работником. Ребра, говорят, ему переломать надо. Из-за Варвары там, не разобрал только я. Шёл берегом, вижу — сидят, подсел, а всего не понял. Шибко, брат, серчают. Видели тебя будто с Варварой где-то. Погоди, друг, после скажу. Вон Хамка-стерва сюда валит. Не иначе, как меня ищет.
Вася быстро отпрыгнул от бревна и, согнувшись, побежал к часовне, чтобы оттуда сквозь крапиву, лебеду и мусор спуститься прямиком снова к реке, а Макар поднялся и повернул к деревне.
— Видели, стало быть, с Варварой!..
По улице навстречу ему шла огромная, грязная баба с рябым лицом и с оскаленным, как у злой собаки, ртом. Это была Марья, жена Васи, которую за сварливость и необыкновенную способность ругаться вся деревня прозывала странным именем Хамы. Поравнявшись с Макаром, она сиплым басом крикнула ему:
— Где пьяница-то мой? Ушёл, что ли?
— Не знаю, — коротко ответил Макар и направился к избе Степана, стоявшей на другом конце деревни.
— Знаю я вас, сволочей, потатчиков, пьяниц! Погибели на вас, анафем, нету! — гремел сзади него сердитый голос, но Макар даже не слышал этого. Так захватили его снова мысли о кладе.
III
С самого утра Елена, жена Макара, была в сильном гневе. Она так отшлёпала своего любимца, трехлетнего Васютку, что тот зашёлся от рёва, и когда варила обед, то сковородки и ухваты так и сыпались кругом.
Вчера вечером кума её Авдотья, кухарка из усадьбы, забежала к ней на минутку сообщить весточку: девчонка Настюшка пасла в обед индюшек и видела около барской риги Макара вместе с Варварой. Опять, стало быть, начал, пёс!
Всего больше гневило Елену, что Макар не обращал на её сердце никакого внимания. С утра — и горюшка мало — возился себе на дворе, облаживая телегу, молчком пообедал и потом, когда зашёл к нему Алексей-лесник, ушёл с ним, не сказавшись, куда. Ещё утром Елена успела сбегать к Лаптевым и там изругала и осрамила свою дочку Варвару, выданную замуж за Гришку: но этого было ей мало: надо было коршуном налететь и на Макара и отчитать его, пса, чтоб помнил долго.
Согласия в доме не было уже давно. Мучиться Елене пришлось чуть ли не с самой свадьбы. Восемь лет тому назад живший у неё в работниках Макар, двадцатилетний парень, красавец и ухарь, женился на ней после смерти первого мужа, оставившего её вдовой с двенадцатилетней дочкой Варварой. Уже через месяц Макар пьянствовал и колотил жену, а через год его хорошо знали все солдатки в окрестных деревнях. Из любви к нему Елена терпела всё.
Но чтобы Макар начал таскаться за её же собственной дочкой, которую нарочно, чтоб не было соперницы в доме, она выдала замуж, этого Елена не могла перенести.
* * *
Когда, досыта наговорившись со Степаном, Макар подошёл наконец к своей избе, ему стало так противно, что он едва не повернул назад. Да некуда было больше идти. Разувшись в сенях, он сел в избе на лавку и, понурившись, искоса поглядывал, как Елена, простоволосая, тощая и злая, ставила у печки самовар. Чувствовал он, что надо бы ему сказать хоть одно слово, но не мог пересилить себя: до того ненавистна была ему Елена, что, кажется, так бы и зашиб её, как гада, ногой.
— Что смотришь-то, словно съесть хочешь? — первая обернулась она к нему.
Не отвечая, Макар взял с полки каравай хлеба, отрезал большой ломоть и, густо посолив, принялся его жевать.
— Что молчишь-то, ровно язык проглотил? — не выдержала наконец Елена. — Или милой своей всё рассказал, так больше и слов нету?
Макар с угрозой поглядел на неё. Но Елена уже сорвалась.
— Чего глаза-то свои бесстыжие пялишь? — захлебнулась она от ярости. — Боюсь, думаешь? Не испугаешь! Не на таковскую напал. Не знают, думаешь, где ты по вечерам ходишь, какими делами занимаешься? С маткой нажился, так тебе дочку ещё надо?
— Ну! — сказал Макар, положив ломоть на стол.
— Нечего нукать! На саврасого нукай! Я тебя не повезу. С кем ты вчера у господских риг видался? С кем в обнимку стоял? Да как глаза твои бесстыжие смотреть могут? Как Бог тебя, анафему, не покарает, гром не разразит, огонь не сожжёт, пёс, ненасытный бык!
— Ну! — крикнул Макар, стукнув кулаком по столу.
— Нечего ну! Чей ты муж? Кто тебя в люди вывел? Кто тебя, беспорточного, хозяином сделал? Чего тебе от Варвары нужно, чего ты у неё ищешь? Говори, чего?
Макар поднялся и с размаху ударил её по лицу.
— Убил!.. — крикнула Елена и опрокинулась навзничь на пол.
Макар пнул её ногой, поволок за жидкую косицу к порогу, поднял, как щенка, вверх и хотел ударить головой об стену. Но что-то удержало его, и, швырнув её на пол, он быстро пошёл.
В сенях, прижавшись рядышком, дрожали Анютка, Сенька и трехлетний Васютка, и на крыльце с неодобрительным видом сидел работник Никифор. Макар, отвернувшись, прошёл мимо, спустился вниз по дороге к перевозу, взял направо, дошёл берегом до оврага, впадавшего и с этой стороны в реку, и забрался в самую чащу.
Лёжа лицом вниз на маленькой лужайке, он долго думал несвязные мысли, смотрел на букашек, бегавших по траве, и не заметил, как заснул.
Когда он проснулся, уже спускался вечер. Пройдя краем оврага до тропинки, Макар поднялся по ней до жердяного забора, остановился в нерешительности и стал смотреть. Отделённое одним только овсяным полем, перед ним лежало Кузьмино, и прямо по тропинке виднелась самая высокая в деревне лаптевская берёза. Солнце красным шаром садилось позади. Небо сияло там, как раззолоченный иконостас, и алым багрянцем отливала притаившаяся за горбиной поля деревня Кулемиха. Впереди же, там, где лежало Кузьмино, было сумрачно-тихо, и из заречных лесов подходила мирная ночь. По избам уже вспыхивали кое-где огоньки.
— Эх! — подгнившая жердь, за которую держался Макар, с треском разлетелась пополам, и, перепрыгнув через изгородь, он решительно зашагал вперёд.
У лаптевских овинов Макар повернул направо и мимо гумна и прошлогодних скирд соломы прокрался к огороду. Около самой изгороди, разделяющей две дворины, стояла развесистая яблоня, густо обросшая крапивой и лебедой. Под нею Макар лёг. Бог даст, Варвара выйдет за чем-нибудь в огород, тогда можно её окликнуть.
Опускалась ночь, деревья чернели, на небе одна по одной зажигались звезды. По дворам скрипели ворота, слышались голоса, блеяли овцы и мычали коровы. Макар лежал и, не спуская глаз, смотрел на калитку, ведущую с лаптевского двора в огород…
IV
Через полчаса с лёгким стуком открылась калитка, и в ней показалась неясная фигура. Сердце Макара застучало так, что перед глазами завертелись огненные круги: Варвара. Она подошла к колодцу, поставила на землю ведро и взялась за бадью, привешенную к журавлю.
— Варя! — шёпотом крикнул Макар.
Она не слыхала.
— Варя! — крикнул он громче и кинул комок сухой земли.
Варвара вздрогнула, пугливо оглянулась и сделала несколько шагов. Макар поднялся из-за огорода и, махнув рукой, пошёл назад к потемневшим гумнам.
Около кучи жердей, наваленных близ изгороди рядом с овином, он остановился и слушал, как скрипел колодезный журавль. Минут через десять из слепой полутьмы вынырнуло тёмное пятно.
Макар прислонился грудью к забору, так что жерди треснули и подались. Неслышно ступая босыми ногами, Варвара подошла и остановилась в двух шагах. Она стояла, опустив руки и потупив голову, и оба они смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Только что сейчас у Макара было на душе столько, что говорить хватило бы, кажется, на целую ночь, — теперь исчезло всё. Судорога перехватила горло, и на глазах закипали слёзы. Он сказал только:
— Варя! — и стиснул руками жердь.
Опускалась темнота, сливая в чёрное дворы, бани, деревья и кусты, вдалеке скрипели калитки, мычали коровы, переговаривались голоса, и около овина, где стоял мрак, два измученных голоса вели тихий разговор.
— Зачем пришли, Макар Васильич? Не надо!.. — говорил, прерываясь от волнения, женский голос.
— Не стерпел я, Варя… Надо было повидать.
— Не нужно этого, — шёпотом говорил женский голос. — Грех.
— В чем грех-то? Что люблю-то тебя? Нет тут никакого греха. Подойди, Варя, ближе!
Треснула и подалась изгородь. Из темноты смотрели два глаза, и точно сила какая-то шла от них и тянула Варвару, так что подкашивались колени, и вихрь гнал её вперёд. Она ступила шаг и перехватила руки.
— Елену избил. Совсем было зашибить хотел. Да остановился. Вспомнил, что мать она тебе. Видели нас с тобой. Знают, будто. А что знать-то? Что меж нас было?
— Матушка утресь приходила к нам. Шибко бранилась. Свекрови всё рассказала, срамила меня. Григорию бить меня велели, да не посмел. Из усадьбы девчонка видела нас с вами.
Треснула и рассыпалась в темноте гнилая жердь.
— Разлучены мы с тобою, Варя, как два цветочка с одного стебелька. Растоптаны оба. Не жить нам друга без друга… Подойди, люба, ближе. Дай на тебя взглянуть.
— Не надо этого, Макар Васильич! — весь пронизанный светом, отвечал женский голос. — Грех эти мысли.
— Что ты затвердила: грех да грех! Никакого греха нету. Старые бабы брешут да дураков пугают. Подойди, Варя!..
Что-то стукнуло вдали у дворов. Варвара вздрогнула и оглянулась:
— Пойду я…
— Подойди ближе, Варя! Не бойся. Хочу сказать тебе что-то. Да подойди же!
Колеблясь, Варвара ступила шаг. Перегнувшись, Макар схватил её за руки, притянул и зашептал:
— Дело одно мы затеваем, Варя. Может, денег достану. Уедем тогда с тобой!
— Какое дело-то?
— Долго говорить. И верю я сам и не верю. Клад один. Записка есть у Стёпки-Колокольца. И место и всё. Всё как есть указано.
— Брехун ведь он, Колоколец-то!
— Нет, тут не брешет. Всё как есть правильно. Может, и выйдет. Накопаем золота, уедем мы с тобой, Варя! Подойди, люба, ближе.
Варвара высвободилась из его рук и шёпотом сказала:
— Невозможно это, Макар Васильич.
— Что ты мне всё одно твердишь! Что невозможно? Так и будешь с сопляком своим всю жизнь мучиться?
— В монастырь пойду…
— Да будет! — крикнул Макар и, неожиданно перескочив через изгородь, обеими руками схватил Варвару. Охнув, она вся прильнула к нему, но сейчас же, изогнувшись дугой, толкнула его в грудь и с криком забилась в судорогах на земле.
А у Макара снопом брызнули из глаз искры, и он едва не свалился с ног. От нового удара он встал на четвереньки, но повернулся, ударил кого-то ногой так, что тот крякнул, вскочил, вырвал из забора жердь и переломил её на чьём-то боку. А в следующий миг птицей перелетел через забор и пустился бежать. Он слышал за собой ругань и топот ног, и в темноте блеснуло, ударило и, раскатившись по полям, гулко отдалось за рекой.
У себя на дворе Макар отдышался, вытащил из колодца бадью с водой и намочил разбитый затылок. На него напали Гришка, Варварин муж, и Михайла. Третьего он не успел заметить. «Должно быть, Яшка из усадьбы. Елена подстроила! — мелькнуло у него в голове. — Не иначе, как она. Ну, погоди!.. — Но сейчас же все его мысли вернулись к Варваре. — Что с ней? Отчего её бросило на землю и стало ломать? Будут её бить или не будут?»
Макар уселся на бревне в углу двора, чтобы его не заметила Елена. Боль волнами ударяла в затылок, и вместе с нею вставало отчаяние:
«Срам-то какой! По всей деревне пойдёт… Эх, взял бы Варю на руки, как птичку, ушёл бы на край света и пестовал там!» — И сам собой из отчаяния поднимался косматый зверь и гнал прочь робость и страх.
Макар сидел на бревне, опустив голову, уронив руки с колен, глядел в темноту и делался страшен самому себе.
Через полчаса он встал, поднялся в сени, выдернул из стены топор, заткнул его за пояс и пошёл. Решительными шагами завернул на главный порядок, дошёл до избы Лаптевых и остановился под окном.
В оконцах горел свет, и изнутри слышался сильный шум: сразу кричало и ругалось несколько мужских и женских голосов. Макар прислушался напряжённо, раскрыл калитку, вошёл в сени и распахнул дверь. Косматый зверь поднялся в нём на дыбы.
На лавке прямо против двери сидела Варвара. Платок с головы у ней сбился, волосы были растрёпаны, и на белом лице её горели огромные глаза. На неё с визгом наскакивала рыхлая Арина и толкала за плечо растерянного Гришку. А рядом, внушительно говоря громовым голосом, стоял с вожжами в руках бородатый Михайла. У стола злобно голосила рябая Марья. На лавке невозмутимо сидел, набивая трубку, рабочий Яков.
Все оглянулись разом на открывшуюся дверь и застыли на своих местах. Варвара крикнула дико и забилась на лавке. А Макар дошёл до середины избы и, сам пугаясь себя, закричал:
— Эй, дядя Михайла, и ты, Гришка, слушайте! Если кто хоть пальцем тронет Варвару — убью! Я человек решёный! Так и знайте: убью!
Все молча смотрели. Макар посмотрел кругом и, вытащив из-за пояса топор, снова сказал:
— Так и знайте. Убью! Варвара ни в чем неповинна.
Повернулся и пошёл в сени, во двор и на улицу. Пройдя шагов тридцать, снова вернулся, стукнул в окно, крикнул: «Так и говорю: кто хоть пальцем тронет Варвару убью!» — и снова пошёл. В избе заревело, с треском распахнулась калитка, и трое мужиков выскочили на улицу, крича: «Сволочь! Варнак! Каторга тебя дожидается! Погоди!»
Макар дал им подбежать совсем близко, неожиданно повернулся, нагнул голову, сказал: «Ну!» — и вытащил из-за пояса топор. Мужики остановились, как вкопанные, постояли, ругаясь так, что отдавалось за рекой, повернули и медленно пошли назад.
Но обеим сторонам улицы хлопали окна, и в темноту высовывались любопытные головы. Макар подождал немного и тоже пошёл.
V
Дня через три, на рассвете, Макар, Степан и Алексей сошлись за рекой около землянки, стоявшей на гриве версты за полторы от берега. Летом там не было никого: перевозчики жили в ней только весной, когда пологий берег далеко затоплялся разлившейся рекой.
Понемногу, чтобы не обращать внимания деревни, товарищи перетащили туда лопаты, топоры, железный щуп, нарочно выкованный Макаром у себя в кузнице, и теперь, вынув инструменты из-под почерневшей соломы, сваленной в углу, спорой развалистой походкой дружно зашагали вперёд.
Надо было пройти восемь вёрст по большой дороге. Шли, держась около самого края, чтобы при первой же встрече свернуть в лес. На девятой версте взяли влево по лесной тропинке, дошли по ней до крутого берега лесной речки Крякши и по плотине около шумевшей мельницы перешли на ту сторону.
Больше молчали. Дома уже было переговорено обо всём. Впереди нетерпеливо бежал Степан. Макар, мрачно понурив голову, шагал позади. С той самой ночи он так и не видел Варвары и не знал, что сталось с нею. Вся деревня только и делала, что судачила о Лаптевых, о Варваре и о нем. Было противно и стыдно показаться на улицу.
Макару плохо верилось в клад. И в то же время верилось невольно: клад был последним выходом. Сорвётся это, что будет тогда? Но что-то должно быть — это он знал: чувствовал, что жизнь переламывается пополам.
И всё-таки, чем дальше шли в лес, тем легче делалось на душе. Точно лёгким ветерком выдувало из неё залежавшуюся печаль. Иногда Макар даже забывал, куда и зачем они идут, а просто шагал, всей грудью вдыхая лесной воздух и оглядываясь кругом.
Был всё лес. Сначала вдоль дороги росло мелкое чернолесье, дальше шла ель, изредка прерываемая березняком, уставленным поленницами серебряных дров, ещё дальше земля поднялась, стала рассыпчатой и жёлтой, покрылась серым мхом, и пошёл сосновый бор. Куда ни хватал глаз, везде, сплетаясь вершинами, поднимались тонкие красные стволы, и в чистой, опрятной глубине стояла церковная тишина. В одном месте бор отступил от дороги, отодвинулся будто нарочно, и, как малые дети, весело выбежала вперёд мелкая поросль ольшаника, осинника и березняка, густо заросшая у самой дороги чащей шиповника, сплошь засыпанного розовым цветом.
Солнце уже взошло, на тропе алмазами сверкала роса, и воздух был полон тонким запахом диких роз.
— Благодать! — воскликнул наконец, не удержавшись, Степан, натряс себе полный картуз нежных лепестков и уткнул в них лицо. — Нет, братцы! — заговорил он. — Лучше наших мест во всём свете нет! Никуда от наших мест не пойду. Хотел было плюнуть на всё сгоряча да с неудачи да податься в Сибирь, а нет, не пойду! Больно уж у нас хорошо!
Алексей сочувственно тряхнул волосатой головой. Он был вполне лесной человек, любил лес крепкой любовью, мало занимался землёй и целую зиму, весну и осень бродил по лесам.
— Река наша матушка! — восклицал болтливый Степан. — Выйдешь на угор, посмотришь — оторваться нельзя! А лес! А озёра! А речки лесные! Да я вам скажу, братцы, такого воздуху, как у нас, во всём мире нету. И всё ведь наше! Мужицкое! Нашими ноженьками исхожено, нашими глазами пересмотрено. Эх! Не вышло, не взяла наша, не удалось землю отбить, а совсем было бы тогда хорошо. Ну, да ничего! Погодим немного! По-го-дим!
— Годи, годи! — с насмешкой перебил его Макар. — Зазвонил колоколец: тень-тень-тень — благо язык болтается да рот медный. Слушать тебя надоело.
В другое время Макар, трезвый и едкий ум которого не терпел неосновательных надежд, не замедлил бы вступить со Степаном в спор, по теперь ему было не до того. И он прибавил только:
— Далеко ли до места-то? Вот что лучше скажи!
— Близко, — коротко ответил Степан. — Версты две, не боле.
Они шли теперь узкой, едва заметной, тропинкой по густой еловой рамени, то и дело перелезая через обомшелые, осклизлые колоды. Деревья сходились иногда так близко, что надо было жмурить глаза, чтобы их не ушибли жёсткие лапы. Через полчаса тропинка круто завернула вправо, и впереди сквозь деревья открылся просвет.
— Теперь совсем недалече, — понизив голос, сказал Степан. — Вот оно, Казанское болото. А тут сейчас и озеро будет.
Противоположный крутой берег Крякши отошёл далеко влево и образовал заросшую ивняком и низкорослыми соснами низину, шириной версты в две и длиной версты в четыре. Это и было Казанское болото, по которому, разбившись на заводи и бочаги, образовав непроходимые трясины, с трудом пробиралась речка Крякша.
— Вот тут ещё с полверсты — и будет озеро, — ещё тише сказал Степан.
Они снова взяли вправо и краем гривы по едва заметной грибной тропинке стали пробираться вперёд. Когда прошли так с четверть версты, впереди что-то блеснуло.
— Озеро, — совсем тихо прошептал Степан.
Через малое время очутились на берегу озера и потихоньку подвигались вперёд, внимательно разглядывая его.
Это было странное лесное озеро. Продолговатое, почти совсем прямое, закруглённое на концах, длиной с полверсты и шириной сажень пятьдесят, с высокими берегами, круто спускающимися в самую воду. Только с одной стороны, с той, которая смотрела к болоту, берега понижались и сходили понемногу на нет. В этом месте из озера вытекала маленькая речка, почти ручеёк, и, теряясь в ивняке, текла к болоту.
Густой лес стеной рос по берегам над неподвижной, чёрной водой, в которой даже около берега не видно было ни осоки, ни балаболок с широкими листьями. Там и сям тяжёлые, мшистые стволы, обрушившись с берега, упали вершинами в озеро, и вода в этих местах глядела ещё чернее, бездоннее и страшнее. Холодом и страхом веяло даже теперь, в ясное утро, от этой щели воды, выступившей точно из самой средины земли, и почудилось невольно всем трём мужикам, что вот-вот из бездонного омута медленно вынырнет и взглянет на них невидимое чудище.
— Вот, братцы, и озеро, — прошептал Колоколец. Лицо его было бледно, и глаза беспокойно блестели.
— Диково озеро оно прозывается, — тоже шёпотом проговорил, оглядываясь кругом, Алексей. — Вода в нем, как сажа. На нём весной и по осеням лебеди живут.
Подавшись ещё немного вперёд, передохнули. Солнце стояло ещё низко и не успело высушить росы, — было, вероятно, часов восемь. Отдыхали недолго: не сиделось от нетерпенья. Съели по большому ломтю хлеба с солью, выхлебали наскоро ложками котелок с чаем и поднялись.
— Айда, братцы! — сказал Степан. — Господи, благослови!
Первой задачей было найти место, где могла стоять изба атамана Савелия.
— Я, ребята, здесь уже раз с пять был, — взволнованно говорил Степан, ведя товарищей по берегу. — Всё исходил. Как на планте сказано, всё так и есть. Перво-наперво: была у них изба и, стало быть, немалая. Потом погреб. Потом, может, хлев. Потом ещё какая ни на есть постройка. Одним словом, усадьба. Скажем, было всё в лесу. Так ведь где изба-то и двор-то были, там лесу быть не должно. Стало быть, думаю, должна быть в лесу большая прогалина. Сколько этому лет было? Ну, 70, 80, ну, всё 100. Так ведь кругом там лес старый был, да земля убита была, да изба ещё после них, поди, сколько лет стояла. Не должно это место совсем зарасти. Должно оно ещё быть видно. Подумал так, обошёл озеро и гляди: есть такая полянка. Так, словно по писаному, всё и вышло.
Перелезая через огромные, седые от мха, колоды, дошли действительно до поляны. Лес редел, деревья становились тоньше и моложе, наконец шла мелкая поросль, а в середине было порожнее место, сплошь поросшее высоким, густым папоротником.
— Ну? — с торжеством спрашивал Колоколец. — Правду я говорил, или нет? Вот, робя, здесь у них и изба стояла. Обойдёте кругом всё озеро, другого такого места нигде нету. Везде рамень густейшая. А здесь жильё было.
— Правильно, — сказал Макар, осматриваясь кругом. — Здесь, надо быть, народ жил. А ну-ка, где же тут изба стояла?
Пригнувшись к земле, все трое начали кругами ходить по полянке, внимательно глядя себе под ноги. Может быть, с полчаса они кружили так, залезая в молодую поросль и раздвигая кусты папоротника, как вдруг Макар саженях в десяти от крутого ската в озеро, зайдя в густую чащу молодых ёлок, ткнулся лаптем обо что-то твёрдое. Нагнувшись, он вытащил из земли почерневший кусок старого кирпича. Ему сразу ударило в голову, и среди закружившихся мыслей огненным столбом вспыхнуло:
«Есть! Стало быть, не брехня!..»
— Братцы! — крикнул он сорвавшимся голосом. — Айда-те сюда! Что-то есть!..
Когда ёлки были срублены и место расчищено, на земле оказалось много обломков рассыпавшихся, проросших травой кирпичей, а дальше, кругом, немало древней трухи от бревенчатых стен.
— А что? — кричал Степан. — Не говорил я? Братцы! Погреб тут должен быть! Тут же поблизости где-нибудь! Ребятушки!..
Он кинулся к своей котомке, вынул из неё заветную бумагу, поцеловал её от восторга и, осторожно развернув, начал читать:
— «А от избы шагов сорок есть погреб дубовый. В том погребу два винных перереза серебра, ларь меди, котёл крестовых полтинников, два сундука золота». Два сундука, ребятушки!..
— От избы, говоришь, сорок шагов? — крикнул Макар. — Это мы сейчас разыщем. Валяй, братцы, — меряй каждый в свою сторону по сорок шагов!
Они отошли каждый на сорок шагов и начали обходить кругом того места, где стояла изба. Приходилось попадать то в густой папоротник, то в мелкий ельник, то в самую чащу леса. По нескольку раз обошли вокруг избы, то суживая, то расширяя круги, разглядывая каждый кустик, пробуя ногами землю, и на этот раз подал голос молчаливый лесник Алексей.
— Э-гой! — крикнул он. — Ну-ка-те сюда!
Он стоял в чаще молодняка, пышно разросшегося на опушке старых деревьев, и бил лопатой по куче хвороста, лежащей на земле.
— Тут, надо-быть, что-то есть. Нога проваливается, и лопата уходит, — говорил он спокойно. — Опять же и ящериц сила.
Не говоря ни слова, заработали топорами, расчистили место и увидели: под грудой хвороста и валежника, из-под которого то и дело шныряли зеленые ящерицы, было какое-то углубление вроде краёв большой ямы. Стали копать в нескольких местах землю, и железные лопаты зазвенели о твёрдое. Макар стал рубить топором и выворотил из земли чёрный кусок.
— Дуб! — тихо сказал он, показывая его товарищам, и все взглянули друг на друга сумасшедшими глазами.
— Дуб! — повторил громче Макар, и Степан, сдёрнув с головы картуз, с размаху ударил им о землю:
— Братцы! Милые вы мои!.. — и кинулся разбрасывать наваленный на яму хворост.
— Нет, стой, ребята, погоди! — решительно сказал Макар. — Сперва отдохнём. Теперь уже около полдень есть. Вот закусим, попьём чайку, и тогда уже сразу и за работу.
Разложили на берегу костёр, и быстрый Степан, схватив котелок, побежал к озеру, чтобы зачерпнуть воды. Но берег спускался так круто, что добраться до воды было невозможно. Выискивая более пологое место, он пробирался вдоль по озеру и, заметив обрушившееся дерево, направился было к нему, но едва не скатился вниз. Ругнув торопливо озеро, он начал внимательно оглядываться кругом и шагах в десяти дальше увидел овражек, полого спускавшийся к самой воде. И не успел сделать несколько шагов, как у него вырвался изумлённый крик:
— Макар! Алёха! Сюда! Скорее сюда!..
И прибежавшие товарищи нашли его в странном виде: лёжа на животе у самого края озера, Степан внимательно смотрел вниз, в чёрную воду.
— Ступеньки!.. — говорил он, не поднимаясь. — Всё, как по писаному. Вот они, ступеньки!
Посреди овражка, так на сажень или на полторы от озера, явственно выделялись углубления вроде ступенек. Их было четыре или пять на спуске, и ещё одну Степан видел под водой. На ней можно было различить пару широких досок.
— Всё как есть… — шептал Степан. — Тут разбойнички по воду ходили и тут же и золото своё схоронили.
С трудом оторвали Степана от ступенек и пошли пить чай. Говорить не могли. Казалось так, что всё, что было прежде — и Кузьмино и вся жизнь — провалилось, исчезло и потухло, впереди же вместо этого восходило громадное новое солнце. Молча ели хлеб, хлебали ложками чай и поглядывали на озеро.
А оно лежало мрачное и жуткое, точно узкая щель между высоких деревьев, и вода в нём, хотя и светило ярко солнце, была зловеще черна.
VI
Передохнув, набросились на работу. Крыша погреба, обрушившись вниз, завалила яму, и сверху разрослась по ней густейшая поросль. Пришлось сначала вырубить её, скопать лопатами землю и потом только через силу вытаскивать тяжёлые, окаменевшие брусья и бревна. Работали молча, обливаясь потом, и само собой вышло так, что распоряжался всем Макар. Он коротко, вполголоса говорил, что нужно делать, и его слушались. Когда, измучившись, передыхали немножко, тогда с удивлением, но тоже молча, смотрели друг на друга: каждому казалось, что рядом с ним не знакомые с детства мужики с одной деревни, а совсем чужие люди. Такие у всех были бледные лица и блестящие глаза. Это делало золото. Чувствовалось, как оно позванивает, переливаясь грудами, тут же, сейчас, всего на два — на три аршина под землёй.
Выволокли бревна, раскопали погреб, очистили с боков дубовые стены. Передохнув, снова принялись за работу. Яма погреба была сажени две в длину, сажени полторы в ширину и, должно быть, не меньше сажени в глубину. Большой был погреб. Все трое стояли на дне и расчищали лопатами боковой настил, отчасти выкидывая землю наверх, отчасти сгребая её в одну кучу.
Когда очистили стены с одного бока и принялись скапывать землю с другой стороны, лопата Макара звякнула обо что-то. Мигом, в три секунды, раскидали всё и увидели чёрную вещь. Что-то вроде котелка с дужкой, обросшего со всех сторон чёрной накипью.
— Здесь! здесь! Братцы!.. — захлебнулся Степан. — Медная пудовина мерять деньги!..
Кинулись рыть тут же, где лежал котелок, но не нашли ничего. Стали рыть рядом, потом немного дальше — тоже ничего не оказалось. Решили тогда вынуть из погреба всю землю. Лесник Алексей вылез и стал на краю, Макар и Степан сгребали землю в зипун и подавали её наверх. Работали часа полтора. Расчистили с одной стороны окончательно, откопали дубовые стены, нашли обломки лестницы, в одном углу наткнулись на две старых кадки, в которых что-то было, может быть, капуста, а может быть, огурцы. Больше не хватило сил. Да и внизу было уже совсем темно, ничего нельзя было рассмотреть.
— Шабаш, робя! — устало сказал Макар. — Ничего не поделаешь. Видно, уж до завтра.
Вылезли из ямы и, шатаясь, как пьяные, пошли на берег озера, на то место, где утром варили чай. Там легли.
Солнце садилось за деревьями, и небо горело закатом. С той стороны, куда смотрел лесистый конец озера, надвигалась угрюмая жуть. Вода была там ещё страшнее и чернее, чем всегда, и грозной стеной поднимался потемневший лес. С того места, где берега озера, понижаясь, сливались с болотом, дышало холодом, и полосой полз белый, как молоко, туман. Стояла тишина.
Молча полежали на берегу. Все были разбиты, каждая косточка болела и ныла. Не говорилось. Никто, даже Степан-Колоколец, не хотел выдавать своих тайных дум.
— Ну, ребята! — сказал потом Макар, — айда-те! Надо пожевать, да подкур, что ли, сделаем. А не то здесь, я чай, холодно будет. Кто за водой пойдёт?
Пошёл Степан. Макар с Алексеем развели костёр и принялись готовить подкур. Надо было обрубить у большой ели снизу на человеческий рост лапы, вбить в землю четыре кола, приладить к ним четыре перекладины, наложить на них тонких жердей и сверху наслать еловых лап. Внизу должен был гореть костёр, чтобы давать тепло и отгонять дымом комаров, которые под вечер начали тучами налетать с болота. Сверху на случай дождя, как шатёр, защищали ветки ели.
Алексей рубил и обчищал для жердей молодые ёлочки, Макар заострял и прилаживал колья. Оба работали молча. Солнце уже село за лес, вода на озере почернела, как сажа. Ещё глубже стала тишина, только позвякивали легонько топоры. Как вдруг от ужаса у обоих перехватило дыханье, и дыбом встали волосы: с той стороны, куда ушёл Степан, закричало и завыло так, как будто там драл человека медведь.
Кинувшись сквозь чащу, столкнулись со Степаном. Он, как слепой, бежал прямо на них. Только у костра он отдышался, пришёл в себя и смог говорить. Отправившись к тому месту, где были ступеньки, он опустился честь-честью к озеру, зачерпнул себе в котелок воды, и стало ему почему-то страшно. Пошёл поскорее назад, а наверху овражка — ему надо было повернуть направо — стоит вдруг слева человек с палкой в руке и говорит:
— Так-то я вам свои деньги и отдам!
Как густой дым отовсюду — из земли, из тёмного леса, с почерневшего озера — поднялся и пополз ужас. Все молчали. Никто не сказал, но каждый понял: «атаман Савелий». У всех зашевелились волосы, заныли ноги, и захотелось вскочить, пуститься без оглядки бежать.
За водой так и не пошли. Молча порешили остаться без чаю. Держась вместе и оглядываясь, нарубили дров, чтобы хватило на ночь, и молча стали жевать сухой хлеб.
Костёр горел, и, хотя вдали было ещё светло, но от огня кругом стояло темнота. Сквозь дым выступали на небе нежные звезды, придвигался и пугал страшный лес.
Потом стало легче. Первый ужас прошёл. Атаман Савелий не приходил. Но никто из мужиков и не думал теперь о том, чтобы спать. Сон бежал совсем. Сидели молча у костра, пекли в золе картошку, которую захватил с собой запасливый Алексей. Дули на неё, перекидывая на ладонях, снимали кожуру и понемногу ели, как лакомство.
Первый заговорил лесник Алексей.
— Потревожили… — задумчиво произнёс он.
— А? — пугливо откликнулся Степан.
— Потревожили, говорю… Вот он теперь ходит.
— Кто?
— Да атаман-от… Сколько годов лежал себе спокойно, а тут, на-кась, мы пришли. Он из-за денег-то из-за этих душу загубил, а мы их взять хотим. Он и тревожится.
— Да будет тебе! — с сердцем сказал Макар. — Кого там ещё потревожили! Померещилось Степану, — ну, человек и перепугался. А то потревожили!..
Ни Макар, ни Степан, как большинство молодых мужиков, не верили ни в Бога, ни в чёрта, не ходили в церковь и не любили попов. Алексей же был религиозен и верил во всё.
— Нет, брат Макарушка, этого ты не говори! — снова задумчиво продолжал он. — Так это и быть должно. Не померещилось это. Он теперь будет кругом ходить да нас пугать. Только сделать ничего не сможет. А пугать будет. Бояться только не надо. Супротив молитвы ему ничего не поделать.
Всегда словоохотливый Степан-Колоколец молчал. Он до сих пор ещё не мог прийти в себя. Подумав немного, Алексей сказал:
— Он, может, сейчас уже тут за кустом где-нибудь стоит. Только подпускать его близко не надо.
— Да будет тебе! — с сердцем крикнул Макар, но Алексей спокойно встал и пошёл вокруг костра, быстро окрещивая каждый вершок земли. Сделав полный круг, он снова сел.
— Теперь он к нам и близко не подойдёт. А издали пугать будет. Это, быть может.
Алексей говорил обо всём этом очень просто: в лесной жизни ему приходилось встречаться со всякими чудесами, но и Степану всё более становилось не по себе.
— Только бояться не надо, — продолжал он. — Твори себе молитву — и ничего он тебе не сделает. Я, ребята, один раз с лешим повстречался, и то ничего. Шёл из Карпихи в Графское, иду себе лесом, зимой дело было. Луна это светит, на небе облачки, а он через дорогу и переходит. Закрестился я, прочитал молитву — он и прошёл. Не тронул.
— Видел его, что ли, ты? — насмешливо спросил Макар.
— Как не видеть, видел. Человек, как человек, только ростом выше лесу. Только тогда, брат, я постоял-постоял, да всё-таки в Карпиху опять воротился. Дальше лес больно густой, так побоялся.
— Да ты, может, и самого чёрта видел? — снова насмешливо спросил Макар.
Алексей тихонько засмеялся:
— Чёрта, братец ты мой, я один раз поймал, не то что видел. Лесником я тогда был у Титова. А знаешь, там в даче-то у них озеро Издергино, огромаднейшее? Так поставил я там в исток морду — рыба там хорошо ловится; выезжаю это утром, по рассвету, на лодчонке, вынимаю, понимаешь, морду, а он там и сидит. Я его скорей крестить. Закрестил, закрестил, да в пестер. Визжал — страсть! Только маленький чертёнок-от, — неважный, должно быть, зелёный такой, да склизкий, в пол аршина, не боле. Принёс его потом домой, говорю жене: Настасья, мол, чёрта я сегодня поймал! Да в баню его с пестером-то и бросил. Так что же ты думаешь? В ту же ночь баня-то сгорела. И изба чуть-чуть не занялась…
Стало совсем темно. Озеро невидимо лежало сзади. Стояла полная тишина. Поднималась сырость, и если вглядеться хорошенько, то можно было видеть, как там, где было болото, колыхалось белое. Подбросили дров в костёр. Страх постепенно проходил. Атаман Савелий не являлся, мысли сами собой возвращались к кладу.
— А завтра, братцы, — сказал Макар, — надо правый угол в погребу-то очистить. Там, должно быть, у них схоронено всё и было. А то, может, они и поглубже зарыли. Ну, да завтра всё раскопаем. Коли есть, так найдём.
Потрескивал костёр. Алексей, опустив голову и покачиваясь, начал посвистывать носом.
— А что, ребята, спать-то будем, что ли? — спросил, позевывая, Макар. — Утром работу надо рано начинать.
— А? — переспросил проснувшийся Алексей. — Спать? Поспать надо бы. Вот навалим около костра лап, да и поспим. Теперь спокойно будет.
Он встал, подбросил в костёр дров, зевнул и пошёл к тому месту, где лежали срубленные лапы. В озере, в том конце, что-то сильно всплеснуло. Макар со Степаном вздрогнули и обернулись. Прошло несколько времени — может быть, много, может быть, мало — и снова плеснуло, сильнее и ближе, словно что-то большое выскочило из воды.
— Рыбина, — хрипло сказал Степан.
— Рыбы в этом озере быть не должно, — что-то соображая, ответил Алексей.
Плеснуло в третий раз, у самого берега, совсем близко, так что слышно было, как, закипев, побежала к земле волна. Алексей начал быстро креститься. Снова была тишина, делалось в ней что-то, и подходил несказанный ужас. И вдруг издалека, из самой глубины озера, тихо ударил колокол. Подождал немного, снова ударил и запел ясно и нежно. И точно только и ждали этого звона — сейчас же, где-то справа, оттуда, где был разрыт погреб, из страшной тьмы деревьев, ответил протяжный стон. Замолчал, подождал и застонал опять. Ещё прошло время — и залился, всхлипывая, горьким плачем и жалобой человеческий голос.
— Свят, свят, свят!.. — громко говорил, часто крестясь, Алексей. — Неспокойно здесь, братцы. Кладите крёстное знамение. Свят, свят, свят!..
Чёрная птица шарахнулась, налетев на самый костёр, и с писком закружилась в отблеске пламени.
— Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!.. — щёлкая зубами, громко твердил Алексей. Вдали, в тёмной глубине, слева поднялся гул и, треща деревьями, быстро покатился по лесу.
Все вскочили и стояли. Грохот и треск ураганом мелькнул мимо костра, брызнул в лица сучьями и землёй и с гулом обрушился с крутого берега в воду. Кто-то отчаянно, как младенец, кричал тонким голосом, и мужики со вздыбившимися волосами неслись по лесу. Их хватало, за ними кричало, плакало и хохотало; они кувыркались через поваленные колоды, и у каждого была только одна мысль: не отстать от товарищей и не остаться одному.
Через час они опомнились, каким-то чудом попав в вырубленный березняк, верстах в двух от той самой мельничной плотины, по которой перебрались на эту сторону.
Там отдышались и развели костёр.
— Ну вас и с вашим кладом совсем!.. — сказал Алексей и, свернувшись около огня, молча улёгся спать.
VII
Утреннее солнце целовало белые стволы берёз и осин, и они стояли такие нарядные, точно в лесу был праздник. Синие тени лежали на росистой траве, высокие папоротники вытягивали убранные алмазами листья, и ландыши робко высовывали головки из укромных мест. Река Крякша, разлившаяся в мельничный пруд, заросший балаболками и осокой, сверкала и искрилась под весёлыми лучами. Около ивняка, свисшего к самой воде, озабоченно крякая, плыла дикая утка, оглядываясь на ленточку жёлтых утят, спешащих за нею. Вдали виднелась плотина, и мирно стояла мельница. Ночь прошла и унесла с собой ужас. Выспавшись, мужики наши чувствовали себя бодро, и в них просыпались прежние надежды. Было только стыдно смотреть друг другу в глаза, и когда Макар, решив позабыть свой собственный страх, насмешливо сказал:
— Ну, воины! Припас-то ведь, чай, бросать нельзя? Пойдёмте, что ли, за лопатами и топорами, — все быстро вскочили и зашагали к вчерашнему месту.
Через час были снова у озера. И странное дело! — едва увидели они чёрную воду, угрюмые берега и обрушившиеся в воду деревья, как сейчас же вчерашний страх сам собою вошёл в души и шевельнул волосы на голове. Замедлив шаги и оглядываясь, мужики пробирались по лесистой гриве к заросшей папоротником и осинником полянке, на которой работали вчера.
Тлеющий костёр был на своём месте. Тут же лежали котелок, лопаты и топоры. На сучках висели котомки с хлебом. Всё было по-вчерашнему, и, однако, всё изменилось, точно только что здесь был кто-то — настоящий хозяин — быстро спрятался, услышав шаги, и теперь хитро подсматривал за гостями из-за кустов. И от этого отравлял душу ядовитый страх. Первый поддался Степан: позеленел, стал оглядываться и потом сказал:
— Вот что, братцы! Айдате-ка лучше домой…
Но Макар был смелый и решительный мужик. Он вспомнил о Варваре, о золоте, которое, может быть, лежит тут же, совсем близко под землёй, и ему ударила в голову кровь.
— Нечего, нечего, ребята! — начал он уверенно и громко. — Вчерась мы трусу праздновали, а сегодня будет. В озере рыбина плескалась. И кто это выдумал, что здесь рыбы быть не может? Да сюда из Крякши в разлив, чать, такие щуки заходят, что страсть! Звонили в Спасском — часы били, по ночи звон далеко идёт. Плакала сова, либо выпь — им здесь самый вод. А мимо пробежал сохатый. Должно быть, его рысь драла. А мы испугались. Ну, да ничего. Чайку попьём, закусим — и за работу. Айда за водой!
Отправились втроём к оврагу, где были ступеньки, спустились к воде, зачерпнули, пошли назад.
— Здесь, что ли, человек-то вышел? — насмешливо говорил Макар, когда поднялись на верх оврага. — Вот тебе и человек!
Он указал на серый обомшелый пень, стоявший налево на краю оврага.
— Его ты и испугался. В сумерки как есть атаман Савелий.
Разложили костёр, поели хлеба, попили чаю.
— Айда, — сказал решительно Макар, — за работу!
Отправились к разрытому погребу, сошли в яму и принялись копать. Решили расчистить правый угол против лестницы. Через час вытащили всю землю, откопали до самого низу дубовые стены, отрыли совсем дно и стали его взрывать. Разгорячась, работали с увлечением, и снова казалось всем, что вот-вот под следующим ударом зазвенят и посыплются груды золота.
Но лопаты всё глубже врезались в землю, с мужиков давно уже ручьями лил пот, а в земле всё не находилось ничего. Первым сдал Алексей-лесник. Остановил работу, опёрся на лопату и сказал:
— Вот что, ребята! Не иначе, как это он вчерась сохатым обернулся, да в озеро и ушёл. Нет уже его здесь. А не то так в землю он от нас идёт. Так мы его, видно, не получим.
— Да ври ты больше! — крикнул на него Макар. — Замолол! Если были деньги, так тут они и есть. А вынул их кто, или не было их вовсе, тогда ничего и не будет. Айда, ребятушки, налегай, налегай!
Послушались, заработали опять, снова обливаясь потом, но всё чаще начали сдавать. То и дело останавливался то Алексей, то Степан, а то и сам Макар. Решили наконец хорошенько передохнуть и сели тут же, в яме.
Было уже около полудня, и стояла сонная тишина. Только иногда противно стрекотала сорока, пронзительно вскрикивала сойка, да дружно гудели слепни. Лес стоял, как заворожённый, тени глубоко прорезали чащу, и что-то курилось над вершинами, как невидимый дым.
Отдохнув, опять принялись за работу. Начали вынимать из ямы землю, чтобы удобнее было рыть дальше. Сначала, как вчера, Алексей встал наверху, а ему снизу подавали Макар со Степаном; но скоро Алексей стал бояться стоять один спиною к лесу, и к нему вылез Степан. Когда вытащили всю землю, оба соскочили вниз, и снова все принялись копать.
Земля была уже срыта на целый аршин ниже дубовой обшивки, в некоторых местах прокопались ещё глубже и всё-таки не находили ничего. Степан с Алексеем давно бы уже бросили всё, но неутомимый Макар подбодрял их, покрикивая:
— Ну-ка, ну-ка, ребятушки! Нажимай, нажимай!..
Подчиняясь ему, как во сне, нажимали на заступы и выворачивали один отрез за другим. Было жарко, солнце поливало сверху точно кипятком, гудело и жужжало в ушах, в глазах вертелись разноцветные мухи, работали, как в забытье, и вдруг оглянулись оттого, что с шумом посыпалась сверху земля.
Оглянулись, да так и застыли. Наверху, на откосе выкинутой земли, стоял большой мужик с широкой бородой и с длинной палкой в руке. Совсем обыкновенный мужик, каких каждый встречал много и на базарах, и в окружных деревнях, — стоял, посмеиваясь, смотрел на них и громким голосом сказал:
— А что, ребята? Аль копаете клад?
Степан крикнул не своим голосом, крикнули и Алексей с Макаром. Обрываясь и падая, полезли из ямы, выскочили и пустились бежать.
— Да погоди! Куда вы, черти? Эй! — гремел им вслед голос, страшно хохоча, по всему лесу. Они без памяти бежали всё дальше, и ужас был тем огромнее, чем ярче светило солнце и чем тише было кругом.
VIII
На следующий день — это была пятница — Макар запряг утром лошадь, положил в телегу выкованные за последние две недели гвозди и, ни словом не перемолвившись с Еленой, поехал в город. Гвоздей было мало, и денег с железной лавки, куда он сдавал их, причиталось совсем пустяки, но Макар всё-таки поехал. Было невыносимо оставаться дома.
До города было 15 вёрст. Дорога шла то лесом, то полями, и как раз на половине пути стояло село Макарьевское, к приходу которого принадлежало Кузьмино. Проезжая селом, Макар только мельком взглянул кругом и снова опустил голову. О том, что случилось у озера, он не думал совсем. Вернувшись в деревню, он быстро всё позабыл: старое горе сейчас же заполнило душу, и поход за кладом показался просто сном. Да и не верил он по-настоящему в него никогда. Поэтому, когда сегодня утром зашёл к нему осунувшийся, с заострившимся носом Степан-Колоколец, Макар не захотел с ним даже говорить, а просто-напросто выругал его самыми последними словами.
Встряхиваясь от толчков, Макар сидел боком на телеге, и тоска ела ему душу, как дым. Что-то теперь с Варварой, с сердечной? Ему так и не удалось её повидать. А бабьи языки работали вовсю. Вся деревня судачила, стрекотала, жалила и шипела. Он вспоминал, что дошло до него стороной, и его так и сгибало — свалиться в телегу и лечь ничком. Но он справлялся, кричал на саврасого: «Но-о!» — и, не глядя, ударял его вожжой.
— Макар, — радостно окликнул его знакомый голос, и к телеге подбежал Вася.
Он был босиком, в посконной рубахе, но с лихо заломленным на самый затылок картузом.
— Аль тоже в город собрался? Вот хорошо-то! А я иду да думаю: кто бы из наших подвёз. Да так, почитай, десять вёрст и пропер — никто не догнал. Подвезёшь, что ли? — И сейчас же, не дожидаясь приглашения, вскочил в телегу.
— Ты чего в город-то? Зачем? — нехотя спросил Макар.
— А вот, братец ты мой, — Вася поднял лукошко, из которого гневно глядела красноглазая голова петуха, — этого самого несу продавать. Думал, брат, думал, три дня, почитай, думал, что бы в город снести. Ничего придумать не мог. А он возьми да и скричи. Петух-то! Так и осенило! Вот, думаю, кого надо продать! И Хаме досажу, и в городе побываю, и выпить на что будет. Скрал петуха да задами и убег. Важный петух. Первый в деревне. Куры от него несутся первый сорт.
Макар невольно усмехнулся, — Вася был смешной мужик. Всей своей незлобивой душой он ненавидел только одного человека на свете — Хаму. Когда померла его первая жена, соседи для смеху уговорили его жениться на второй. Разыскали в дальней деревне огромную старую девку, ссудили ему на смотрины посуды, одежды и скотины, и Вася надул свою невесту, за что и поплатился жестоко. Очутившись после свадьбы в пустой избе, жена показала такие крепкие кулаки и такой зычный голос, что деревня сейчас же прозвала её Хамой, а Вася спился в конец.
— Повертится теперь Хамка-то, — весело болтал он. — Другого-то петуха нету. Есть, да только совсем махонький, плёвый такой петушишка. А этот — чисто генерал. Гляди-ка, как смотрит!.. А вы, Макар, слышно, за кладом ходили? Болтают в деревне. Напугались, будто, шибко вы, да сдуру. Федор с Митрихи смолу докуривать ходил; идёт назад, да и нашёл на вас. Видит, что-то копают, да и спросил. А вы-то и испугайся… Такого лататы задали, что в лесу гудело! Смеются в деревне-то. Правда ли, нет, не знаю.
Макар промолчал. Решив, что ему просто стыдно, Вася из деликатности прибавил:
— Знамо, хвастят. Ведь у нас сейчас невесть что выдумают.
— Было всего… — коротко ответил Макар и снова понурил голову.
Въехали на пригорок, показался город. Через полчаса подъехали к кузням, проехали длинную песчаную улицу, завернули налево и очутились на площади, где в два ряда стояли каменные ряды и кишел народ.
— Ну, спасибо, Макарушка! Пойду теперь петуха определять, — сказал Вася и побежал в соседнюю улицу.
Через час Макар покончил все свои дела: получил деньги и закупил, что было нужно, для дома. Он поставил на дворе у знакомого мещанина лошадь и снова пошёл на базар. И тут, в толпе, тоска, которая до сих пор только сбоку посасывала сердце, сразу поднялась, как угар. Макар толкался без цели по базару, нехотя отвечал на оклики знакомых мужиков и чувствовал, что слабеет совсем. Хотелось забиться куда-нибудь в тёмный угол и сидеть там, не шевелясь.
Неизвестно, каким образом он очутился в трактире, сел за столик среди галдящей толпы, спросил себе полбутылки, выпил одну за другой три рюмки и сразу охмелел.
— Макарушка! — окликнул его весёлый голос, и рука Васи хлопнула его по плечу. — Вот где нашёл дружка! А наших нет никого. Должно, мы с тобой только одни.
— Садись, Вася! — заплетающимся языком сказал Макар. Ему сразу стало хорошо, что пришёл этот лёгкий и весёлый мужик. — Выпей рюмочку…
— Рюмочку что! — ответил Вася. — Мы и полбутылочки разопьём.
— Али петуха продал? — вспомнил Макар.
— Продал, брат, продал! — радостно говорил Вася. — Да ещё как продал-то, голова! Полтинник докторша дала да две рюмки водки поднесла. Такая чудесная барыня! Ещё, мол, говорит, цыплят приноси, мне слышь, скучно, так я хоть птичник себе разведу. Надо будет у Хамы и второго петушишку скрасть. — Вася сиял от радости. Выпили по рюмке, закусили воблой, выпили ещё. В голове у Макара начало как будто проясняться, и в нем, постоянно замкнутом и молчаливом мужике, просыпалась теперь говорливость. Неудержимо захотелось высказать всё, что давило душу, и высказать этому приятному мужику, сияющая физиономия которого, расплываясь, торчала у него перед глазами. Тряхнув головой, Макар стукнул кулаком по столу и воскликнул:
— Эх, Вася! Друг! Понимаешь?..
Василий сразу же понял, — Макар видел это и потому продолжал:
— Уж такая-то, брат, беда, такая беда, что и сказать тебе не могу. Чисто не человек я стал. Извело меня в конец.
Василий изо всех сил кричал, что всё пустое, устроится всё, лез целоваться и уговаривал выпить. Но Макар отталкивал рюмку и снова твердил:
— Да, брат, беда!.. Уж такая-то ли беда… — Ему надо было говорить. Мощной рукой он усаживал на место Васю и продолжал: — Понимаешь, друг? Вот скажи мне сейчас: дай жилы вытянуть — ни слова не промолвлю — на, тяни! Глазом не моргну, если для неё. А она мне вроде как дочь. Варвара-то! Еленкина дочка. А я, брат, её полюбил!
— Да какая тебе дочь? — надрываясь, кричал Василий. — Плюнь ты тому в глаза, кто скажет, что она тебе дочь. Ты её, Макар, люби! Это, брат, я тебе верно скажу. Это в Антипихе Иван Чёрный с родной дочкой живёт — так то грех. А ты можешь!..
— Да нет, постой! — продолжал Макар. — Она говорит: нельзя, мол. Это грех. Не могу я супротив матери идти…
— Это, брат, правильно, — вскакивал Вася. — Уж что верно, то верно! Против матери дитю идти нельзя!
— Да постой, погоди! — снова усаживал его Макар. — Про что я тебе и говорю! Знаю сам, что грех, а может, и не грех, кто его знает. Да ты погляди: смотреть я на Елену не могу. Зашибу её как-нибудь, как жабу…
— И зашиби! Выпей, Макарушка, друг! Уж что верно, то верно! Я бы сам свою Хаму сейчас зашиб!.. Уж такая стерва-баба, такая стерва, что сам чёрт хуже не выдумает! Из всех стерв стерва!
— Да постой! — кричал Макар. — Ты меня слушай! Ошибка тут вышла. Знаешь ведь сам! Был я несмысленый парнишка, ни кола ни двора. Ну! А она мне хозяйка. Лестно. Уважение, то сё. Чуешь? Разве я понимал? А она меня на десять годов старше. Понял? А тут Варвара. Ей 12, а мне 21. Ей 19, а мне 28. А Елене 40. И глазом мигнуть не успели. Рядом росли. Тогда только и оглянулся, как замуж выдали. Тут и затосковал.
— Правильно! — кричал совсем пьяный Вася. — А я тебе что говорю! Какой же ей Гришка мужик? Сопляк, так сопляк и есть!
— Да погоди, дай сказать! Я тебе говорю: мы, может, и Бог весть сколько времени любились, да нам самим невдомёк было. Она боится меня, а я её. Только, братец ты мой, как выдали её замуж, тут я и затосковал. Тут-то и зачал понимать. А на Пасхе, как пришли мы к ним, стали христосоваться: Христос, мол, воскресе, Варя! Как поцеловал, так у неё губы, как лёд. А вечером захожу опять к ним, а она в сенях самовар ставит. Никого кругом нету. А у меня в голове туман, — хвативши был. Осмелел, взял её за руку: Варя, мол!.. Эх! Хомуты, братец ты мой, тут лежали, так она на хомуты-то так и села!.. А по весне иду огородами, вижу — грядки копает. Окликнул. Подошла она ко мне, посмотрела, да как зальётся слезами! Тут, брат, мы оба и загорелись, как солома. Да с тех пор и прогореть не можем.
Вася охмелел. Он лез целоваться, твердя: «Макарушка, родной! Люблю я тебя! Сердечный ты мужик!» — плакал о чем-то, вспоминал первую жену, тянул Макару расплёсканную рюмку и уговаривал пить.
Но Макару надо было договорить. Снова одной рукой он усаживал Василия, выпивал рюмку и продолжал:
— Вот ты тут и посуди! Что, брат, тут делать-то? А? Клад пошли копать. Думал, денег найдём. Не вышло ничего. Со свету ведь Варвару-то сживать будут! Чисто осатанели все. А я, Вася, совсем ума решился. Так-то ли тяжко, так-то ли тяжко, что и сказать не могу…
Вася невнятно бормотал. Макар сидел мрачный, как туча. Выхода не было. В нём поднималась ярость.
— Водки! — крикнул он, стукнув кулаком. Вася храпел, положив голову на стол. Макар выпил один всё, хватил об пол бутылку, встал и пошёл вон, осматриваясь налитыми кровью глазами. Кругом говорили, пили чай, пиво и водку, ели щи, студень и печёнку. Никто не обращал на него внимания. Он подошёл к столику, где, о чем-то надрываясь, кричал маленький мужичонка с мочальной бородкой, и, качнувшись, уставился на него. Но большой, спокойный мужик внушительно сказал ему: «Ты, поштенный, не задерживайся. Проходи. Тебя не задевают, так ты лучше проходи!..»
На улице он едва не сшиб с ног какую-то барыню, бешено выругался ей вслед и пошёл наискосок через площадь. Если бы сейчас подвернулись Елена или Гришка, он бы их убил.
Но вместо Елены бежал навстречу ему, выставив острую бородёнку, Степан-Колоколец. Он повидал всех своих городских знакомых, узнал все новости, досыта наговорился и имел полную пазуху книжек. Не помня зла, он дружелюбно подскочил к Макару и начал уже говорить:
— Слышь-ка, Макар, что я тебе скажу…
Но Макар отступил шаг назад, со всего размаху ударил его по скуле, так что Степан от неожиданности слетел плашмя на землю, и, пошатываясь, пошёл дальше. Врезался зачем-то в кучку мирно рассуждающих мужиков и разметал их плечами. Сшиб неожиданно с ног ещё какого-то мужика, услышал за собой крик и рёв и обернулся, нагнув голову, как бык. Все обиженные скопом наскочили на него.
IX
Когда Макар уехал в город, Елена, накормив детей, уселась у окна шить и неожиданно залилась слезами. Она извелась в конец. Было стыдно выйти на улицу, где Хама злобно издевалась над нею. Истерзали ревность и злоба, измучила обида, а главное — чувствовала она, что на этот раз Макар уходит от неё совсем.
Проливая горькие слёзы, она с ненавистью думала о Варваре. Её винила больше всех: «Тихоня, на вид воды не замутит, полегоньку свою паутину плела, незаметно в свою сеть заманивала! Вскормила, взрастила на себя же змею подколодную! Зачем не отдала в дальнюю деревню! Жаль было расстаться с дочкой, хотела на глазах сохранить… Вот и казнись теперь, дура!»
Нашивая заплату на спину Макаровой рубахи, Елена подняла её на свет, взглянула затуманенными глазами, и её прожгла невыносимая мысль. Макара, которого она так знала и считала своим, будет любить и целовать другая — и кто же? — её собственная дочь! Огненным видением представилось Елене, как она, вцепившись пальцами, душит за горло Варвару, и её измученное сердце, перевернувшись в груди, хлынуло потоком слёз:
— Дочь ведь! Родная дочь! Да разве так можно?..
Рыдая, она спешно пригладила волосы, накинула на голову платок и быстро побежала по улице. Ещё сама не зная, зачем, чувствовала она одно: что нужно ей повидать Варвару.
Арина, жена Михайлы и мать Григория, была женщина рыхлая, мнительная и постоянно лечилась. Она лежала на полатях, когда в избу вошла Елена. Варвары в избе не было. Мухи чёрным роем гудели под потолком.
— Здравствуй, сватьюшка милая, — жалостливо заговорила Елена, здороваясь с Ариной. — Всё-то ты, знать, недужиться, болезная!
— Ой, недужусь, милая, — отвечала со стоном, слезая с полатей Арина. — Недужусь. Всю поясницу, родная, ломит. Так и ломает. К дохтуру опять хочу съездить…
— Где мужики-то ваши, сватьюшка? — вежливо продолжала Елена.
— Огород, милая, уехали городить. На Сергинскую пустошь. Барин их послал. Любит ведь барин-то моего Михайлу. А твой-то, Еленушка, где?
— В город, милая, уехал. Гвозди повёз сдавать.
Арина выжидательно посмотрела на Елену.
— Самоварчик, может, милая, поставить? Чайку попьёшь?
Елена махнула рукой и заплакала.
— Ой, сватьюшка милая! — сморкаясь, заговорила она. — До чаю ли теперь! Какой уж тут чай? Вот какие дела-то пошли! Восемь лет с мужем жила, никакого худа от него не видела, думала и до смерти так проживу, а тут на-ка, что попритчилось. Сама ведь, голубушка, чуешь, о чем говорю.
Вся всколыхнувшись, она залилась слезами и закрыла фартуком лицо. Арина соболезнующе качала головой.
— Что Варвара-то?.. — спросила Елена, всхлипывая и утирая глаза.
— Да что, милая… Уж и сказать-то тебе не знаю, как… Больна она, Варвара-то. И раньше сумнительная была, а с той поры, как с топорищем-то твой к нам влез, совсем невесть что приключилось. Поучил её малость тогда Григорий-то, так себе, совсем для близиру. Говорю ему потом, поди, мол, приласкай жену-то, прости её, ведь не виновата она, может, а ей тяжело; на другой это день говорю. Пошёл он к ней, а она как заверещит, милая, да забьётся, да давай голосить!.. И ума не приложу, испортили бабёнку совсем, что и делать теперь, не знаю. Не живут они, милая, как следует, вот главное дело! Не подпускает она его к себе. Уж учила, учила я его: ты что же, говорю, Григорий, разве так можно? А он что? Хилый, да добрый, поди — что ребёнок! Какой он, голубушка, мужик? — лядащий!..
— А где она, сватьюшка? Варвара-то? — спросила Елена.
— В огороде, милая, грядки полет. В огород пошла…
Елена прошла через двор, открыла калитку и вошла в огород. Варвара полола грядки, стоя на коленях в борозде. Быстрыми и лёгкими шагами, сама не зная, что сейчас будет, Елена подошла и остановилась против неё, отделённая грядкой. Варвара подняла голову, и из-под спущенного низко на лицо платка взглянули на Елену огромные глаза — такие огромные, что из-за них почти не заметно было похудевшего лица. Варвара вскрикнула слегка, поднялась и встала, растопырив покрытые землёй пальцы.
Елену поразил вид дочери. Она представляла себе торжествующую разлучницу. Сделав, насколько позволяла узкая борозда, шаг вперёд, она упёрлась ногой в грядку и сказала растерянно:
— Вот. Пришла повидать тебя, дочушку…
Варвара молчала. Елена подвинулась к ней ещё и тихим голосом горько заговорила:
— Хорошо же ты меня, дочушка, за ласку мою материнскую отблагодарила! За всю любовь мою, за то, что у груди своей тебя кормила, ночей не досыпала, от смерти обороняла — за всё. Хорошо! Разлучницей стала, мужа у матери отнимаешь. Вот до чего дела дошли! Дочь на мать пошла, матери завидовать стала: хочу маткина мужа себе взять!..
Варвара шевелила губами, напрасно стараясь говорить, потом прошептала:
— Не виновата я, мамонька!
— А кто же, доченька, виноват? Я, что ли? — так же сдержанно и горько продолжала Елена. — Я-то уж, доченька, ни в чем не виновата, а мне больше всех приходится слёз кровавых проливать. Всё ведь я, дочушка, примечала, только говорить не хотела, сердца своего не хотела рвать, а молча кровью исходила, да по ночам Бога о милости молила. Как же, дочушка, не виновата? Разве мужик посмеет когда сам? Николи он сам не посмеет, — наше это женское дело тихонечко его перстиком помануть. Тяжко ты предо мной виновата, тяжкий на тебе грех! Сердце ты мне пополам разорвала, старухой меня сделала, до того довела, что руки на себя наложить хочу. Мой ведь он муж, дочушка, меня он любил, меня целовал-миловал, а ты его отнять хочешь! Что молчишь да смотришь, ничего не говоришь?..
— Люб он мне, мамонька! — отчаянным воплем вырвалось у Варвары. — Не могу я! Люб!
Неожиданный порыв потряс Елену, перекинул через грядку и бросил к Варваре. Повалившись ничком на землю, она ухватила Варвару за ноги и, причитая, заголосила:
— Дочка моя! Варвара! По земле пред тобой валяюсь, ноги твои целую — брось ты его, брось! Скажи ты ему, что противен он тебе, отгони его, пса, пожалей меня, мать твою. Богом тебя, дочка, заклинаю, век свой на тебя, как на икону, молиться буду, отгони его, не допускай, скажи, что не нужен он тебе!.. Оставь!..
Точно молния с неба ударила Варвару, пропалила её насквозь, разорвала сердце. Она взмахнула руками, опрокинулась навзничь и, выгибаясь, как пружина, начала кричать, хохотать и рыдать. Она чувствовала только одно, что нет сейчас на всём свете никого несчастней её, и это было весело, так что она хохотала. Но, ударяясь лицом о чёрную землю, между холодными листьями капусты, сразу видела такое бездонное горе и муку, что начинала выть, вырывая клочья волос. И повернувшись лицом к небу, передыхала, смотрела молящими глазами и начинала кричать. Заводила тоненьким, жалким голосом, тянула, перекидываясь и изгибаясь дугой, кричала всё громче и, видя, что помощи нет, становилась зверем. Из груди рвался лай, рёв и вой, и слушала сама, как хорошо выходит. И нравилось, что над нею причитают и плачут, и льют на неё холодную, чистую воду…
X
Очнулась Варвара в летней избе, на лавке. В окно светил месяц и белым половиком протянулся через весь пол. Храпели Григорий и Михайла, где-то в стороне дышали Арина и Марья.
Села на лавке и сначала ничего не могла понять. Чувствовала только, как ноет и болит, ворочаясь в груди, вспухшее сердце. Вспомнила сразу, что теперь она одна, совсем одна на всём свете, что нет теперь у неё никого и не может быть, и что того, кто был, надо навек позабыть, — и заплакала, причитая тоненьким голоском.
Долго плакала и причитала, глядя на голубое окошко, в которое смотрелся лунный свет, и всё сильнее тосковало сердце. Не могла больше сидеть в избе, стало тяжко и душно. Встала и, шатаясь, пошла в сени. Села на крыльце, на верхней приступке, и, точно живую, увидела мать, как она валялась вчера у неё в ногах. Всплеснула руками и заголосила, заливаясь слезами. Как живой, встал Макар, как он был тогда у плетня. Так и подхватило, понесло и бросило к нему, — а нет его и быть не должно! Опять видела, как валялась на земле мать и хватала её за ноги.
— Прощай! Прощай! Болезный, любимый! Прощай!..
В хлеву шевелились и глубоко вздыхали коровы, чего-то испугались, шарахнулись и застучали о стену овцы. Собака Лапка тыкалась холодным носом в руку, изгибалась, заглядывала в глаза, потом насторожилась, тявкнула и легла. Свистя крыльями, промчалась над двором ночная птица, на реке загоготали гуси, мерно стучали где-то далеко уключины вёсел, — должно быть, переезжал кто-то на перевозе. И всё — ворота, стены, телеги — стояло белое от лунного света.
А Варвара лежала, опрокинувшись на ступеньках крыльца, и тосковала смертельной тоской. Так тосковала, что её выгибало и сводило всю, и сами собой выходили долгие, страшные стоны — ох! о-о-х!.. Собственными своими руками, безжалостно отдирала она с кровью кусок за куском от своего сердца, изгибалась, запрокидывалась навзничь, ничего не видя от боли, и страшно стонала. Отодрала, бросила, точно дымящееся мясо, ослабела совсем и, пошатнувшись, приподнялась.
— Ох! О-о-о-х! — протяжно стонала она, сошла по ступенькам на двор, пошла в угол под навес, где стояли телеги, нашла повод, сделала на нём петлю и стала искать, к чему её привязать.
Искала кольцо в столбе, щупала, щупала рукой, не могла найти. Накинула петлю на шею, попробовала затянуть так — не хватило сил. Бросила повод, села на землю и снова стала страшно стонать. Лапка сидела, переступая ногами рядом, и, виляя хвостом, смотрела в лицо.
Вспомнила, что в огороде колодец. Ощупью отыскала калитку, как слепая, вытянув руки, со стоном пошла по бороздам. Забыла про колодец, прошла весь огород, пошла, заплетаясь ногами, по гумну, на котором белым полотном разостлался лунный свет, пошла скорей, потом побежала, и вдруг невидимая сила, подняв, бросила её на землю. Сияя лучами, плыл к ней по воздуху прозрачный крест…
Варвара долго кричала и рыдала, жаловалась и молилась, колотясь головой о сырую землю, и ей стало легче. Она поднялась и села. Наставало утро, угасающий месяц бледно стоял на небе, всё серело, дул ветерок, над рекой и оврагами колыхался туман, на востоке румянились мелкие облачка.
Бог послал истерзанному сердцу утешение.
— Я, мамонька, в село помолиться пойду! — сурово сказала она свекрови, войдя в избу, где уже проснулись все.
Опустив голову, низко надвинув на глаза платок, быстро прошла по улице, вышла за околицу и направилась по тропинке между невысокой рожью. На траве сверкала роса, и над лесом жарко разгоралось солнце.
* * *
Сильно избитый в драке Макар, переночевав в городе, на рассвете запряг лошадь и поехал домой. У него болела голова, ломило спину, руки и ноги, запух совсем левый глаз, и было покрыто синяками и ссадинами всё лицо. Рассвирепевшие мужики хорошо обработали его.
Встряхиваясь на выбоинах дороги, он угрюмо сидел боком на телеге, и его ещё сильнее глодала прежняя тоска. Он быстрой рысью проехал селом, когда дьячок с заплетённой седой косичкой уже шёл к церкви с ключами. На большой дороге лошадь опять пошла шагом.
Одна тоска!.. Впереди ничего не было. Он знал, что Варвары ему всё равно не увидать. Неожиданно для себя он стал думать о кладе и о том, что, не струсь Стёпка и Алексей, кто знает, может быть, и выкопали бы что-нибудь. А тогда!.. Погрузившись в несбыточные мысли, проехал так от села версты три.
— Но-о! — крикнул он потом на лошадь, поднял голову и обомлел.
В двадцати шагах шла ему навстречу Варвара. Сначала он не узнал её — такой у неё был непривычный вид: она шла быстро, опустив низко голову и смотря в землю; потом задрожал, едва удержал лошадь, окликнул и соскочил с телеги, не веря себе. Вот радость-то!
— Варя!
Не поднимая глаз и не останавливаясь, Варвара шла мимо него.
— Варя! — крикнул он громче, когда она миновала его шага на два, и тут произошло то, от чего Макар, как стоял, так и сел назад в телегу. Варвара оглянулась. Её глаза, не отрываясь, смотрели на него, а ноги сами собой несли её дальше и дальше. — Варя! — но Варвара продолжала уходить и, не отрывая глаз, чужим голосом сказала:
— Уйди, окаянный!.. — потом взмахнула руками, закричала и пустилась бежать.
Макар никак не мог вспомнить, что было дальше, и как он доехал домой.
XI
Начался сенокос. Кузьминские покосы лежали за рекой по заливным берегам Крякши, верстах в десяти от деревни. Ходить туда каждый день было бы слишком далеко, и издавна повелось, что к Петрову дню вся деревня снималась обозом и от мала до велика переезжала на Крякшу. Дома оставались только больные и старики, да заботливые хозяйки раза два в неделю урывались домой присмотреть за скотиной.
Туда же ехали и соседние деревни. На Кузьминском перевозе целый день скрипели возы, нагруженный паром тяжело плавал от одного берега до другого, и перевозчик Матвей до кровавых мозолей растирал себе о канат руки. И сколько бы ни идти тогда по Крякше, везде кишел народ: за кузьминцами косили ананьевцы, слудчане, сергинцы, коневцы, на всём протяжении лесной реки, на двадцать вёрст вверх и вниз — везде стояли холщовые палатки, курились огоньки, звенели косы и двигались люди.
Вместе с Еленой и работником Никифором Макар тоже косил. Сзади него был покос Васи, и с утра до ночи Хама ругалась так, что от её голоса отдавалось по лесу эхо. Впереди за лесным мыском косили Лаптевы, и, подвигаясь ближе к берегу речки, Макар мог бы видеть вдали Варвару. В белой рубахе, опустив низко голову, она перекидывала граблями скошенную траву.
Но Макар не видел ничего. Солнце поднималось, разгоняя утренний туман, разгоралось наверху палящим зноем, сверкающий блеск железа слепил глаза, и со всех сторон летел металлический лязг; солнце медленно опускалось, описав свою дугу; река задумывалась в осочистых берегах, и розовели вершины леса на том берегу. Макар молча косил, молча отдыхал и молча ложился спать. Он точно окаменел. Но иногда Елене, зорко наблюдавшей за мужем со стороны, делалось страшно, когда она видела, как по неподвижному лицу высокого мужика вместе с потом медленно текли капли слёз. Ещё страшнее делалось ей ночью, когда, проснувшись точно от толчка, она слышала вдруг, как крепко спящий Макар тяжело стонал или, всхлипывая, плакал во сне.
Её брала тогда оторопь, и чудилось, что надвигается новая, страшная беда. И как ни много было у неё дела — при каждой удобной минутке надо было бежать на покос Лаптевых, чтобы там, как паук, неутомимо связывать разорённую паутину: утешать и ласкать полумёртвую Варвару, учить глупого Гришку, толковать и совещаться с Ариной, — но всё-таки она урвалась. В одно из воскресений с горьким плачем отслужила в селе молебен об исцелении раба Божия Макара и на возвратном пути забежала на Горелую мельницу к старому мельнику, известному знахарю и колдуну, добыла от него отворотной травы и аккуратно подсыпала её Макару в еду.
Так прошло недели две. Погруженный в воспалённые грёзы, Макар обкашивал под вечер заросший ивняком мысок, когда перед ним точно из-под земли вырос мужик с большой бородой и окликнул его:
— Слышь-ка, Макар…
И только тогда Макар признал, что это — Алексей-лесник, с которым не виделся с самого похода на озеро.
— Слушай-ка, парень, что я тебе скажу, — говорил ему тихо Алексей. — Есть тут у Титовых с Косливого старичок один, Данилушка, знаешь чать, 94 года ему. Такт, вот он про Диково озеро всё знает. Любопытно рассказывает старик. Всё как есть сходится. А ты что, разболелся, аль что?..
Был Алексей и пропал, так что не мог даже понять Макар, на самом ли деле видел его, или только так показалось ему. Но сейчас же забыл, опять ушёл в свои мысли, опять косил, опять, как кроткий чёрт, вертелась кругом Елена, садилось и вставало солнце, приходил и проходил день…
И вот снова стоит перед ним Алексей и говорит:
— Так как же, Макар, идём, что ли? Уговорились ведь мы, или забыл? Про Данилушку-то?..
И Макар шёл, слушал, что говорил Алексей. Шли покосом, завернули в лес, на лесную тропинку, опять вышли на покос, подошли к телегам. Направо и налево косят в белых рубахах мужики и бабы, около одной телеги сидит на колоде зелёный от старости старичок и ковыряет лапоть.
— Здравствуйте и вы, — говорит. — Не вижу ведь я, виду у меня не стало, стар больно я…
«Диково озеро, говоришь? Есть там клад, есть. Разбойники там жили, далеко уезжали, да людей грабили. Монастырь ограбили женский, монашек побили, а казну взяли. Колокол тоже взяли, в озере потопили. Звон, говорят, теперь из озера идёт, вот что…
Клад-от?.. Ходили и мы по него, ходили. Как же. Годов тому 70, как ходили. Много нас втепоры ходило, а взять не могли. Страшно больно. Пугает. Заклятие на клад-от положено, так нечистая сила его стережёт. Лягухи на нас из озера выскочили. Большие лягухи, со свинью ростом, не мене. Выскочили да прямо на нас. Квакнут, да на нас и скачут. Стадом целым. Ну, мы и испужались. Вот что…
Взять-то? Можно клад взять. Надо только способ знать, вот что. Потому больно большое на том кладу заклятье. И человек такой есть. Слышно, что есть такой человек. Мельник с Горелой мельницы. Он по старой вере живёт, а у них в старых книгах, бают, про все клады расписано. К нему вот и надо идти…»
У Макара точно разорвалась в душе занавеска, и блеснуло озеро, около которого зарыт клад. Но сейчас же и погасло. Шли назад, и Алексей всё время говорил и говорил, но Макар не слушал. Слышал только, что видел Алексей этого мельника, и что надо и Макару к нему сходить, но думал о другом.
Потом шёл один и, когда стал подходить к своим покосам, столкнулся на опушке перелеска с Варварой. Она спешно бежала, опустив голову и махая локтями, подбежала вплотную, взглянула и птицей шарахнулась вбок. Только затрещало что-то в кустах.
Макар свернул тогда в лес, забрался в чащу, нашёл там пень и начал его ломать. Выворотив его с корнем, ослабел, лёг на лужке, вниз лицом. Пролежал так до вечера, потом вернулся на покос.
XII
Кончился сенокос. Лето стояло очень хорошее: часто налетали грозы, проносились дождём, потом опять ярко светило солнце. Не успели сметать и поставить стога, как начала осыпаться рожь. Надо было жать. Снова опустели берега Крякши, народ вернулся в деревни, и на жёлтых полях запестрели согнутые спины жнецов.
По вечерам девки и парни с песнями возвращались в деревню, за ними устало шли женатые и старики. Каждый вечер Яков из усадьбы обегал все дворы, чтобы залучить себе жниц. Ему усердно помогали Михайла и Гришка, и как ни трудно было, а время от времени посылали то Марью, то Варвару на усадебные поля.
Сжав рожь, сейчас же схватились за овёс. Всё поспевало дружно, без перемежки, одно за другим. А там подходили уже ячмень, горох и лён…
Макар работал. Иногда ему делалось легче, светлело на душе, отступала тоска и, хотя потом налегала ещё беспросветнее и злее, но всё же он начинал приходить в себя. Точно просыпался, вылезал из подземелья на ясный свет. Стал разговаривать, иногда ласкал детей, стал замечать, что Елена заискивающе посматривает, виновато лебезит, осторожно заговаривает с ним. Но старался не видеть её, не мог одолеть тёмной вражды, и когда приходилось говорить, то говорил, не смотря на неё.
Однажды в обеденное время, когда Макар вёз с поля снопы, навстречу ему вывернулся откуда-то сбоку Алексей-лесник, прошёл рядом шагов десять и, оглянувшись кругом. Тихим голосом сказал:
— Слышь-ка, Макар! А я у мельника-то был…
Макар молча шагал, уставившись в землю глазами, как он привык за последнее время ходить.
— Это, брат, человек! — взволнованно продолжал Алексеи — Ну, я тебе скажу, и человек! Чисто насквозь всё видит…
Макар кинул на него сбоку взгляд: у Алексея провалились щеки, блестели глаза, сам он посерел и был точно в жару.
— Про клад с ним говорил. «Знаю, говорит, про этот клад. Записано, мол, у нас про него. Этот, говорит, клад только с чистой душой взять можно. И перво-наперво, как там сказано про нищих и про церковь, так этому и быть должно. Только, говорит, церкви бывают всякие. Так настоящую надо церковь. А напугало, говорит, вас ещё мало. Видела, говорит, сила, что народ вы слабый. Настоящего человека ещё боле будет пугать. Для этого, говорит, клада надо большую крепость иметь. Ей, говорит, нечистой-то силе, лестно клад удержать, чтобы в народ он не пошёл, потому, говорит, горько ей, если от злых денег на добро произойдёт». Обещал помогать.
Макар молча постегивал кнутом по земле. Он давно перестал верить в клад, забыл даже думать о нём и в последнее время всё яснее понимал, что не приходится ему больше жить в Кузьмине, а надо куда-нибудь уходить. Алексея же, видимо, только теперь начало по-настоящему разбирать.
— Так как же, Макар? — говорил он. — А? Съездить бы и тебе к мельнику-то поговорить! Я ему про тебя тоже рассказал.
— Съездить-то? — произнёс наконец Макар. — Что же? Съездить-то бы можно. Да больно уж некогда теперь.
— Некогда-то некогда, — волнуясь, продолжал Алексей. — А вот взял бы да свёз на мельницу ржи — надо ведь свежей мучки попробовать — вот бы и поговорил.
— Это можно, — задумчиво согласился Макар. — Думается мне только, паря, что ничего там около Дикова озера нет. Набрехали всё. Записал какой-нибудь лядащий старичишка, а мы и верим. Сдаётся мне так.
Но Алексей уверовал в клад бесповоротно.
— Нет, — заговорил он горячо, — брехни тут нет. Уж коли мельник говорит, что есть, так, стало быть, есть. «Закопан, говорит, там действительно клад, и не вынимал его ещё никто. Без большой, говорит, силы нельзя его вынять». Да ты только съезди к нему, да поговори — он тебе всё объяснит.
— Так. — проговорил Макар. — А каков он из себя, мельник-то?
— Не рассмотрел я его, Макар. Знаю только, что макушка стриженая да борода большая. Оробел я больно. Так, понимаешь, и ошарашил он меня: «Здравствуй, мол, Алексей! По кладу, что ли, пришёл?» Аж затрусило меня всего. А я о нём всё разузнал. Он здесь уж лет с десять живёт, на мельнице-то, а прежде в скитах жил. Разошёлся там с ними по вере, так и пришёл сюда. У него, видно, своя вера есть. К нему по ночам народ сходится. Он у них вроде как поп. Это, брат, непростой человек.
— Так… — снова задумчиво повторил Макар. Они стояли у околицы деревни. Алексей не хотел заходить в Кузьмино.
— Так поедешь, значит, Макар? — говорил он. — Ты уж поскорей поезжай! Мельник поскорей велел тебя посылать. Право, поезжай! Только вот что, Макар! — прибавил он, вернувшись с пути. — Стёпку-Колокольца побоку. Ну его совсем! Звонит уж больно! Почитай, по всей округе про клад-от раззвонил.
Через два дня Алексей снова пришёл и стал приходить каждый день. А через неделю Макар намолотил свежей ржи и поехал на Горелую мельницу, где до сих пор ни разу ещё не бывал. Все деревни по эту сторону реки возили хлеб на паровую мельницу в селе, куда было и ближе, и удобнее ездить. Горелая мельница работала только для заречных лесных посёлков и деревень.
XIII
На Спасов день в Кузьмине был храмовой праздник. Из села приезжал священник и служил в часовне молебен: из окрестных деревень собирался народ. В Кузьмине варили пиво, пекли пироги и ходили друг к другу в гости. Страда кончалась, народ отдыхал, и нередко праздник затягивался на два — на три дня.
Как ни тяжело жилось в доме Макара, но праздновать праздник всё-таки было нужно. Да Елена, наверное, и сама ни за что бы не отказалась от этого. Она что-то замышляла. Макар видел, что она взволнована, что она по нескольку раз в день бегает к Лаптевым, и угрюмо ждал.
Часа через два после молебна веселье хмельным потоком захлестнуло всё Кузьмино. По улице и по спуску к реке, сломя голову, скакали купать лошадей мальчишки и парни. Около парусинных балаганчиков толпились бабы и девки, покупая семечки, пряники и орехи. Со всех сторон играли гармоники и орали пьяные голоса. Весёлые кучки, пошатываясь, переходили из дома в дом.
У Макара в избе были Алексей-лесник, Вася, уже успевший сильно подвыпить, старик Пётр и Настасья, отец и мать Елены, приехавшие из дальней деревни, и её брат Андрей с женой. Елена угощала их пирогами, бараниной, водкой и пивом, приговаривая: «Кушайте, гости дорогие! Не обессудьте. Чем Бог послал!» — но было видно, что мысли её заняты другим. Она то и дело выскакивала от шумного говора на крыльцо и, кого-то поджидая, нетерпеливо поглядывала в даль.
Часа в три послышался в сенях топот многих ног, отворилась дверь, и от удивления Макар даже привстал — в избу вошли: Михайла, Григорий, Арина, Марья и сзади всех Варвара. Михайла был выпивши. Лицо у него лоснилось, глаза были масленые, и в бороде торчали остатки пирога. Пошатываясь и улыбаясь, он направился к Макару и, протянув ему руку, громовым голосом кричал:
— Здорово, сват! Э, что там! Ну, что! Всяко бывает. Не хотел прощать, да уговорили. Больно уж бабы пристали, чисто мухи жужжат. Будем мириться. Так я говорю, Гришка?
— Известно, — подтвердил Гришка, вытерев пальцем нос. — Ссориться нечего.
— Правильно! — кричал Михайла. — Вот и сын так говорит. Жена-то, брат, его. Не у меня жену-то отбиваешь, а у него. Мне-то чего же. Хо-хо-хо! Ну, давай, сват, поцелуемся.
— Ну, и слава Богу, — говорила Арина. — Вот и помирились. Чего свариться-то? Ведь не чужие, чать. Давно бы так!
Макар растерялся. Он целовался с Михайлой, потом с Гришкой, повторял: «Да я что же? Я ничего…» — и с недоумением поворачивал голову то в одну сторону, то в другую.
— Угощай, что ли, водкой, сват! — кричал Михайла, здороваясь с остальными. — Все ведь свои, дружки-приятели. И выпить-то любопытно!
Сияющая Елена стрелой летала по избе, выставляя заготовленное угощение, и видно было, что её душа переливается торжеством: начинало сбываться то, что она долгими усилиями неутомимо подготовляла.
— Всяко бывает, сват! — внушительно гремел Михайла. — Это чего! Злобы мы на тебя не имеем. Мы народ отходчивый. Главное только, чтобы дальше всё как следует, по закону было. Верно я, Гришка, говорю?
— Известно, — подтвердил Гришка. — Только чтоб жену не трогать, а мне что? Я ничего.
— Верно! — вмешался Пётр, маленький, сморщенный старичишка с реденькой бородёнкой. — Верно говорит Михайла-то. По закону надо жить. Дадена тебе жена, ну и живи. А то чтобы глаза на сторону пялить, да ещё куда? Фу, мерзость! Фу, сором. В наше время такого не бывало. Ноне только такой народ пошёл.
Постепенно прорвались все. Среди густых мужицких голосов, как огонь в дыму, зазвенели женские голоса — заговорили Арина, Марья, не выдержала наконец сама Елена. С красными лицами, наскакивая друг на друга, все кричали, не слыша сами себя. Макар сидел, как в чаду. Иногда поднимал голову и украдкой кидал быстрый взгляд. И среди шума и крика так же молчаливо сидела на лавке Варвара и тоже пугливо взглядывала на него.
В первый раз после двухмесячной разлуки Макар видел Варвару и не узнавал её: то же лицо и не то. Оно было бледно, прозрачно, но дико-сурово, и тёмный ужас глядел из измученных глаз. Они так и не поздоровались, так и не перемолвились ни одним словом. Сидели поодаль, взглядывали друг на друга и не верили, что это они.
Кругом бил и крутился пьяный шум. Михайла лез целоваться к Елене, потом к Макару и кричал:
— Елена Петровна! Спасибо! Ах! Ну, и угостила ты нас! Сват! Макар! Не могу терпеть… Хочу вас с Еленой помирить. Поцелуйтесь! Живите ладно, по закону, как полагается мужу с женой.
— Правильно, правильно! — кричали кругом. Макара схватили и толкнули к Елене. Больше всех старался Вася. Макар молча поцеловал Елену, а она закрыла лицо передником и, отойдя в сторону, начала всхлипывать.
— Гришка, целуй Варвару! — гремел Михайла. — Вот как! Всех перемирю. Чтоб всё ладно было!
Гришка потянул носом, ухмыльнулся и, переваливаясь, полез к Варваре.
— Сват! — кричал Михайла. — Целуй и ты Варвару. Чтобы всё по-хорошему было. Всех помирю!
Потом начался пляс. Плясали, пели, снова целовались, и у Макара шла кругом голова. Он всё не мог чего-то сообразить, а чувствовал только, что то, что было, кончается совсем. Дробится на мелкие осколки и несётся в чёрную дыру. «К чёрту!» Не было больше водки. Макар послал Никифора купить ещё. «Пропадай всё пропадом!..»
Изба так и тряслась. Михайла плясал с Еленой, Вася с Ариной. Неожиданно распахнулась дверь, ворвалась разъярённая Хама и заревела, как труба:
— Пьяницы! Сюда, что ли, моего пьяницу заманули? — Вася, с увлечением выплясывавший посредине избы, малодушно кинулся за перегородку во вторую половину избы. Но Хама уже волокла его, как ястреб цыплёнка.
— Вот невежа! Вот необразованная баба! — кричал Вася, жмурясь от оплеух и приплясывая ногами. К Хаме, пошатываясь, со стаканчиком в руках, направился Михайла.
— Марья! С праздником, Марья! — утирая слёзы, кричал он. — Всех помирил. И тебя помирю… Такой уж я человек… Выпей вот, Марья! А Вася — душевный мужик.
Но подпрыгнув от удара, стаканчик дугой полетел через всю избу. Увлекаемый крепкой рукой, Вася безропотно исчез за дверь, и с улицы долго ещё гремел разгневанный бас.
Размякший Михайла кричал:
— Сват! Сваха! Гости дорогие! Не обессудьте! Окажите почтение! Теперича к нам.
Двинулись в лаптевскую избу. Поставили самовар, жарили яичницу, пили водку. Пришли ещё гости — из усадьбы рабочий Яков и кухарка Авдотья, подвалили свои мужики. Михайла кричал всем:
— Пожалуйте, гости почтенные! Радость у нас. После войны замирание настало. Всех помирил! Макара с Еленой. Гришку с Варварой, — новобрачные у нас. Гуляем на радостях!
Гришка форсил. Дёргал носом, утирал его рукой, проходил длинным шагом по избе, звал из сеней Варвару и приказывал ей садиться рядом с собой. Макару стало невмоготу. Был уже вечер. Он поднялся и пошёл.
Варвара подогревала в сенях самовар. Увидев Макара, она выпрямилась, взглянула на него, и, неожиданно для себя самого, Макар, остановившись, сказал:
— Варя! За что ты меня убила? — и, махнув рукой, прошёл.
Садилось солнце. На улице стоял дым коромыслом. Обнявшись и выписывая мыслете, шли мужики и бабы и оглушительно горланили песни. Избы гудели от спершегося в них крика и пляса. Из окна покосившейся хибарки глядело унылое лицо Васи. Заметив приятеля, он высунулся и крикнул: «Макар!» — но в тот же миг на его плечах появились две руки, Вася сгинул, как дым, а высунувшаяся голова Хамы заревела:
— Проходи, проходи, сволочь! Нечего людей смущать!
XIV
Ночью Макару не спалось. Давно уже, с самого начала ссоры с женой, он ночевал в летней избе, отделённой сенями от той половины, где жила Елена с детьми. Работник Никифор спал на сеновале.
Макар долго ворочался на лавке. Ему стало душно, он встал и вышел посидеть на крыльце.
Полный месяц стоял над заречными голубыми лесами, серебрил пески, озерко и дорогу на той стороне, перекидывался чешуйчатым мостом через реку и заливал белым мерцанием улицы и дома. В чёрной тени стояла часовня на обрыве; на ней теплился только крест. Было часов десять. По дворам лениво перелаивались собаки; деревня спала после целого дня гульбы.
Макар долго сидел и смотрел на реку и на лес. Ему вспомнилось, как он встречался весной с Варварой, как захватили их в огороде, как он бушевал тогда… Как ходил к озеру за кладом, как неожиданно ушла от него Варвара, как он мучился потом… Точно чёрная сила без передышки гнула, ломала и засовывала его всё глубже в дыру. А сегодня Варвара начнёт по-настоящему жить с Григорием, и всему будет конец. Макару представилось, как слюнявый Гришка обнимает и целует её, и от боли у него закипели на глазах слёзы, едкие, как купорос.
На минуту в нём поднялся порыв: «Ну, вас всех совсем! Не хочу больше мучиться. Уйду, куда глаза глядят…» Но у Макара не было уже сил ни на что. Когда ему представилось, как он пойдёт один, неизвестно, куда, оставив и Кузьмино, и реку, и лес, и поля, — он увидел, что этого не может быть. Куда пойти?..
Уронив бессильные руки, он глядел на задумавшуюся реку, на подлунный пар, мерцающий над лесами, и вспомнил про клад. Вспомнил про мельника, у которого был две недели тому назад, про его острые глаза, про длинный с ним разговор… Макар снова почти верил в клад. Но и это было ни к чему. На что теперь клад?..
И в первый раз в жизни подступила к Макару совсем новая мысль, взглянула спокойно в глаза и шепнула, что лучше всего было бы помереть…
— Макар!.. — долетел до него откуда-то громкий шёпот. — Макар!.. — и Макар вскочил, заметался, как потерянный, бросился было по улице, но вернулся и кинулся в сени, а оттуда на двор. Под навесом, около калитки в огород, стоял кто-то белый и шёпотом кричал: — Макар!..
Это была Варвара. Она стояла, опустив обе руки, выкликала, как во сне: «Макар!.. Макар!..» — и её било всю, так что она едва держалась на ногах.
— Топиться побежала… — заговорила она хриплым голосом. — Простите, Макар Васильевич! Не поминайте лихом! — и медленно склонилась пред ним до земли. Макар схватил её за руку, потащил через двор в сени, оттуда в избу, толкнул её на лавку и забегал кругом. Выскочил в сени, зачерпнул ковш воды и выпил. Постоял в столбняке и снова кинулся в избу. Варвара лежала на лавке, как мешок.
— Варя! Варя!.. — Она не отвечала. Выскочил опять, зачерпнул новый ковш, поставил на лавке и опять побежал; на этот раз запер на крючок дверь избы.
Варвара лежала, не шевелясь. Она была простоволосая, в одной рубахе, босиком. Приподнявшись, она хлебнула воды и проговорила хрипло:
— Топиться побежала. Помереть надо мне…
Присев на корточки около неё, Макар дрожал и гладил её по волосам.
Снаружи постучали в раму окна. Макар вскочил:
— Чего там?
— Макар! — гудел взволнованный голос Михайлы. — Варвара, слышь, топиться сбежала! Искали во дворе и в огороде — нету нигде. Неравно и впрямь утопилась? Мы к перевозу. Пойдёшь, что ли, искать?
Макар захлопнул окно. Варвара заметалась по избе: «Топиться! Топиться!..» — и рвалась к дверям, так что Макар едва мог её держать.
— Пусти! Тошно! Утоплюсь! Опять туда… Пусти!
Она вилась и крутилась в его руках, кричала, царапалась и кусалась, потом ослабела и, прижимаясь всем телом, в истоме шептала:
— А Гришка-то проти-и-вный! Слюнявый!.. Перенесть его не могу…
Случилось чудо: ночью, в тёмной избе для Макара и для Варвары загорелось яркое солнце. Они позабыли всё.
Снова стучали в окно. Расставив ноги и утирая пальцем нос, стоял на дворе Гришка и говорил:
— Нигде не нашли. И у перевоза не было её. Может, ты её видел, Макар? А?
— Пошёл к… — выругался Макар. — Живо!
— Чего лаешься-то! — обиделся Гришка. — Может, у тебя ещё она и схоронилась… Тоже на чужих жён…
— А вот хочешь, я тебя стукну поленом по башке? — в бешенстве проговорил Макар, высунувшись из окна.
Сейчас же затряслась запертая дверь. Макар в ярости кинулся к ней. Там была Елена:
— Макар Васильич! А ты Варвару искать не ходил? Боимся, не утопилась ли она… От Григория она убежала…
— Спать хочу! — зарычал Макар. — Ступайте вы все к чертям! Не хочу я ничего больше знать.
Он гнал мысль о том, что будет дальше. Ему было не до того. Он вернулся к Варваре, покорно и счастливо ожидавшей его. Ослепительный свет опять загорелся в тёмной избе.
— Варя! — шептал он. — Землю переверну, а тебя никому не отдам! Люба ты моя! Сам не знаю, что теперь сделать смогу. Конченный человек был, а теперь словно ожил.
— Как пала тогда мамонька предо мной на колени, — говорила Варвара, — так я словно ума решилась. Побежала утром молиться в село — чую, что не надо мне ни Бога, ни матушки, ничего, — и встретилась тут с тобой. И стала я тогда выкликать. Ударит меня оземь, и кричу, удержаться не могу. И Бога кляну и матушку кляну, против всего бунтую… Каждый день мамонька к нам приходила и всё уговаривала. «Сделала ты, говорит, уже полдела, дочка. Доделай теперь до конца. Живи с Григорием, роди от него ребёнка. Сделай это для меня, век за тебя Бога молить буду». И всё уговаривали. А я не могла. Как подойдёт он ко мне, слюнявый да сопливый, так у меня в глазах почернеет, забьюсь вся и давай кричать. И сегодня вот совсем уж уговорили, так и порешила: надо так, Бог такого подвига хочет. А как остались мы с ним на один, так я опять словно ума решилась. Матушка тут прибежала и Арина — уговаривают меня, ругают, силом заставить хотели, а я вырвалась и побежала…
— Люба моя! — повторял Макар. — Не отдам тебя теперь никому! — и сжимал её так, что она слабо смеялась…
Ночь летела и летела на бесшумных крыльях навстречу солнцу, и они говорили и не могли наговориться. Переливали друг в друга свои сердца, снова наполняли и переливали опять.
— Ой, люб ты мне, Макарушка! — шептала Варвара. — Девчонкой ещё любила тебя. Краше да лучше никого не находила. Знала, что заказан ты мне, что и смотреть-то на тебя грех, а украдкой возьму да и погляжу…
Стало светать. Проходила ночь. Недалеко было солнце — начали петь петухи. Пока было темно, думалось как-то, что до утра далеко, и что случится, может быть, чудо — никогда не кончится ночь. Но незаметно и упорно подходил жестокий день, разгоняя темноту. Вставала мысль: что делать теперь?
Первая опомнилась Варвара.
— Светает!.. — воскликнула она и затихла. Потом забилась, как птица: — Пусти меня. Макар! Пусти! Уйду я. Ой, пусти!
— Да куда же тебе идти? — говорил ей Макар. — Никуда я тебя не пущу. Не отдам тебя никому.
— Пусти, ой, пусти, Макар! Надо бежать. Пусти! Господи Батюшка, что я наделала? С кем ночку прокоротала!
Макар опять держал её изо всех сил.
— Пусти! — кричала Варвара. — Нет мне прощенья! Господи Батюшка, да что же мне делать?
В дверь застучали снаружи так, что она затряслась.
— Вот она где! — вопил разгневанный голос Елены. — Вот ты куда топиться побежала! С ног все сбились, искавши, а она у меня же в доме с полюбовником спит! Ах, ты…
— Ох! — крикнула Варвара, точно её хлестнули кнутом, и встала белая, как полотно. Потом кинулась, распахнула дверь и, упав к ногам Елены, закричала:
— Мамонька, прости!..
Гневная Елена пнула её ногой и плюнула ей в лицо.
— Ох! — крикнула снова Варвара и пустилась бежать.
На один момент Макар остался с Еленой лицом к лицу. Потом он сшиб её ударом кулака с ног и бросился за Варварой.
Она была уже далеко и птицей неслась по спуску к реке. «Около перевоза омут!» — мелькнуло у Макара в голове, и он помчался изо всех сил, но видел только, как, завернув по берегу, Варвара зайцем пролетела по парому и, взмахнув руками, кинулась с него вниз.
ХV
Дней через пять после этого Елена сидела в кухне барской усадьбы у кумы своей, кухарки Авдотьи, и горько плакала, утирая подолом глаза. За это время её лицо осунулось и постарело на десять лет.
— Ой, матушка ты моя, Авдотьюшка, милая! — жалобно причитала она. — Такие-то дела, такие-то дела, что уж чисто ума я решаюсь. Кажись, и не бывало николи таких делов-то, — ровно светопреставление началось. Не будь малые детки мои, птенцы несмысленые, навязала бы себе камень на шею да и кинулась бы в омут головой.
— Так как? — говорила Авдотья, ожесточённо вытирая мочалкой чугун, в котором варились к обеду щи для рабочих. — Так, говоришь, и сидят, запершись? И на волю не выходят?
— Так, милая, и сидят. Изнутри дверь-то на крюк заперли, да и сидят. И ничего, милая, не слышно. Живы ли, мертвы ли, ничего не слышно. Да кабы-то уж померли!.. Живы они, окаянные. Не помрут. Не пошлёт Господь такой милости.
— Да ведь есть-то, чать, надо? Едят они, чать, что-нибудь?
— Едят, милая, как не есть, едят. Ещё, как только заперся он, посидели они, голубушка ты моя, молча, потом отпер он дверь, Макар-то, выходит, идёт к нам, в жилую-то избу, и хвать каравай хлеба. Потом картошки взял, посуды к себе унёс, самовар маленький взял, всё, милая, взял. А ещё допрежь того, только что приволок он её, Варьку-то, посидели они запершись, выходит он, голубушка, а я-то в сенях. Взглянула на него, да так и обомлела — вода течёт со всего, одежда облипла, а сам белый-белый, как стена. Только глаза, как у волка, так и горят. Не говоря, милая, худого слова, прямо да мимо меня, взял из голбца рубаху мою, сарафан, милая ты моя, да платок жёлтый с разводами, да зипун синего сукна хороший, схватил всё в охапку и опять к себе. Для неё-то. Голая ведь она к нему, почесть, совсем прибежала от Гришки-то, — как выскочила тогда, так в чем была к нему и прибежала. Так это моё же, чтобы одеть-то её и взял!.. — не выдержав, снова зарыдала Елена.
— Ай-ай-ай! — сокрушённо качала головой Авдотья, продолжая шуровать чугун. — И до чего только дошёл народ! Ни в Бога ни в чёрта не верят, о чем и подумать-то страшно — всё делают. Ну-ка-ся! Со своей же жены дочкой спутался! Ведь она ему, по церковному-то тоже, чать, дочка приходит. Грех-то, грех-то какой! Ай-ай! Говорили тут у нас, будто чуть не потопли оба? Уж и впрямь лучше бы потонули, чем такой срам пред людьми выносить. А с чего она в воду-то кинулась?
— Со стыда, милая. Не иначе, как со стыда. Стыд её, должно быть, зазрил. Плюнула я тут в неё, как с Макаркой-то её застала, плюнула ей в бесстыжую её рожу. Ах ты, мол, вот ты на что пошла! А она как вскричит, да из избы, да прямо к реке. А он-то за ней. А я, милая, как сумасшедшая, за ними. Вижу, сначала она, а за ней он — бух, бух в воду! А вода-то быстрая, да берег-то крутой: схватил её Макар, плывёт, а его к круче относит. Закричала я тут; выскочил Матвей-перевозчик, да лодку им и подал.
— Хорошо ещё, хоть Мотька-то скоро проснулся, а то иной раз дрыхнет, дрыхнет, чисто из пушки пали, и то не услышит. Потопли бы оба, — проговорила Авдотья.
— Ой, милая, да и лучше бы уж потопли! Хоть сразу бы Господь покарал, а то теперь только маета одна. И сама не знаю, зачем я Матвея-то разбудила, — видно, уж сердце у меня такое — всё-таки муж да дочка мне! И стою я, милая, на бережку, трясусь сама, плачу, думаю: деточки вы мои милые!.. Стою так — солнышко восходит, ясность да тишина, река светлая, птицы поют, — а он вылез из лодки, Макар-то, взял Варвару в охапку, да, не говоря ни слова, вверх на гору, к себе. А лицо, как у сатаны, и зубами лязгает. Стою так, смотрю, крутится всё у меня в глазах, а Матвей-то подходит ко мне и говорит: «Это, говорит, тётка Елена, что же такое за происшествие? А?» Села я тут, голубушка ты моя, залилась слезами, заголосила криком, ударилась о сырую землю, вижу, крест на часовне: За что, — кричу, — Ты меня покарал? Вскочила и побежала домой. Прибежала домой, а они уже и заперлись. Да с тех пор и сидят. И что делают — неизвестно.
— А Лаптевы-то, милая, что же? — расспрашивала любопытная Авдотья. — Тоже ведь, чать, из ихней семьи. Неужели так-таки и ничего? Ушла баба и всё тут? Тоже, чать, не, больно-то хорошо…
— Да что Лаптевы, родная… — продолжала Елена. — Лаптевы, народ посторонний. Не болит ведь им, как мне. Если бы ещё хоть Гришка настоящий мужик был, а то ведь что он? Человек не человек. Приходили они, милая, и Михайла, и Гришка, и ещё, почитай, полдеревни сошлось, такой шум, что не приведи Бог, стоял под окном у Макара, и кричат: «Это ты что же, мол, затеял? Это, мол, не рука! Отдай чужую жену мужу!» А он-то, Макар-то, как высунется из окна, да в руках-то ружьё, да как крикнет: «Убью!» — так всех их и разнесло, ровно мякину ветром. Мы, говорят, его знаем. Он, говорят, человек опасный. Долго ли до греха? Так, милая ты моя, и оставили их. И ни от кого мне, сироте бедной, ни защиты, ни заступы нет…
— И так-таки никого до себя не допущает?
— Никого не допущает. Только Алексей-лесник к нему и ходит. Тот каждый день раза по два заходит. С самой ведь весны они спутались, и дружба да разговоры у них пошли…
Отворилась дверь, и в кухню ввалились работник Яков, за ним Михайла, Гришка и двое мужиков. Все были взволнованы и возбуждены. Перекрестившись на икону, Михайла сказал:
— А, свахонька! Доброго здоровья! — и с занятым видом обратился к Авдотье: — Барина бы, госпожа стряпка, нам надо.
— Барина? — весело переспросила та. — Ишь, какой важный дядя Михайла стал. К нам и ходить не хочет. Всё к барину да к барину. А зачем тебе барина?
— Стало быть, дело такое есть, — веско ответил Михайла и независимо уселся на лавку.
— Ишь, какие деловитые нонче все стали! — продолжала Авдотья. — Барин сейчас завтракать будет. Подожди, побеседуй с нами.
— Неколи нам с тобой разговаривать. Дело-то, слышь, важное. Вот сваха Елена знает, поди, какое дело.
— Нет, сватушка, — сдержанно ответила Елена. — Не знаю я, какие у вас дела. Есть у нас с тобой дело одно вековечное, да, видно, Господь Бог один нам в нём поможет.
— Всё то же дело, свахонька. Муженька твоего касающее. Насчёт Макара. Не больно ладно ведёт он себя. Обижаемся мы на него.
— Тоже, какое дело затеял! — со злобой сорвался вдруг Гришка. — Ишь, ты! Один хочет клад взять! Нет постой! Мы этого не дозволим. Это общественное дело.
— Постой, помолчи! — сурово сказал Михайла. — Кричал бы, когда надо, а то теперь хайло разевает! Клад, слышь ты, тётка Авдотья, Макар поднять хочет. Коло Дикова озера клад.
— Это где весной-то копались?
— Вот, вот. Денег там, в грамоте, слышь, сказано, несметно закопано. А грамота-то у Степана-Колокольца. А со Степаном-то условились мы. Разодрались они с Макаром — так вот мы и уговорились сделать артель. А тут Макар с Алексеем да с мельником с Горелой мельницы идти его поднять хотят. Они такого права не имеют. Степанов клад, а не их.
— Никакого права не имеет! — сорвался опять Гришка. — Тоже прыткий какой выискался! С колдуном! Нет, тут артельное дело!..
— Погоди! — крикнул на него Михайла. — Не мешай. Вот и хотим мы с барином потолковать, нельзя ли Макарку твоего остановить. Чтобы не совался он. А то они не сегодня-завтра туда, на клад-от, окончательно ехать хотят.
— А откуда знаете-то вы? — с волнением спросила Елена.
— Мы про всё обстоятельно известны, — важно произнёс Яков, набивая трубку. — Они с мельником через день видаются. И Макар к нему ездил, и Алексей ходил. Работник с мельницы, паренёк один, всё нам разъяснил. Мельник сам раза два к озеру ходил, место осматривал.
— А мельник-то колдун, еретик, — снова не вытерпел Гришка. — Он народ совращает. В свою веру переводит. К нему, слышь, по ночам люди сходятся да пню молятся. Тоже, если становому донести…
— Не суйся! — оборвал его Михайла. — Верно. Еретик он, мельник-то. У него книги по пуду каждая, в четверть толщиной. Из скитов он, беглый. Бог его знает, может, чёрту давно душу продал. Вот мы и не хотим. Барина нам надо. Может, как-нибудь воспрепятствовать можно.
Из барской половины выскочила молоденькая горничная и, приплясывая, пошла по кухне. Работник Яков, вынув изо рта трубку, подождал, пока она поравнялась с ним, и сделал тогда ртом: «Ку-ик!»
— Ой, леший, напугал как! — вздрогнула горничная и крикнула Авдотье: — Авдотья! Пирожки готовы? Барин завтракать требует.
Авдотья открыла заслонку печи и начала там возиться, а Михайла, просветлев, сказал горничной:
— Сорока, барина бы нам повидать!
— Кому сорока, а тебе Катерина Семёновна, — вздёрнув нос, ответила горничная и, схватив со стены ключ, побежала в погреб.
— Ишь, ты… — укоризненно произнёс Михайла.
— Она у нас гордая, — сказал Яков. — Нас, деревенских, не уважает. Больно, говорит, от вас дух густой.
Все замолчали и поднялись. В кухню поспешно вбежала сама барыня, маленькая, толстенькая, седая, с румяным лицом. Переваливаясь с ноги на ногу, она озабоченно заговорила:
— Авдотьюшка, как пирожки-то? Барин ведь любит поджаристые и румяные. Ну-ка, покажи.
Мужики стояли и кланялись.
— Здравствуй, Михаила. Здравствуй, Григорий. Здравствуй, Елена, — говорила барыня, возясь у печки. — Вам что? По делу пришли?
— Барина нам бы повидать, — чинно ответил Михайла. — Насчёт, вишь, Макара. Обижаемся мы на него.
— Твой Макар, — заговорила Елене барыня, — самый неприятный мужик. Я это тебе всегда говорила. Ты хорошая женщина, а он смутьян. Гордый и непочтительный, смотрит, как волк. Никогда я его не любила…
— Есть хочу! — раздался из комнат зычный крик, и барыня, не договорив, убежала с тарелкой пирожков. Через минуту, приплясывая, пробежала из погреба горничная, держа в руках окорок и масло, а ещё через минуту выскочила опять и крикнула:
— Идите на двор, под окно. Барин велит.
Все вышли на двор, остановились перед окном и сняли шапки. В окне появилась голова барина с большими седыми усами. Его подвезли на кресле к окну. Он спокойно кивнул мужикам и густым голосом проговорил:
— Что скажете?
Во двор вихрем влетела девчонка Настюшка и, задыхаясь от волнения, визгливо крикнула Елене:
— Тётенька Елена! Дядя Макар ехать куда-то собрался. Уж и лошадь запряг.
Елена пустилась со всех ног через двор по перегону к своей избе. Перебегая через улицу, она замедлила шаги, и как раз в это время Макар вывел со двора лошадь, запер ворота и начал шагом спускаться к перевозу. Угрюмо понурившись, он глядел прямо перед собой. Рядом с ним была Варвара. Несмотря на жаркий день, её лицо было закутано в платок, и она сидела, нагнувшись вперёд, как будто у неё нестерпимо болела голова.
С невыносимой тоской Елена провожала глазами удаляющуюся тележку и, когда она скрылась за поворотом, побежала к часовне, откуда был виден перевоз. Не отрываясь, она смотрела вниз, и, точно почувствовав её взгляд, Макар поднял глаза. Он сейчас же сердито отвернул голову в сторону, и Елене захотелось крикнуть диким голосом и, взмахнув руками, кинуться с крутого обрыва вниз.
Не отрываясь, она следила, как тележка въехала на паром, как медленно поползла на пароме через реку, проехала шагом полосу песка, поднялась на усаженную ивняком дорогу и, быстро покатив, скрылась в лесу. Тогда Елена схватилась и побежала домой. Шатаясь, как пьяная, добралась до крыльца, увидела из окошка валившую из усадьбы гурьбу мужиков, среди которых был теперь и Степан, услышала, как Михайла, покрывая все голоса, кричал: «А коли нельзя, так и сами управу найдём!» — потом, не помня себя, свалилась на лавку и начала голосить.
XVI
Ехали молча, каждый погруженный в своё. Время от времени Макар оглядывался кругом и ударял гнедого вожжой, но тот и без того бежал хорошо. Варвара раскутала голову и тоскливо смотрела на обступивший дорогу лес. Так проехали вёрст пять.
— Должно быть, Алексея скоро настигнем, — тихо промолвил Макар, не поднимая головы. — Не боле, как за час, он до нас вышел. Говорил, присядет где по дороге и подождёт.
— Страшно мне. Макар, — проговорила Варвара, повернув к нему лицо. Макар увидел в её глазах тёмный испуг, который сейчас же отозвался и в нем.
— Чего страшного-то? — притворно бодро сказал он. — Вот погода, скоро всё будет хорошо. Возьмём мы с мельником клад, уедем с тобой и заживём.
— Боюсь я, Макар, — повторила Варвара. — Едем мы неведомо куда.
Макар боялся и сам. С первого же свиданья с мельником он почувствовал к нему непонятный страх. Он поверил, правда, в клад, но ни за что бы за ним не пошёл. Слишком уж непонятно и страшно стало теперь то, что ожидало его там. Но за эти пять дней, что они с Варварой просидели, запершись в избе, Макар окончательно решил. Только клад мог его спасти. И вышло странно: душа Макара точно разделилась пополам. Одна половина верила в мельника и слепо шла вперёд, другая отстала и, заливаясь ужасом, хотела бежать.
И вспомнилось Макару: ещё когда был парнем, пошёл он раз в город, подошёл к мосту через речку с крутыми берегами и видит — разобран мост, и протянулось через речку на сваях одно только бревно. Пошёл он по этому бревну, дошёл до средины, и у него закружилась голова: внизу бежала вода, торчали сваи, валялся деревянный хлам. А повернуть было уже нельзя. И потянуло его тогда сесть и сидеть, ухватившись руками за бревно. Но он пошёл и глядел только вперёд, чувствуя, что под ногами нет ничего.
То же было и сейчас: он шёл точно по бревну высоко надо всем и боялся заглянуть в пропасть, которая сторожила внизу. Но повернуть было нельзя, и смелой половиной души он бодро говорил Варваре:
— Не бойся ничего. Знаю я, что с мельником мы добудем клад. А тогда… заживём мы, Варя, с тобой!..
Через полчаса догнали Алексея. Ещё через час свернули на боковую дорогу: скоро впереди послышался ровный шум воды. У Варвары затрепетало, как птица, сердце: ей хотелось бы, чтобы этот путь не кончался никогда. Но уже потянуло свежестью, расступились деревья, замелькали строения, и они въехали на мельничный двор.
Макар отпряг и поставил лошадь, и не успели оглянуться, как подбежал к ним маленький мальчик и важно проговорил:
— Дедушка Аввакум к себе вас кличет.
У всех так и заколотилось в груди. Обогнули мельницу, вошли в большую пристройку с другой стороны, поднялись из сеней по лесенке наверх и очутились в светёлке, окна которой выходила на мельничный пруд. Там были две лавки, маленький стол, полки по стенам, и везде — на полках, на гвоздях, на верёвках, протянутых от стены к стене, — висели и лежали мешочки и пучки трав, стояли банки и бутылки с настоями. Мельник был известный знахарь, и к нему сходилось со всей окрути много больных.
Едва успели сесть, как растворилась другая дверь, и в светёлке появился Аввакум. Это был старик лет 65, маленький, неприветливый на вид. Чёрная с проседью борода росла у него от самых глаз, опускаясь до половины груди, и из-под мохнатых бровей зорко смотрели колючие глаза. Он был одет в кафтан, на голове была мохнатая шапка, на ногах сапоги. Правая нога у него срослась в колене, и оттого он подпрыгивал на ходу.
— Здравствуй, Макар! Здравствуй, Алексей! — быстро заговорил он, боком, как галка, подскакивая к ним и, взглянув на Варвару, прибавил: — Здравствуй и ты. Приехали? Ну, и хорошо. Ступайте пока в избу. Когда нужно, скличу. А я пока помолюсь.
Часа через три Макар, Алексей и Варвара снова сидели в этой же горенке наверху. Стояла полутьма, на столе колыхался огонёк восковой свечи, и развешенные по стенам пучки трав, казалось, шевелились от ходивших по ним теней.
За дверью, в соседней горнице, куда не входил никто, был мельник. Он двигался там, громко читал, пел, иногда что-то кричал. Работала мельница, деревянные стены тряслись, стоял ровный гул. Уже два раза отворялась дверь, и из закрытой горницы выскакивал мельник. Как галка, скакал по светёлке, размахивая кадильницей, кадил, потом снова пел, читал и кричал.
Прижимаясь к Макару, Варвара сидела ни жива ни мертва. Лесник Алексей дрожал, как осиновый лист, и Макару казалось, что он видит всё это во сне. Чёрная ночь давно уже смотрела в окно, жидкая постройка вздрагивала и тряслась, точно грозная сила ураганом налетала на неё со стороны. Снова отворилась дверь, выскочил мельник и, выкликая слова, завертелся волчком. Оторвавшись, порхнуло лёгкое пламя свечи. Варвара дико крикнула в темноте. Когда, Макар дрожащими руками зажёг огонь, дверь была уже заперта.
Казалось, долгое время стояла полная тишина, только внизу с гулом вертелось колесо. Потом мельник появился в дверях. В руке у него была палка, за плечами котомка, кафтан подпоясан кожаным ремнём.
— Айда! — крикнул он на ходу, быстро побежал по лестнице и в сенях отворил дверь. Сухая женщина с длинным лицом подошла к Варваре и ласково сказала:
— Пойдём-ка, касатка, ко мне!
Страшно ясно Варвара поняла, что всему пришёл конец.
— Макарушка! — крикнула она в смертельной тоске; она чувствовала, что видит Макара в последний раз.
— Полно, полно, касатка! — ласково уговаривала женщина и мягко вела её к себе. Теплилась лампадка в просторной горнице пред тёмным киотом в углу… — Полно, полно, — уговаривала женщина и обнимала Варвару рукой. — Не бойся, не кручинься, не горюй! Дедушка Аввакум не такой человек, чтобы зря что-нибудь начинать. Уж каких-каких он только ни делал делов! Великого ума человек. Не плачь, не кручинься, не горюй! Завтра всё будет хорошо. Увидишь муженька своего, порадуешься вместе счастью-удаче. Не плачь! А расскажи-ка мне лучше пока, какое у тебя горе, отчего ты такая худая, да бледная, да печальная.
— Тётенька! — зарыдала Варвара, падая ей головой на колени. — Тётенька! Болезная я! Несчастная! Никого у меня на свете нету! Он один.
XVII
Мрачен был лес в эту тёмную, безлунную ночь. Чёрной стеной стояли деревья и угрюмо следили за тремя людьми, под спешными шагами которых хрустели сучки.
Впереди быстро двигался мельник. Макар с Алексеем едва поспевали за ним. Они смутно видели в темноте, как он раскачивался и ковылял левым боком вперёд, часто ступая левой ногой. Не говорили ни слова. Дошли до еловой рамени. Когда по знакомой тропинке осторожно, обходя груды хвороста и колоды, стали пробираться вперёд, что-то огромное с треском и гулом вырвалось сбоку из темноты, так что Макар с Алексеем в ужасе шарахнулись назад.
— Сыч! — крикнул мельник, без остановки спеша вперёд. Прошли ещё версты полторы, поднялись на сосновую гривку, завернули вправо и обомлели опять: голубое зарево, колыхаясь, стлалось над землёй, освещая мохнатые колоды, узловатые корневища и низы стволов.
— Гнилушки светятся, — проговорил опять мельник и, закурившись голубым отблеском, пропал в темноте.
Потянуло холодом. Было близко озеро. Скоро вышли на полянку, где рос молодняк. Мельник остановился.
Сбросили с плеч пестера, лопаты и топоры. Присели. Привыкшие к темноте глаза различали то место, где хотели переночевать весной. Мельник оглядывался кругом и бормотал про себя.
— Сейчас приду, — сказал, он и исчез, точно нырнул в темноту. Макар с Алексеем остались одни. Их била мелкая дрожь.
— Что делать-то станем? Копать, что ли? — шёпотом спросил Алексей, но Макар тоже не знал. Мельник не объяснил ничего. Велел только взять лопаты и топоры и идти. И всё время держал себя так, что его нельзя было ни о чем спросить. Да и не надо было ничего знать. Здесь ночью, в лесу, мельник разросся в громадную фигуру, и, когда неожиданно вынырнул из темноты, сразу стало легко и хорошо.
— Айда! — коротко приказал мельник и, бормоча про себя, повёл их вперёд. — Тут, — сказал он, когда подошли к тому месту, где разрывали весной погреб, и сейчас же скороговоркой продолжал: — Рыли вы тут. Растревожили клад. Ушёл, может, в землю или совсем в другое место. Надо ждать, когда проявится сам. А когда проявится — неизвестно, — может, сегодня, может, завтра, может, через месяц, а может, через год. А проявиться должен, потому есть в нём две силы: добрая сила и злая. Что на церкву да нищим — это хорошо. Он сам хочет в мир пойти. А злая сила — что разбойничий клад — на грабеже да на душегубстве. Оттого и прячется. Бояться не надо. Вот поставлю я вас и встану сам. Обведу чертой — через эту черту сила злая не проскочит, волоса с головы не тронет, только стой, не беги. А побежишь, будет плохо. А пужать может сильно. Слушал я землю — ворчит в земле, поднимается сила злая. Будет пужать. Но стой, не беги, что увидишь, примечай. И что бы ни увидел, голосу не давай, не кричи. Пуще всего голоса человеческого не любит. Становись.
Дальше всё было, как во сне. Подпрыгивая и бормоча, мельник обвёл своей палкой черту сперва кругом Макара, потом крутом Алексея, который неясно маячил в темноте, шёпотом сказал Макару: «Стой. Не пужайся. Примечай!» — и исчез.
Настала тишина. Зазвенела волной, покрыла всего, отхлынула опять, и то, что было сейчас, отошло далеко назад. Настала новая, другая жизнь. Стало темней, через миг посветлело, потом потемнело опять. Расстилалась полянка, поросшая молодняком, и сливалась с темнотой. Справа и сзади надвигался стеной лес, впереди было озеро, слева смутно виднелся Алексей. Сначала Макар различал его, потом перестал: смешал с деревьями.
Стоял и удивлялся сам: не было в нём никакого страха. Что ни будет, всё равно. Найдётся клад — хорошо. Не найдётся — тоже хорошо. Не будет пугать — хорошо. Будет — тоже ничего. И казалось иногда, что не он, Макар, это стоит, а кто-то совсем другой, чужой, так, шутки ради, какой-то чудак. И что нет никакого ни мельника, ни Алексея, а лежит он у себя дома на лавке и спит.
Качнулась земля, поплыла из-под ног, ближе надвинулся лес, потемнело, потом посветлело опять, и представилось ясно: сидят они с Варварой в избе, он за столом, она на лавке, закутавшись платком…
Вспомнил, что стоит в заворожённой черте, пришёл в себя, начать смотреть. Через короткое время удивился: горит по траве тоненькой полоской круг, впереди, справа, слева. Оглянулся — и сзади горит. Смигнул глазами — всё пропало. Постоял опять — снова горит. «Начинается!» — подумал Макар, похолодел, и сразу стало совсем темно, со всех сторон надвинулся лес, и из лесу уставились, не мигая, зеленые глаза. Волосы встали дыбом, занемели ноги, спину и поясницу облило холодной водой. Поглядел — пропало всё, а взглянул пред собой и видит: разгорается в земле зеленое пламя, плавится земля, делается точно из стекла, и прямо перед ним в глубине полный червонцев бочонок. Поднимается, точно плывёт вверх, доплыл до самой травы и — пропал. Ещё гуще налегла темнота, с озера поднялась чёрная стена, лес вырос до неба, закрыл всё, надвинулся сводом над головой. Качнулась и поплыла под ногами земля — стало слышно, что что-то есть.
Стало слышно, что по лесу, около озера, кто-то идёт. Идёт не один, а много — идут, говорят, трещат хворостом, подходят всё ближе. Вывалились слева, около озера, из чащи, и вдруг, треснув, раскатилось и посыпалось огнём чёрное небо. Ожил затаившийся лес, заревело, завыло и загрохотало кругом: визжа, завертелась нечисть вокруг вспыхнувшей черты. Макар кинулся было бежать, но ноги стали, как чугунные столбы. Гремя и сверкая, покатилось на него из темноты: «Го-го-го-го! Га-га-га-га! Клада захотел?» — и с жалким криком он повалился на землю вниз лицом.
XVIII
Алексей с мельником пришли в себя только тогда, когда услыхали ровный шум текущей по шлюзу воды. Помнили они только одно: там, в лесу, с громом и огнём выскочило из озера чудище и кинулось на Макара. Они слышали его крики и без памяти пустились бежать.
Около строений остановились. Сели, тяжело дыша, на землю и долго сидели, не решаясь говорить. Вынув кисет, Алексей попробовал свернуть цигарку, но руки тряслись так, что только напрасно разбросали табак. Слышал около себя дробный стук, долго не мог понять, в чем дело, потом, приглядевшись, увидел, что это стучит мельникова нога, ударяясь о землю каблуком.
— Что же это такое будет? А? — хрипло проговорил наконец Алексей. Мельник долго молчал, потом незнакомым голосом ответил:
— Стало быть, сила там больно велика. Тут уж не поделать ничего.
— Так как же теперь быть-то? А? — снова проговорил Алексей, и мельник ответил:
— Бывает. И хуже бывает, — и сердито прибавил: — Озлили. Растревожили зря.
— Так как же с Макаром-то? А? — высказался наконец Алексей, но мельник не ответил ничего.
Алексей тоже замолчал. Если бы ему обещали теперь, что клад будет лежать прямо на земле, и что надо только пойти и его взять, он и тогда бы ни за что не пошёл. Там был несказанный ужас. Но его мучила мысль о Макаре, и ему стало легче, когда мельник проговорил:
— Бывает, что так человека в землю и возьмёт. И следа ему потом нет. А то так на махонькие кусочки разорвёт и по всем ветрам раскидает.
Опять сидели молча. Постепенно убывал, как уходящая вода, ужас. Алексей свернул и закурил цигарку, у мельника не стучала больше нога. Всё яснее делался вопрос: «Что же теперь делать-то? А?» — и мельник вырешил его. Сердито зашевелившись, он поднялся и сказал:
— Ну, что же сидеть-то! Идём, что ли, к избе.
Поднялись и пошли. На дворе, под навесом, залаяла, рванув цепью, собака. Мельник свистнул, она застучала в темноте хвостом. Тихонько, крадучись, обогнули строения и подошли к крыльцу. Со ступеней поднялась чёрная тень, и измученный голос проговорил:
— А Макар где?
Это была Варвара. Алексея так и отшатнуло назад.
— Где Макар? — крикнула Варвара, двинувшись к нему.
Алексей оглянулся. Мельника уже не было: он или ушёл назад, или незаметно проскользнул в темноте мимо них. В неожиданном ужасе Алексей пустился было бежать, по Варвара догнала его и с криком вцепилась в плечо:
— Где Макар? Говори! Где?
— Варварушка, матушка! — жалко лепетал огромный мужик. — Не знаю я. Видит Бог, не знаю. Остался там.
— Зачем остался? Говори! Всё говори!
— Вышло уж так. А что с ним, не знаю.
— Убило? — крикнула Варвара.
— Не знаю я, — лепетал Алексей. — Ничего не знаю. Выскочило из озера, загремело и огнём стало жечь. Мельник побёг, и я за ним. А Макар остался.
— Покарал Бог! — крикнула Варвара и опустилась на землю.
Алексей растерянно стоял.
— Прости меня. Алексей Никанорович, в чем пред тобой согрешила, — тихо заговорила Варвара, поднимаясь. — За всякое неразумное слово прости. Не помнила и себя. Изболело у меня сердце… Прости! — Ещё раз поклонилась и спешно пошла.
Не сообразив сразу, в чем дело, Алексей постоял, потом кинулся вдогонку за ней.
— Да ты, Варвара, куда?
— Надо мне, — плача, отвечала она. — Пойду я.
— Да куда ты пойдёшь-то?
— К Макарушке пойду. Убило его сердешного. Может, и косточек-то от него не осталось, а одна только зола серая, — заливаясь слезами, причитала Варвара. — Пойду, разыщу, что осталось от него. Наплачусь в остатний раз.
— Да куда ты пойдёшь-то? — держал её Алексей. — Ты и дороги-то не знаешь. Заблудишься в лесу. Утопнешь болоте. Подожди до утра. Вместе пойдём.
— Пойду я, — твердила Варвара и вырывалась из его рук. — Найду я тебя, желанный! Паду на тело твоё изувеченное, забьюсь, закричу источным голосом. Пустите меня, люди добрые, не держите! Надо мне туда, Пусти! — взвизгнула она. — Враг! Нечистая сила! Не боюсь тебя. Провались!
И прежде, чем Алексей успел опомниться, она вырвалась и скрылась — точно сгинула в темноте.
— Аввакум! — изо всей силы кричал Алексей, бегая вокруг избы. — Аввакум!
Стояла тьма, шумела вода, и точно вымерло всё в проклятой мельнице. Никто не отвечал. У Алексея путалось в голове.
«Ума решилась Варвара-то…» — выплыла у него мысль и нырнула в тёмную муть.
Он присел на крыльцо. Тёплый августовский мрак так плотно обступал кругом, что ничего не было видно в двух шагах. Всё сегодня случившееся, всё, что он видел и пережил, показалось Алексею смутным сном. Он прислонился спиной, примостился удобнее, и сладкий зевок до ушей растянул его рот. Алексей хотел что-то подумать и сразу заснул, точно провалился в чёрную дыру.
Он проснулся, потому что его давно уже что-то беспокоило во сне. Сразу вскочил и в ужасе раскрыл глаза. На нижней ступеньке, свиной к нему, опрокинувшись, лежал Макар и тихо стонал. Взошло уже солнце, но стоял серый туман, и моросил незаметный дождь.
— Макар! — крикнул Алексей. — Господи благослови!
Макар медленно повернул к нему лицо. Вся голова, шея и рубаха у него были залиты кровью, один глаз был закрыт, другой жалобно смотрел из-под багрового подтёка.
— Макар!.. — кричал Алексей, соскочив с крыльца. — Господи Батюшка! А мы, было, думали… Аввакум! Аввакум!.. Да как ты ушёл-то? А?
— Михайла да Гришка, Стёпка с Яковом, да наши мужики то были… — простонал Макар. — Из ружей палили… Ловко обработали. Думал, не дойду…
Алексея так и осенило.
— Аввакум! — кричал он. — Аввакум! Иди сюда! Макар пришёл. Слышь, что говорит! Наши мужики то были!
Из сеней, подпрыгивая боком, появился сердитый Аввакум.
— Испить бы… — широко раскрывая рот, простонал Макар. — Ой, голова… — Впадая в беспамятство, он начал бормотать бессвязные слова.
XIX
Варвару долго не могли разыскать. Уложив Макара, мельник с Алексеем сейчас же отправились за ней. Прошли по берегу Крякши, осмотрели весь прилегающий лес, дошли до Дикова озера, кричали и звали целый день, но не нашли ничего.
На следующий день пришли Михайла с Гришкой и несколько кузьминских мужиков. Опять искали и не нашли. Сошлась наконец почти вся деревня Кузьмино, разошлась партиями по разным сторонам, обшарили все лесные закоулки и тайники, обошли всё Диково озеро кругом. Два дня лес беспокойно стонал от ауканья и криков.
Нашли Варвару только на пятый день. Вороньё сильно кружилось и хлопотало над Казанским болотом и всё над одним местом, где рос густой ивняк. Отправились туда, перешли по кочкам через окна и зыбуны, добрались до ивняка и нашли.
Покрытая тиной и илом, Варвара, скорчившись, сидела в воде, в неглубоком бочажке, уцепившись руками за корневище и увязнув ногами в топком дне. Кругом каркали и не хотели улетать вороны, успевшие уже расклевать у мёртвой пальцы и глаза.
Макар этого не знал. Связанный по рукам и ногам, он четыре недели рвался и бушевал на постели в мельничной пристройке. Выздоровев месяца через два, он вернулся к себе в Кузьмино. Целую зиму молчаливо ковал в своей кузнице и в свободное время уходил к мельнику за реку. А весной, когда вскрылись реки, он сходил на могилу Варвары, попрощался с Еленой и Алексеем, надел на плечи котомку, дошёл до города, сел там на пароход и уехал неизвестно куда.
1912 г.
Баррикада
I
В это туманное октябрьское утро гимназистка седьмого класса Соня Горшкова, которой подруги за общественные её добродетели дали прозвище «Гражданин», сидела на постели возмущённая до глубины души. Подобной низости она не могла даже предположить.
Её ботинки, юбка и сак исчезли. Было очевидно, что их спрятала мать. А она должна была идти. Вчера на митинге, после речи последнего оратора, Наташа, Головастик и она — втроём они дали торжественную клятву прийти, во что бы то ни стало. Она не могла не прийти.
Оратором был Володя, а митинги были в университете.
Жизнь давно уже перевернулась вверх дном. Старый мир умирал. Вся Россия клокотала. Летом приходил броненосец Потёмкин и пытался объявить южнорусскую республику. На улицах бросали бомбы и дрались. В гимназиях не учились. Каждый день могло прийти что-то небывалое. Вот уже две недели, как в университете открылись митинги. Там собирался и обсуждал свои нужды весь народ. Соня-Гражданин и её подруги проводили там целые дня. Вечером, возвращаясь домой, они были пьяны, как от самого крепкого вина, и хотели только одного, — взлететь высоко, так, чтобы захватило дух, к прекрасному и страшному, что заревом вставало впереди, — и умереть.
Часы в столовой пробили восемь. В девять надо было явиться на место. В последний раз обыскав все места, Соня установила только одно: большой шкаф в прихожей был заперт, и ключа в нём не было. Несомненно, вещи были там, ключ мать взяла с собой, а сама ушла на базар.
От негодования Соня горько всхлипнула несколько раз. Выход, конечно, имелся. Всё нужное можно было достать у кухарки Даши. Но она не ожидала этого от своей матери.
Поплескав второпях на лицо водой, Соня взглянула в зеркало, почувствовала, по обыкновению, укол, увидев там широкое, с толстыми губами и вздёрнутым носом лицо, но немедленно подавила личные чувства и тихо, чтобы не разбудить мирно спящей старшей сестры, скользнула через коридор в маленькую кухню.
Конечно, дело устроилось в две минуты. При неистовом хохоте Даши. Соня надела её кофту и туфли-лодочки, набив в них бумаги, чтобы они не сваливались с ног, крепко поцеловала свою избавительницу и вырвалась через чёрный ход на лестницу.
Всё происшедшее сразу представилось ей в смешном виде и, заметив на следующем углу поджидающих подруг, она ещё издали с хохотом закричала:
— Ну! Думала, что уж не вырвусь! Вчера была целая битва. Мама спрятала мой сак и башмаки. Смотрите, как пришлось нарядиться!
Схватившись за руки, они быстро пошли. С неба сыпался мелкий дождь. Даль была задёрнута туманом, но чувствовалось, что солнце работает за тучами наверху.
II
По дороге Головастик — так звали одну из подруг за большую, с выпуклыми глазами голову, качавшуюся на тоненьком, как стебелёк, туловище, — не пропускала ни одного городового без того, чтобы не крикнуть со свирепым видом: «Долой полицию!» И когда чопорная Наташа поворачивала к ней красивое лицо и говорила: «Головастик, это вульгарно!» — она вызывающе отвечала:
— Я не переношу вида этих палачей!
— Погоди, погоди! — широко шагая, говорила Соня. — Скоро их не будет совсем. Народ победит и вместо них устроят милицию.
— Всё равно, женщин не пустят туда! — с сожалением вздохнула Головастик.
— Во-первых, это неизвестно. Может быть, и пустят. Разве мы, женщины, не умеем защищаться? Ого-го-го!..
— У женщин совсем другие задачи, — презрительно заметила Наташа. Она была очень развитая девушка и настоящая социалистка, но вечно задирала нос, ни с чем не желала соглашаться и на всё отвечала: «Старо!» — или: «Неинтересно!» — или: «Вульгарно!» — что всегда сильно возмущало Соню. И теперь, переходя через улицу и шлёпая слишком большой туфлей, Соня сверкнула глазами, хотела разразиться речью, но оказалось поздно. Они были у цели и врезались в густую толпу, которая чёрными волнами заливала переулок, ведущий к университету.
— В чем дело? Что случилось? Отчего все стоят тут?
Через несколько секунд выяснилось невероятное — университет был занят полицией, митинги были закрыты.
Соня была потрясена. Она не могла даже вообразить, чтобы что-нибудь подобное было возможно теперь. Как посмели сделать это? Надо протестовать!
Кипя негодованием, она тащила своих подруг. Крепко сцепившись, они вмешались в толпу, клокочущую, как котелок на огне. Она вся состояла из маленьких кучек, которые, сбившись друг к другу носами, размахивали руками и говорили все разом. То там, то здесь вспыхивали крики: «Долой полицию!» — быстро сливаясь в общий рёв. Потом слышалось: «Надо бороться! Надо дать ответ!» Задавались вопросы: «А что рабочие? Как они?» Ответ был: «Рабочие ещё не пришли. Здесь одна учащаяся молодёжь».
С большим неудовольствием Соня видела, что толпа состояла почти исключительно из учеников и подростков, которые не внушали ей никакого уважения. И что было противнее всего, — в ней так и кишели маленькие мальчики и девочки, которые шныряли, волновались и кричали больше всех.
В одном месте Соня не выдержала и вмешалась в спор.
— Товарищи! — воскликнула она, покрыв своим зычным голосом окружающий шум. — Надо обсудить положение! — и горохом посыпала, что учащаяся молодёжь не может предпринять ничего. Она готова на жертвы, но бессильна. Нужна поддержка всего народа.
Мгновенно выскочил черномазый мальчик, так же звонко крикнул: «Товарищи!..» — и в один миг очутился на плечах таких же мальчишек, как он.
— Во время крестовых походов дети первые двинулись на войну, а уже за ними пошло настоящее войско. Товарищи! — взвизгнул он. — На баррикады!..
— Ура! — подхватила кучка и принялась его качать.
— Негодный выскочка!.. — с негодованием подумала Соня и снова покрыла всё своим голосом:
— Ну, хорошо!.. И что же случилось с этими детьми? Их всех взяли в плен!..
Но, опять взлетев на плечи, мальчишка кричал: «Товарищи!..» — и все кругом визжали:
— На баррикады! На баррикады!..
— Пойдёмте! Пойдёмте!.. — тащила своих подруг возмущённая Соня. — Здесь просто сумасшедший дом. Я бы высекла их всех!.. — У неё была, впрочем, определённая цель. Она искала Володю. Он был в комитете, он должен был всё знать и, кроме того, она хитрила сама с собой. Его, недоступного и сурового, она тайно и мучительно любила, готовая пасть пред ним на колени, счастливая одним тем, что могла его видеть. И у ней подкосились ноги, когда, толкнув её слегка, Наташа сказала презрительно:
— Вон твой Володя!..
Он стоял в кучке, на тротуаре, и было сразу видно, что здесь настоящий центр. На нём была папаха. Из-под студенческой шинели виднелись высокие сапоги. Один карман был сильно оттопырен: там был револьвер. Он стоял, сдвинув брови и заложив за спину руки. Сурово поздоровался и сейчас же отвернулся к черненькому господину, который вертелся около него, как вьюн.
— Володя, — говорила Соня, робко заглядывая ему в глаза. — Скажите, что же решено предпринять?
Угрюмо взглянув, Володя с жестокой насмешкой ответил:
— Во всяком случае, женщинам было бы лучше идти по домам…
Соня вспыхнула от обиды. Этого она не могла перенести.
— Вы не имеете права так говорить, Володя! Женщины могут сделать всё, что и мужчины! Мы не заслужили такого отношения. Мы всегда шли наравне с вами!..
Но толпа хлынула вдруг назад. Поднялся отчаянный крик и визг. Кругом завертелся водоворот. Над головой Сони фыркнула, скаля зубы, лошадиная морда, и над самым ухом оглушительно хлопнул выстрел. Соня присела, решив, что её убило, но её подхватили под мышки и с гордостью говорили: «Это Володя стрелял!» Толпа не бежала больше, лошадиные морды исчезли. Кругом радостно кричали:
— Удрали! Удрали! Опричники!.. Палачи!..
— Мерзавцы! Убийцы! — надрывалась Головастик, и её шляпка, сбившись на бок, прыгала па прямых, как нитки, волосах. Наташа чопорно поправляла шляпку. Они начали пробиваться чрез ревущую толпу, но на встречу им кинулись люди с пылающими лицами и, махая красными флагами, закричали:
— Товарищи! На баррикады! Пять тысяч рабочих идут сюда!
Точно факелы побежали по толпе, зажигая её, как сухую солому. Всколыхнувшись, она дрогнула, покатилась и загремела:
— На баррикады! Рабочие идут.
Соня не слышала, а видела эти слова. Они сразу зажгли её мозг. Вот оно! Лёгкая, как перо, она плыла высоко над землёй. Огненные люди летели впереди. Пять тысяч рабочих, с суровыми лицами, сомкнутыми рядами шли сзади и их шаги отдавались, как гром.
III
На одной улице толпа остановилась, сперлась и закружилась, как наткнувшаяся на плотину река. Впереди кто-то говорил. Одно за другим слова напряжённо рождались в воздухе. Разобрать их было нельзя. Оттого они казались ещё громаднее.
— Пойдёмте, пойдёмте! — порывалась вперёд Головастик. — Надо узнать, что там говорят.
Но волной прокатился радостный крик и, всколыхнувшись, толпа подхватила их за собой. Прохожие на тротуарах останавливались, прижимаясь к стенам. Извозчики сворачивали и скакали прочь. Некоторые, попав в толпу, оглушённые рёвом и свистом, изо всех сил хлестали лошадей.
— Соня! — придерживая рукой шляпку, говорила Наташа. — Как сделают баррикаду? Из чего? — и Соня увидела неожиданно, что она сама этого не знает. Но думать было некогда. В толпу попал разносчик с охапкой разноцветных афиш. Длинный юноша в жокейке на самой макушке головы схватил его похожей на граблю рукой.
В один миг расхватали всё. Маленькие мальчики и девочки с остервенением рвали и топтали ногами жёлтые и синие листки, а красные пошли по толпе. Откуда-то сзади появился длинный шест, двинулся по рукам вперёд; ударил по дороге Наташу по шляпке, расцветился красными листами и, покачиваясь в воздухе, побежал над толпой.
Дальше был участок. У ворот его всегда стояло несколько городовых — теперь не было никого. Несколько испуганных физиономий выглянуло из окон и — получай! Дзынь! — зазвенело стекло. На бегу приседая на корточки Головастик царапала ногтями мостовую, но увы! — камни лежали твёрдо и вырвать их было невозможно.
— Стой! — Задние ряды наскочили на передние. Образовалась каша.
— Товарищи! Наша баррикада здесь!
Длинный юноша, отнявший афиши, ловко перекувыркнулся на руках, крикнул: «Ура, баррикада!» — и, широко шагая на тонких, как жерди, ногах, бросился вперёд.
Испуганно звеня, в густой толпе медленно пробиралась конка. Быстро шагнув на площадку, длинный закричат:
— Джентльмены! Остановка по случаю народных волнений.
Пассажиры запрыгали, как лягушки с берега. Над толпой закивали серьёзные морды лошадей. Пустой вагон при неистовом рёве, от которого Наташа невольно заткнула пальцами уши, поехал сам собой, встал на дыбы и, оглушительно громыхнув, опрокинулся на бок. Всё покрыл радостный вой, и Соня сконфузилась, захватив себя на том, что она тоже прыгала, била в ладоши и визжала изо всех сил.
Точно любопытствуя, в чем тут дело, солнце выглянуло из туч. Всё кругом радостно улыбнулось и просияло. Сам собой прикатился откуда-то второй вагон, тоже смешно встал на дыбы и, перевернувшись, громыхнулся рядом с первым. За ним плыл третий, четвёртый, пятый, и Соня начинала понимать, как строятся баррикады.
Целая туча мальчишек облепила вагоны и с визгом плясала на них. Солнце совсем разогнало тучи и светило так, что хотелось танцевать. Володя в надвинутой на затылок папахе, вспотевший и красный, очутился вдруг рядом с Соней, крикнул, чтобы несли скамейки, — те, что перед магазинами, и поглядел при этом так, как будто хотел сказать, что надеется на неё.
Соня кинулась работать. Десятки рук волокли скамейки и громоздили их друг на друга. Откуда-то тащили доски, колья, верёвки. В другом конце вставали на дыбы и рушились вагоны, и вдруг вблизи, откуда-то сверху, зазвенел отчаянный крик:
— Казаки!..
Всё закружилось и замелькало. Кто-то изо всех сил вцепился в Соню. Как щепку, поток понёс её по тротуару, потом по мостовой. Поднялся неистовый женский визг. Соня чуть не перекувырнулась через маленькую девочку, попавшую ей под ноги. Одна туфля сваливалась с ног. С ужасом слышала она за спиной настигающий, частый топот копыт.
Она прыгнула за угол переулка и мимо неё, по мостовой, вихрем пронёсся один казак, сам бледный от ужаса, должно быть, по ошибке заскакавший в толпу.
— Фью-ю-ю-ю! Бей его! — засвистело и загремело со всех сторон, и казак, доскакав до другого угла, повернулся и бешено загрозил нагайкой. — Бей его, — неслись смелые крики — Назад! Всё наврали! Никаких казаков нет! — Все с хохотом бежали к баррикаде.
Весь красный, облитый потом, Володя кричал с опрокинутого вагона, и Соня разобрала, что войско за них, что сейчас придут рабочие, что такая трусость позорна. Кто боится, пусть сейчас же идёт домой.
Ей было мучительно стыдно. Разыскав Наташу, она с негодованием накинулась на неё:
— Зачем ты меня тащила? Если ты боишься, то можешь бежать одна, а незачем тащить других! Это подло.
Но пререкаться не было времени.
— Товарищи! — кричал, появляясь рядом с ними, член комитета. — Передвиньте этот вагон вправо.
— Товарищи! — коротко командовал Володя. — Сюда надо досок.
— Товарищи! — приставив ко рту рупором руки, кричал чернобородый грузин. — За оружием! Вон в тот магазин.
— Ура! — крикнул длинный в жокейке, махнул, как циркулем ногой, перекинул её через голову маленького гимназиста и бросился вперёд, крича:
— Граждане! За оружием!..
Вместе с толпой Соня ломилась в магазин и, протиснувшись внутрь, таскала тяжёлые коробки, которые ей подавали. Ежеминутно то одна, то другая туфля сваливалась у ней с ног. Иногда ей казалось, что бегает и носит патроны не она, а кто-то другой. Иногда она останавливалась, закрывала глаза, и тогда перед ней вставала картина:
С суровыми лицами, на которых видна ещё сажа, идут пять тысяч рабочих и шаги их отдаются, как гром. Всё, что было теперь — всё это пока только так, ничтожное начало, потому что что же в самом деле из того, что студенты, гимназисты и гимназистки построили баррикаду?.. Вот когда придут рабочие!.. Ах, если бы скорее!..
Красивый грузин давал ей кружок проволоки и говорил:
— Товарищ, вы энергичная девушка. Вот отсюда до сюда… Устроим колючее заграждение.
Вместе с Головастиком и Наташей, царапая до крови пальцы, Соня развёртывала, тянула и передавала другим проволоку. Стучали топоры, пилили пилы. То здесь, то там с треском падали телефонные столбы и корявые акации. Облепленные чёрными фигурками, они ползли и ложились вокруг баррикады, и она росла, поднималась всё выше и загораживала весь остальной мир.
IV
Наконец, всё было готово. Почти сразу, в одно время всем стало нечего делать.
Вместе с Головастиком и Наташей Соня, смертельно усталая, уселась на груду досок в углу баррикады и отдыхала, тяжело дыша. Она устраивала свои туфли и для крепости привязывала их верёвочкой к ногам. У разносчика, бойко торговавшего среди толпы, она купила себе булку и, кусая её, осматривалась кругом своими зоркими глазами, стараясь понять, что же вышло из их баррикады.
Баррикада была расположена очень искусно — как раз на скрещении двух больших улиц. С трёх сторон улицы эти были перегорожены сваленными вагонами, пред которыми, кроме того, громоздилась кучка телефонных столбов, досок и — что всего лучше — спиленных акаций. Ветки их торчали, как рога.
С четвёртой стороны, с переулка, было хуже: вагонов не хватило, и там были навалены доски, столбы и от одного угла до другого тянулась колючая проволока.
Тротуары были перегорожены чугунными скамейками и досками, тоже перевитыми проволокой, а в самом углу, прямо внутрь баррикады смотрела дверь аптеки и оттуда выглядывали санитары и санитарки, с крестами на рукавах. Четыре красных знамени гордо развевались, по одному с каждой стороны.
Всё было готово. Не было только самого главного — рабочих. Их ждали с лихорадочным нетерпением. Каждую минуту кто-нибудь влезал на вагон, и ему кричали снизу:
— Ну, что? Идут?
Но они не шли. По разным сторонам направились кучки, чтобы скорее встретиться с ними. Пошёл слух, что кто-то из комитета поехал сказать им, что всё готово. Как огонь по пороховой нитке, побежало известие: на других улицах выстроено ещё пять баррикад и, как только придут рабочие, везде начнётся бой. Это сказал чёрненький с бородкой, который был рядом с Володей около университета. Он пропадал куда-то, потом появился опять, вертлявый, как вьюн, вскочил на бочонок, поставленный посредине в виде трибуны, и звонким голосом отбарабанил это известие, после чего разразилось радостное ура.
На тротуарах теснилась густая толпа. Окна и балконы соседних домов тоже чернели от любопытных. Сытыми глазами буржуи глазели на невиданное зрелище. Конечно, страшно трусили в душе, но уже протягивали жирные лапы, чтобы захватить то, что добудет народ. Ошибаетесь, милые! Народ поумнел и его не так-то легко будет надуть! Сидя рядом с Соней, Головастик с язвительной насмешкой показывала им шиш.
С тротуаров любопытные пролезали на баррикаду, осматривали её и вступали в разговоры. Один господин, стоявший за проволокой, присел, пролез под ней и начал тоже ходить. Он понравился Соне: был бедно одет, очень тощ и носил маленький картузик с пуговкой, отчего голова его была похожа на шарик. Его сейчас же окружила куча детей. Он долго рассматривал и расспрашивал и, остановившись недалеко от Сони, сказал:
— Господа! Да что же это такое? У вас и оружия настоящего нет, и стрелять вы не умеете. Да и какие же вы воины, мальчики и девочки? Зачем вам баррикада?
— Да мы же вам говорим! — отвечали ему хором. — Мы построили баррикаду не для себя. Сейчас придут сюда пять тысяч рабочих. Они будут сражаться.
— Войско за нас! — кричали другие. — Солдаты обещали, что не будут стрелять в народ. А рабочие придут с оружием.
— Да когда же они придут? — говорил господин. — Я знаю рабочих. Они, кажется, и не думают об этом.
Все хохотали:
— Как не думают! Да они сами обещали это на митинге, вчера.
— Мы послали к ним члена комитета, — горячо наскакивал тот самый мальчик, с которым Соня имела схватку около университета. — Рабочие ждут от нас известий. Они сейчас будут.
Господин с пуговкой качал головой и говорил:
— Ну, ну!.. А всё-таки я вам скажу: бросьте вы вашу баррикаду, пока ещё не поздно. А то придут казаки и будет плохо.
— Да казаки не пройдут сюда! — звонким голосом кричала чёрненькая девочка в веснушках и с острым носиком. — Как они пройдут, когда у нас баррикада и колючая проволока!..
— Сейчас придут рабочие, солдаты перейдут на сторону народа и произойдёт переворот! — выскочил, сверкая глазами, реалист. — Да здравствует пролетариат! — вдруг крикнул он острым, как иголка, голосом, и господин с пуговкой, упав духом, покачал головой и пошёл в сторону.
— Жирный буржуй! — крикнул кто-то ему вслед. — Сам трусит и других отговаривает!..
Возмущённая Соня хотела уже вмешаться в разговор, но вдруг раздался громкий крик:
— Идут! Рабочие идут!
Не помня себя, она кинулась по доскам на вагон. Кругом поднялся радостный гвалт. Вцепившись в Сонину юбку, за ней лезла востроносая девочка и пронзительно кричала:
— Рабочие! Рабочие! Наши миленькие, хорошие рабочие!
Жадными глазами Соня взглянула вперёд. Улица была пуста. Вдали, за четыре переулка прошла, правда, кучка неизвестных людей, но они свернули в сторону и исчезли. Ещё дальше проехал отряд казаков.
— Солдаты! — вдруг упал с другой стороны испуганный крик.
— Солдаты! — подхватило ещё несколько голосов, и всё стало останавливаться и стихать, пока не настала жуткая тишина. Кто-то вцепился в Сонину руку. Это была совсем бледная Наташа.
— Соня! — дрожащим голосом говорила она. — Пожалуйста, уйдём скорей…
Но, резко вырвав руку, Соня крикнула:
— Уходи и оставь меня в покое!
Она увидела Головастика и невольно почувствовала уважение к ней. Шляпка её сдвинулась на бок, волосы торчали вихрами, глаза горели вдохновенным огнём. В руках она держала уродливый пистолет. Кругом суетились, кидались из стороны в сторону, и баррикада пустела, точно из неё ветром выдувало сор. Знакомый голос громко кричал:
— Товарищи! Успокойтесь!
Это был Володя. Он стоял на бочке, вытянув руки и нагнувшись вперёд, точно собираясь лететь. Острый восторг пронзил Сонину душу.
— С тобой! — сказала она себе и, зажмурившись, полезла на вагон, чтобы принять первый удар.
V
Как чёрная змея, публика быстро катилась, очищая тротуары, а по мостовой, совсем близко, подходили к баррикаде солдаты.
Их было немного, всего человек восемь, и они шли спокойно, опираясь на ружья, как на простые палки. Подойдя шагов на десять, они остановились. Соня затрепетала, как лист: рядом с ней на вагоне стоял Володя.
— Товарищи-солдаты! — кричал он. — Мы знаем, что вы не будете стрелять. Присоединяйтесь к народу. Входите к нам на баррикаду!
Переглянувшись, солдаты начали говорить между собой. Один из них крикнул:
— А много вас тут?
— Много! — ответил Володя.
— Нас много! Много! — закричал хор голосов и вагоны почернели от высунувшихся голов. — Солдаты, идите к нам!
— Идите, солдатики! — пронзительно кричала востроносая девочка, карабкаясь на вагон, и Соня, оглянувшись на неё, подумала невольно: «Поганая егоза!..»
Скамейка, загораживавшая промежуток между вагоном и стеной дома, легко отодвинулась, и из-под нависших досок показалась голова солдата с рыжими усами и острыми, как буравчики, глазами. За ним пролезли остальные. Они вошли, боязливо озираясь, сбились в тесную кучу и их окружила толпа.
— Мы вас, солдаты, не боимся! — кричала им востроносая девочка, Сонин враг. — Мы знаем, что вы за народ!
— Вы крестьяне! — говорили другие. — У вас мало земли. Мы отберём у помещиков землю и отдадим её вам. А казаки негодяи!..
— Ну, что казаки! — соглашался солдат, влезший первым. — Известно, дикие люди! — и, сказав что-то остальным, потихоньку пошёл по баррикаде.
Его облепили, как мухи сахар, и повели по всем углам. Ему показывали револьверы, патроны, колючее заграждение, перевязочный пункт, опять объясняли, что сейчас придут рабочие и что они-то и будут сражаться. А он зорко поглядывал кругом, расспрашивал, повторял: «Так, так! Ловко!..» — и, незаметно дойдя до своих, сказал: «Ну, до свиданья. Покорно вам благодарим!»
Кивнув товарищам, он полез головой в ту же дыру, через которую влез, и остальные поспешно тронулись за ним. Все были поражены.
— Солдаты! — кричали им со всех сторон. — Куда же вы? Оставайтесь с нами!
— Нельзя! — отвечали солдаты, ловко увёртываясь от цеплявшихся рук и один за другим ныряли в дыру. Последнего, толстого, с квадратной головой, востроносая девочка, ухватила было за ружьё, но он побагровел, отмахнулся прикладом и, переваливаясь, побежал догонять своих.
— Товарищи! — зловеще крикнул чей-то голос. — Я думаю, эти солдаты были шпионы. Они приходили на разведку!..
Стало совсем плохо. Все шатались по баррикаде, влезали на вагоны, осаждали вопросами комитет. Прошло полчаса. Солнцу тоже точно надоело ждать. Оно спряталось за тучи, с неба начал моросить незаметный дождь.
Снова приехал черненький с бородкой, быстро пролез под досками, побежал к остальному комитету, и они стали взволнованно говорить. Потом, отделился другой, белокурый, без бороды, тоже пролез под досками и куда-то исчез. Кругом волновались и спрашивали, что же рабочие. Черненький вертелся, вскочил на бочку и начал кричать, что у рабочих не всё ещё готово.
— Что же не готово? — Он отвечал, объяснял, но Соне показалось, что он увиливает и чего-то не хочет сказать. И вдруг у неё мелькнула страшная мысль, от которой потемнело в глазах:
— А что, если рабочие не придут совсем?
Баррикада — поваленные вагоны, флаги, проволока, фигурки, расхаживающие с заткнутыми за пояс пистолетами и шпагами, — всё это показалось ей нелепым сном. Оглянувшись кругом, она увидела Володю, мрачно стоявшего в стороне. Преодолевая мучительную робость, она направилась к нему. Он должен был дать ей решительный ответ.
— Солдаты! — крикнул опять с противоположной стороны часовой. Обрадовавшись препятствию, Соня повернула и начала карабкаться на вагон.
Из соседнего переулка, шагов за сто, не больше, ровно и скучно выдвигались серые фигуры солдат, с ружьями в руках и с шинелями через плечо. Они становились поперёк улицы, пока не перегородили её всю. Толстый офицер, животом вперёд, побежал по рядам.
Соня с недоумением смотрела на эти манёвры. Оглянувшись, она увидела недалеко от себя Володю, который стоял, держась рукой за красный флаг.
— Господа! — проговорил кто-то сзади. — Эти солдаты странно ведут себя.
— Товарищи! — крикнул уверенный голос. — Я знаю этот полк. Он не будет стрелять.
— Товарищи! — неожиданно воскликнула, влезая на вагон, Головастик. — Я предлагаю кричать солдатам ура.
— Ура! Солдаты, ура!.. — подхватили голоса кругом. Стоявшие внизу дружно поддержали крик и полезли вверх. Закачались красные флаги. Как белые птицы, порхали платки. Перекатывалось нескончаемое: — Ура-а-а!..
И вдруг звонко и резко с угла долетело: Та-ра-та-та! — и беспощадным клином врезалось в кучу нестройных звуков. Трубила труба. Черневшие от любопытных балконы и окна домов стали пустеть и закрываться ставнями, делаясь белыми, точно от ужаса.
— Стреляют!.. — отчаянно крикнули рядом с Соней. Её сбросило с вагона на доски и потом вниз. Она встала на четвереньки. Кто-то перекувыркнулся через неё и сбил с головы шляпу, которую она подхватила рукой. Она села и повернулась, чтобы найти Володю. Он махал, стоя на вагоне, красным флагом и отчаянно кричал:
— Солдаты! Не стреляйте! Мы ваши братья!..
Что-то ударило, с визгом сбив кучу щепок и пыли. Как во сне, Соня увидела, что Володя оступился, сел на доски и вместе с флагом поехал вниз.
В двух шагах от неё, длинный в жокейке, стоя одной ногой на бочке, а другой на вагоне, палил из револьвера, прищёлкивая в такт рукой и весело кричал: «Ура, пролетарии! Долой тиранов!»
Соня кинулась к Володе и вцепилась ему в плечи. Он не дышал и у него была кровь на шее и кровь во рту. Другое, страшно знакомое лицо смотрело на неё рядом широкими глазами. Соня очутилась в густой толпе, которая понесла всё, как щепку. Опять ударило и завизжало. Её сдавило, подняло на воздух и начало носить вперёд и назад. Перед ней мелькнул свободный переулок и она почувствовала страшную боль.
Тогда она пришла в себя. Кругом кричали дикими голосами. Она тоже кричала изо всех сил, кидаясь назад, и что-то рвало и жгло её руки. Она поняла, что это колючая проволока. На один миг образовалось пустое пространство. Соня легла, доползла на животе, вскочила и пустилась бежать.
Сзади обрушился новый треск. Баррикада отвечала маленькими ударами, которые звучали: пах-пах-пах!.. Тянул пороховой дым.
Соня кинулась по переулку к первым воротам налево, пробежала по двору, поднялась зачем-то по лестнице на третий этаж и остановилась перед запертой дверью. Она вдруг поняла, что широкими глазами смотрела на неё, лёжа на земле, Головастик. Стало быть, её тоже убили. Сейчас же спустившись вниз. Соня бросилась назад, к воротам.
От баррикады бежали уже кучками. Около сваленной проволоки лежало несколько человек. Один полз и громко стонал: А! А!..
Соня побежала туда.
— Головастик! Наташа! — отчаянно звала она и, оглянувшись, увидела около аптеки, совсем близко от себя, солдат. Оглушительно ударил выстрел. С баррикады опять застучало: пах-пах-пах!
Стремглав Соня кинулась назад и опять заскочила в ворота.
— Детки мои, бедные детки!.. — сокрушалась толстая женщина. — Такие молоденькие и против солдат!..
Худой, как кощей, сапожник с ремешком на голове выскочил из-за её спины и, размахивая руками, закричал:
— Кровопийцы!.. Детей бьёте!.. В детей стреляете!..
— А они горохом палят? А они солдат не бьют? А? Ты чего тут крикун такой нашёлся! — кинулся на него другой с налитыми глазами, в картузе. — Так их, жидовское отродье, и надо! Всех перебить, перевешать. Бунтовать вздумали!..
Со звоном брызнули осколки разбитого шальной пулей фонаря. Поднялся визг. Вцепившись в сапожника, толстая женщина тащила его назад.
— Не попал, мерзавец!.. — вопил он, прячась в ворота и, схватившись за голову, начал причитать:
— Дети! Зачем нас не позвали! Зачем нам не сказали!..
— Мы же ждали вас! — крикнула ему Соня. — Отчего рабочие не пришли?
— Ах! — воскликнул сапожник. — Барышня! Детка моя! — и, схватив её руку, хотел поцеловать. — Господи! И вся ручка в крови…
Соня вырвала руку и начала неудержимо рыдать. Кто-то дёрнул её за плечо. Это была бледная и дрожащая Наташа.
— Соня! Бежим! Бежим! — твердила она.
Оглянувшись, Соня увидала чёрный отряд городовых которые, с револьверами в руках, бросились к соседним воротам.
— Стой! — ухватил её неожиданно тот, который ругался с сапожником. — Полиция, сюда! Вот они, бунтовщики!..
Рванувшись, Соня пустилась вместе с Наташей бежать.
Они пробежали несколько кварталов, свернули вправо и бежали дальше. Наташа что-то говорила на бегу, но Соня не понимала ничего. Она всхлипывала и повторяла:
— Зачем рабочие не пришли! Зачем обманули! Всё было так хорошо! А теперь! Володя убит, Головастик тоже! Остальных взяли в плен. А я?..
Заломив руки, она повернула назад. Наташа гналась за ней, крича:
— Соня! Соня! Куда?
Но Соня бежала, рыдая и чувствуя только одно, что она должна быть там же, где убили Володю и Головастика и где всех остальных поведут сейчас в тюрьму. Наташа отстала и она выбежала на улицу, где была баррикада. Солдаты длинными шестами поднимали опрокинутые вагоны, откатывали их по рельсам и сердито закричали на неё:
— Проходи, проходи!..
Она наткнулась дальше на отряд городовых, которые с револьверами в руках выбежали из ворот. Она смело перерезала им дорогу, но они пробежали дальше, на следующий двор.
Два казака, нагнувшись с сёдел, стегали нагайками мальчика, который отчаянно кричал. Соня кинулась в середину:
— Палачи! Как вы смеете бить детей!
Один казак хлестнул ещё раз мальчика и, повернув лошадей, оба они поскакали прочь.
А Соня бежала дальше. Где же те, которых взяли в плен? Она искала их, подбегая к каждой кучке, желая только одного — найти их скорее и дать себя тоже арестовать. Она увидела, наконец: из переулка, окружённая городовыми и солдатами, медленно двигалась толпа. Это были они. Соня кинулась к ним, крикнула: «Я тоже была на баррикаде!» — и вскочила в ряды.
Это была глубокая радость, полное счастье, успокоение после мучительного пути. Она очутилась как раз рядом с востроносой девочкой, которая так сердила её на баррикаде. Она горько рыдала теперь, вздрагивая всем своим худеньким тельцем.
Они подошли к участку, мимо которого бежали утром, вошли в ворота, во двор, потом в низкие двери. В длинном коридоре стояли городовые в два ряда.
Поднялся неистовый крик, вопль и визг. Задыхаясь от ударов, Соня летела вперёд, падала, вскакивала и бежала опять. И когда от последнего толчка она скатилась по лестнице в тёмный подвал и легла там ничком, тяжело дыша — в ней был такой же острый восторг, как прежде, когда она вскочила на вагон, навстречу солдатам.
Воровка
— Подсудимая, — говорил председатель, — вы сознались, что украли из запертого комода в квартире дворянина Печаткина пятьсот рублей! Мы знаем обстоятельства, при которых вы совершили кражу. Может быть, вы расскажете, что побудило вас на это преступление?
Подсудимая, молодая крестьянка с миловидным и нежным лицом, всхлипывала, утирая лицо рукавом арестантского халата. У ней был безнадёжный и убитый вид.
— Хозяева, — продолжал председатель, — обращались с вами хорошо. Они выручили вас из тяжёлого положения, взяв к себе в услужение, хотя вы были неопытной прислугой. Ухаживали за вами, когда вы были больны. Вы были всегда порядочной и честной женщиной, вы из хорошей семьи, вас никогда не замечали ни в чем дурном. И вдруг вы отплатили такой неблагодарностью за добро! Не плачьте, а лучше расскажите, как было дело. Говорите правду. Не бойтесь ничего.
Подсудимая долго всхлипывала, причитая:
— Матушка ты моя родимая, зачем же ты меня родила!.. И зачем я в город поехала!.. И зачем у себя дома не померла!.. — Потом, когда защитник, обернувшись, прошептал ей несколько слов, с внезапным порывом перекрестилась и воскликнула:
— Господин судья! Вот перед Истинным, сама я не знаю, что со мной сталось. Помутилось у меня в уме, ничего я не понимала. Думала, может, меня муж простит. Потому и сделала, что думала — простит, может, меня муж не будет больше гнать. И как сделала, сама не знаю. Точно не мои рученьки деньги брали, а нечистый совал: «Бери, да бери, — говорит. — Простит тебя муж». Может оттого, господин судья, а может и не оттого. Сама я не знаю. Ой, долюшка моя несчастная. O-o-o!..
— Подсудимая, не плачьте, а рассказывайте толком. Вы говорите, что вы сделали это для того, чтобы вас простил ваш муж. За что же он сердился на вас? Чем вы были перед ним виноваты?
— Виновата я перед ним, господин судья, — заговорила опять подсудимая, — так виновата, что невозможно меня простить. Да не по воле я виновата, а супротив меня это вышло и ничего я тут не могла. Баба я, господин судья, а чем себя бабе в чужой семье оборонить? Кто на наши слёзы смотрит? Не солоны, ведь, они им, а мужа нет. Не видать, ведь, ему и не слыхать, сколько ночей я проплакала, сколько волос из головы потаскала, как душиться хотела, да из петли меня вынули. К попу на дух пришла, в ногах валялась, каялась, плакала. «Вот, — говорит, — придёт твой муж, расскажи ему всё. Он должен простить. Я и сам с ним поговорю». А он не простил…
— Что же должен был простить ваш муж?
Понурив голову, подсудимая проговорила с трудом:
— Ребёнка я ему принесла.
— От кого?
— От тестя. От отца евойного.
— А где же был в это время ваш муж?
— В солдатах был.
Подсудимая завела, было, тонкий плач, но, спохватившись, сейчас же перестала. Председатель говорил:
— Так муж ваш не простил вас, когда, вернувшись домой, он узнал, что в его отсутствие вы родили ребёнка от его отца. Что же он сделал? Стал вас бить, выгнал вас из дома?
— Нет.
— Как же он поступил? Подсудимая, успокойтесь и говорите. Ну!
— Как пришёл он, господин судья, со службы, — снова с порывом начала подсудимая, — так не присылал сперва ничего, а прислал потом такое письмо, что прослышал, мол, я, что связалась ты с отцом моим, старым псом, и не хочу я к нему, старому псу, идти. А ты, дескать, брось их и приходи ко мне. Я, говорит, тебе твою слабость прощу. Тут я и побежала к нему.
— Куда?
— В посаде он был, от нашей деревни за десять вёрст. Как вернулся он раньше сроку со службы, так сейчас же сторожем определился к Деньгину на железный завод. Ещё до солдат он у него служил, и сразу, как вернулся, так и определился опять и прислал через нашего одного мужика письмо, чтобы приходила я к нему. Я и пошла. Собрала всё, что было моё, завязала в узел и пошла.
— И ребёнка взяли с собой?
— Нет. Помер уж ребёнок-то давно. Пожил три месяца и помер. И думать я уже тогда забыла о нем. А как пришло мне от мужа-то, от Петра, письмо, так я от радости себя не вспомнила и побежала. А истосковалась я перед тем совсем, потому что уж с месяц, как он в посаде живёт и мужики знакомые приезжают и говорят: пришёл, мол, твой-от, вернулся со службы, к Деньгину опять поступил, — а мне от него ни словечка нет. И думала я уж, пойду сама, паду наземь, подползу к нему, как собака, и ноги слезами оболью. Не моя, ведь, вина, что согрешила я против него, а силом заставил меня окаянный, старичище-то наш, отец-то его, хитростью подкараулил, за горло меня душил, а я слабая, да тщедушная, что я супротив него, быка здоровенного, поделать могла? Думаю так, извожусь, мученски мучаюсь, ни на что смотреть не могу, а тут письмо. Вскинулась и побежала. Бегу, тороплюсь, а сама от радости плачу. Прибежала к нему на квартиру, в сторожку его, дожидаюсь его, сижу. Входит он, а я ему в ноги. Ползаю по земле, да голосом вою: прости, мол, меня, Пётр Степаныч, подлая я оказалась, да нет моей вины. Любила я тебя одного, от сердца и от души, ненаглядного моего ясного сокола!.. А любила я его так, что и сказать не могу. По любви мы женились и против родителей я за него пошла. Потому что из богатой я семьи, в холе и неге выросла и не хотел батюшка мой меня, холёную да нежную, в чужую деревню, да в бедную семью отдавать. А я своей волей за него пошла и разгневался на меня батюшка и проклял меня: «Ты мне боле не дочь!» Ползаю это я перед ним, перед Петром-то, вою, винюсь, а он поднял меня, посадил за стол и говорит: прощаю, мол, я тебя, потому что знаю, что в том вины твоей, супруга наша, нет. Прощаю я тебе от души, пусть только тебя и Бог простит. Так всё и говорит: я, мол, тебя прощаю, пусть только тебя Господь простит. Слушаю это я, земли под собой от радости не чую, лащусь к нему, как угодить ему, не знаю, думаю: «Слава тебе, Владычица, кончились мои муки, пришла светлая радость, всё теперь будет хорошо!» — и невдомёк мне, что он про Бога-то всё говорит, какую он про себя думушку затаил… И начали мы, господин судья с ним жить и не могу я его узнать. Стал он молчаливый да сумнительный, а глаза большущие, так и горят. Отойдёт иной раз и ничего себе, будто как прежний, а потом опять волк-волком смотрит, к себе не подпущает, а напьётся пьяный и давай меня бить. Так, не говоря худого слова, скыркнет зубами, ухватит за косу, пригнёт к полу, да всю кулаками изобьёт. За что, спрашиваю, Пётр Степаныч вы меня истязаете? Простили, ведь, вы уж меня? А он только дышит, да говорит: грязная, говорит ты, и не могут на тебя мои глаза смотреть. Приласкает иной раз, редко-редко, а потом спохватится и давай опять бить. Исколотит всю, ногами истопчет и в сени вытолкнет. Часа по два на холоду голая выстаивала, плакала, как собака в двери скреблась. Измаялась я, истосковалась совсем, вся в синяках хожу, куда мне и податься, не знаю, как и угодить ему, не понимаю, в глаза ему смотрю, а сама его ещё пуще люблю. И стала я, господин судья, тяжёлая, и как увидал он это, так и говорит, с усмешкой так говорит: вот, говорит, скоро теперь всему разрешение придёт! А я жду, не дождусь, скоро ли ребёнка принесу. Думаю, рожу ему сына и опять он меня станет любить. Монастырь неподалёку от нас есть — почитай, каждую неделю туда хожу, всё молюсь, чтобы благополучно мне родить. И мыла я, господин судья, у Клюквиных, у купцов, — полы по подённой я ходила, чтобы в тягость Петру не быть — мыла я это полы, несла чугун с водой, да споткнулась с чугуном-то, упала, да о порог животом. Света невзвидела, насилу домой пришла. Пришла и стала прежде времени родить. Родила я, господин судья, а ребёночек-то пожил день, да и помер…
Спешно прорыдав несколько раз, подсудимая вытерла лицо рукавами халата и быстро продолжала дальше.
— И как похоронили мы его, как закопали гробик в землю, как остались на кладбище одни, так он мне, Пётр-от, муж-от мой, и говорит: теперь ты ступай! Помертвела я вся, затряслась: куда, говорю, мне, Пётр Степаныч, идти? Хворая я, больная, еле на ногах стою. Куда же мне идти? Ступай, ступай, говорит, не нужно мне больше тебя. Не простил тебя Бог. Не дал тебе ребёнка родить. Пришла я за ним следом домой, не пустил он меня, заперся в сторожке у себя и стояла я до сумерек в сенях, плакала и просила, а он из-за двери только шипит: ступай, да ступай! Выбросил мне всё моё, что принесла я с собой, заплакала я голосом и пошла. И куда мне идти, господин судья, не знаю. Иду по дороге, ляжу на снег, лежу и головой в сугроб стучусь. Так бы и покончилась, может, потому что была я совсем слабая, а мороз здоровый стоял, да подобрал меня мужик один знакомый, из нашей деревни, где родители-то Петровы жили, из Остапова, и привёз меня туда. Пристала я тут у тётки Парасковьи — солдатка одна такая старая, мужа у ней на войне убило, — лежу у ней на печке и убиваюсь, плачу: прогнал меня супруг мой любимый, не хочет меня больше знать! И проклял меня батюшка мой родной — не смею к нему идти! Ни семьи у меня, ни дома, ни угла — отступились от меня все, хуже собаки стала, куда приткнуться, не знаю. И разожгло меня всю, жар в меня вступил, силушки совсем нет, путается всё в голове, что делать — не знаю, только голосом вою. Вскочу, да во двор побегу, удавиться хочу. Потому что незачем мне совсем стало жить. И только слышу всё, как он, Пётр-от, из-за двери шипит: ступай, да ступай!..
— Лежу это я у тётки Прасковьи, чисто ума от горя решаюсь, руки на себя наложить хочу, а она, Прасковья-то и говорит мне:
— И ничего, мол, этого вовсе не надо. А помер у тебя ребёнок и есть у тебя молоко — прямой, говорит, тебе путь ехать теперь в Питер. Поступишь там в мамки, нарядят тебя в хорошее платье и будет тебе расчудесно хорошо.
Так и вскинулась я тут: и впрямь, только это одно для меня и есть.
— Трофимовская, — говорит, — Матрёна там у хороших господ в кухарках служит. Она тебе живым манером всё устроит. Только ехать, — говорит, — надо сейчас, а то, мол, скипится у тебя в грудях молоко.
Собрали мне тут со всей деревни пять рублей, — кто гривенник, кто двугривенный, а Петрин отец, старичище окаянный, так тот целую рублёвку дал, свезли меня на станцию, посадили на машину и отправили в Питер. Сижу это на машине, и дивно мне, и боязно, и ничего-то я не понимаю. Села вечером, приткнулась в уголку, а утром уж и в Питер приехала. Выхожу с народом с вокзала — дома большущие, людей видимо-невидимо — так и валят валом, везде генералы да господа, лошади едут, машины бегают, ничего-то я не понимаю, куда идти, не знаю. Помутилось у меня в голове. Думаю, сделаю ещё что неладно, посадят меня за это в часть. Испугалась я и повернула опять на вокзал. Села на приступке и плачу. Ну, нашлась тут одна добрая душа — женщина одна сжалилась над моими слезами, взяла меня и повела. А идти было на Петербургскую сторону, на Пушкарскую большую улицу — там Матрёна жила, в восемнадцатом номере доме, в сорок седьмом номере квартире. Довела эта женщина меня до самого дома, а почитай, два часа было туда идти, пришли мы туда, вошла я в сорок седьмой номер квартиру, а Матрёны уже там нет.
Вышла это ко мне барыня молодая и говорит, что Матрёна, мол, на другом месте живёт и что нехорошо она с ней поступила — не дождалась даже новой кухарки, а в самое горячее время взяла, да ушла. А живёт она на той же, дескать, улице, только в другом доме, недалеко насупротив, в номере двадцать третьем. Молоденькая, да ласковая барыня, чисто ангел показалась мне, расспросила меня обо всём, и с чего я больна, и всё указала сама. Пошла я тогда в двадцать третий дом и хоть и близко было, а уж насилу дошла. Попойду, попойду, да у стенки постою, а сама боюсь, что нельзя. И по лестнице тоже попойду, попойду, да на ступеньке посижу. И было уж так незадолго до полден и готовила Матрёна обед. Увидала я её, пала ей в ноги, рассказала ей всё, а сама еле стою, так у меня всё в нутре болит. Не полежавши, ведь, почти нисколько после родов я была. Уложила меня Матрёна в свою постель, некогда ей было со мной толковать, надо было стряпать обед, а я лежу, да и думаю только: «Ой, скорее бы мне в комитет!..» В комитете надо было сперва осмотреться, всё ли у меня, как для мамки полагается, есть. Полежала так до обеда, сбегала после обеда Матрёна куда-то и говорит: сейчас, мол, ничего нельзя. Нужно будет, мол, туда завтра идти. Сбегала потом опять, вернулась и говорит: я, мол, тебя у моей прежней барыни на ночь поместила. У ней прислуги пока нет, так ты ей как раз в самый раз подойдёшь. А я, мол, от неё на хорошее место ушла, а теперь перед праздниками настоящей прислуги совсем невозможно достать.
Пошли мы к барыне моей, а сама я еле волокусь. И колеса у меня огненные в глазах и боль непереносная и звон стоит в голове. Свалилась в кухне на постель, да и пролежала так целую ночь, да целый день. А барыня ангельской доброты. Ничего, говорит, Анна, лежи. Я рада несчастному человеку помочь. Пролежала я так два дня, повела меня потом Матрёна в комитет, осмотрели меня в комитете, а молока-то у меня уж и нет, — скипелось у меня молоко!..
Пришла я опять к барыне моей, — некуда мне больше идти, села на кухне, да и давай голосом выть. И больная-то я совсем, и ничего-то я не умею, и всего-то боюсь — только и надёжи у меня было, что в мамки поступить, и скипелось у меня молоко!.. Повою, повою, да головой об стенку постучусь, а барыня тоже плачет и меня утешает: несчастная, говорит, ты, Анна, и никогда ещё я такой несчастной, как ты, не видала. Но ничего, говорит, ты не горюй, а оставайся у меня в кухарках жить. Тихая, говорит, ты и деликатная, и очень мне по нраву пришлась. Обрадовалась я тут так, что и сказать не могу, кинулась у ней руки целовать и осталась я у барыни моей жить. Стала у ней жить, здоровьем поправилась очень скоро, обед стряпать научилась — сама барыня меня по книжке учила, а я всегда переимчивая, да понятливая жила, из сил выбивалась, чтобы барыне угодить. И барыня меня любила, и дело лёгкое — двое их только было, барыня да барин — на базар сбегать, самовар поставить, в комнатах убрать, обед сготовить, а до дела я ретивая и охочая, и обращение у всех со мной, не как в деревне, а вежливое. И купила я себе пальто хорошее, как у всех, сходила с Матрёной в Александровский рынок, а барыня мне вперёд денег дала. Всё было хорошо и ни в чем я не нуждалась, и чай каждый день по два раза пила, и в киматографе с Матрёной и в Народном Доме мы побывали — чуть ума от удивления не решилась, так на всё, дура деревенская, разиня рот и смотрела — и только стала меня, господин судья, брать тоска.
Стала я думать о Петре, о супруге своём, и чем дале, тем боле, чем дале, тем хуже. Целый это месяц совсем про него забыла, и думать не думала, и вспоминать не вспоминала, а тут вступил он мне в голову, да и стоит, как живой. За что, думаю, ты меня прогнал? Чем я тебя, супруга моего, так прогневила? Какая моя вина перед тобой была? И как мне твою любовь воротить? И такая-то меня взяла тоска, что так бы и бросила всё, да в деревню, да опять ему в ноги: прости, мол, меня, измаялась я вся, любила я всегда только тебя, сокол мой ясный, супруг мой ненаглядный!.. Вскинется это мне в голову, да так и стоит в глазах, что ему надо сказать. Как травленная хожу, ночи целые не сплю, очей не смыкаю, всё горючими слезами заливаюсь, плачу. Прожила так масленую, прожила великий пост и настал светлый праздник. Прошёл первый день и второй прошёл, а на третий собралась барыня с мужем в гости и говорит мне: ты, говорит, Анна, не всё в кухне сиди, а и в комнаты заходи, чтобы вор не забрался, да не украл. Очень, говорит, здесь, в Питере в такие дни любят воровать, а у меня, говорит, в комоде золотые часы, да брошки, да денег много. Не успели мы, дескать, их в кассу снести.
Уехали это они, осталась я во всей квартире одна. Хожу по комнатам, в зеркало смотрюсь, про супруга своего думаю и плачу. Пошла в спальню, где комод стоит, вспомнила про деньги, вижу, ключ барыня забыла, на комоде лежит. Попробовала, как раз к верхнему ящику пришёлся. Пошла опять к себе в кухню, поставила самовар, чаю хотела попить, да глотка сделать не смогла, а схватила меня тут тоска. Стала я опять плакать и проплакала я часа два. И захотелось мне потом на часы золотые посмотреть, какие они такие бывают — никогда я их в руках не держала. Пошла в комнаты, отперла ключом комод, вижу там ящичек незапертый. Открыла его, вынула часики золотые, послушала, как они тикают, поворошила в ящичке, а там денег тьма — и золото и бумажки — видимо-невидимо.
Вступило тут в меня. Замутил меня нечистый. Николи я столько денег глазами своими не видывала. Гляжу, да дрожу. Дрожу, да думаю: и почему это одним людям столько всего, а у меня ничего? И ещё много думаю и не стерпела я тут, взяла пять бумажек. Не заметят, думаю, столько ведь у них! Взяла, а другие опять в ящичек положила и опять заперла, а саму меня так и бьёт, как осиновый лист, и думаю: уеду, мол, в деревню, к супругу моему, отдам ему столько денег, а он меня и простит! Пришла на кухню, поглядела на будильник, а уж десять часов. Посидела немного, да как испугаюсь!.. Сейчас барыня вернётся и узнает, что я деньги украла!.. Засовалась я тут на кухне, побежала в спальню, хочу деньги опять в ящичек положить, а ключа-то и нет. Не могу его найти. Заложила куда-то его. И такой меня тут страх разобрал, что накинула я на себя пальто, да платок, заперла снаружи кухню, да на двор, да на улицу, а деньги в тряпице в руке держу. Выскочила на улицу, а дворник младший, знакомый, сидит у ворот: куда, мол, Аннушка, так поздно собралась? Письмо, говорю, барыня велела в ящик опустить, а я и забыла!.. И по улице бегу. Только одно в мыслях и держу: скорее бы на вокзал, да на машину, да к Петру! Паду ему в ноги, отдам деньги и скажу: вот, сколько я заработала. Возьми всё себе!..
Как и до вокзала добежала, не помню. Всех боюсь, всё думаю, как бы не схватили меня. Спрашиваю на вокзале, идёт ли до нас машина. Идёт, говорят, через полчаса. Билет сама себе взять боюсь. Узнают, думаю, что краденые деньги, посадят меня сейчас же в тюрьму. Попросила женщину одну: возьмите, тётенька милая, и для меня билет, как себе брать будете. Дала ей одну бумажку, взяла она мне билет, сдачи принесла и деньгами золотыми и бумажками, а сколько, не знаю. Села я и поехала.
Приехала утром на станцию, побежала на завод, к сторожке Петровой, а она заперта. На работе Пётр-от, не пришёл ещё. Приткнулась в сенцах за дровами, сижу да дрожу. Дождалась его, входит он, — я ему в ноги. Ухватилась за ноги-то, вою, да причитаю: прости ты меня, несчастную, невиновна я перед тобою, прости! Деньги я тебе принесла. Погляди, мол, вон сколько…
А он взял меня, поднял, ухватил за плечи, да и вывел из сеней. Уходи, говорит, не надобно мне тебя! И толкнул. Ткнулась я лицом в снег, полежала и пошла. Ни слёз у меня, ни голосу, ничего. Пошла в свою деревню, в Черепаново, к батюшке, да к матушке. Приду, думаю, попрошусь. Примут — хорошо, а не примут — удавлюсь. А деньги в тряпице, в руке держу.
Пришла я в Черепаново, пробралась задами по снегу к бане нашей, подняла по дороге бутылку, сунула в неё деньги, проткнула у бани около крыльца в снегу дырку, пихнула в неё бутылку и снегом забросала. Побежала потом к избе нашей, вошла, да матушке в ноги. Валяюсь и кричу. Всю душу тут выкричала. А батюшки дома нет — в посад уехал. Пожалела тут меня матушка: побудь, говорит, дочка. Я тебя жалею. А только не знаю, как сам-от. А батюшка у нас строгий, да гневный. Что раз сказал, ни за что не переменит.
Сижу я так у окошка, матушка тут же сидит. Речи ей несвязные говорю, плачу, да дрожу, а сама — чует что-то моё сердце — на улицу гляжу. И вижу: идёт к нашему дому по дороге стражник и супруг мой, Пётр, тоже с ним. Так и покатилось у меня сердце. Вскочила я, да как заяц, да на двор, да задами. Выскочила по снегу на дорогу, бежу по ней и вижу — гонятся они за мной, настигают. Нет уж у меня сил больше бежать, присела я за дерево и верчусь коло него, а Пётр меня ловит. Поймал меня, схватил рукой, а другой как стукнет по голове и кричит: вот, воровка, дрянь, какими ты делами заниматься стала! Тут я и сомлела.
Привели меня после в деревню, нашли бутылку с деньгами, погнали по этапу в Питер и посадили в тюрьму.
Вот, господин судья, всё, как было, по чистой совести, ничего не утая. Украла я — лукавый попутал, не совладала с собой и украла. Думала, что супруг меня простит. А он не простил. Судите меня, как знаете, а мне теперь всё одно. Никого у меня нету, некуда мне больше идти.
Выстрел
I
Мамаша была нездорова и ко всенощной не пошла. Охая, она ходила по комнатам и отчитывала Петю, припоминая его грехи, а он покорно сидел, вздыхал и думал:
«Ох! Три уж звона было. Опоздаю, как пить дать!..»
— Так я, мамаша, пойду… — в десятый раз говорил он, поднимая со стула своё несуразно длинное тело, но мамаша не хотела остановиться, и слова её лились, как ручей.
«Опоздаю, ой, опоздаю… — горевал Петя. — А не захвачу сейчас, когда придётся поговорить? Завтра после обедни? Так светло и всё видать. Нет, надо сейчас».
А мамаша всё говорила и говорила. И говорила она так:
— Так тебе и скажу, Пётр. Я вдова, восемнадцать лет без мужа живу, вырастила тебя, воспитала. Сам не захотел учиться, так твоя вина. А благодарности от тебя никакой. Другой бы сын ноги матери мыл, да воду эту пил — ведь, пять тысячек я на лавку твою выложила, а какой из неё толк? Убытки одни. А ты только и думаешь, как от матери стрекача задать. Всё с товарищами, с пьяницами, да по вечеринкам, да по танцам, да по барышням, как кот, прости Господи, весной по крышам. А я тебе так скажу: рано тебе ещё об этом думать, выкинь ты эти глупости из головы. Тебе в солдаты идти надо, не до женитьбы тебе. Не знаю, думаешь, куда бегаешь ты? Знаю, милый сын, всё знаю. И зазнобу твою тоже знаю. Материнское ухо всё услышит, материнский глаз всё увидит… Какая она невеста тебе? Разве такую тебе надо жену? Нонче, батюшка, на приданое надо смотреть, а много ли за ней батька-то даст? Дай-то, дай Бог, чтобы тысячу отвалил. Да и не отдаст ещё за тебя, не думай ты этого, не отдаст, потому что получше тебя женихи найдутся, а у тебя, голубчик, слава больно плоха…
«Опоздаю, ой, опоздаю!» — мысленно ужасался, мигая глазами, Петя. Так и подмывало вскочить и побежать, но, как назло, мамаша разворковалась вовсю, и когда он вырвался, наконец, на улицу и подлетел к церкви, народ уже вышел, плелись только древние старушки, а церковь была пуста и темна.
«Эх!» — с отчаянием подумал Петя и помчался по улице, мимо рядов, зорко глядя своими маленькими глазками вперёд, и только в переулке к реке, около дома Александра Карпова, портного, мелькнула перед ним вдали знакомая серая шапочка и синяя шубка. У него даже загудело от радости в ушах и, разбрасывая галошами талый снег, он пустился её догонять.
— Здравствуйте, Анна Григорьевна! — чинно сказал он, увидев впереди любопытно оглядывающуюся старушонку и, понизив голос, прибавил: — Мамаша задержала. Думал, что уже и не захвачу сегодня вас.
Из-под серой шапочки тепло блеснули на него светлые глаза.
— А я в церкви все глаза проглядела. Очень боялась, что так и не придёте совсем.
— А что?
— Так.
— Случилось, что ли, что? — тревожно допытывался Петя и по низко опустившейся голове уже видел, что не иначе, как что-то произошло. Недаром так раскудахталась мамаша. — Дома, что ли, что? Отец! Али кто? — волновался Петя, когда, не отвечая, она шла, ускоряя шага. — Анночка! Да погоди. Ну же, что?
Кивнув головой, Анночка рукой смахнула что-то с ресниц, и Петя решительна сказал:
— Пойдём на бульвар.
— Петя, нельзя… — испуганно зашептала она. — Увидят, а папенька не велел с тобой больше гулять.
— Ничего не увидят. Да и увидят, так наплевать. Вот дадим старушонке отойти и пойдём.
Улица была пуста, и только светились окна. Все уже пили после всенощной по домам чай. Схватив Анночку под руку, Петя разом столкнул её с тротуара прямо на дорогу и потащил через улицу на занесённый ещё снегом, с торчащими, как палки, молодыми деревцами бульвар.
Под обрывом расстилалась внизу потемневшая уже река, за ней чёрный лес. У того берега, как корыта, вытянулись гуськом, пять пароходов со снятыми трубами и с десяток баржей.
— Ну? — взволнованно торопил, встав перед скамейкой, Петя. — Что же такое? Говори, голова. Или какая беда?
— Петенька, родной! Сватают меня…
— Кто?
— Кондитер, что из Нижнего, из ученья приехал…
— Ну!
— Сватает. А папенька велит идти.
— А ты и пойдёшь?
Уронив руки, Анночка затряслась от слёз.
— Обещала, ведь, что будешь ждать, пока со службы не приду. Или раздумала? Долго ждать?
— Петенька, да что же делать-то мне?
— Нейди. Скажи, не хочу, мол, да и всё. Силом не станут венчать. Времена, брат, ноне не те.
Анночка плакала и смотрела через реку на чёрный лес.
— А кондитер-от был у вас?
— Отец его с матерью приходили.
— Ну, вот, как придёт, так ему скажи. Я, мол, вас не люблю и за вас идти не хочу. А люблю другого. Только и всего.
Петю схватило за сердце, что она сидит, как убитая, ничего не говоря, и обида так замутила ему голову, что, пригнувшись к самому её лицу, он стиснул кулаки и заговорил.
— Так бы и сказала сразу, что не любишь, что всё притворство одно. А подвернулся настоящий жених и сейчас же за него. А то канитель одна: люблю, люблю, а дошло до поверки и сейчас же на попятный двор.
— Петя! — говорила, рыдая, Анночка. — Петя!..
— Нечего Петя! Знаю я вашего брата. Вы на нас только целоваться учитесь. Вам всё одно, кто бы ни был, только бы был кто.
Анночка поднялась.
— Если вы так можете говорить, — начала она, — то на поверку выходит, что вы…
Повернувшись, она хотела идти, но Петя сейчас же её ухватил.
— Стой, погоди! — и, посадив её на скамейку, забормотал: — Дрянь, мерзавец, негодяй!
Сбросив с головы шапку, он умолял:
— Анночка. Ну, ударь меня по башке, ударь. Ну, зарежь меня, подлеца. Хочешь, я сейчас брошусь с горы вниз головой?
Он побежал к обрыву, но тут уж Анночка вцепилась в него. Она стукнула в угоду ему по мотавшейся пред ней беспутной голове, потом обхватила её, притянула его лицо к своему заплаканному лицу, и Петя чувствовал только одно, что не отдаст её, Анночку, никому.
— А если что, — решил он вдруг, — так я кондитеру переломаю бока…
— Петечка, родной, пора… — говорила Анночка. — Надо идти. Папенька хватится. Проводи меня чуточку, а потом я пойду одна.
II
На следующий день, после вечерен, Петя искал Анночку на большой дороге, где гуляла зимой молодёжь, но, пробежав рысью до самых кузниц, не нашёл её и затосковал. За сердце схватило так, что почувствовал, что хоть удавиться, а надо Анночку повидать. Вчера, ведь, с ней так ни о чем и не условился.
Не иначе было, как приходилось идти к её дому — может быть, по дороге удастся встретить, или хоть у окошка увидеть её лицо… По дороге её не встретил, а как только прошёлся два раза по тротуару мимо деревянного, выкрашенного в коричневую краску дома с вывеской, на которой нарисован был самовар, как растворилась калитка, и вылез без шапки сам Григорий Флегонтов, Анночкин отец, подошёл, сгорбившись, прямо к Пете и, глядя в бок, глухим басом сказал:
— Вот что, Пётр Никаноров, что я тебе скажу. Нечего тебе, брат, под моими окнами шляться, а лучше, брат, иди дальше по своим делам.
У Пети так и похолодели ноги, но всё-таки он беззаботно ответил:
— Что, голова, аль с похмелья сердит? Я товарища дожидаюсь, мы с ним за зайцами завтра хотим идти.
— Знаю я, брат, за какими ты зайцами ходишь, — сурово сказал медник, уткнув длинную бороду в грудь. — И вот, что тебе скажу: ты эти глупости брось и девку не мути. Она тебе не невеста, а ты ей не жених. И я тебе добром говорю: проходи. А не то, брат, у меня будет другой разговор.
— Что-то ты меня, будто, пугать стал, а я тебя, будто бы, и не боюсь! — задорно мотнул головой Петя. — Не откуплен, я чай, у тебя тротуар: где захочу, там и буду ходить.
Медленно выпрямив, свою сгорбленную спину, медник взглянул исподлобья и ещё суровее проговорил:
— Ну, так вот я тебе что скажу: проходи, брат, проходи!
Не будь это медник, Анночкин отец, конечно, тут что-нибудь бы да произошло. Но Петя любил Анночку и потому робел пред её отцом. Заломив шапку на правый бок, он поправил её на левый, но сейчас же, осёкшись, уныло проговорил:
— Эх, Григорий Флегонтыч, сказал бы я тебе словечко, да лучше уж помолчать, — и, круто повернувшись, пошёл. Шёл долго, пока не вышел далеко за город, потом повернул назад, прошёл на бульвар и там сел. И когда подумал, что Григорий Флегонтов, отец, всё, стало быть, знает, и что с Анночкой ему не увидеться, Бог знает, до каких пор, что выдадут её, пожалуй, за кондитера, потому что кондитер настоящей жених, а ему, Пете, надо ещё идти на призыв, то взяла его такая тоска, что стало необходимо сейчас же что-нибудь предпринять.
— Алексеич! — окликнул он через четверть часа, обойдя двором и осторожно стукнув в окошко приятелю, сыну бакалейщика Михина, и когда тот, перестав набивать папиросы, одёрнул рубашку и вышел на волю, коротко спросил его:
— Водка есть?
— Рябиновая есть.
— Ну, ладно. Давай.
В комнате Алексеич вытащил из-под кровати бутылку рябиновой и поставил на стол. Ничего не объясняя, Петя сидел мрачно свесив голову на грудь, пил рюмку за рюмкой, иногда ударял кулаком по столу. Молчаливый Алексеич не спрашивал, продолжал набивать папиросы, важно сопел похожим на хобот носом и подливал.
Когда выпили бутылку до дна, Петя сказал:
— Пойдём теперь в трактир. Будем на биллиарде играть.
В трактире Петя бил шары кием так, что они летели за борт, и повторял: «Ну, уж, где тебе, бакалее, спорить со мной…» — а кончив играть, сел рядом с Алексеичем на диван и, мотнув головой, сказал:
— Ну, брат, напьюсь сегодня вдрызг!
— Зачем?
— Надо. Так, чтобы глаза на лоб вылезли. Пойдём, выпьем по коньяку…
— Разобью сегодня всё! — решил он у буфета. — Фонари, будку на площади и всякую дребедень… Никита, — советовался он с буфетчиком, — разобьём сегодня всё, а?
— Как угодно, Пётр Никанорыч.
— Разобьём, брат. Будку прямо в охапку и оземь, чтобы не было её, анафемы, и полиции тоже. Сыпь нам ещё по коньяку!
Через два часа всё это было исполнено. Выйдя на пустынную площадь, Петя переворотил все балаганы, в которых бабы торговали ситным и пирогами, а над полицейской будкой долго кряхтел, но всё-таки перетащил её через площадь и опрокинул наземь. Отдышавшись, он сказал Алексеичу, который на всё это спокойно смотрел:
— Теперь, брат, пойдём на пыльный завод. Разбудим Андрюшку-мыловара, будем пить водку, а он нам сыграет на скрипке.
— Я не пойду, — сказал Алексеич. — Мне завтра рано вставать.
— Не пойдёшь? — крикнул Петя и, когда Алексеич упёрся, схватил его в охапку, взвалил на плечо и понёс. На заводе он поднял во флигеле Андрея Ильича, мыловара, и заорал на него: — Давай сейчас же водки, чернокнижник, а не то изломаю тебя, как щепку!
Пили водку почти целую ночь. Андрей Ильич напился и заиграл на скрипке, а Метя вспомнил об Анночке и его схватила такая боль, что он решил сейчас же убить кондитера, а так как его не было, то себя. Обливаясь слезами, он изо всех сил стал колотить себя бутылкой по голове. Когда бутылку отняли, он рассердился и начал ломать Алексеича и Андрея Ильича и когда те обиделись, то огорчился так, что убежал в чулан, засунул голову в тулуп, который висел на стене, стал плакать и так, стоя, уснул.
А на следующее утро прокрался к себе домой, чтобы взять потихоньку ключ от лавки, но мамаша была уж тут как тут. Выскочила из кухни, закричала:
— Да где же это шатался целую ночь, бесстыжие твои глаза! А? — и, схватив за волосы, потащила его в сени.
Там в углу стояла тяжёлая палка, которой выбивали из шуб пыль. Этой палкой, пригнув Петю за волосы, она долго колотила его по спине, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе!..» — и Петя, стерпев всё, взял ключ и пошёл в ряды.
В лавке с каждым часом всё сильнее забирала тоска. Анночка так и стояла перед глазами — ни с кем, даже с Алексеичем, который пришёл было вспомнить вчерашнее, не хотел говорить, ругал приказчика, не уступал ни копейки бабам на ситце и всё выглядывал из лавки, не идёт ли она. Выглянул так уже около обеда — видит, идёт мимо кондитер, важный, солидный, в котелке и брюки навыпуск — должно быть, в магазин, крупчатки брать — не утерпел и крикнул:
— Эй ты, миндальное пирожное, бланманже! Иди-ка сюда. Слово тебе надо сказать.
— Не о чем, брат, нам с тобой говорить, — презрительно скосив рябое лицо, обиделся кондитер.
— Не о чем? Ну, так погоди, я сам к тебе в гости приду.
Больше всего Петю мучило то, что случилась такая беда, а тут как назло через неделю надо было ехать в Нижний, и поездки этой никак нельзя было отложить.
Вечером, после ужина, стало так плохо, что пошёл к Алексеичу опять.
— Алексеич, — трагическим тоном сказал он. — Опять, брат, сегодня напьюсь. Больно уж сердце жжёт. Пускай мамаша бьёт.
Он рассказал ему всю свою беду и, сидя у него в комнате, начал так сильно плакать, что Алексеич, чтобы утешить его, выкрал у матери из шкафа бутылку английской горькой. Петя выпил рюмок десять, и когда немного полегчало, сказал:
— А этого Митьку, кондитера, я просто могу задавить. Пойдём, брат, его искать. Я хочу с ним поговорить.
Сначала Алексеич не соглашался — он был ещё трезв, но скоро разобрало и его — они собрались и двинулись в путь.
Подойдя к дому, у крыльца которого висел золочёный крендель, они через сени вошли в кондитерскую и увидели кондитера, который сидел у стола. На столе перед ним стоял большой торт, и он кисточкой разводил по нему розовые и синие узоры.
— Кому торт-от? — спросил Алексеич, и, подняв рябое лицо, кондитер ответил:
— Ивану Семенычу Титову, к серебряной свадьбе на завтра, — но увидел Петю и покраснел.
— Здравствуй, ежова голова! — задорно сказал Петя, сел против него, положил ногу на ногу, но подумал, что здесь, за этим прилавком Анночка будет продавать пирожные, чуть не заплакал и сразу решил: — Вот, что, Дмитрий Николаев, нечего зря финтить. Давай, брат, дуэль.
Кондитер чуть не присел. Он уважал себя, считал Петю неосновательным человеком и, зная его глупый характер, опасался скандала, но этого не ожидал.
— Какую такую дуэль?
— Какую? А вот, брат, такую. Возьмём по ружью, станем на дворе и будем друг в дружку стрелять. Или давай на ножах. Кто кого уложит, тому Анночкой и владеть. А так я тебе её не отдам.
Алексеич молчал и важно сопел.
— Совсем ты, Пётр Никаноров, глупости говоришь! — решил кондитер, немного придя в себя, и, взявшись за кисточку, принялся снова расписывать торт. — Только удивленья достойно, что у тебя на плечах за пустая шабала! Ну, из-за чего нам с тобой иметь дуэль?
— А ты на Анночке жениться хочешь?
— Ну, хочу.
— И я хочу.
— Ну, и женись.
— Да за меня не отдадут.
— Так я-то тут чем виноват?
— А тем, что и ты не женись. Она любит меня, а не тебя.
— Я про это неизвестен. А как она барышня свободная, то я имею полное право сделать ей предложение.
— Да она тебя не любит!
— И про это я неизвестен. Любит, — пойдёт, не любит, — не пойдёт.
— Да ежовая твоя голова, её отец насильно отдаст!
— Насильно отдать нельзя. Насильно, брат, поп не будет венчать.
— И я то же говорю, — согласился Петя, опустив охмелевшую голову, но вспомнил встречу с медником, Анночкиным отцом, и снова решил: — Нет, брат, нечего тут. Давай дуэль. Мне ещё надо в солдаты идти.
— Да тебя, может, и не возьмут. Отсрочка же тебе была.
— То в октябре. А у меня к осени грудь на два вершка прибудет. Нет, брат, хочу дуэль.
Петя куражился, но, скорчившись где-то глубоко, в нём плакала настоящая любовь. Он хотел дуэли. Кондитер не хотел. Петя размахивал руками, хватал его за плечи и кричал. На крик вышел кондитеров отец, щупленький старичок, в очках, с седой, вроде мочалки, бородой.
— Вот, — с бледной улыбкой сказал ему кондитер. — Хочет из-за медниковой дочки дуэль со мной иметь…
А Петя продолжал махать руками, и когда старик взял его за плечи, сердито говоря: «Ты, брат, напивайся, да не буянь!..» — крикнул: «Хочу дуэль!» — стукнул кулаком изо всех сил по столу и, попав прямо по торту, разбил его так, что во все стороны брызнули мокрые куски.
Кондитер рвал на себе волосы, старик вопил диким голосом. Прибежали пекаря, и сконфуженный Петя говорил: «Да, ведь, чудаки, не нарочно же я!» — взял скорее шапку, пошёл в сени и на двор, сел у ворот на лавочке, и, понял, что своей глупостью испортил дело совсем, заплакал навзрыд.
III
Стояла четвёртая неделя поста. На пятой Пете непременно надо было ехать в Нижний, а Анночку за всё это время ему никак не удавалось повидать. Гулять она больше не ходила, ко всенощной и обедне тоже, вечеринок по случаю поста не было. Петя пьянствовала, ещё неделю, мамаша драла его за волосы и била палкой, и он сидел в лавке, а сердце у него глодало так, что он говорил Алексеичу:
— Прости, брат мочи нет. Хоть руки на себя наложить. Так вот и жжёт.
Увидел он её только за день до отъезда. Потупившись, она шла куда-то мимо рядов, заглянула украдкой в лавку и свернула влево, к церкви. Дав ей отойти, Петя вырвался из лавки, полетел задами за ней вслед, догнал её и сказал:
— Анночка, завтра мне ехать. Да как же бы тебя, голова, повидать? Просто хоть удавиться, так невтерпёж.
Условились встретиться вечером. Анночка пойдёт к тётке, посидеть там до восьми часов, а Петя подождёт её на углу. Улица там пустынная, и немножко можно поговорить.
— А теперь, — говорила Анночка торопливо, — ты, Петя, иди. А то увидят, боюсь.
Петя проводил её, не помня себя, ещё несколько шагов, вернулся в лавку и, еле дождавшись вечера, стал сторожить на углу. И как только скрипнула калитка, и появилась фигурка в серой шапочке, так точно отшибло у него память. Подошёл к ней, взял ее за руку, и из глаз брызнули слёзы.
Шли они по пустынной улице, которая выходила прямо в мелкий ельник, было уже темно, только от талого снега шёл ещё блеск, смотрели друг на друга и не знали, что сказать. В самом конце стояли там старые срубы, одним боком упирались в пустой огород. Зашли они, сами не зная, как, туда, и лежали там на прелых щепках три мокрых бревна. Анночка опустилась на них, закрыла руками лицо и начала плакать. Петя встал рядом и стукался головой о срубы.
Что тут было говорить? Видно было всё. Пете надо ещё в солдаты, служить придётся три года, кондитер же и человек хороший, и жених не плохой, а отец как упрётся на чём, так его и не сдвинешь. И маменька тоже уговаривает, что две младшие сестры подрастают и тоже заневестятся скоро.
— Петя, Петя!.. — твердила, всхлипывая, Анночка. — Зачем я тебя полюбила!..
И Петя понял, что поделать ничего нельзя, перестал стучать о срубы головой и сказал:
— Так-таки за кондитера и пойдёшь?
Анночка опрокинулась на бревна спиной, забила руками и закричала:
— Не пойду. Не хочу! — и начала громко рыдать.
— Одного тебя, Петечка, люблю, — твердила она, прижимаясь к нему. — Ни за кого не пойду. Пусть сестры выходят, а я тебя буду ждать.
Целуя её, Петя позабыл всё — и солдатчину, и мамашу, и поездку, и они обнимались, пока Анночка не спохватилась.
— Ой, сколько времени-то, погляди! — и, испугавшись, заторопилась. — Надо идти, надо идти!..
— Так будешь ждать? — спрашивал Петя, глядя ей в глаза.
— Буду ждать! — закидывая назад голову, твердила она. — Пусть, что хотят, то и делают. Буду ждать.
Петя шёл домой, бодро ступая по грязи, и думал:
«А может, и не выйду в груди. Тогда наплевать на всё, уговорю мамашу и сейчас же женюсь».
На следующий день, когда он сидел уже в санях, мамаша кричала ему:
— Смотри же, Пётр, в Нижнем-то не чуди. Там не наш город. Остерегись. Больно, ведь, батюшко, хорош бываешь, как вожжа захлестнёт тебе под хвост.
— Да что вы, мамаша! — солидно отвечал Петя. — Не беспокойтесь же. Не в первый же раз.
— Да уж такое ты нещетко, что каждый раз за тебя сердце болит. Скажи Серёженьке-то, чтобы присмотрел за тобой.
Серёженька был его старший брат. Он служил в Нижнем в банке и был важной шишкой, не то что Петя, который, не захотев учиться, так и остался уездным купцом.
Два дня дороги в думах об Анночке мелькнули быстро. По приезде начались рассказы брату и дела. Петя ходил по складам, разговаривал с доверенными, выбирал какой ему был нужен товар, чинно гулял с братом и его женой по улицам, смотрел на народ и думал об Анночке, которая его ждёт.
Две недели пролетели, как сон. В среду на Страстной он собрался домой, и как раз через Волгу сделался плохой переезд. Брат уговаривал подождать, но Петя не послушался, поехал и провалился с санями под лёд. Выкарабкавшись кое-как, вернулся обледенелый назад, получил воспаление лёгких и пролежал без памяти, в жару, девять дней.
В конце Пасхальной недели, когда он только, только стал приходить в себя, приносят ему телеграмму:
— Выдают насильно. Что делать? Приезжай. Твоя навек Анночка.
Петя вскочил и хотел скакать домой, но к вечеру забормотал и снова впал в бред. Всё рвался бежать, кого-то убивать, так что доктор велел его связать. А когда снова пришёл в себя, то громко стал плакать и послал Алексеичу телеграмму, чтобы передал Анночке:
— Не выходи. Лежу без памяти. Скоро приеду.
Его продержали в постели ещё недели две, но, как только позволили, он вскочил худой, как кощей, с провалившимися щеками, сел в тарантас и поскакал.
IV
Мать так и ахнула, увидя, каков он стал, но, не отвечая на её расспросы, он прямо спросил:
— Мамаша, а у Панкратовых свадьба была? — и когда узнал, что на прошлой неделе была, то, не говоря ни слова, вышел на двор, влез по лестнице на сеновал и уткнулся там лицом в сено.
Сильно волнуясь, мамаша бегала внизу и кричала:
— Пётр, а, Пётр! Петя. Да сойди же ты вниз. Хоть поешь, с дороги-то. Вот какие ноне дети пошли. Приехал, целый месяц в чужом городе сидел, чуть не умер там, и заместо того, чтобы с матерью поговорить, на сеновал полез.
Но Петя поглядел на неё из сеновальной двери мутными глазами и проговорил:
— Мамаша. Оставьте меня в покое, а то я, пожалуй, удавлюсь.
Он пролежал на сеновале часа три и думал разные мысли: то хотел пойти к кондитеру и убить его, то решал украсть Анночку и убежать с ней в лес, ещё думал пойти ночью к их спальне и повеситься на дереве, чтобы, проснувшись, они увидели его высунутый язык, но, главное, чувствовал, что Анночка пропала для него навек, что ею теперь владеет, ласкает и целует другой, и это жгло так, что, набив в рот сена, он жевал его и мычал.
К вечеру, однако, он сошёл с сеновала, вошёл в горницу и сказал матери:
— Ну, мамаша, теперь я конченный человек! Не знаю ещё, что, но, должно быть, сделаю что-нибудь.
Потом попросил поесть и начал рассказывать про болезнь, про брата и про дела… Мамаша потеряла голову. Раз по пяти в день она ходила к родственникам и знакомым, пила чай, плакала, советовалась и жаловалась на Петю.
— Ну, уж и сынок! — говорила она, — Вот так милый сын! Вон он где у меня сидит. До самых до печеней дошёл. Когда маленьким ещё был, так что с ним было хлопот — то на реке чуть не утопится, та ему голову камнем расшибут, то сам кого-нибудь раскровенит. Ну, вырастет, думала, тогда спокойствие с ним найду, да, видно, уж только в могилке успокоиться придётся. Вот Серёженька — слова не скажу, умный, почтительный, настоящий сын, а этот, прости Господи, обалдуй какой-то, а не человек…
А Петя сидел с приказчиком в лавке и думал про себя так:
— Стало быть, всё врала. Любила бы, так бы не пошла. Сказала бы: не хочу, и никакой поп не стал бы венчать. Просто кондитершей захотела стать. Знаю я этих баб…
Сердце его ожесточалось всё сильней, и, попивая жидкий чай, он угрюмо смотрел перед собой и представлялось ему, что хорошо было бы сделаться разбойником, поселиться с шайкой в лесу, грабить и убивать. И захватить бы на дороге кондитера с Анночкой, его бы сейчас же в болото вниз головой, а её продержать в подземелье три дня, потом прийти и сказать:
— Вот, полюбуйся, что ты из меня сделала, дрянь!..
И, сам не замечая, он хотел только одного: встретиться с Анночкой ещё хоть один только раз и хоть одним глазком поглядеть, какая она стала теперь. С этими мыслями он ходил ко всенощной и обедне, с этими мыслями выходил на большую дорогу и на бульвар, но нигде её не встречал.
Через неделю, или полторы шёл он в воскресенье, после вечерен, по бульвару, поговорить со знакомыми, продрался сквозь сирень на другую дорожку, чтобы идти домой, да так и обомлел. В десяти шагах и прямо на него идёт Анночка, и её чинно ведёт под ручку кондитер в новом пальто и в котелке. Петя хотел, было, уйти сейчас же назад, в кусты, но вдруг так и забрало его. Шагнул прямо навстречу, снял картуз и громко проговорил:
— Здравствуйте, Анна Григорьевна!..
Анночка взглянула на него, остановилась и прежде, чем кондитер успел её поддержать, свалилась боком на траву.
Что стало тут с Петей, он и сам не мог понять. Помнил только, что пришёл к мамаше домой и сказал:
— Ну, мамаша! Таскайте меня за волосы и бейте палкой, сколь хотите, а я теперь запью. У меня перевернулось всё сердце.
И запил… Пошёл к Алексеичу, утащил его к Андрею Ильичу на завод, пьянствовал там целую ночь, а утром нанял лошадь и поехал за пять вёрст в усадьбу, к мужу сестры Алексеича. Снова пил там водку, плакал, разбил кулаком печку и всякий раз, когда вспоминал, как Анночка упала, хотел себя убить, но не мог решиться, потому что очень уж было жалко мамаши… Через три дня, когда он снова был на заводе, разыскал его дядя Степан, мамашин брат, долго стыдил и тащил домой, но не мог ничего поделать и за компанию запил сам.
А Петя никак не мог понять, зачем в мире несправедливость? Анночка его любит, и он её любит. Зачем же им страдать? Хватал дядю Степана за ворот, пригибал его к земле и кричал:
— Хочу справедливости! Чтобы всем было хорошо. Стану революционером. Жизнь за это отдам.
Возвращаясь домой, встретил пьяного мужика, пошёл, обнявшись с ним, по улице, целовал его и кричал, что умрёт за народ, пока не выбежала мамаша и не стала трясти его за волосы и колотить по спине палкой. А он только плакал и твердил:
— Ещё, мамаша, ещё! Хорошенько. Я подлец. Обидел её, а она страдает.
Потом он решил умереть. Полезли они — он, Алексеич, дядя Степан, который не отставал уже теперь ни на шаг, и ещё кто-то — уж не помнил даже, кто, на колокольню звонить. Добрались до площадки, взялся Петя за верёвку от большого колокола, остальные за средние и малые — пошёл частый перезвон, а он раскачает, да как ударит — так по всему миру гул и пойдёт. Звонил, звонил, взглянул, — увидел синее небо, на нём белых голубей, реку, за рекой лес — весело, хорошо! Подумал, что с Анночкой покончено навсегда, хватил изо всех сил железным языком в медный бок, крикнул: «Прощайте, братцы! Не поминайте лихом!» — и кинулся к решётке, чтобы прыгнуть вниз.
Его ухватили за фалды и потащили с колокольни, а он кричал:
— Пустите меня! Хочу умереть!
Вырвался от них, побежал к реке, разделся, крикнул опять: «Прощайте, братцы!» — и бросился в воду. Сбежался народ, поехали за ним на лодке — мамаша убивалась на берегу, а он переплыл реку два раза взад и вперёд, но только измучился, а утопиться не мог.
V
Вскоре после этого Петя пришёл в себя — нельзя же пьянствовать всю жизнь. Он проснулся утром на сеновале, огляделся мрачно кругом, счистил с волос сено, сошёл вниз и вылил себе из колодца на голову пять ведёрок воды. Потом причесал волосы, помолился и чинно сел пить чай. Мамаша принялась было стыдить его:
— Давно пора. Поглядел бы в зеркало на харю-то свою, как её роспил. Чисто леший стал. И в городе-то все над тобой смеются.
Но он сурово прервал:
— Мамаша, не тревожьте меня. А то я, пожалуй, опять запью.
Он решил, что Анночку надо забыть. Чего уж тут?
Отрезано, всё одно, совсем. С суровым и окаменелым лицом, сидел он в лавке и упрямо гнал все мысли о ней. Но душа его точила слёзы, сплетая из этих слёз чудесный венок, и чем дальше, тем он сильнее её любил. Нестерпимо хотел повидать Анночку ещё раз, взглянуть в её светлые глаза и что-то ей сказать, но нарочно её избегал. Надо забыть.
Но однажды, недели так через две, шёл по площади, на которой весной опрокидывал будку — нужно было ему в казначейство зайти и столкнулся с Анночкой лицом к лицу. Хотел было пройти мимо, но не смог. Остановился, остановилась и она, постояли они так, ничего не говоря — а кругом народ ходит, смотрит на них — и Анночка со стоном сказала:
— Не могла я, Петя. Силой заставили меня, — встрепенулась и пошла.
Кинуло было Петю броситься за ней, схватить её и унести, но увидел впереди кондитера, стиснул зубы и прошёл.
После этого точно отравило его. Он хотел только одного — не думать об Анночке совсем, забыть её, как можно скорее, а она ни на минуту ни днём, ни ночью не выходила у него из головы.
В мае месяце был большой вечер у Севастьяновых, почтённых купцов, и нельзя было никак туда не пойти, потому что там собирались все. Надел Петя сюртук, пришёл, поздоровался с хозяевами, потом ушёл вниз, в комнату Васи, хозяйского сына, и стал там курить. Хотел было просидеть так весь вечер, но не вытерпел, поднялся наверх, прошёл по комнатам и видит: в гостиной, на диване сидит среди молодых дам Анночка, бледная, худая, лицо как у мученицы на картинах, и разговаривает с хозяйской дочкой. Так и облилось у него слезами сердце. Кликнул он Васю, хозяйского сына, пошёл с ним в комнату, где стояла запуска, выпил одну за другой семь рюмок и видит — подходит к столу с компанией кондитер. Забрало Петю, не стерпел он и громко сказал:
— Здравствуй, бламанже!
Вышел опять в залу, как раз, когда гармонист заиграл вальс, встал около дверей, начал глядеть на Анночку и позабыл всё. И когда заиграли польку, подошёл к ней и сказал:
— Позвольте вас, Анна Григорьевна, попросить.
Она вздрогнула, но пошла. И как только обнял её Петя рукой и начали они танцевать, так и забылись оба. Глядели друг на друга, видел Петя её светлые глаза и танцевал. Все уже кончили давно и уселись по местам, а они одни танцевали по пустой зале.
Потом спохватился, отвёл её на место, спустился вниз, в Васину комнату, сел на диване, закурил папиросу, но сейчас же бросил. Увидел на стене напротив заряженное ружьё, хотел, было, выстрелить в себя, но по лестнице кто-то шёл. Стукнулся тогда с размаху о стену головой, так что огонь посыпался из глаз, поднялся опять наверх и столкнулся у лестницы с кондитером. Увидел, что хочет кондитер ему что-то сказать, но не остановился, прошёл мимо, подошёл опять к Анночке и сказал:
— Позвольте нас пригласить в последний раз на кадриль.
Заиграли кадриль, пошёл Петя с Анночкой, видит — кондитер тоже к ней бежит и всё лицо перекошено от злости. Но, прежде чем успел дойти, взял её Петя, привёл на место и посадил.
Стали танцевать, ни о чем ни слова не сказали, только опять друг на друга смотрели. Так бы и заплакали оба навзрыд, потому что знали оба без слов, что прощаются друг с другом навсегда.
А кондитер стоял у дверей и, не спуская с них глаз, смотрел.
После кадрили посадил Петя Анночку на место, поклонился ей низко, взглянул в последний раз, пошёл и хлопнул сразу рюмок пять водки, так, чтобы оглушило его. Потом спустился в пустую Васину комнату, сел на диван и стал курить.
Выкурил одну за другой три папиросы, и вдруг отворяется дверь, входит кондитер и говорит:
— А! Куришь здесь…
Сел напротив Пети, уставился на него и сразу стало видно, что человек вне себя.
— Чего же, — говорит, — ты здесь сидишь?
— А тебе что за дело?
— Ах ты, дрянь! — сказал тогда кондитер. — Таких, как ты, мерзавцев убивать надо. Чего ты жену у меня отбиваешь? Я тебя без дуэли, как собаку, застрелю.
Снял со стены ружьё, взвёл курок и снова говорит:
— Хочешь, прохвост ты такой, застрелю тебя сейчас!
Положив ногу на ногу, Петя затянулся папиросой, загадал себе в уме, помолчал и ответил:
— Застрели.
— Не застрелю, думаешь, мерзавец ты такой! — и потихоньку подносит ружьё к плечу.
— Побоишься, где тебе…
— Побоюсь?
— Знамо, побоишься. Больно, брат, у тебя кишка тонка.
Грянуло тут, брызнуло огнём и оглушило, так что Петя не мог даже сразу понять, убило его или нет. Пришёл немного в себя, а кондитер, белый, как полотно, стоит перед ним и шевелит синими губами:
— Мимо, — сказал Петя и, увидев вершках в трёх выше головы чёрную дыру, — прибавил: — А немножко не угадал.
— Прости меня, Пётр Никанорыч, — чуть ворочая языком, говорил кондитер. — Сам не знаю, как вышло. Очень уж ты мне сердце разбередил.
— Ну, полно, голова, — ответил Петя. — Чего уж тут? И убил бы, так невелика беда… А я, брат, с ней только попрощаться хотел, — прибавил он, помолчав, встал и сейчас же ушёл.
Прошёл на бульвар, сел на лавочку на обрыве и тут только увидел, что дрожит с ног до головы, как осиновый лист. Долго сидел, смотрел на реку, на раскидистые дубы на той стороне, на красный серп луны, который, качнувшись, выходил из-за леса, и чувствовал, как, вместе с дрожью, точно сплывает у него что-то с души, и как становится ему легко и хорошо. Образ Анночки ушёл вдруг вдаль и не жёг уже, как раньше, а ласково грел, как сладкое воспоминание, точно она давно умерла.
Походил радостно по бульвару, повернул домой и, когда мамаша отперла ему дверь, сказал ей:
— А я, мамаша, теперь, должно быть, совсем оздоровел.
— Давно, голубчик, пора, — ответила мамаша и начала, было, говорить, но Петя, не дослушав её, ушёл в лавку и, увидев в обед проходившего мимо кондитера, вышел к нему и серьёзно сказал: — Вот что, Дмитрий Николаич. То, что было, то прошло, и теперь у меня нет против тебя ничего. А про старое давай забудем совсем.
Горбатый Карл
I
Раньше всех в детской палате просыпалась Лиза.
Она была совсем здорова, — только её сломанную ногу неприятно тянул тяжёлый мешок с песком, привешенный к блоку на потолке.
Утром ей всегда страшно хотелось вскочить и побежать, жизнь переливалась в ней тысячью ручейков, и от нетерпения и досады она принималась быстро стучать по тюфяку здоровой ногой. Поднимая мешок к самому, потолку, она сползала туловищем с постели, на руках дотягивалась до соседней койки и дёргала за распущенные волосы Анну, которая спала, закинув назад голову и разинув рот.
Потом усевшись на кровати, она начинала кричать: «Стёпка! Стёпка!» — и, подняв с полу туфлю, нацеливалась и ловко пускала её через всю комнату прямо ему в лицо.
Стёпка удивлённо вытаращивал глаза, несколько времени, ничего не понимая, лежал, потом соскакивал на пол и, как хромой цыплёнок, ковыляя залитой в гипс ногой, бежал умываться.
Когда он возвращался назад, на его острой рожице бутоном выделялся покрасневший нос.
Затем просыпались все.
Раскрывала свои тёмные глазки бледная Соня и, не двигаясь, начинала смотреть перед собой. Шевелился бедный Шура, забинтованный так, что казалось, будто на голову его надет чепчик, — и сейчас же принимался тихонько плакать. Ему звонко откликался из своей люльки Данилка, который терял рожок… И, наконец, просыпался горбатый Карл.
Он не лежал, а сидел, прислонив горбатую спину к протянутой поперёк кровати сетке и так, сидя, спал, откинув назад голову и важно оттопырив губы.
Он просыпался, открывал глаза, поднимал голову, осторожно поправлял в сетке горб и сурово обводил глаза кругом.
Тогда на момент все чувствовали себя неловко и притихали, как будто в палате появлялся кто-то совсем чужой.
Начинался день.
Сиделка Катя, похожая на маленькую весёлую мышку, волоча за собой хвостиком юбку, приносила кофейник, чашки и хлеб.
Закинув назад красивую голову, высокая, весёлая и сильная, входила сестра Анна.
Детские руки тянулись ей навстречу, и детские голоса хором кричали ей:
— Тётя Анна! Тётя Анна!
Дети хотели есть и жадно следили, как сестра Анна намазывала хлеб и разливала кофе.
Лиза, сверкая глазами, изо всех сил стучала о постель здоровой ногой. Стёпка — единственный из палаты, который мог ходить — вертелся, помогая разносить чашки, около стола и всегда старался стащить самый большой кусок. Но всегда попадался, получал подзатыльник, затем добровольно отправлялся в угол и там, уткнувшись лбом в стену, некоторое время тихо пищал.
Сестру Анну любили все.
Лиза взвизгивала от восторга, подпрыгивая на постели, хватала её за руку, любовно гладила и умильно говорила:
— Тётя Анна!.. Тётя Анна!..
И потом:
— А когда мне можно будет встать?..
Бледная Соня своими восковыми пальчиками тихо брала её за руку, клала её к себе на грудь и с восхищением закрывала глаза.
Маленький Данилка с задранной кверху ногой, которая так же, как у Лизы, была привешена к блоку на потолке, таращил свои водянистые глаза, подскакивал всем телом и, как кукла, выкрикивал: «мам-ма! мам-ма!..» — и бедный Шура при её приближении начинал безнадёжно всхлипывать, точно жалуясь ей, как тяжела и мучительна жизнь…
Один только горбатый Карл жадно и быстро ел, сосредоточенно двигая худыми щеками, не обращая внимания ни на что, весь погруженный в себя. И когда сестра Анна подходила к нему, его неподвижный взгляд, остановившись на ней, коротко и сурово говорил ей:
— Уйди.
От этого взгляда в добром и сильном сердце сестры Анны поднималась непонятная смута, которую, несмотря на всю суету, она тайно носила в себе целый день.
II
Целое утро дети испытывали страх.
После забвения ночи дом болезни, до краёв полный скорби и мук, просыпался и начинал свой томительный день.
Сестра Анна и сиделка Катя озабоченно мелькали, то появляясь, то исчезая, за стеной кто-то тяжко стонал и вздыхал и, как большая, серая змея к детской палате издалека медленно подползал страх.
Дети слушали и лежали.
Вдали хлопала дверь, слышался громкий разговор и весёлый смех — доктор начал свой обход.
Он появлялся на минуту в палате — маленький, черноглазый, румяный, ещё пропитанный воздухом улицы — быстро обходил все постели и говорил:
— Как дела, Лиза?
— Как дела Анна? Ты, клоп? Сосёшь?
— Соня, Соня, Соня… — он щекотал подбородок Сони.
— Бедный Шура, здравствуй! Болит? Степан, иди сюда!
Он хватал Стёпку и начинал сгибать и разгибать ему руку, крича: «Постой! Да постой же, болван!» — и Стёпка подымался на цыпочки, выше, выше, точно лез куда-то вверх, я пищал самым тоненьким голосом, каким только мог.
— Как дела, Карл?
Но Карл, не отвечая, и важно оттопырив губы, смотрел, и доктор, не дождавшись ответа, исчезал.
Дети опять лежали и слушали, как вдалеке кто-то вскрикивал, кашлял, жаловался и стонал.
Приходила сестра Анна, нежно поднимала на руки Шуру, приговаривая: «Мой бедный цыплёночек! Мой бедный цыплёночек!..» — и он, бессильно уронив голову, начинал тихонько и горько рыдать.
Его уносили.
Вдали хлопала дверь, слышались голоса, потом раздавался отдалённый вопль. Сначала слабый, потом сильнее и как будто ближе, потом, не переставая, один тонкий, пронзительный, как заливающийся колокольчик, крик.
Все притихли.
Лиза, покрываясь холодным потом, с головой укутывалась в одеяло. Соня бледнела, умоляюще складывала руки и начинала дрожать. Страх нарастал, вползал в палату, удушливым клубом наполнял всю комнату, и один только Карл сидел прямо и неподвижно, выше всех и ничего не замечал.
Когда Шуру, белого, чистенького, с бессильно запрокинутой головой приносили назад, дети, ещё полные ужаса, молчаливо лежали, и только иногда решался смеяться один легкомысленный Стёпка.
Но Лиза, сейчас же обрывала его.
— Молчи, Стёпка! — с негодованием говорила она. — Ты сам пищишь, когда доктор крутит тебе руку.
— А ты не пищишь? — обижался он. — Запищала бы, если бы тебе повертели так ногу.
— Ну так и не смейся! Шура маленький, а ты большой. Дурак!
Потом уносили Анну. Она была нервна и ещё по дороге начинала оглушительно визжать:
— А-я я-я-яй! А-я я-я-яй! — так, что сестра Анна, закусив губу, с ожесточением давала ей шлёпок.
Это не было страшно.
Анна кричала от нервов, а не от боли и, когда её приносили назад, она с засохшими на щеках полосами от слёз сейчас же принималась есть конфеты, которые всегда лежали у неё под подушкой и которые всегда старался своровать Стёпка.
Потом несли из других палат.
По коридору слышался тяжёлый топот ног, кто-то жалобно говорил и стонал, потом гулко хлопала дверь. Наставала напряжённая тишина, и вдруг издалека доносился заглушённый вопль. За ним другой, третий, — без конца.
Они раздавались потом, почти не переставая, то тише, то громче, разнообразные, разноголосые, но далёкие и глухие, точно это кричали сами стены. Дети знали, что там была женщина, у которой каждый день скоблили железом кость и которая всегда страшно кричала и лишалась чувств, и мужчина, который ревел, как бык, потому что доктор размахивался и прокалывал ему ножом живот. Страх нарастал, наполнял всю комнату, поднимался до потолка и опускался оттуда, как душный свод.
Но это было не всё.
Самое страшное было впереди.
Стёпка, который давно уже стоял у дверей на часах, вытаращив глаза, стремглав ковылял к постели и вытягивался во фронт. Все поспешно шевелились и потом затихали — наставала мёртвая тишина.
В коридоре слышался топот многих шагов, настежь распахивалась дверь, и в палату входил профессор.
Он входил, медленно переваливаясь, и с трудом переставляя ноги, точно на них были одеты чугунные сапоги. У него был горбатый нос и страшные, красные, волосатые руки, которые равнодушно висели вниз, — и Лизе казалось, что в палату двигается камень, который может спокойно всех раздавить.
Он обходил одну за другой все постели, и за ним шли все доктора, все сестры и целая куча незнакомых людей.
Он равнодушно слушал, когда румяный доктор почтительно говорил, иногда кивал головой, медленно поднимал одеяло и своей страшной рукой больно ощупывал тело. Потом, переваливаясь, волоча ноги и болтая руками, со всей своей свитой уходил — и дети, не шевелясь, лежали и дрожали ещё полчаса, потому что каждый боялся, что сейчас придут, положат его на носилки и понесут.
Один Карл не боялся ничего.
Молчаливо и сурово он сидел, прислонив к сетке свой горб, и неподвижно смотрел прямо перед собой.
— Знаешь, Анна, — шептала иногда Лиза, нагибаясь к ней, — а всё-таки Карл храбрее всех. Мы все боимся, а он не боится ничего.
— Это оттого, — равнодушно отвечала Анна, — что он знает, что скоро умрёт.
И, нагнувшись друг к другу, они начинали шептаться о том, что у Карла в горбу сидит гной, который должен его задушить.
Это сказала им однажды сиделка Катя, и Лизе казалось с тех пор, что Карл тоже это знает и оттого всё время молчит.
III
Вечером было лучше.
Страх исчезал, оставалась тайна. Тайна огромного дома, населённого страшными больными, со страшной операционной и страшными докторами, которые лечили больных.
Лиза, Анна и Стёпка собирались одной компанией, вместе. Стёпка усаживался на постель к Лизе, вытягивал перед собой залитую в гипс ногу, к ним наклонялась с своей постели Анна, и втроём они начинали говорить.
Постепенно опускались сумерки, палата раздвигалась и делалась большой.
Сестра Анна и сиделка Катя куда-то уходили и не являлись, пока не делалось совсем темно, и дети с увлечением говорили.
Сначала обо всём, потом о бледной Соне, которую все уважали, потому что месяц тому назад профессор разрезал ей живот, потом о Шуре, о Карле, и, наконец, о том, что их интересовало больше всего — об операционной…
— Там страшно, — говорила Лиза, пожимаясь, делая губами: «брррр…» — и начинала тихо стучать ногой о постель.
Стёпка вытаращивал глаза и уверял, что, когда он был там, он видел машину, которая рубит сразу пять ног. Она стоит в углу, под ней разводят огонь, и она начинает шипеть.
— Ты глуп, Стёпка! — коротко решила Лиза, которая не верила ничему, что он рассказывал.
Стёпка вообще видел то, чего не видел никто. Больница казалась ему огромной, как город. В ней было сто лестниц и тысяча дверей. Он сам считал.
В конце коридора, куда он иногда ковылял, он видел шкаф, и там стоял живой человек с собачьей головой, которая скалила зубы, а в одной палате, направо, в другом конце, лежал больной, которому профессор вырезал глаз.
Этот глаз лежит теперь в банке в другом шкафу и мигает, когда кто-нибудь проходит мимо, как живой.
А самые страшные вещи были на дворе.
Там стояла мертвецкая, а в ней всегда было двести мертвецов.
В полночь они подымались и начинали плясать, а потом искали профессора, чтобы его задушить, но не находили, и от злости выли и дрались между собой.
— Ты глуп, Стёпка! — говорила изумлённая Лиза.
Но Стёпка обижался.
— Ты сама глупа! — отвечал он, и Лиза, закусив губы, больно щипала его в ногу.
Стёпка издавал писк и щипал её. Начиналась драка, и они бросались туфлями.
Один раз, когда он увернулся, туфля пролетела мимо и упала в люльку, рядом, с Данилкой, который, продолжая усердно сосать рожок, так потешно скосил на неё глаза, что Лиза, Стёпка и Анна хохотали над ним полчаса.
Из ссоры выходила игра, и все начинали кидаться туфлями. Соня размахивалась слабой рукой, бросала и блаженно закрывала глаза.
Шура, продолжая тихонько плакать, размахивался и тоже кидал, — туфли описывали в полутьме зигзаги, мягко шлёпаясь о стену и на пол, вся палата приходила в волнение, и только один Карл неподвижно и важно сидел выше всех, и в расплывающихся серых сумерках казался уродливым и странным божком.
Так же важно продолжал он сидеть и тогда, когда, два раза в неделю, палата принимала необычайный, весёлый вид и делалась похожей на гудящий рой.
Приходили родные детей.
Они садились около постелей, громко говорили с детьми и между собой — дети расспрашивали, ели и смеялись.
Около Сони, гладя её худую ручку, сидел большой мужчина с бородой, и она, молча, с видом блаженства, глядела на свёрток, который лежал на её столе.
Лиза хохотала и ела пирожные, которые приносила ей нарядная сестра. Шура чуть-чуть хныкал, и его нежно гладила по чепчику худая и чахлая мать. Стёпка, не уставая, ковылял по всей палате и менялся со всеми тем, что ему принесли.
По палате, как мышка, волоча свой хвостик, скользила сиделка Катя и, как королева, ходила высокая, красивая и сильная сестра Анна, — один Карл сидел неподвижно и молчаливо, как всегда — к нему не приходил никто.
IV
Полгода тому назад его мать, жёсткая и костлявая, как сушёная рыба, привезла его сюда, посидела с полчаса около него, поцеловала его тонкими и равнодушными губами и ушла. Он же остался сидеть.
Ему это было всё равно.
С тех пор, как он себя помнил, он всегда так сидел — на кровати в комнате, где мать стирала белье, на дворе, около стены, когда было тепло и светило солнце, а потом здесь, в больнице.
Он никогда не был здоров, всегда чувствовал боль и так привык к ней, что она казалась ему живым существом, вроде рыбы с большим ртом и двумя рядами острых зубов, которыми она глодала изнутри его горб.
Иногда она уставала, затихала и опускалась на дно. Потом понемногу выплывала опять и снова вцеплялась в горб.
Он медленно поворачивал тогда спину направо или налево и сурово терпел.
Он ничего не хотел, ничего не ждал, всё время внимательно слушал боль и был совершенно равнодушен ко всему, что происходило кругом.
Изредка, когда дети особенно смеялись и шалили, в его душе вставал молчаливый укор, который приходил и стоял как неподвижная тень.
Тогда он выпрямлялся и делался особенно важен и суров.
Иногда, в последнее время, он чувствовал слабость, у него тихо замирало сердце. Он опускался в свою сетку, смотрел на лежащую против него Соню и чувствовал умиление, от которого глаза его делались влажными, и губы оттопыривались вперёд.
Он испытывал удовольствие, когда ел, и наслаждался, когда его сажали в ванну.
Сиделка Катя и сестра Анна брали его на руки, осторожно несли, и его бессильные ноги, болтаясь, как плети, беспомощно висели вниз.
Его раздевали, и он молча сидел в тёплой воде.
Он смотрел на свою выгнутую грудь, на свои длинные и тонкие руки и иногда медленно двигал ими в воде.
Вода поднималась, ласково плескалась волнами о его грудь, и у него сладко замирало сердце.
Потом он опять важно сидел на постели, прислонив к сетке свой горб, а когда наставала ночь откидывал голову назад и засыпал крепким и глубоким сном.
Так он жил.
Но с недавнего времени он начал чего-то ждать.
Он смутно чувствовал, что должно что-то произойти, и от этого делался ещё более сосредоточен и суров.
Всё реже приходил укор и всё чаще в самой глубине души загоралось умиление, от которого глубоко и мягко блестели его глаза.
По ночам он видел во сне ослепительный свет, как от реки, которая в полдень отражает солнечный блеск, и рвался вперёд, мчась изо всех сил на сильных ногах, так что воздух свистел у него в ушах.
По утрам он просыпался в поту, был слаб, и у него приятно кружилась голова.
Наступала весна.
По утрам солнце, ликуя, заливало лучами палату, за окном радостно рвалась к солнцу трава, и на деревьях, которые протягивали ветви пред самым окном, распускались яркие, красивые листки.
В детях просыпались дремавшие силы, они чувствовали неясные желания и смутно волновались.
Лиза, не переставая, стучала ногой о постель и просилась у сестры Анны встать. Стёпка ходил за сестрой Анной по пятам и хныкал, чтобы его отпустили гулять.
Потом он надевал на голову белый колпак, делался похожим на поварёнка и убегал. Возвратившись назад, он рассказывал чудеса о том, что видел в саду.
Соня, когда солнце освещало её, блаженно вздыхала, закрывала глаза и лежала, сложив руки на груди. Маленький Данилка подпрыгивал в своей люльке и, как птица, чирикал непонятные слова. Даже бедный Шура переставал иногда плакать и улыбался из-под своего чепчика.
Горбатый Карл вдруг перестал есть.
Он брал равнодушно ложку, подносил её ко рту, потом клал на стол, устало склонял голову, сидел и чего-то ждал.
Румяный доктор озабоченно говорил о нём с сестрой Анной. Сестра Анна шепталась с Катей. Профессор один раз остановился около него и, слушая доктора, два раза серьёзно кивнул головой.
Дети смутно предчувствовали что-то, волновались и ждали.
Потом Карлу стали давать вино.
V
Был яркий весенний день.
В этот день Стёпка достал где-то зажигательное стекло и, расставив ноги, ловил у окна солнечный луч.
Все с нетерпением следили, как радужное пятно мелькало по стене, и Соня беззвучно шептала:
— Зайчик! Зайчик!
Стёпка навёл пятно на Лизу, на Данилку, на Шуру, скользнул им по всей стене, и потом, точно не нарочно, направил его на Карла.
Пятно остановилось у него на груди, прыгнуло на спину, лизнуло руку, повертелось около головы и окружило глаз.
Но Карл даже не шевельнулся. Он сидел, оттопырив губы, и глаз его так странно заблестел, что Стёпка испугался и остановился, разинув рот.
После обеда Катя принесла Лизе мешок, который ей прислала сестра; и когда Лиза, с нетерпением стуча ногой, разорвала нитку и заглянула внутрь, у неё вырвался восторженный крик:
— Жуки!
Это была целая куча шоколадных жуков, но так похожих, что казалось, вот-вот они сейчас расправят крылья, загудят и полетят.
Стёпка сейчас же приковылял к постели и жадно смотрел. Но Лиза бережно сложила жуков в мешок, нежно прижала его к груди и изо всех сил застучала ногой.
Потом она засунула мешок под подушку, обняла её и лежала, любовно шепча:
— Жучки! Жучки!..
Стёпка не мог спокойно сидеть. Он вертелся около Лизы, уговаривая её променять жуков на стекло, но Лиза отвечала ему равнодушно: «Ты глуп!»
Потом он не выдержал, подполз сзади к кровати и уже просунул руку под подушку. Но Лиза заметила это, одной рукой схватила мешок, другой же начала бить его по голове. Потом ловко повернулась и несколько раз плюнула ему в лицо.
Но через полчаса она одумалась. Она была великодушна.
Она подозвала Стёпку, помирилась с ним и раздала жуков. Каждый из детей получил по одному, и Стёпка, ковыляя, разносил их по койкам.
Одного он положил в люльку к Данилке, другого на чепчик Шуры, который улыбнулся сквозь слёзы, третьего Соне на грудь.
Карлу он не решился нести и только издали показал ему жука, как бы спрашивая его:
— Хочешь?
Но Карл неподвижно сидел. Он долго внимательно смотрел, потом потихоньку стал горбиться, нагнул голову вперёд, чуть-чуть приподнял руку и немного открыл рот, как будто собираясь что-то сказать.
Стёпка нерешительно оглядывался кругом. Но Лиза, которая внимательно следила за всем, громко велела ему:
— Стёпка! Дай Карлу жука!
Она подумала, что Карлу хочется жука, но он только стыдится это сказать, — и Стёпка стоял уже около него, протягивал ему жука и говорил:
— Хочешь?.. Только подержать.
Но Карл не ответил ничего. Он скорчился ещё больше, нагнул голову на бок, закрыл один глаз, а другим продолжал внимательно смотреть.
Солнце заливало всю комнату лучами, которые плясали буйную пляску, и у Карла сделалось вдруг такое странное лицо, что Лиза присела на своей постели и испуганно принялась глядеть.
— Стёпка, — проговорила она шёпотом, — послушай, Стёпка!.. — И захлопала вдруг в ладоши и закричала:
— Таракан! Ай, таракан, таракан!..
В открытое окно пробрался большой рыжий таракан и, осторожно шевеля усами, полз по стене. Стёпка сейчас же заковылял к нему.
— Таракан! Таракан! — пронзительно кричала Лиза, неистово стуча ногой. — Таракан! Таракан! — кричали Анна, Шура и Стёпка.
Описывая крутую дугу, таракан изо всех сил мчался по стене, высоко над головами, и все вскакивали, кричали и визжали так, что Данилка проснулся, потерял свой рожок и залился отчаянным плачем.
Но Лиза нашлась. Она быстро нагнулась с постели, схватила с полу туфлю и бросила её изо всех сил. Таракан в ужасе нёсся по белой стене, удирая от туфель, которые летели со всех сторон, шлёпались рядом с ним, отскакивали и падали на пол.
— Стёпка! Стёпка! — кричала Лиза. — Моя туфля! Моя туфля!
— И моя! — кричала Анна.
— И моя! — тихим голоском шептала Соня.
Стёпка стремглав ковылял по комнате, подбирая туфли, и они летели опять, быстро подхватывались и снова летели вслед за тараканом, который, пробежав по стенам кругом комнаты, очутился над тем местом, где сидел горбатый Карл, и вдруг исчез.
Его не могли найти. Но зоркий глаз Лизы открыл его.
— Там! Там! — закричала она и, размахнувшись изо всех сил, опять бросила туфлю.
И туфля перелетела через комнату и ударила Карла прямо в грудь. Он качнулся в своей сетке, и голова его, укоризненно кивнув, медленно опрокинулась назад.
Настала испуганная тишина.
Таракан убежал вверх к самому карнизу и взволнованно шевелил там усами, а Лиза сидела и глядела во все глаза.
— Карл!.. — вдруг плачущим голосом сказала она, но Карл не отвечал и, откинув голову назад, внимательно глядел вверх.
Стёпка тихонько подкрался к нему, снял с постели туфлю, поднялся на цыпочки и заглянул.
Он раскрыл рот, тоже хотел сказать: «Карл!» — но поперхнулся и испуганно вытаращил глаза: голова Карла медленно приподнялась, два раза чуть-чуть нагнулась и потом опустилась низко на грудь, точно делая всем глубокий поклон.
Он умер.
Дама в трауре
I
В это роковое для него августовское утро Пётр Иваныч проснулся в самом радужном настроении. Как раз вчера он получил из агентства комиссию за страхование склада купца Чижова, обещавшего ему, притом, передать в скором времени ещё другой склад. Это обеспечивало новую сверхсметную получку, а когда в кошельке у него шевелились деньги, Пётр Иваныч чувствовал себя особенно хорошо, и его природная предприимчивость вырастала до невероятных размеров.
Надев бинт на свои знаменитые во всех шантанах и увеселительных местах усы, Пётр Иваныч раскрыл окно, важно уселся подле него и, прихлёбывая чай, стал наблюдать уличное движение. Своей комнатой Пётр Иваныч был чрезвычайно доволен; и, действительно, комната эта имела такие достоинства, что другой, подобной ей, не нашлось бы, вероятно, во всём городе. Во-первых, она была в нижнем этаже и своими окнами выходила на широкий тротуар главной улицы, как раз на той стороне, где от шести и до десяти часов вечера происходило главное гулянье… Во-вторых, она имела совершенно особый независимый ход из больших, плохо освещённых сеней, укромность которых невольно прельщала гуляющих барышень завернуть туда, чтобы исправить случайные непорядки туалета. А это, в свою очередь, давало Петру Иванычу возможность распахнуть в самый критический момент дверь, осветить сени ярким светом и завязать с оторопевшими дамами разговор, который нередко приводил к самым неожиданным и приятным результатам. В-третьих, хозяевами Петра Иваныча была очень несчастная чета — немец, не говоривший по-русски, и русская — не понимающая по-немецки, которые сообща держали кондитерскую, находящуюся в этом же доме. Кондитерская шла плохо; сожители, не имея возможности объясниться, подозревали друг друга в обмане, и сильно ссорились каждый вечер.
Боясь обеспокоить жильца, они старались делать это как можно тише, шёпотом ругались и уличали друг друга, затем, разгорячившись, вцеплялись взаимно в волосы и молча таскали друг друга по комнате, тяжело дыша и иногда с грохотом опрокидывая стулья и столы. Помимо того, что это доставляло Петру Иванычу много приятных минут, проводимых им в свободное время с приложенным к замочной скважине ухом, — постоянное сознание своей вины заставляло хозяев смотреть сквозь пальцы на некоторые странные привычки жильца.
Напившись чаю и кончив свой туалет, — а одевался он всегда, как модная картинка, — Пётр Иваныч вышел на улицу. По утрам Пётр Иваныч бывал всегда в самом деловом настроении и голова его кипела планами деятельности в течение предстоящего дня. Так и теперь: он соображал, что ему надо зайти в агентство и понюхать, чем там пахнет, затем съездить и выругать приятеля, купца Гулевого, начавшего заигрывать с враждебным страховым обществом, затем поехать на другой конец города и подработать страхование мельницы грека Капетонаки, а главное, во что бы то ни стало, попасть в участок и поторопить там со свидетельством относительно одного интересующего Петра Иваныча пожара. Одним словом, дел была целая масса.
Ярко светило южное солнце, в ветвях акаций оглушительно чирикали бодрые воробьи; по мостовой ехали извозчики и катились автомобили; по тротуарам бежали комиссионеры, кричали газетчики, нищенствовали мальчишки; около кафе размахивали руками и горячились маклера, около магазинов останавливались разряженные женщины, под ногами озабоченно путались собаки — улица жила уже вовсю. Пётр Иваныч важно выступал, распустив по ветру великолепные усы, и, свернув за угол, неожиданно остановился около фотографической витрины, которую внимательно разглядывала хорошенькая девушка.
— Нравятся вам карточки? — благосклонно осведомился он, ласково заглянув ей под шляпу. — Я хозяин этой фотографии! Таких красивых, как вы, мы снимаем даром. Хотите?
Девушка испуганно метнулась в сторону. Пётр Иваныч, внезапно увлёкшись, кинулся за ней, крича: «Куда же вы? Постойте же, постойте!» И, убедительно говоря, пробежал рядом с ней шагов сто, как вдруг его остановил зычный окрик: «Стой!» — от которого Пётр Иваныч присел и, схватившись за бока, принялся радостно хохотать.
Перед ним стоял молодой господин, представляющий из себя огромный, выдающийся полушарием живот с добавлением толстой, с рачьими глазами головы, двух коротких, в виде двух тумб, ног и двух рук, из которых одна повелительно простиралась теперь к груди Петра Иваныча. Это был его приятель, архитектор Кокин, глубокий и убеждённый пьяница и обжора.
— Что за безобразие! — осипшим голосом загремел он. — Спозаранку предаваться разврату! Предсказываю тебе, что ты скоро погибнешь, Метлов! Следуй лучше за мной. Жалую тебе кружку пива.
— А ты куда? — с любопытством осведомился Пётр Иваныч.
— К Петро. С пяти часов утра страдал на постройке, выпил там в ближайшем кабаке графин водки и открыл великолепнейшую малороссийскую колбасу с капустой. Советую попробовать. Но адская жара! Должен залить её пивом.
— А потом?
— Потом спать.
— Куда?
— Разумеется, к тебе!
— Опять выгнали?
— Выгнали, — трагически произнёс толстяк. — Пришёл вчера домой в три часа утра и матушка опять сказала мне, что я ей больше не сын. Не спал целую ночь.
Пётр Иваныч снова хохотал, схватившись за бока, присев, зажмурив глаза и мотая от удовольствия головой. Все приятели Кокина знали его семейную драму: этот гуляка был кротким и нежным сыном своей свирепой матери, безжалостно изгонявшей его за пьянство из дому, что всегда потрясало несчастного до глубины души.
— Перестань гоготать, как идиот! — возмутился наконец толстяк. — Лучше вырази мне сочувствие и следуй за мной. Жалую тебе две кружки пива.
С душевным смятением Пётр Иваныч вспомнил, что ему необходимо быть в агентстве и затем ездить по разным делам, но толстый Кокин был неумолим.
— Всё к чёрту! — категорически заявлял он. — Ты пойдёшь со мной. Жалую тебе три кружки пива! — и через десять минут Пётр Иваныч почувствовал, что дела действительно можно отложить, и скрылся вместе с Кокиным за массивной дверью ресторана Петро, известного своим лучшим в городе пивом.
II
Через два часа, в течение которых Кокин выпил пятнадцать, а он всего семь кружек пива, Пётр Иваныч оставил своего приятеля в недрах ресторана, вышел на улицу и недовольно произнёс: «Погибель!..» Все дела были упущены, всюду он опоздал, можно было попытаться съездить разве только в участок.
«Погибель!.. И всегда вот так помешают человеку»… — расстроенно думал он, садясь на извозчика. Но солнце светило так ярко, ветерок так ласково шевелил его пушистые усы, улицы кишели такой весёлой оживлённой толпой, что он быстро успокоился. Для развлечения Пётр Иваныч всю дорогу до участка с самым изысканным видом снимал шляпу перед всеми встречными красивыми дамами.
Дежурным надзирателем оказался его приятель Голоногов, человек уже пожилой, рыхлый, с бабьим лицом, обойдённый по службе и сильно недовольный своей судьбой.
— А-а-а!.. — радостно запел он, тем не менее, грузно поднимаясь с кожаной кушетки, на которой лежал. — Кого я вижу! Сколько лет! Дружище! Здравствуй!
Пётр Иваныч, имевший бесчисленных друзей и поклонников во всех слоях общества, знал его очень давно, даже как-то случайно крестил у него ребёнка, о чем, разумеется, позабыл на следующий же день. Но Голоногов помнил и ценил это.
— Вот!.. — воскликнул он, усаживаясь на стул и застёгивая китель на своём животе. — Такое, понимаешь, было сейчас настроение, что, кажется, каждому человеку так бы и откусил ногу. По службе неприятности, кости болят, ночь не спал, сюда всякая шваль лезет, а увидел тебя и легче стало. Точно солнце проглянуло. Такой уж ты лёгкий человек! Что на крестницу взглянуть не заходить? Большая уж стала! Или некогда, с дамочками всё крутишься? Хе-хе-хе…
— Помнишь, — совсем оживившись, продолжал Голоногов, — эту… как её? Певицу-то Варшавскую? Как ты её тогда старыми акциями, что у меня валялись, поддел? Вот умора-то была! Сколько ты тогда с ней, три дня, что ли, путался?
— Три, — скромно и счастливо подтвердил Пётр Иваныч.
— А потом-то, что же было? Не влетело тебе?
— Нет, — также скромно ответил Пётр Иваныч. — Да я не ей одной этими акциями заплатил. Я их ещё четырём всунул, из Альказара и из Гранд-Отеля.
— Так что же было-то?
— Ничего. Только они целую неделю потом по всем банкам рыскали, всё не верили, что акции ни копейки не стоят. Одна так даже скандалить начала.
— Ха-ха-ха! — весь расцветая, заливался Голоногов и со вздохом продолжал: — Молодец, брат, молодец!.. Поневоле позавидуешь: молодой, красивый, да ещё такой ловкий. А нам-то, старикам, только и осталось, что выпить, да закусить! Э-хе-хе!.. Рад, очень рад видеть. А зачем тебя Бог к нам привёл? Уж, конечно, по делу. Так тебя ведь и калачом сюда не заманишь.
— По делу, — ответил Пётр Иваныч. — Вот что, Стёпа: есть тут у вас дело о пожаре в домашнем имуществе Берты Кауфман. Так вот…
Он не докончил, потому что в комнату быстро вошла высокая одетая в траур, молодая дама и, гордо закинув назад голову, гордо произнесла:
— Здесь дежурный надзиратель?
— Он самый, — ответил Голоногов. — Чем могу служить? — И, оглядев быстро даму с ног до головы, одобрительно подмигнул Петру Иванычу.
— Я — полковница Филимонова, — ещё больше закинув голову, продолжала дама.
Пётр Иваныч поднялся и с очень почтительным видом поместился несколько сзади неё.
— Очень приятно, — отозвался Голоногов.
— У меня украли часы, — резко произнесла дама.
Голоногов соболезнующе поднял брови.
— Что же мне теперь делать? — заметила дама, с некоторой угрозой оглядываясь кругом и мельком скользнув глазами по почтительно согнувшейся фигуре Петра Иваныча.
— Где же у вас украли часы? — осведомился Голоногов, придвигая себе лист бумаги и снова хитро подмигивая Петру Иванычу.
— На площади. Я приехала с дачи, хотела посмотреть на часы и их уже не оказалось.
— И дорогие часы, сударыня? — спрашивал дальше Голоногов, выбирая подходящее перо.
— Не особенно. Маленькие золотые часики с брелоком в виде погона. Но они мне дороги, как память моего покойного мужа. Я очень хотела бы их разыскать. Что нужно для этого сделать?
— Составить протокол, — скромно ответил Голоногов, обмакивая перо в чернильницу.
— И это поможет?
— Иногда помогает, сударыня. Для формы нужен протокол.
— Очень мне нужна ваша форма! — гневно воскликнула дама. — Я хочу получить свои часы. А что же вы будете делать с протоколом?
— Мы его перешлём в сыскное.
— Ну?
— А там будут искать вора.
— И найдут?
— Этого не могу вам сказать. Ваша фамилия, сударыня?
— А что чаще, находят, или не находят? — всё более приходя в гнев, спрашивала дама.
— Как вам сказать, сударыня, — невозмутимо отвечал Голоногов, начиная что-то писать. — Случается, что и находят!
— Значит, чаще не находят?
— Ваше имя, отчество и фамилия, сударыня? — официально и сухо произнёс Голоногов.
— Жена полковника, Мария Николаевна Филимонова, — покраснев от гнева, воскликнула дама и, кивнув головой на Петра Иваныча, неожиданно спросила:
— А что нужно, здесь этому господину?
Пётр Иваныч, до сих пор скромно державшийся в стороне и с большим интересом слушавший разговор, смиренно подвинулся вперёд и вкрадчиво произнёс:
— А у меня, сударыня, тоже украли часы.
— У вас? — воскликнула дама, смерив его изумлённым взглядом.
— Да, — кротко подтвердил Пётр Иваныч.
— Но где же?
— А тоже на площади, когда я слезал с трамвая.
— Вы тоже приехали с дачи?
— Тоже с дачи, сударыня.
— И хорошие часы? — продолжала быстро спрашивать дама.
— Очень хорошие, сударыня. Мои часы стоили тысячу двести рублей.
— Что? — гневно воскликнула дама. — Тысячу двести рублей? Таких и часов не бывает. Самые дорогие часы стоят рублей пятьсот.
— Нет! — так же коротко ответил Пётр Иваныч. — Бывают, сударыня! У меня был хронометр с бриллиантами. Очень редкие часы.
— А-а-а!.. — протянула дама, взглянув на него с уважением. — А что же вы думаете делать?
— Ничего! — смиренно ответил Пётр Иваныч. — Надо терпеть. У меня и жену, сударыня, украли, а я и то терплю.
— Как жену украли? — изумлённо воскликнула дама.
— Так. Приехали ночью, схватили и украли.
— Но кто же? — воскликнула дама. — И как это можно: украсть жену? Я никогда ничего подобного не слыхала. Но кто же украл?
— А я знаю, кто? Приехали и украли. Вероятно, любовник.
— Я ничего не понимаю, — заявила дама. — Правду говорит этот господин? — быстро обратилась она к Голоногову.
— Совершеннейшую правду, сударыня! — несколько неверным голосом ответил тот и немедленно получил сильнейший припадок кашля, заставивший его нагнуться и закрыть лицо платком. Дама в недоумении переводила глаза с одного на другого.
— Ничего не понимаю! — решительно подтвердила она и снова обратилась к Петру Иванычу:
— А что же вы думаете делать с часами?
— Буду их сам искать, сударыня, — с видом глубокого сожаления ответил Пётр Иваныч.
— Как сами искать?
— А так. Поеду на толчок, буду лазить по воровским трактирам и буду спрашивать воров, не знают ли они что-нибудь про мои часы.
— А вы думаете, что они вам что-нибудь скажут? — снисходительно усмехнулась дама.
— А как же? Им всё равно часы продать нужно. Так лучше уж я у них сам куплю. А потом, они украли у меня по недоразумению.
— Что значит, по недоразумению?
— А так — они не знали, что это я. У меня бы они никогда не украли.
— А кто же вы? — с изумлением осведомилась дама.
— А-а-а… — таинственно протянул Пётр Иваныч. — Я слишком известная личность!..
Дама в недоумении переводила глаза с Петра Иваныча на Голоногова и обратно, не понимая, смеются над ней или нет. Но Голоногов, справившись с припадком кашля, сидел важно, как истукан, и на лице его нельзя было прочесть ничего.
— А как же ваша фамилия? — быстро спросила дама.
— Этого я не могу сказать, — с видом сожаления ответил Пётр Иваныч и, обратившись к Голоногову, сказал:
— Так я пойду, г. надзиратель. До свиданья! Буду искать часы на толкучке. — И, пожав его руку, неторопливо направился к дверям.
— Послушайте! — взволнованно крикнула дама. — И вы серьёзно думаете найти ваши часы?
— Обязательно, — ответил Пётр Иваныч.
— Это правда? — видимо колеблясь, обратилась дама к Голоногову.
С непроницаемым видом тот пожал плечами. Пётр Иваныч задержался в дверях.
— Послушайте! — воскликнула дама, внезапно приняв решение. — А может быть, вы найдёте и мои часы…
III
Через двадцать минут Пётр Иваныч вместе со своей неожиданной спутницей подъезжал на извозчике к толкучему рынку. Во время недолгого переезда, он успел узнать, что даме двадцать пять лет, что она вдова, жила до сих пор в маленьком городке, а теперь после смерти мужа приехала сюда к своей замужней сестре. Сохраняя смиренный вид, Пётр Иваныч скрывал под усами очень довольную и лукавую улыбку; он предвкушал уже возможность интересного приключения и в дальнейшем полагался на свою ловкость и счастье.
Толкучка кишела и шевелилась, как громадный клубок серых червей. Около маленьких балаганов, полных разнообразнейшей рвани, надрывая глотки, кричали хозяева, предлагая сапоги, брюки, пиджаки, пальто, шапки, посуду, книги, старые паровики и котлы, велосипеды, жареную печёнку, рубцы, пышки и вафли. Петра Иваныча хватали за рукава и тащили направо и налево; на каждом шагу одетые в лохмотья, но очень амбициозные господа давали друг другу оплеухи и приглашали Петра Иваныча в свидетели; через каждые десять шагов не менее оборванные господа, кидаясь к нему под ноги, кричали: «Кошелёк! Господин, ваше счастье! Что делать? Надо пополам!» Несколько раз их затирала орущая и бесноватая толпа, причём любопытные руки немедленно пытались обшарить их карманы, но Пётр Иваныч, ни в каких обстоятельствах не теряющий головы, подняв правой рукой палку и левой прижимая к себе даму, непреклонно шёл вперёд, расчищая дорогу и поворачивая направо и налево. Его спутница, оглушённая криком, рёвом и суетой, давно уже потеряла способность что-нибудь понимать и беспомощно висела на его руке, а он всё ходил, кружа по лабиринту балаганов и лавок и зорко осматриваясь кругом, пока неожиданно перед ним не вынырнул грязный, но очень бывалый субъект с кольцом в руке.
— Господин! Бриллиантовое кольцо! По случаю находки дёшево продаю!
— А-а! — с удовольствием произнёс Пётр Иваныч и, отступив в сторону, галантно вытащил из жилетного кармана папиросу. — Товарищ! Папироску? Угодно? — «Покорнейше благодарю-с!» — после чего между ними чрезвычайно быстро произошёл следующий разговор.
«Господин! Купите кольцо. Ей-Богу бриллиант». — «Кольцо? Мне не надо кольца. Товарищ, мы с барыней потеряли часы». — «Какие-с?» — «Мужские золотые с бриллиантами и дамские золотые, брелок в виде погона». — «Когда-с?» — «Сегодня, тому назад час-два». — «Где-с?» — «На вокзальной площади». — «Так-с».
— Товарищ! Вот вам рубль. Получите ещё, если дадите хороший совет.
— Я вам, господин, скажу так: если потеряли сегодня, то самое время, то есть, как раз! И посоветую так: идите туда, на угол Замочной и Прорезной, в трактир Тарханкут. Там бывает, что отыскивают часы. Если желаете, я провожу-с.
— Благодарю вас, товарищ. Идём.
Из дверей грязнейшего трактира «Тарханкут» вырвался навстречу им удушливый смрад жареного сала, помойной ямы и потной толпы. За шаткими столиками, с загаженными квасными салфетками, ели, пили, размахивали руками, кричали, ругались и плевали. В воздухе плавал сизый дым. В глубине, за буфетом, установленным чайниками, бутылками и тарелками, пригнув к левому плечу налитую кровью голову с глазами удавленника, распоряжался хозяин. Увидев Петра Иваныча, он немедленно простёр к нему руки и, неимоверно вытаращив глаза, патетически прохрипел:
— Кого я вижу! Дорогой, несравненный друг, сват и кум, краса нашего города, кумир стыдливых дев, Пётр Иваныч! Сон ли это, или наяву?
— Гриша!.. — восторженно воскликнул Пётр Иваныч и, хлопнув себя по колену, залился радостным хохотом. Ему везло. Если раньше он с некоторой тревогой в самой глубине души думал о том, что ему придётся делать через четверть часа, то теперь он успокоился совсем. Кривошеий трактирщик Григорий Суханов, природный шут и большая каналья, был его давнишним другом, и встреча с ним сразу давала Петру Иванычу твёрдую почву под ногами.
— Давно ли ты здесь?
— Уже два года, мой дорогой! — торжественно хрипел его приятель. — Командую здесь всеми жуликами, карманщиками и ворами, кормлю, пою и укрываю от непогоды. Считают меня за своего покровителя и отца. А ты сюда зачем, мой дорогой? И притом, как всегда, не один, а с прелестной и юной незнакомкой?
— Начальник всех воров. Всё для нас сделает, — шепнул Пётр Иваныч на ухо своей спутнице, и после короткого разговора шёпотом, во время которого кривошейка с восторгом выкатывал глаза, надувал щеки и хрипел. Дело было сделано.
Через пять минут Пётр Иваныч с чрезвычайно важным видом сидел за столиком в отдельной комнате трактира, и нескончаемой вереницей, один за другим, к нему подходили самые разнообразные люди. Они были высокие и низкие, толстые и тонкие, старые и молодые, но все были так засалены, точно ими вытирали грязные трактирные столы, и все имели такие тускло-серые лица, точно до сих пор всю жизнь просидели в какой-то сырой щели. Пётр Иваныч чувствовал себя превосходно. Он величаво приветствовал каждого словами: «Здравствуйте, товарищ!» — усаживал на стул, осведомлялся о положении дел, указывал, что ему необходимо найти потерянные часы, затем, заплетя целую кучу неожиданного вздора, вручал по двугривенному и отпускал.
Пётр Иваныч прекрасно видел, что нужное впечатление давно уже произведено: его спутница была не подавлена, а прямо оглушена. Она сидела, бессильно откинув голову, бледная и с потухшими глазами, но он был жесток. И прошло не менее часа, прежде чем, попрощавшись с кривошеим хозяином, они сели на извозчика и отправились назад.
Подпрыгивая на дрожках по тряской мостовой, Пётр Иваныч уже совершенно свободно обнимал рукой талию измученной дамы и, улыбаясь под усами самой лукавой и довольной улыбкой, время от времени авторитетно произносил:
— Будут часы! Я вам говорю: будут часы!
— Я страшно измучена… — жалобно повторяла дама. И Пётр Иваныч, ещё крепче охватывая её стан, успокоительно говорил:
— Сейчас отдохнёте. А я не устал? Главное, что часы будут. Извозчик, стой!
Они были у подъезда ресторана, и Пётр Иваныч, ловко выскочив, помог даме выйти.
— Что это такое? — испуганно спросила дама, как бы очнувшись от забытья. — Зачем же туда? Неужели ещё.
— Завтракать, — веско ответил Пётр Иваныч. — Что ж, вы хотите, чтобы я остался голодным? Я всегда в это время завтракаю.
— Но я не хочу есть! — возразила дама.
— Так вы подождёте, пока я поем. — И дама, уже привыкшая за эти два часа беспрекословно повиноваться, покорно последовала за Петром Иванычем.
— Но зачем же здесь? Почему не в общем зале? — запротестовала было она, когда, пройдя по тёмному коридору, они очутились в отдельном кабинете, но Пётр Иваныч нагнул голову, поднял брови и таинственно произнёс:
— А-а… Так надо. Мне нельзя быть в общем зале. Меня не должны видеть.
— Ничего не понимаю! — горестно произнесла дама и в бессилии опустилась на кресло. У неё был совершенно измученный вид.
— И не надо понимать. В своё время всё поймёте, — успокоил её Пётр Иваныч и, позвонив, прибавил: — А что вы будете есть?
— Я ничего не хочу. Я сыта.
— Нельзя. Надо что-нибудь съесть. Закажите себе.
— Ну, так закажите мне чашку кофе и какое-нибудь пирожное. Только с условием, что я буду платить сама.
— А то как же? Не я же буду платить! — ответил Пётр Иваныч таким тоном, что дама, улыбнувшись, не могла не сказать:
— Однако, вы очень любезный кавалер!..
Пётр Иваныч с видом сожаления пожал плечами.
— Сергей! — сказал он вошедшему лакею. Пётр Иваныч знал по именам и был в наилучших отношениях со всеми лакеями важнейших ресторанов города. — Сергей, принеси даме чашку кофе и пирожных, а мне дашь водки рюмку, из которой я всегда пью, закуску, какую я всегда ем, и затем антрекот.
Когда был принесён кофе, графинчик водки, огромная, так называемая двухспальная рюмка и странная закуска, похожая на жидкую ваксу, для дамы начался ряд неожиданностей. Пётр Иваныч выпил одну за другой две рюмки, закусил и минут на десять погрузился в такое глубокое раздумье, что совершенно забыл о присутствии своей дамы. Он не ответил, по крайней мере, ни на один из её вопросов. После этого, встряхнувшись, произнёс, с изумлением поглядев кругом: «А? Что?» — и призвав снова лакея, выпил вместе с ним по рюмке за какое-то общее дело. Затем, отпустив его, в молчании и одиночестве осушил ещё одну рюмку и начал сосредоточенно есть принесённый ему антрекот. Дама не сводила с него изумлённых глаз.
— Вы кончили? — спросила она, когда Пётр Иваныч, отодвинув тарелку, принялся медленно и систематично вытирать салфеткой свои усы. — Мы можем идти?
— Нет, — ответил спокойно Пётр Иваныч. — Теперь я буду пить пиво.
— Сергей! — сказал он вошедшему лакею. Дай мне бутылку пива, какое я всегда пью. — И когда требуемое было подано, налил себе стакан, закурил папиросу и, откинувшись на спинку кресла, снова погрузился в глубочайшее раздумье. Дама начала выказывать признаки нетерпения и досады.
— Вы кончили? — сухо спросила она, поднимаясь, когда Пётр Иваныч молча и неторопливо сделал наконец последний глоток.
— Кончил, — ответил Пётр Иваныч.
— Мы можем теперь идти?
— Нет, — спокойно ответил Пётр Иваныч. — Теперь я буду спать.
— Что? — изумилась дама.
— Я буду спать, — спокойно повторил Пётр Иваныч.
— Где?
— Здесь, — невозмутимо ответил Пётр Иваныч.
— Я ничего не понимаю! — придя в полное отчаяние, воскликнула дама и опустилась в кресло.
Пётр Иваныч поднялся, очень медленно и спокойно снял с себя пиджак, встряхнул его и аккуратно повесил на спинку стула. Дама следила за ним полными ужаса глазами, очевидно не находя нужных слов. Но когда он так же медленно и невозмутимо принялся расстёгивать жилет, она вскочила, в негодовании закрича: «Послушайте! Но это, наконец, чёрт знает что! Я сейчас же ухожу!» — и кинулась к дверям.
— Как вам угодно! — по-прежнему невозмутимо ответил Пётр Иваныч, расстегнул одну за другой все пуговицы жилета, снял его, бережно встряхнул и положил на стул вместе с пиджаком.
— Это — верх безобразия! — говорила дама, держась за ручку двери. — Никогда ещё никто не поступал со мной так бесцеремонно.
— Я никогда не отступаю от своих привычек, — авторитетно произнёс Пётр Иваныч, отодвинул немного стол, положил себе под голову бархатную подушку и улёгся на диван, повернув к комнате тыльную сторону своего тела.
Дама не ушла. Она несколько раз приоткрывала дверь, выглядывала в коридор и закрывала дверь снова. Она не могла решиться уйти. Во-первых, она боялась и ей было стыдно уйти одной. Во-вторых, ей чрезвычайно хотелось плакать, а в-третьих… в-третьих, её всё более интересовал этот необыкновенный, таинственный, странный человек с красивыми усами, с которым она провела уже три часа, и который казался ей всё более загадочным.
Через некоторое время она сильно стукнула зонтиком по полу, вернулась к столу, поглядела на стриженный затылок и спину Петра Иваныча, ещё раз стукнула зонтиком и крикнула:
— Послушайте, Пётр Иваныч! Встаньте! Иначе я сейчас ухожу. — Ответа не было: по-видимому, Пётр Иваныч уже погрузился в глубокий сон, и даме не оставалось ничего другого, как сесть. Сначала она с гневом швырнула свой зонтик, потом вынула платок, хотела вытереть им свои глаза, но скомкала и тоже швырнула его на стол, потом крикнула ещё раз: «Послушайте!», потом покорилась и стала ждать.
Человеческая душа чрезвычайно быстро изменяется в своём объёме и её можно сравнить с газом, который одинаково хорошо помещается в громадном зале и в крошечном пузырьке. За дверью, по коридору, раздавались торопливые шаги лакеев; за окном шлёпали копыта лошадей, гудели автомобили, кричали разносчики, из близкого порта доносились свистки пароходов; Пётр Иваныч, быстро вырастая в воображении дамы, неподвижно лежал в прежней позе; время шло, и постепенно, несмотря на всю самоуверенность и энергию, дама всё более чувствовала себя маленькой, маленькой девочкой, — ребёнком, заблудившимся в дремучем лесу. И она страшно обрадовалась, когда Пётр Иваныч, наконец, пошевелился, потянулся, сел на диван, расправляя свои усы и, ласково засмеявшись, сказал:
— А вы не ушли? Какая вы славная!..
Её нисколько не изумило также, когда он встал, маленькими шажками подошёл к ней и отечески поцеловал её в лоб. Затем, ласково улыбаясь, с самым естественным видом, взял её за руки и, нежно обняв за талию, посадил рядом с собой на диван. Один миг дама необыкновенно ясно понимала, что она должна дать ему пощёчину, но этот порыв бессильно замер где-то в глубине и вместо этого, само собой, вышло так, что она вздохнула и, откинув голову, подставила Петру Иванычу губки, которые и затерялись бесследно в его усах.
IV
Недели через три после этого, Пётр Иваныч в самом удручённом состоянии духа возвращался к себе домой. На окраинах улиц, по которым он проходил, кипела весёлая и оживлённая жизнь: евреи-сапожники постукивали молоточками, сидя на тротуаре у окон своих подвалов; ребятишки с восторгом возили на досках ошалевших от ужаса худых котят; собаки обнюхивали пыльные сливы и виноград у зазевавшихся фруктовщиков; молодые работницы прогуливались рядами, толкуя о любви.
Во всяком другом случае всё это не преминуло бы привлечь внимание Петра Иваныча, но теперь он не замечал ничего. Он быстро шёл, стуча по тротуару своей тросточкой, время от времени с сердцем повторял своё любимое слово: «Погибель!..» — и несколько раз даже останавливался и разводил руками, как бы спрашивая кого-то, что же ему делать?
Пётр Иваныч только что приехал с дачи, где жила его дама, давно уже превратившаяся для него в самую определённую личность, носящую имя Марья Николаевна и окружённую целым рядом таких же определённых лиц. Он провёл на даче весь вчерашний день, переночевал там, всё время был окружён самыми нежными заботами и, как это ни странно, но именно это-то обстоятельство заставляло его с таким недоумением и смущением разводить руками.
Добравшись до своей комнатки, Пётр Иваныч вложил в американский замок ключ и открыл дверь. Уже по одному густому храпу, потрясающему, подобно звукам органа, стены, он мог догадаться о присутствии своего приятеля, архитектора Кокина, который и оказался действительно лежащим на диване в своей любимой позе: с раскинутыми руками и ногами, с мощно вздымающимся вверх животом и с раскрытым ртом, испускающим волны звуков.
Толстяк обладал способностью просыпаться с такою же лёгкостью, с какой засыпал. Разбуженный слабым шумом, он на всём скаку прервал храп, раскрыл глаза и, немедленно войдя в интересы реальной жизни, произнёс:
— Знаешь что, Метлов! Я открыл вчера в одном кабаке великолепное тёмное пиво в кувшинах, пойдём его пить.
Пётр Иваныч снял шляпу, бросил её на окно, швырнул в угол тросточку, уселся за стол и, помолчав, с трагическим видом произнёс:
— Погибель бы тебе на твою голову с твоим пивом, и чёрным, и белым! Вот что!
Кокин спустил на пол коротенькие ножки, уселся на диване и продолжал:
— Сегодня матушка опять выгнала меня. Вчера вернулся домой пьяный, как дым. И действительно, великолепное, брат, открыл я пиво! Недалеко отсюда. Жалую тебе сразу две кружки. А ты что? Разве какой-нибудь муж поймал тебя, наконец, с поличным и намял бока?
— Да! Если бы бока!.. Хуже, чем бока!.. И дёрнула же тогда нелёгкая меня, идиота, болвана, дурака…
— Метлов, одевай шляпу и следуй за мной! Жалую тебе три кружки пива, если ты расскажешь мне своё горе.
— Не правда ли, чудесное пиво? — с живейшим интересом осведомился Кокин, когда они, водворившись в пивной, опорожнили по первой кружке. — Я вчера выпил двадцать одну посуду! Зато, действительно, был пьян. Но ты в самом деле, мрачен, Метлов. В чем дело? Говори.
— Погибель!.. — с глубочайшим убеждением произнёс Пётр Иваныч. — Будешь тут мрачен, когда вдруг такая история, что хоть в петлю полезай. И как я мог так попасться? Не понимаю.
— Не философствуй, переходи прямо к делу. Проигрался?
Пётр Иваныч издал презрительный звук:
— Проигрался! Стал бы я и говорить об этом, если бы я деньги проиграл! Себя я проиграл, вот что!
— Себя? Это серьёзно. Кому?
— Бабе! Кому же другому? Чёрт бы меня, дурака, побрал!
— Это интересно! Это очень интересно! Говори.
— Чего там говори! В такую, брат, кашу залез, что хоть караул кричи! Рассказывал я тебе про эту полковницу, которую я возил на толкучку искать часы? Как я заморочил ей в кабинете голову? Говорил, ведь?
— Говорил. Чистая работа! Одобряю.
— То-то, чистая. А теперь, брат, она меня так заморочила, что ещё чище вышло.
— Метлов, ты возбуждаешь моё любопытство! Жалую тебе сразу пять кружек пива. Но ведь ты же говорил, что она осталась тогда у тебя ночевать?
— Да, чтоб ей погибнуть и с часами и трауром своим! Пусть бы она у меня совсем не оставалась! И не видеть бы мне её никогда! Знаешь ли ты, что из этого вышло?
— Ну?
Пётр Иваныч с мрачным озлоблением тряхнул головой.
— Прежде всего слёзы. Я, говорит, теперь погибла. Изменила памяти своего мужа. У нас этого ещё не бывало в роду! Понимаешь? Очень мне интересно, что у них не бывало в роду! Я её утешаю, туда-сюда, успокоилась, слава Богу. Вы, говорит, должны это ценить. Утром проводил на вокзал, на дачу. А женщина красивая! Прелесть! Такая, брат, женщина!.. Ну, хорошо, сижу вечером у себя, смотрю в окно, собираюсь куда-то уходить; семь часов. Стук-стук в дверь. Отпираю. Она! Опять осталась у меня, опять плачет. Я погибла, я изменяю памяти моего мужа. Ах, Боже ты мой!..
— Постой! — перебил его Кокин. — А кто же был её муж?
— Да разве я тебе не говорил? Полковник, в Польше где-то. Год, как помер. Она после него пенсию получает — пятьдесят рублей в месяц. Приехала сюда, живёт у сестры, сестра замужем за чиновником. Бабушка богатая есть — старуха, тоже где-то живёт, каждую неделю ей по почте пирожки и варенье посылает.
— Ну, хорошо, пей пиво и продолжай. Итак, приезжает во второй раз и опять плачет.
— Ну, и в третий раз приезжает и тоже плачет. И в четвёртый раз — и всё время: я отдала вам свою чистоту, изменила памяти моего мужа, вы должны это ценить. Ах ты, Боже мой! Да я разве не ценю? Конечно, ценю. И вдруг бац: я всё рассказала Риме! А Рима — это её сестра. И Рима хочет с вами познакомиться. Я ей: послушай, Маруся, да что же ты делаешь? Зачем вмешивать сестру, брата, пятого, десятого. Это наше личное дело. Я, говорит, не могу лгать. Я не ночую третью ночь дома. Я сказала сестре, что люблю тебя.
— Хорошо! Это даже нравится мне!
— Погибель бы на тебя и на твоё толстое пузо! А знаешь, что из этого вышло? Ну-ка, угадай! Ни за что не угадаешь! Вышло вот что. Просыпаюсь я неделю тому назад у себя в постели; Марья Николаевна тут же, ещё спит. Закурил папироску, лежу и вдруг: тах-тах-тах! Так и тарабанят в дверь. Вот, думаю, принесла кого-то нелёгкая! Может быть из агентства? Пожар где-нибудь? Бегу к двери: «Кто там?» Отвечают: «Отворите!» Спрашиваю: «Да вы кто?» Отвечают: «Вы всё равно не знаете, но отворите». Голос женский. Просыпается Марья Николаевна; кричит: «Ах, да это Рима!» Скок в одной рубашке с постели и отворяет. Я кричу: «Да постой, сумасшедшая, я совсем голый!» А сестра уже в комнате, еле за ширму успел спрятаться: «Здравствуйте, Пётр Иваныч! Не стесняйтесь. Мы люди свои. Угостите чаем». Нравится тебе это?
— Очень. Что же дальше?
— Дальше, что? И дальше есть. Погоди! Сидим у меня: пьём чай. В час опять стук в дверь. Ах! — кричат обе — это Поликарп! Так и есть — Поликарп. Римин муж. Ростом сажень, бакенбарды по аршину, на шее орден, а голос, как пищик, и сам конфузится и шаркает: так, мол, и так, нарочно ушёл раньше со службы, чтобы познакомиться с вами. Да ты можешь представить положенье-то моё? А? Не откажите пообедать вместе. Идём в ресторан. Обедаем. Поликарп этот рядом с Римой, я с Марьей Николаевной. Вино за наше здоровье пьют. После обеда: пожалуйте к нам на дачу! Еду! Дурак, дураком, а еду! На даче дети, ещё бакенбарды, старушки благочестивые, офицер с шашкой — пьём чай, идём к морю, играем в карты: я совсем обалдел. Уезжаю вечером: пожалуйста, говорят, послезавтра мы вас ждём к пяти часам: у нас семейный обед. Непременно! А Марья Николаевна радуется, целует при всех, говорит: «ты», «Петя!» Ну, что, нравится тебе это?
— Очень. Пей пиво.
— Слушай дальше. Отвертеться невозможно. Приезжаю через день, народу видимо-невидимо! Поликарп, Рима, Маруся, брат офицер, две тётки и дядя, жандармский генерал отставной, с гулей такой на щеке. Встречают, как родного! Обедаем — я рядом с Марусей — и дядя, жандармский генерал, говорит мне: «Вы, Пётр Иваныч, смотрите, не обижайте нашего Волчонка (Маруську так зовут), мы её все очень любим!» Тётки в один голос: «Вы, Пётр Иваныч, берегите нашего Волчонка, он у нас славный!» Поликарп пищит: «Вы, Пётр Иваныч, получили сокровище, нашего Волчонка, мы все за него горой!» У меня волосы дыбом! И все хором: «Этого у нас в роду нету, чтобы не по закону жить, но Волчонку мы прощаем. Вы человек небогатый, а она, если выйдет замуж, то потеряет пенсию». И опять все вместе: «Только берегите нашего Волчонка! Мы его любим». И в заключение шампанское и ура! Так ты понимаешь, — я еле до дому тогда дополз. Иду, и волосы на себе рву. Хорошо?
Кокин опорожнил залпом кружку, стукнул её дном о стол и с выражением глубокого сожаления произнёс:
— Ты попался, Метлов.
— Приезжаю домой. Целую ночь не спал! Что, думаю, тут делать? Ведь дядя этот жандармский генерал! А брат офицер! Да ведь они меня со свету сживут! Что тут делать? Думал, думал, сел за стол и написал Поликарпу письмо. Так мол и так, ваша родственница попалась в руки мерзавца, негодяя, сутенёра, альфонса, который обирает женщин и продаёт их в публичные дома. Спасайте неопытную женщину, пока не поздно. Подписал: неизвестный доброжелатель. Не пожалел себя. Послал. Думаю, может быть, подействует. И что же ты скажешь! Через день воскресенье. Сижу у себя, часов в двенадцать, пришла ко мне Нина. Знаешь ведь Нину?
— Нет.
— Маленькая такая, черненькая, глазищи, как два блюдца. Конечно, знаешь! У неё ещё жених был, студент. Спился и год тому назад застрелился. Так она каждый месяц к нему на могилу ходит, плачет и закапывает там бутылку пива. Она закопает, а сторож откопает и выпьет. Я с ней там и познакомился. Ну, конечно, говорил!
— Ну, ладно, чёрт с тобой! Говорил, так говорил.
— Так вот, пришла эта Нина, зовёт меня: поедем на кладбище, и совсем уже собрались, как вдруг стучат в дверь. Отворяю. Марья Николаевна и в руках у неё моё письмо! Влетает, говорит: «Какие нам о вас гнусности пишут!» Увидела Нину, выпрямилась, — а ведь она гренадер! «Что вам здесь угодно?» И потом, как гаркнет: «Вон!» Так бедная Нинка из комнаты, как пуля! Даже волос поправить не успела. И шляпа, и сак за ней в дверь вдогонку! А у Маруськи глаза, как огонь, лицо так и пышет, наступает на меня и кричит: «Знаю я теперь, кто такие гнусные письма пишет! Это ваши любовницы, которые не хотят вас уступить!» Орёт, понимаешь, так, что нет никакой возможности. Только что успокоилась немного, уговорил я её — новое дело! День праздничный, за окном гулянье, девчонок знакомых много, — летит вдруг в форточку записка. Стукнула меня в темя, свалилась на пол. Я было её ногой, да нет, увидала уже. Кинулась, вырвала у меня, прочитала. А там стоит: «Зайдём в три часа. Лида и Надя». Боже ты мой! Ты понимаешь: зонтик об меня пополам! Тросточка моя пополам! Книга мне в голову, да пощёчины, да костями! Так я, братец ты мой, шляпу в руки, да на улицу! Прошёлся до угла, повернул, иду и думаю: «Ну-ну!..»
— Метлов! — авторитетно произнёс Кокин. — Я был о тебе лучшего мнения. Ты — жалкая тряпка. С женщинами должно быть полное равноправие. Она тебе пощёчину — дай ей две. Она тебя палкой, дай ей между глаз. Я презираю тебя!
— Ах! Не могу я бить женщину, — с отвращением произнёс Пётр Иваныч. — Лучше уж я убегу. Никогда у меня на женщину рука не поднимается.
— Очень жаль! — безапелляционно решил толстяк. — В таком случае, продолжай.
— Ну, вот. Иду так, прохожу мимо своего окна — окно настежь, в окне стоит Марья Николаевна и командует: Пётр Иваныч, извольте идти домой! Сейчас, говорю. Дошёл ещё до следующего угла, повернул, иду себе тихонечко в комнату. Марья Николаевна кричит: я — полковница! Я изменила ради вас памяти моего мужа. Я заставлю вас ценить это! Я ей смирненько так говорю: да я разве не ценю? Но нельзя же так! Вы губите и меня, и себя. Чем, говорит. А как же, говорю, пришла ко мне женщина предупредить меня, что за мной следят, а вы её вон! И записка о том же была. А вы сейчас же бить! Разве так можно? Кто же, говорит, за вами следит? Полиция, говорю. Зачем? Как зачем? Да вы, говорю, разве ещё не догадались, кто я? Нет, говорит. А кто же вы? Вор, говорю. Я — вор.
Кокин, делавший как раз в этот момент глоток, подавился и, выкинув из ноздрей, как кит, целый фонтан пива, долго кашлял, затем разразился хохотом, после чего произнёс:
— Послушай, Метлов, ты кончишь тем, что уморишь меня!
Пётр Иваныч тщательно вытер салфеткой с пиджака брызги пива и продолжал:
— Как, говорит, вор? Да так, говорю, у нас шайка: мы взламываем кассы, нападаем на поезда, устраиваем подлоги, грабим помещиков, очищаем квартиры, одним словом, занимаемся всем. У каждого своя специальность. А теперь за мной следят и могут меня арестовать. Попал в точку! Побледнела, стоит, растерялась совсем. А я тру себе глаза платком и плачу: я вас так глубоко полюбил, что не могу от вас ничего скрывать. Не хочу губить вас. Нам надо расстаться. Уходите скорей, а то ещё заметят вас и вы потеряете вашу пенсию! И такого, понимаешь, ей наговорил, что вывел её ни живу, ни мертву за дверь, поцеловал у неё руку, посадил на извозчика и отправил. Запер за ней дверь, перекрестился от радости. Слава тебе Господи!
— Подействовало?
— На три дня! Понимаешь, уж совсем я успокоился, ни слуху о ней, ни духу, сижу опять у себя под вечер, познакомился тут я с одной гимназисткой, рассказал ей, что я антрепренёр и собираю труппу, так она должна была прийти ко мне прочитать роль. Сижу это жду её, вдруг стучат в дверь. Марья Николаевна! Как ураган какой-то! Сумасшедшая, говорю, что ты делаешь? Видишь, вон сыщик на той стороне стоит, следит за мной. Теперь всё погибло! Ничего не действует! Ошалела баба, да и только. Собирайтесь и никаких! Вы едете со мной на дачу. Там вас никто не арестует. Как, говорю, не арестует! Подумай, какой будет скандал! Ведь пенсии своей лишишься! Ничего не помогло. Собирайтесь, едем со мной на дачу! Понимаешь, как щенка какого-нибудь схватила меня, усадила на извозчика, привезла к себе на дачу и я там два дня должен был вместе с ней удить рыбу! А? Каково это?
— Пей пиво, Метлов! Выпьем за эту смелую женщину! Она мне решительно нравится. Она отомстит тебе за всё зло, которое ты причинил её сёстрам. Предсказываю тебе: скоро ты будешь носить колпак, качать люльку и она будет бить, тебя туфлей.
— Тьфу! Чтоб твоё толстое пузо треснуло у тебя пополам! Погоди, попадёшься когда-нибудь и сам! Тогда и я посмеюсь.
— Я не попадусь! Я пью своё пиво, хожу себе по кабакам и женщины для меня предмет второй необходимости. Но, что же ты думаешь предпринять?
— Да, если б я сам знал!.. — уныло ответил Пётр Иваныч. — Уж из каких, кажется, передряг выкручивался, а тут, думаю, думаю, ничего придумать не могу. Такой, брат, женщины я не встречал!
— Метлов! — торжественно произнёс Кокин. — Пей пиво и успокойся. Я тебя спасу.
— Как?
— У меня есть план. Ты хитёр и блудив, но ты трус! На женщину надо всегда идти — как на крепость, приступом! Я не боюсь ни одной женщины, кроме моей матери, но это — моя мать! Дай мне эту полковницу в руки, и ты увидишь, что через десять минут ты будешь свободен. Пей!
Надежда и пиво являются иногда единственным выходом из жизненных затруднений. Побуждаемый уговорами своего друга, Пётр Иваныч принялся пить. Сначала он пил трагически и мрачно, как человек, для которого погибло всё. Но постепенно ему сделалось легче. Через некоторое время приятели, поглощённые разговором, перебрались в погреб, где, по уверениям Кокина, гениально жарили шашлыки, затем засели в ресторане и освежались там кофе с коньяком до тех пор, пока Кокин не заснул в своей обычной, только для него возможной, позе — сидя и положив голову на собственный живот.
V
Не знаю, смог ли бы кто-нибудь описать, как следует, душевное состояние Петра Иваныча в пять часов следующего дня, когда он ожидал прихода Марьи Николаевны. Душа Петра Иваныча была всегда темна не только для него самого, но и для самых лучших знатоков человеческого сердца. Во всяком случае, несомненно одно: что, ожидая прихода Марьи Николаевны, Пётр Иваныч с необыкновенной тщательностью осмотрел всю комнату: не лежит ли где-нибудь на полу какая-нибудь записочка, женской рукою брошенная с улицы в форточку и случайно незамеченная им.
Таких записочек, однако, не оказалось и, когда снаружи послышался нетерпеливый, властный стук в дверь, он отворил с чистой совестью и спокойной душой. Перед ним была Марья Николаевна.
Она быстро вошла и точно так же, как он, прежде всего оглядела пол, подоконник и стол. Она заглянула затем за ширмы, чтобы проверить состояние укромных мест комнаты, окинула быстрым и испытующим взором все стены и только тогда остановила глаза на Петре Иваныче. Затем села, постепенно, нервными движениями сняла перчатки и бросила их перед собой, сняла шляпу и сбросила сак, молча следя, как Пётр Иваныч с кротким видом брал каждую вещь и маленькими шажками относил на комод, на преддиванный столик и на кресло.
Марья Николаевна имела полное белое лицо с маленьким лбом, маленькими чёрными глазками, с толстым носиком, немного надменно торчащим кверху, и с массивной нижней челюстью, что, как известно, указывает на смелость и решительность характера. Лицо её имело теперь презрительно-раздражённое выражение.
— Ну, что? — произнесла, наконец, Марья Николаевна, упорно глядя в глаза Петру Иванычу. — Вы продолжаете ещё состоять членом воровской шайки?
Физиономия Петра Иваныча выразила глубокое горе и трогательную покорность судьбе, что ещё более усилил поднявший его грудь тяжёлый вздох.
— Как же, Маруся? — кротко произнёс он. — Ведь я же говорил тебе…
— И за вами следят, вас могут арестовать и так далее? — продолжала Марья Николаевна.
— Я же говорил тебе… как ты не хочешь верить?.. Могут даже и сейчас прийти…
— Как вам не стыдно! — гневно крикнула Марья Николаевна, поднимаясь во весь рост. — Как вам не стыдно!..
Пётр Иванович невольно отступил, выражая на лице страх.
— Вы думаете, что нашли такую дуру, которую можно заставить поверить всему? — гневно продолжала Марья Николаевна. — Ошибаетесь! Не на такую напали! Я узнала о вас всё. Вы служите в страховом обществе, вы считаетесь очень хорошим агентом, вас очень многие в городе знают, вы, действительно, легкомысленный, гадкий и развратный человек, но вы порядочный человек и никогда не можете быть ни вором, ни состоять в какой-то шайке. Вы мне всё налгали!
— Маруся! Но как же налгал? Да вот как раз сейчас… Погляди вон в окно…
— Вы лжёте! — гневно крикнула, двинувшись к нему, Марья Николаевна. — За окном нет никого! Я понимаю вас! Вам тяжела любовь порядочной женщины, которую вы подлостью заставили полюбить вас, вы хотели бы избавиться от меня, потому что со мной нельзя поступать, как с вашими девчонками, но вам это не удастся! Я заставлю вас любить себя!
Марья Николаевна всё более наступала, Пётр Иваныч постепенно отступал, попадая в щель между стеной и письменным столом, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы неожиданно не раздался чрезвычайно сильный стук в дверь. Марья Николаевна гневно оглянулась, а Пётр Иваныч, воспользовавшись этим, ускользнул из западни и бросился открывать дверь.
В дверях показался Кокин. Несмотря на малый рост, ему не надо было делать особых усилий, чтобы иметь величественный вид. Его живот массивным полушарием выдавался вперёд, его красное лицо с выпученными глазами само собою откидывалось назад, и правая рука привычным жестом простиралась вперёд по направлению к Петру Иванычу.
Несколько секунд, отдуваясь, он молча переводил угрожающий взгляд с Петра Иваныча на Марью Николаевну, пока окончательно не остановил его на первом, и пред окаменевшей от изумления дамой разыгралась следующая сцена:
— Метлов! — загремел толстяк. — Что это значит?
Пётр Иваныч кланялся и приседал, всем существом выражая панический ужас.
— Что это значит, Метлов? Тебя предупреждают, тебе говорят, тебе пишут и ты не делаешь ничего? Что, ты мальчишка, дурак? Что, ты не понимаешь, какой опасности ты подвергаешь всех?
Толстый палец Кокина направился в сторону Марьи Николаевны.
— Кто это женщина?
— Это… Это моя знакомая… — лепетал Пётр Иваныч, приседая.
— Скажи ей, чтоб она вышла вон!
— Маруся! — умоляюще шептал Пётр Иваныч, — Так надо… Я тут ничего не могу… Тебе придётся уйти…
— Я не уйду! — выйдя из столбняка, с отчаянной решительностью, воскликнула Марья Николаевна. — Я останусь здесь. Я хочу знать всё, что будет с ним. Я — его жена!
— Метлов! Это твоя жена?
— Да…
— Метлов! — снова громко гремел толстяк. — Всякие объяснения излишни. За тобой следят. Ты должен исчезнуть.
— Куда? — с отчаянием лепетал Пётр Иваныч.
— В порт.
Пётр Иваныч в ужасе схватился за голову.
— Ты будешь там целый месяц жить босяком! Пошли за парикмахером, чтобы остричь тебе волосы, бороду и усы и собирайся. Даю тебе на всё полчаса.
— Почему он должен идти в порт? — крикнула Марья Николаевна, подступая к Кокину. — Я хочу знать? Что он сделал, и кто вы такой?
— Метлов! Прикажи женщине молчать! Собирайся.
— Маруся… — плачущим голосом твердил Пётр Иваныч. — Я умоляю тебя!.. Ты меня губишь совсем. С ним нельзя так говорить…
— Я со всеми могу говорить, как хочу! — гневно крикнула Марья Николаевна и очень решительно схватила Кокина за плечо — Зачем он должен идти в порт?
— В наказание! — величественно ответил Кокин, стряхивая её руку с своего плеча.
— За что?
— За то, что, зная, что за ним следят, продолжал жить в этой комнате и тем легкомысленно подвергал опасности как себя, так и нас.
— Кого это вас? — крикнула Марья Николаевна, наступая на него.
— Товарищей!! — рявкнул Кокин, делая на всякий случай шаг назад.
— Маруся! — с ужасом шептал Пётр Иваныч, удерживая её за руку. — Я умоляю тебя… С ним нельзя так говорить. Это наш главный начальник…
— Я ничего не понимаю!.. — в полном отчаянии крикнула Марья Николаевна и в изнеможении упала в кресло.
— Метлов! — командовал Кокин. — Переодевайся! Сейчас придёт парикмахер.
Пётр Иваныч, мелкими шагами, выказывая полную угнетённость, отправился за ширмы, и оттуда послышалась, сопровождаемая тяжёлыми вздохами, возня. Марья Николаевна лежала в кресле, закрыв руками лицо. Кокин стоял, сохраняя величественно-непреклонный вид.
— А можно мне взять туда носовые платки? — послышался из-за ширм робкий голос Петра Иваныча.
— Нельзя, — отвечал Кокин.
— Но у меня нет скверного платья, — снова умоляюще проговорил Пётр Иваныч.
— Надевай то, что есть! Ты продашь своё платье и купишь другое! Лишние деньги немедленно пропьёшь.
— А что я там должен делать?
— Ты будешь пока заниматься мелкими кражами. Через неделю получишь приказания.
— И меня будут бить! — с отчаянием произнёс голос Петра Иваныча.
— Я ничего не понимаю! — воскликнула, вскакивая с кресла, Марья Николаевна. — Или я сумасшедшая, или вы оба смеётесь надо мной. Пётр Иваныч, подите сюда!
Пётр Иваныч показался из-за ширм. На нём был старый серый жокейский картузик, косоворотка, коротенький пиджак и старые короткие брюки. Видом своим он напоминал странствующего венгерца.
— Пётр Иваныч! Вы поедете со мной! Переодевайтесь! Вы сейчас же едете со мной на дачу!
— Метлов! — загремел голос Кокина. — Пусть эта женщина немедленно выйдет вон!
— Он поедет со мной! — пылко кричала Марья Николаевна. — Если нужно, он будет скрываться целый месяц у меня. Его никто там не найдёт. Пётр Иваныч, одевайтесь!
— Метлов! Пусть эта женщина сейчас же убирается вон!
Но Марья Николаевна пылала гневом, а в этом состоянии ничто не могло её удержать. Неожиданно крикнув: «Сами убирайтесь вон!» — она, закусив губы, так решительно двинулась на своего врага, что толстяк, сочтя за лучшее поспешно отступить, наткнулся задом на кресло и, потеряв равновесие, сначала сел, а потом перекатился через него, по дороге опрокинув стол и больно стукнувшись затылком о стену. Унизительное положение в соединении с болью мгновенно привели его в весёлую ярость и, подскочив, как мяч, он, в свою очередь, с такою же стремительностью ринулся на Марью Николаевну и так страшно затопал ногами, диким голосом крича: «Вон! Или сейчас же убью!» — что окончательно растерявшаяся женщина кинулась к дверям и, быстро приняв из рук Петра Иваныча шляпу, перчатки, сак и зонтик, исчезла. Удаляясь, она с рыданием крикнула: «Вы оба мерзавцы и негодяи!»
— Уф, — произнёс, отдуваясь Кокин. — Ну, я тебе скажу, женщина! Это — женщина! Но теперь я ручаюсь, что она больше не придёт. Однако же, и здоровую же я себе посадил шишку! Ну, и женщина! Метлов, немедленно идём пить пиво, я умираю от жажды.
Приведя себя в надлежащий вид, приятели, хохоча и припоминая все перипетии боя, отправились праздновать освобождение от врага. Просидев в самом радужном настроении часа два в ресторане, где Пётр Иваныч привёл весь персонал в немалое затруднение, упорно требуя себе бутылку «пропеллера», они вышли снова на улицу и в ожидании вдохновения, чтобы создать план действий на целый вечер, медленными шагами направились к комнате Петра Иваныча.
По дороге Петру Иванычу пришла мысль купить у фруктовщика большой арбуз и он чинно нёс его на плече, гостеприимно угощая им всех встречающихся дам. А у себя в комнате раскрыл окно, поставил на самый край подоконника тарелку, положил на неё арбуз, воткнул в него нож и вилку и, усевшись около окна, с интересом ожидал, какая рыба клюнет на эту приманку.
На панели происходило большое гулянье. Неожиданное появление на подоконнике великолепного арбуза, так великодушно выставленного для общего пользования, произвело сенсацию: перед окном останавливались кучки любопытных, и Пётр Иваныч неустанно и очень учтиво приглашал дам зайти к себе.
Три прехорошеньких весёлых девушки, давно уже привлекавших внимание Петра Иваныча, по-видимому, соблазнились радушным приглашением. Переглядываясь и хохоча, они направились в ту сторону, с которой был вход в комнату.
— Сейчас придут! — с торжеством заявил Кокину Пётр Иваныч и, встав около двери, взялся за ручку, чтобы немедленно открыть желанным гостям. Через минуту, действительно, послышался энергичный стук. С сияющим лицом Пётр Иваныч распахнул дверь и окаменел от ужаса; перед ним была Марья Николаевна.
Как ангел гнева и мести, она ворвалась в комнату и прежде всего дала Петру Иванычу одну за другой две очень звонких оплеухи. Затем, обратившись к Кокину, крикнула: «Вон отсюда, мерзавец!» — и в руках у неё блеснул вытащенный из ридикюля револьвер.
VI
Выскочив без памяти из своей комнаты, Пётр Иваныч целую неделю после этого провёл в ужаснейшем из всех состояний — в состоянии травимого неутомимым охотником зверя. Ежедневно, по три и даже по четыре раза в день, Марья Николаевна подъезжала на извозчике к его квартире, энергично стучалась в дверь, осведомлялась у прислуги, дома ли он, затем садилась в засаду и подстерегала его приход.
Только поздней ночью, крадучись и оглядываясь, как вор, Пётр Иванович решался пробраться к себе и, переночевав, ранним утром исчезал. Петра Иваныча пристукнула, наконец, настоящая беда, — такая беда, какой он никогда не знал и даже не предполагал. Он осунулся, побледнел, его великолепные усы унылыми сосульками повисли вниз, и его победоносная наружность получила взъерошенный и облезлый вид. Образ гневной Марьи Николаевны с револьвером в руке, преследовал его как кошмар; на улице Пётр Иваныч пугливо оглядывался на каждом шагу, и лишь только что-нибудь похожее на неё мелькало в толпе, немедленно вскакивал на извозчика, неистово гнал его и скрывался в каком-нибудь глухом ресторане, или кабаке, куда не мог проникнуть его враг.
Но от судьбы не уйдёшь. Однажды, под вечер, немного осмелев, Пётр Иваныч подобрался к своему дому и рассматривал окна комнаты, пытаясь по внешним признакам определить, скрывает ли она опасность или нет. Как раз в этот момент неожиданно загремели подъехавшие дрожки и, оглянувшись, он увидел именно ту, которой боялся больше всего. В паническом ужасе Пётр Иваныч рванулся бежать, но было уже поздно. Его нагнали. Знакомый голос повелительно крикнул ему: «Пётр Иваныч! Извольте идти сюда!» И он покорно подошёл, виновато виляя и говоря:
— А я и не узнал тебя, Маруся!..
— Извольте сесть! — И Пётр Иваныч сел. Ему даже не пришла в голову мысль, что можно соскочить с дрожек, бежать и спастись. Он только кротко и смиренно спросил:
— А куда же мы едем, Маруся?
Не говоря ни слова, Марья Николаевна привезла его в неизвестный дом — оказалось, что это была зимняя квартира её сестры, молча поднялась по лестнице, молча вошла в дверь, которую открыла старуха-прислуга и, когда они остались одни, закусив губы и тоже молча, принялась хлестать Петра Иваныча обеими руками по щекам.
Утолив свой гнев, она всё же простила его и в ней проснулась прежняя любовь. Она накормила Петра Иваныча вкусным ужином, напоила хорошим вином, и Пётр Иваныч, оглушённый, потрясённый, не успевший ещё прийти в себя, крепко заснул в её объятиях до следующего утра.
Но когда Пётр Иваныч проснулся на следующий день, его ожидал странный сюрприз: его собственное платье исчезло, неизвестно куда, и ему было предложено надеть военную тужурку с погонами, военные брюки и туфли. Покойный полковник был крупный мужчина с большим животом, и тужурка болталась на Петре Иваныче, как на вешалке, брюки делали сборы, подобно гармонике и туфли на каждом шагу сваливались с ног. Но Пётр Иваныч не смел протестовать: он боялся Марьи Николаевны, как огня.
Целое утро он подобострастно забавлял Марью Николаевну тем, что маршировал и зычным голосом командовал полком; затем они завтракали, играли в карты, обедали. После обеда Пётр Иваныч пел куплеты и романсы, которые знал во множестве. Вечером они пили чай, опять играли в карты, читали вслух, ужинали, потом легли спать.
Та же идиллия повторилась на следующий день.
На третий день с утра Пётр Иваныч почувствовал ужас. Он ничего не мог есть. А за завтраком и обедом он выпил всю водку, пиво и вино, какие были на столе. Под вечер, когда на улице стали зажигаться огни, пред ним волшебным видением вспыхнули картины прошлого: его комната, гулянье под окном, толстый Кокин, прелестные женщины, свободная и вольная жизнь… На Петра Иваныча нашёл припадок бешенства. Он ругался, носился по комнатам, опрокидывал стулья и столы, ломал шкапы и искал своё платье, и когда Марья Николаевна, закусив губы, принялась хлестать его обеими руками по щекам, он вырвался на лестницу и диким голосом закричал: «Караул!..»
Он хотел бежать вниз, но у него свалились туфли, он вспомнил про свой полковничий наряд, кругом приотворялись двери и смотрели любопытные глаза, — было стыдно, он горько заплакал и вернулся назад.
Маленькая жизнь
Я увидел этого солдата на бульваре в Одессе. Без шинели, в оборванном мундире, он, прихрамывая, подходил к сидящим, потряхивал своим Георгием и просил.
Он подошёл и ко мне. У него были ярко румяные щеки, изумлённые глазки и сложенные бантиком губы. Его толстое лицо было сплошь заткано сеткой красных жилок и, когда он остановился передо мной, то даже на расстоянии двух шагов мне ударил в нос крепкий запах винной бочки.
Мы столковались очень легко и через четверть часа сидели уже в соседнем погребке. Хозяин-грек поставил пред нами объёмистый графин белого вина, кусок сала, пяток яиц, и солдат принялся закусывать и выпивать. Ел он, звучно чавкая, медленно и со вкусом, и от него пахло застаревшей впитавшейся в тело грязью. Уставив на меня маленькие, похожие на пару оловянных пуговиц, глазки, он степенно и вразумительно говорил:
— Да, драгоценный вы мой, и скажу я вам так: жизнь моя, как есть, настоящий роман, и теперь я совершенно убитый человек. И убила меня война. Ушёл я туда сильным и молодым, а вернулся беспомощным калекой — ногу свело, в теле пять дырок от пуль, от всего отшибся и ничего не имею охоты начать. Но, всё-таки, не столь поразили меня вражеские пули, сколь собственная жена. Оттого и забросил себя, оттого и водочкой занялся, оттого и по ночам плачу. Но, однако, хочу вам всё подробно обсказать, а за угощение покорно благодарю. Я теперь по калечеству квасом торгую — куплю у знакомой бабы бочонок и продаю на базаре по мелочам, а что выручу, пропью. Но только на водку хватает. А вино это для меня, откровенно скажу, вроде как десерт. С большим удовольствием пью.
А жизнь моя, видите ли, такая: кончил здесь службу, не захотел в деревню, в необразованность и грязь, и поступил рассыльным в транспортную контору. Служил пять лет, никакого баловства себе не позволял и скопил четыреста рублей. А у меня всегда наклонность была собственное дело завести. Ну, пригляделся, понюхал и установил. Нет того полезнее дела, как тут вот у нас в порту мелочную лавочку открыть. Дела можно делать хорошие, особенно при умении. А у меня и знакомства там завязались, и народ там, хотя и пьяный, но верный. Присмотрел это я себе помещение, начал уже нацеливаться, чтобы снять, насчёт невесты тоже удочку забросил и нашёл одну очень даже подходящую девицу, из хорошего дома, и приданого, окромя всего прочего, деньгами триста рублей. Как есть, совсем уже на мази было жениться, но встретил теперешнюю свою жену и взял совсем новый курс.
Так, понимаешь, дорогой мой, почувствовал пристрастие, что так себе и сказал: или вот её, Анюточку, или больше никого. Не посмотрю, что в горничных служила — у доктора одного, в том же доме, где я, только с другого ходу — и что приданого за ней было только корсет да волосяные щипцы, и того во внимание не взял, что какое же может быть у горничной поведение, а того в голову вступило, что чисто как ошалелый ходил. Только о ней и думал. И хоть на лавочку хватило в самый обрез, но всё же на Анюточке женился и зажил хорошо.
И так, драгоценный мой, хорошо, что и не снилось мне — чисто в рай попал. Жена оказалась умница, помощница первый сорт, поворотливая да быстрая, и по хозяйству всё обернёт и в лавке не хуже меня сидит, и дело пошло хорошо, заторговал — лучше желать нельзя. И главное, дорогой мой, любились мы, как два голубка. Целую неделю вместе в одном гнезде воркуем, а в праздник после обеда нарядимся, возьмёмся под ручку и давай гулять. Гуляем и всё-то я округ неё хлопочу, чтобы даже ветерком на неё не дохнуло.
Прожили так, дорогой мой, лучшего не желая, три года, как три дня, и вдруг — война! Так это сразу и обомлел: пронесёт, аль не пронесёт? Потребуют, али нет? Целый месяц ни жив, ни мёртв ходил, всё ждал смертельного удара, однако прошло с полгода, уже успокоился совсем и вдруг — бац! Пожалуйте! Не угодно ли на край света, в Манчжурию, с японцами воевать!..
Затрепыхался, засовался, как малый мышонок, но спасенья нет. Еле-еле успел лавочку и товар перевести на жену, отдал ей все деньги, оставив себе только пятьдесят рублей, сунули меня, раба Божия, в вагон и повезли.
Не помню, как и с супругой своей прощался, не помню, как и ехал. Чисто обухом тяпнуло по темени, сижу, выпучив глаза, — промеж таких же горюнов, как я, и не понимаю ничего. И до самого конца, милейший вы мой, ничего понять не мог и назад вернулся — никакого понятия не нашёл. Так до сих пор без понятия и хожу.
Но, однако, горюй, не горюй, заливайся горючими слезами, сколь хошь, а поезд бежит, да бежит. Проехали мы Россию, перевалили в Сибирь. Ехали, стояли, ждали, опять ехали, водку с горя пили, песни спьяна орали, друг на дружке вповалку спали, и с каждым днём всё ближе да ближе. Молил я, окаянный, Господа Бога, чтобы не доехать бы нам никогда, однако не помогло, и двадцать девятого января, вот как сейчас помню, часов так в 12 прибыли мы, бесценный вы мой, в город Мукден, а второго февраля в пять часов утра, не дав даже вздохнуть, погнали нас на передовые позиции к Сандепу. Вёрст пятьдесят, должно быть, надо было пройти, а дорога там одни горы, да снег. И ни села тебе, ни деревни, ни домишка, ничего, так что окончательно только потому и шли, что остановиться хуже. Занесёт тебя снегом, и каюк!
Так вот, драгоценный вы мой, пришли мы на передовые позиции к вечеру, часов так в семь, легли в фанзах — дом это по-ихнему — спать, а на утро сейчас же траншей рыть. А земля мёрзлая, промёрзла наскрозь, чисто на сажень, так что рыть очень тяжело, и рыли мы долго — можно так сказать, что всё время, до самого конца, и подходили ещё войска и тоже рыли и растянулся наш фронт, так сказать, чуть не на двадцать вёрст.
А он против нас на сопках сидел, но на открытое дело не выходил, а шла только одна перестрелка. И натерпелся я тут, драгоценный вы мой, столько, что невозможно пересказать. Днём это траншеи роешь, с рук от морозу шкура слазит, и тут же тебе и пули, и шимозы, и шрапнель, а ночью отогреешься в землянке, вспомнишь про супругу милую и раздерёт тебе сердце ровно скребком, а слёз нету, потому весь окаменел. Но, конечно, скоро окончательно всё позабыл, потому как ежечасная трескотня и в голове один звон, а если и выдастся свободное время, то надо всё в порядок привести, и амуницию, и тело, и душу. Потому что война дело строгое. И душа тут первая вещь, а не то, что, как легкомысленный солдат, чуть посвободнее, так сейчас и в орлянку играть. И таких много было, но расскажу вам так: соберутся это они, столпятся, словно мошкара, а он с сопок всё видит. Как хватить шимозой, так и орлянке конец. Кто разбежался, а кто на месте лежит.
Ну-с, простояли мы так недели две, а потом как стал он обходить нас, так чисто побросали всё и пошли с отступлением на Мукден — так что потеряли напрасно и время, и траншеи. А что народу погибло, то невозможно сосчитать. И бывало так: лежит мёртвый, а у него нос, либо руку собаки отъели. Поглядишь на него — мёртвый, как мёртвый, а приглядишься хорошенько и видишь: лежит он в таком положении, что вовсе ему незачем так лежать, а выходит, что он ещё был живой, когда собака ему руку глодала. Подумаешь, что так вот и с тобой может случиться, и спервоначала было страшно, а потом окаменел ещё пуще и — ничего.
Отступили мы, значит, от Сандепу и дальше стали отступать. Всё время отступали и до чрезвычайности я это не одобрял, потому что не оттого мы отступали, чтобы он уж как супротив нас был силён, или учен, а мы-то больно уж плохи. Посудите сами: сидит в Порт-Артуре главный адмирал, с ним свиты видимо-невидимо и все пьют шампанское. Вдруг летит адъютант: доложите, говорит, что я с самого моря.
Выходит к нему главный адмирал: «Так и так, Ваше Высокопревосходительство, Паллада и Ретвизан неприятельскими снарядами утоплены на самое дно».
А тот:
— Это ничего. Построим новые. А скажите, командиры на судах были?
— Никак нет. На берегу были.
— А команда на судах была?
— Никак нет. Тоже на берегу.
— А! — говорит. — Ну, так это завсегда легко пустой броненосец потопить! — И сейчас же: — Генерал, будем писать Государю в Петербург телеграмму: Паллада и Ретвизан, приняв бой, геройски погибли с сильным неприятелем. А командирам для поощрения выдать ордена.
Вот оттого и отступали всё, оттого и проиграли всё. Отступили на Сандепу, и от Мукдена тоже с большой поспешностью стали отступать. Так что утром вдруг всё двинулось и люди, и пушки, и кавалерия, и всё мимо нас. Ну, мы ждали, ждали, да и тоже снялись. Да и ладно, а то забыли было про нас. Снялись и пошли. А снег! А ветер!.. А он уж на сопках кругом сидит, да из пушек бьёт. Нехорошо, я вам скажу, было. Сначала честь честью шли, а после вовсе перепутались и сами не знаем, как, что и куда. И что тогда безобразия всякого было! Я рассуждаю так: ну, какая мне польза, что набью я себе карманы золотом, да тут же и лягу. А легкомысленный солдат не то. Видит деньги и сейчас алчность. Денежные ящики стали разбивать. Накинутся это, как собаки, копошатся, как черви, а он всё видит. Нацелится, да как ахнет, — и нет тебе ни ящика, ни людей, а только мокреца.
Отступали так, сколько уже времени и не помню — всё перепуталось в голове — чисто одичали все — без пищи и питья, разве сухарь когда, как собаки, погложешь, только и задержались на Шахэ, потому что она широкая и берег у ней отвесистый. Так что перешли мы её, а нас и воротили. В цепь, потому что он на том берегу густо показался.
Ну-с, вернулись мы опять, а река, я вам скажу, шириной так с версту, и наш берег высокий, сажени в две. Насилу сошли с него и прямо в снег. А снег по пояс. Бредём цепью по снегу, а он на том берегу тоже цепь раскинул, да всё наседает! Мы огонь открываем, а он ещё шибче, и с сопок ползёт — так, я вам скажу, словно букашек — видимо, невидимо. Ну, что же нам делать? Не погибать же тут в снегу, на голой реке? Пошли назад, да хорошо, что подъехали две батареи пушек. Побили у него несколько народу — он и отошёл.
Вылез я тогда, опять на этот двухсаженный берег, лёг и нет больше моих сил. Лежу за кустом и тут за кустом о супруге своей милой вспомнил, и как ждёт меня она, и о лавочке — обо всём, а до сих пор с самого Сандепу чисто вышибло всё у меня из головы. Лежу на снегу, да плачу. Однако, вижу, что не дойдёшь так, и вижу, что надо себя облегчить. А на мне патронов двести семьдесят штук и ранец со всем солдатским припасом.
Снял я этот ранец, разбираю, что бы там выкинуть, гляжу — и это нужно, а это ещё нужнее, а без этого уж никак не обойтись! Думал, думал, да взял, упаковал всё окончательно хорошо и сложил мой ранец под кустом.
— Покойся, милый свет, до радостного утра! Пусть меня японец какой добрым словом помянет!
Встал и пошёл налегке. Пришли мы тогда к ночи в деревню одну. Фанз нет, всё раненые, да офицеры. Улёгся на улице в обнимку с товарищем, и продрожали так голодные до утра. Утром дальше тронулись и опять к вечеру пришли в деревню. Ну, тут стало легче. Прежде всего, запасов всяких видимо-невидимо, и казаки их жгут. Пойдёшь, наберёшь себе рису и рыбы и сваришь похлёбку. Так что там мы исправились, и не хотелось никуда уходить, потому что фанзы больно хороши — просторные и тёплые, — знай себе лежи.
Так-то вот лежу я в одну ночь и сплю и вдруг меня взводный будит:
— Что такое? — говорю.
— Вставай, — говорит, — тебе в секрет идти.
А у меня словно предчувствие какое, и говорю:
— Да я сегодня будто как нездоров!..
— Нечего, нечего!.. — говорит. — Капитан велел тебе идти.
— Ну, что ж? — думаю. — Раз начальство, тут уж ничего не поделаешь. — Встал и пошёл.
— Кто, — говорю, — со мной?
Пошли это мы, вышли так за версту от траншей и легли на берегу в кустах. А река и тут берег имела обрывистый и сама широкая.
Ну-с, лежим. Светло было, луна и река эта, как скатерть, так что всё видно. А сзади тоже светло — равнина такая и чернеется эта самая наша деревня. Лежу это я и думаю себе: понапрасну только побеспокоили нас. Мыслимое ли дело, чтоб он, хитрый такой, да в такую светел на нас полез! Проходит это час, потом другой, потом третий и что бы вы думали? Гляжу и вижу, — через реку наискосок он так и идёт!
Подпустили мы его несколько поближе, да как дадим! И пошли чистить. И тогда — Боже ты мой, что только сделалось! Он с того берега жарит, а от траншей наши тоже так и сыплют, так что очутились мы, драгоценный вы мой, между двух огней. Залегли в канавку, лежим, а пули над нами, как птички, так и поют.
Потом вижу, что дело становится плохо, наступает он и как бы нам ему не попасть. И говорю:
— Делать, мол, нечего. Попробуем, ребятки, до наших добраться. Ко́том пойдём.
Так и пошли. Обхватили винтовки руками, да так на боку и катились. Катились, катились — ничего, благополучно докатились до самых траншей.
И видим, делается он дерзости непомерной — ну, уж просто не дале, как на триста шагов подошёл. Наш ротный и говорит:
— Ребята, кто охотником в штыки пойдёт?
А сам он кавказец был, такой, что ни Бога, ни чёрта не боялся. Как жалованье получит, так всё время вдрызг пьян, так и говорит: «Пока у меня есть деньги, я не человек!» А как протрезвится, очень обходительный и простой. Так вот:
— Кто, говорит, охотником? Чего он, так его и так, над нами куражится?
Ну, я разгорячился и тоже пошёл.
И что бы вы, драгоценный мой, думали? Мы на него в штыки, а он на нас! Так и сбежались. Ну, однако, мы ему тут хорошо дали и далеко назад угнали, так что на утро генерал приезжал, смотрел и благодарил. А лежало его, словно валежнику, по снегу очень много.
Тут-то меня и ранили. Сгоряча ничего не почувствовал, а как обернули назад, я и давай падать. Товарищ меня поднимает: ты, говорит, Никаноров, чего дурака валяешь? А я уж и сомлел. Поглядели — а в ноге у меня штыковая рана до кости и в теле пять дырок от пуль.
Ну-с, положили меня в лазарет. Пули скоро заросли, а от штыка очень долго маялся, так что свело мне ногу вроде как крюк, и постепенно только её привели в прежнее положение, но и не то не совсем. И как вышел я для строя боле негодным и притом же получил сильнейший тиф, то решено было меня к отправке домой.
Тут-то, драгоценный вы мой, как стал я оправляться после тифу и приходить в себя, так тут и вспомнил окончательно про супругу мою милую и про лавочку, и про все дела, и чисто заплакал от умиления души!
— Господи, — думаю, — многомилостивый владыко! Жил в грехах, хоть и в маленьких, но скверных, забывал тебя всю свою жизнь, а ты — на-ко, погляди! И через войну меня провёл, через голод и холод, чрез кровавые раны и лютую болезть и обращаешь меня обратно, в мой родной приют!..
Лежу вот так, и в умилении Господа благодарю. А от жены, между прочим, ни письма, ничего, ни гу-гу. Но и я, конечно, тоже не писал. Да и где, посудите сами? Всё время отступали, воевали, вшей в траншеях кормили — никакой возможности не было писать.
Ну-с, попросил я тут из госпиталя сестрицу и написали мы супруге письмо — так, мол, и так, благодарение Богу, всё благополучно окончил и собираюсь я скоро домой. Написали, отправили, жду, пожду — ответа нет. Нетерпение меня, дорогой вы мой, чисто так и ест. Написали ещё, потом телеграмму стукнули и тоже никакого результата. А из Одессы, между прочим, нехорошие вести идут — бунты там, непорядки и прочее. Ну, истомился я совсем, однако не подозреваю ничего — так себе, думаю, на почте какая-нибудь забастовка вышла. Дождался времени, вошёл окончательно в силу, отправили меня в Россию. Еду это на поезде — сам уж не знаю, радоваться, или горевать, но всё же никак не ожидаю того, что произошло.
Приехал утречком, так что спали ещё все, в Одессу, шасть бегом к себе, к своему дому. Вошёл во двор, аж бьёт меня всего. Спрашиваю дворника:
— Живёт, мол, здесь такая? — А дворник, между прочим, новый и меня не знает.
Вижу, мнётся. Нет, говорит, выехала и неизвестно куда. А лавочка тут как тут, только, конечно, заперта.
Как, говорю, так, неизвестно, куда? Ах, ты, говорю, холуй! Чего ты врёшь и раненого солдата, пролившего за отечество кровь, бессовестно обманываешь? Давай, говорю, сюда домовую книгу!
Смотрю, вижу — здесь.
Как же, говорю, не здесь живёт? А это кто?
Ну, драгоценный вы мой, не стал я с ним лишнее время на ругань терять, а направился к квартире и стучу. Окна и двери заперты, и в ответ полный молчок.
Продолжаю, однако, стучать и вылезает ко мне неизвестный мужчина. Вылез так в щёлку и дверь за собой сейчас же припёр.
— Тебе, — говорит, — здесь чего надо? Что ты людям спать не даёшь?
— А того, — говорю, — мне надо, что желаю видеть свою законную жену, Анну Степановну, потому что я, вернувшись с дальнего востока, имею шесть ран и георгиевский крест.
— Вот что, — говорит, — я тебе скажу. Проваливай-ка ты подобру-поздорову, потому что твоей жены здесь нет, а если и есть, так она тебя не хочет. Понял?
— Нет, — говорю, — не понял и понять не хочу, потому что нет такого закона, чтобы, вернувшись с войны, где пролил кровь за Царя и отечество, да жена мужа не принимала. Между прочим, квартира на мои деньги плачена. А вы, — говорю, — кто такие будете?
Мужчина он высокий, дорогой вы мой, здоровенный и глазищами меня сверлит. Ну, а я тоже не слабый был, хоть и не высокого роста, но, конечно, война и раны отняли так, что осталась только четверть.
Одним словом, стараюсь быть вежливым, но сердце у меня закипает, и вот пробую я войти. Делаю так один шаг на крыльцо, а он, драгоценный вы мой, как меня ахнет! Чисто шимоза, да прямо в переносицу, да ещё, да ещё, да в довершение того ногой по животу.
Перекатился я, как кубарь, прямо скажу, несколько раз. Начал потом буянить, и произошло тут полное безобразие. Намяли мне нестерпимо шею, и всего обиднее было то, что жена, вижу, круглым глазком в щёлку смотрит, но сама притаилась и ни гу-гу! Взяли меня, раба Божия, в участок, да там ещё основательно подбавили. Продержали два дня, а как выпустили, то я пропил шинель и, отправившись к своей квартире, перебил все стекла, до одного.
Засадили меня, драгоценный вы мой, снова в участок, но уже на целую неделю, да намяли бока так, что пришлось на корячках ползти. Вижу я, что человек я маленький, а он оказался старший городовой! Где мне тут с ним тягаться? Плотью обуха не перешибёшь!
Подстерёг я на улице свою, подошёл к ней. Что же, говорю, ты со мной делаешь? Разве так можно? И какую ты мне принесла благодарность за мою любовь?.. Заплакала и говорит. Он, говорит, меня в погроме защищал, а после того окончательно ясно доказал, что тебя на войне убили, и даже бумагу такую показал. А теперь, говорит, я поделать ничего не могу, потому что и лавку, и деньги он перевёл на себя, а акромя того я его очень люблю.
Говорит так и плачет. Ну, заплакал и я. Постояли мы так друг перед дружкой, поплакали оба, потом вижу, что приходится отступаться, потому что забрал он её в руки очень крепко, прямо, можно сказать, в самый кулак. Махнул окончательно рукой, но от несправедливости пропил с себя до нитки всё и пьянствую таким образом до сих пор. А теперь попрошу я у вас, золотой вы мой, ещё графинчик вина, но уже красного, потому после белого красное свежести придаёт. И яичко я ещё съем, да сальца кусочек я пойду на базар квасом торговать.
Матушка Елена
I
В местечке Копанях есть две достопримечательности — кладбище и монастырь.
Монастырь, тяжело перекинувшийся через овраг своими восьмисотлетними стенами, с позеленевшими приземистыми башнями по бокам, не раз видевший над собой и литовцев, и поляков, и шведов, стоит среди серых домишек, как огромный обломок геройской старины.
Он основан на Пещерах, вырытых в необыкновенно белом я крепком песчанике оврага пустынниками, поколение за поколением уходившими сюда от битв и пиров жизни. После них осталась угрюмая подземная церковь, чудотворные иконы, ряды замурованных, стоймя поставленных в стенах гробниц с ухищрённо высеченными надписями и тысячелетние, один за другим валящиеся, дубы.
Монастырь пережил себя. Вера оскудела, и подвижники исчезли. На их месте живёт несколько десятков невежественных и сытых монахов, только тем поддерживающих связь со стариной, что все они, после серой и затхлой жизни, ложатся на покой в тех же извилистых и тёмных пещерах, где легли их предшественники.
Кладбище лучше. Копанцы говорят, что такого кладбища нет больше во всём мире.
Оно лежит под горой, по которой вытянулись Копани. Высокая, тёмная роща из сосен, лиственниц и дубов, как серым кольцом, охваченная каменной оградой, полна в летний, солнечный день такой глубокой, спокойной тенью, что так и тянет войти в неё. И когда войдёшь туда, под тихо шумящие деревья, на сухой, рассыпчатый, белый, ласкающий глаз песок, то кажется невольно, что на всей земле нет другого уголка, где было бы так хорошо лежать в последнем сне.
Никто не сворачивает, чтобы обойти кладбище. Жители Копаней и окрестных деревень всегда проходят через него, сквозь двое, никогда, ни днём, ни ночью, не запирающихся ворот.
И ночью кладбище ещё лучше, чем днём. Вся тёмная роща усеяна и пронизана мерцанием мирных огоньков. Над каждой почти могилой висит на кресте фонарик с лампадкой. Одни зажигает сторож, за другими смотрят родные. По будням огоньков меньше. В субботние и предпраздничные вечера все кресты унизаны ими, как таинственными светлыми глазами, и тогда кажется, что мёртвые, успокоившиеся в этом чудесном песке, ласково шепчут живым:
— Идите к нам. У нас хорошо…
* * *
В углу кладбища, удалённом от дороги, там, где, снизившись в заросшую малинником и смородиной яму, оно снова поднимает сверкающий отсветами солнца, поросший красностволыми соснами холм, есть одна могила. Она обнесена деревянной решёткой и сплошь заросла кустами диких роз. На аккуратном холмике из песка лежат свежие цветы, на кресте, против которого скамейка, чёткая надпись:
Господи, успокой душу грешника и страдальца.
Здесь покоится тело Никанора Камнева, род. 1872 †1897
Над этой могилой лампадка горит неугасимо. Каждый вечер, весной, летом, осенью и зимой, в ясное тепло, в холодный дождь, в голубое мерцание зимних сумерек, в снежные бури — сюда приходит матушка Елена, жена копанского священника, отца Михаила, и подолгу здесь сидит.
Копанцы помнят время — это было давно, десять лет тому назад, когда, придя на могилу, матушка Елена, как подкошенная, падала лицом на землю. Она была тогда молода.
Спешным шагом, с развевающимися волосами, приходил за ней, размахивая посохом, отец Михаил, гневно говорил: «Елена! Довольно!» — поднимал её с холма и обходными дорогами, чтобы миновать улицу местечка, вёл в свой поповский дом, на самом краю монастырского оврага.
В то время не было ещё мира в поповском доме, и отец Михаил быстро седел.
Но время успокоило всё. Матушка Елена и теперь приходит каждый день, но она заботливо подрезывает густо разросшиеся розовые кусты, садится на скамейку и, глубоко задумавшись, сидит. Её спина согнулась, у ней посеребрились волосы вокруг поблекшего, смирившегося, но освещённого внутренним светом лица.
Отец Михаил уверенно и спокойно приходить за ней, добродушно говорит:
— Ну, мать, наговорилась с покойником? — и зовёт её домой ужинать и спать.
Они идут, не торопясь, улицей местечка, а дома их ждут десять человек детей, из них семь мальчиков и три девочки, из которых старшей четырнадцать лет. И за всеми надо уследить, всех надо научить, накормить, обшить. А их так много, что матушка Елена иногда сама путается, как кого зовут, а доходы всё меньше, потому что падает усердие и потому что их отбивает монастырь, а всё становится дороже, так что сапоги есть только у старших, младшие же щеголяют зимой в валенках, а летом босиком…
II
Пятнадцать лет тому назад, когда матушка Елена с отцом Михаилом приехали в Копани, прихожане говорили про них: «У нас поп с попадьёй, как две картинки». Оба молодые, оба белокурые, оба здоровые — матушка Елена высокая и смелая, с тёмными глазами на скуластом лице, отец Михаил широкий, кудрявый и быстрый, весело бегавший по требам, громким голосом служивший службы, сразу с головой ушедший в огород и пчельник.
Но и тогда у него бывала иногда глубокая забота на лице.
Его отец и дед, и прадед — все были сельскими попами и пасечниками и, как он, не мечтали ни о чем другом. Матушка Елена была городская и знала другую жизнь.
Её сестры учились в гимназии. Одна стала учительницей, другая уехала на курсы и ушла в Сибирь. Её же, младшую дочь, учили в епархиальном только потому, что отец испугался, чтобы и с ней не случилось того же, что со второй.
Отец Михаил полюбил её, как только увидел, сразу и навсегда. Она же вышла замуж только потому, что тяжело было жить дома, у строгого отца. Она быстро заскучала в мёртвом местечке и, родив первую дочь, стала упорно просить, чтобы муж отпустил её в Петербург.
— Опомнись! — говорил поражённый отец Михаил. — У священника жена должна быть скромница, богобоязненная, хозяйка, прилепленная к мужним делам, жена пастыря, пример всем жёнам и матерям. А ты на курсы!
— Пусти меня, Михаил! — капризно говорила молодая попадья. — Сестры учились, и я тоже хочу. Я кончу и тебе же буду помогать. Ты будешь ездить по требам, а я буду лечить.
— И не говори ничего! — ужасался отец Михаил. — Во всей епархии ни у одного попа жена не уезжала на курсы. Что скажет благочинный! Я понимаю, в девушках езди, учись. Но после брака! Займись огородом и пчёлами. Чудесное дело!
Но умом он понимал, что не пчёлами можно успокоить его буйную жену. В ней ключом кипели силы, она хотела бы на крыльях облететь весь мир, на всё посмотреть, всё узнать и всё испытать. Боясь потерять её, он всё сильнее её любил, и от сознания, что он недостоин её, у него был виноватый вид.
— Хочу уехать. Не могу здесь жить! — упрямо твердила молодая попадья и, сама понимая, что это невозможно, раздражалась, плакала и мучила своего мужа. Забеременев во второй раз, она гневно говорила:
— Да что же это? Опять ребёнок! Что же ты хочешь сделать из меня?
— Дети — благословение семьи, — отвечал отец Михаил и втайне радовался, что, едва успев родить второго, она уже чувствовала в себе третью жизнь. Он спешил приковать к себе беспокойную жену самыми крепкими цепями, какими только мог, потому что в глубине души в нём всё время был страх, что, как птица с большими крыльями, она вдруг снимется и улетит.
— Это проклятие моё! — кричала молодая попадья и с ужасом смотрела на округляющийся живот. — Ты хочешь задавить меня детьми.
С виноватым, но торжествующим лицом отец Михаил водил её по вечерам гулять. Они осторожно спускались по крутой тропинке в монастырский овраг, поднимались в поля с разбежавшимися во все стороны дорогами, которые вели вдаль, в неизвестный, чудный мир, обходили кругом сонных и немых Копаней и мимо мерцающего огоньками кладбища возвращались домой.
Ложась рядом с мужем на супружества постель, молодая попадья с ужасом чувствовала, что ей никогда не вырваться от детей, что она проживёт, как в подземелье, всю жизнь и неведомо зачем, распавшись в потомстве, ляжет на кладбище, под таким же огоньком.
III
В семье было уже четверо детей, когда в неё вошёл новый член. Двоюродный брат отца Михаила, Никанор, бывший послушником в Копайском монастыре, оставил его весной и поселился в священническом доме.
Он пять лет скитался по монастырям, готовясь принять пострижение, но теперь неожиданно порвал всё и сделался пока причетником при церкви в Копанях.
Это был худой, высокий юноша с измученными глазами, с прекрасным голосом, за который его ценили в монастырях. Матушка Елена заслушивалась, когда он иногда начинал петь, сидя у себя в светёлке наверху.
Он помогал отцу Михаилу в церковной службе и в требах, раздувал кадило, читал и пел на клиросе, а в свободное время уходил в монастырский овраг. В самой глуши его была выкопанная в скале песчаника большая пещера. Он забирался туда и лежал там часами, вытянув на песке худое тело, слушая смутный гул ветвей и глядя, как спархивали и прыгали у входа малиновки и овсянки.
Он мало говорил, когда бывал в семье и сидел в стороне, понурив изнурённое лицо, едва опушённое светлыми волосами усов и бороды. Он никому не рассказывал, что у него было на душе, но ему было тяжело, и эта тяжесть, как камень, давила всех.
— Плохо, плохо нашему Никанору, — озабоченно говорил отец Михаил своей давно смирившейся и переставшей рваться вдаль жене. — Прямо боюсь, как бы не наделал чего с собой. Хотя бы ты, Елена, разговорила его. А то мало ли что пойдёт на ум…
Добродушный поп, искренне любивший всех своих, не раз поднимал этот разговор. Матушка Елена, давно с интересом смотревшая на Никанора, всё чаще начала заговаривать с ним. Женская ласка и тонкость находят ключ ко всему. Больная душа всегда ждёт участия. Отец Михаил только радовался, видя, как скоро, каждый день по вечерам, молодая попадья стала уводить его двоюродного брата гулять.
Они ходили по лесам, обходили полями кругом Копаней, сидели на кладбище, но чаще всего спускались в монастырский овраг. Никанор не любил открытых мест. Увлекая его за собой, матушка Елена весело сбегала по крутым тропинкам вниз. Подавая друг другу руки, они переходили через ручей, сворачивали в боковые извивы, пробирались в тёмной чаще нависших ветвей и всегда приходили к пещере. Послушника тянуло к ней.
Он садился у входа и погружался в себя. Матушка Елена взбиралась на верхушку скалы, смотрела на овраг, извивающийся, как зелёная река, заглядывала вниз на спину сгорбившегося человека и шаловливо бросала в него пригоршни песку. Поднимая глаза, он видел стройную фигуру и смеющееся лицо, а кругом так бодро шепталась весенняя листва, так мирно звенел ручей и так безмятежно зеленело вечернее небо, что в тёмной душе начинал брезжить рассвет и неожиданно чудилось, что не всё ещё кончено, что можно ещё как-то жить.
Уступая просьбам, он иногда потихоньку пел, иногда рассказывал о том, как жил и что видел в монастырях. Потом всё чаще стал говорить о себе.
Робкий и слабый, он с детства мечтал об уединении и келье, чтобы молиться за мир. Уже в семинарии он жил, как монах, и два года был счастлив в монастыре, пылая перед Богом, как восковая свеча. Но увидел неверие и обман и стал сомневаться во всём. Напрасно он изнурял себя молитвами и постами, напрасно принимал тяжёлые епитимии, напрасно, в поисках святости, переходил из монастыря в монастырь — с его глаз точно спадала слепота и настало время, когда колеблющаяся вера рухнула совсем.
Теперь у него нет ничего. Всё отвратительно и мерзко, как падаль. Для чего же жить? Куда идти? Священство невозможно. Как учить других тому, во что не веришь сам? Ничего другого он не знает, сил больше нет, и остаётся только одно…
Он не договаривал, что, но матушка Елена понимала, глядя на его мертвеющее лицо и подёргивающиеся пеплом глаза. Она не могла говорить с ним о вере, да она и не знала, верит ли сама, но всё её сердце откликалось на муку отчаявшегося человека, и она утешала его простыми словами, гладя по бессильно повисшей руке. Певучим звуком слабый и мягкий образ входил в её душу. Из горячей жалости рождалось желание спасти его, и незаметно росло то, чего она не понимала сначала сама.
Она первая, увидав слезинки на его глазах, опустилась рядом с ним и прижала его голову к себе. Она первая, через несколько вечеров, забывшись в жалеющей нежности, стала его целовать.
Матушке Елене было двадцать шесть лет. Она не любила ещё никогда. Все её силы хлынули в эту любовь, которая вспыхнула, как большой огонь, и сразу сожгла всё, чем она до сих пор жила. Никанор стал для неё всем. Он был её брат, её муж, её любовник и её нежное, больное дитя. Он был страдальцем, сломившимся под тяжестью креста, и своими ласками она прогоняла смерть, неотступно стоявшую в его душе.
Она ни в чем не каялась и ничего не боялась. Она загорелась и пылала в одном желании вернуть его к жизни, спасти и уйти с ним туда, куда она рвалась пять лет тому назад. Целый месяц она прожила, как в чудном и страшном сне, едва понимая то, что было кругом, с утра ожидая вечера, когда они спустятся по крутым тропинкам в овраг и останутся одни в пещере, на чудесном прохладном песке, где в мучительно сладком надрыве она, лаская его, будет повторять:
— Погоди. Отдохни. И мы с тобой уйдём!..
IV
А отец Михаил не замечал ничего. Он весело исполнял требы, отчётливо и благоговейно служил, ходил в гости к доктору, земскому начальнику и к купцам, иногда играл в карты, иногда немного выпивал, но, главное, любил пчёл. Он любил их настоящей страстной любовью, по целым дням возился около ульев, с увлечением мог говорить о них по целым часам, за шесть лет развёл в огороде целую пасеку, завязал сношения с окружными пчеловодами и хлопотал над устройством пчеловодных курсов.
Он не замечал ни изменившихся лиц своего двоюродного брата и жены, ни их долгих прогулок, ни их понимающих взглядов, ни их коротких слов. Он был весел, бодро ходил, постукивая посохом, по местечку, всей душой любил детей и попадью, и когда вечером, стараясь обойти его, матушка Елена и Никанор, не глядя, проходили через огород, весело кричал:
— Гулять? Гуляйте, гуляйте! А у меня полон рот хлопот.
Но если не замечал он, то замечали другие. В маленьком местечке сотни зорких глаз. Ему подбросили письмо.
Три дня отец Михаил не мог говорить и смотреть ни на жену, ни на двоюродного брата. Осунувшись и побледнев, он болезненно думал.
На четвёртый день он решился спуститься в овраг.
Замирая от ужаса и стыда, он спешно пошёл к пещере и заглянул в неё.
Он не вернулся вместе с Никанором и попадьёй домой, а до поздней ночи ходил по окрестным дорогам и по пустым полям. Ветер развевал его рясу, с серого неба пролился и промочил его дождь, но он не замечал ничего, забирался в чащу, стоял там, прислонившись к мокрым пням, и снова ходил, повторяя:
— Господи! Что же тут делать? Умудри.
Он долго стоял в тёмных сенях, прежде чем войти в дом, и когда вошёл, то поглядел с недоумением на попадью, кормившую ужином детей, заперся в спальне и сидел.
Матушка Елена сама пришла к нему. Открыла дверь и, смело закинув назад лицо, проговорила:
— Михаил! Я хотела сказать это тебе сама. Завтра мы с Никанором уедем.
Не дождавшись ответа, она ушла, а отец Михаил лёг вниз лицом на постель.
Целую ночь матушка просидела с Никанором, поддерживая и ободряя его. Она была счастлива в эту ночь. Она не знала, куда они пойдут и что будут делать. Но теперь, когда рухнуло прошлое, в ней зажглась радостная решимость. Прежде её угнетал и давил обман. Теперь в ней была только одна смелая любовь и жажда зачеркнуть всё старое и начать всё сначала. Ей не было жаль мужа. Она только отдалённо жалела детей. Проснулось заглохшее, прежнее и, как развязанная птица, матушка Елена уже взмахивала крыльями, чтобы лететь, схватив на свою спину слабого птенца.
А он растерянно сидел и молчал.
— Завтра мы уйдём, — говорила она, крепкими шагами шагая по светёлке, где жил Никанор.
— Куда?..
Это было не важно. Важно было то, что надо было уйти. Нельзя было оставаться здесь. А куда? Сначала к своим, или к сестре, потом как-нибудь устроиться, что-нибудь найти. Потом в Петербург. Он будет учиться петь.
В радостной решимости она прижимала его к себе, а он брался за голову и молчал.
Они не ушли никуда. Отец Михаил вышел утром из спальни и сел пить чай. Матушка Елена села в последний раз за самовар и стала поить молоком детей. В этот день были крестины. Отец Михаил тихо сказал:
— Где Никанор? Надо идти крестить.
Трясущимися руками Никанор приготовлял купель, зажигал свечи, пел и читал. Всё было как всегда, только когда отец Михаил говорил ему, то избегал на него смотреть.
После обеда отец Михаил коротко и сильно сказал своей жене:
— Никуда ты не уйдёшь! Я тебя не пущу.
В добродушном и весёлом попе заговорили голоса отцов. Упало тяжёлое испытание. Надо было стойко его нести. Священнический сан выше всего. Его нельзя унижать. Хотя и виновная, жена должна оставаться с мужем и детьми.
— Уйду! — заносчиво говорила молодая попадья. — Не удержишь. Не думай. Я не хочу с тобой больше жить.
— Елена! — торжественно отвечал отец Михаил. — Некуда тебе уйти. У тебя ни паспорта, ни денег. Не губи себя. И потом, — прибавлял он внушительно, — уважай мой сан.
— Уйду к родным, — настойчиво твердила попадья.
— Не уйдёшь никуда. Я не пущу.
В священническом доме настали тяжёлые дни. Видимо, всё оставалось по-прежнему — обедали, ужинали, пили чай и отец Михаил отправлял службы и требы с причетником Никанором.
Но после ужина, гневно закинув голову, матушка Елена уходила в светёлку, наверх, а отец Михаил целую ночь ходил. Он ходил по спальне, по столовой, заходил в детскую, глядел на спящих детей, сидел и плакал едкими слезами, слушая смутный гул голосов наверху. Он поседел и между бровями у него прорезалась глубокая черта.
Всем было тяжело и трудно сказать, кому было тяжелее. Может быть, матушке Елене было легче всех. Она нападала и мстила, надеясь победить, то осыпая ласками слабого Никанора, то умоляя, то убеждая, то гневно упрекая за то, что он так боязлив.
Через неделю, когда матушка Елена поднялась в светёлку, чтобы позвать его вниз, по всему дому разнёсся её дикий крик. Когда прибежала нянька и за ней отец Михаил, она лежала без чувств на полу, а у стены висел, поджав ноги, Никанор. Он перекинул через гвоздь в стене верёвку, надел на себя петлю и, подтянув ноги полотенцем, повис.
V
Три дня мёртвый лежал в доме на столе и потом в гробу. Стиснув зубы, матушка Елена ходила вокруг него, поправляла подушку, присаживалась рядом и всплёскивала руками, точно неожиданно что-то поняв. Как далёкий ужас, в ней стояла мысль, что, может быть, это она убила слабого человека.
Когда приходило время, отец Михаил торжественно служил панихиды, потом подолгу, как окаменелый, стоял и смотрел. Мёртвому он мог смотреть прямо в лицо. Соперник, которого он так ненавидел, который так предательски отнял всё, что он любил, сам покарал себя и ушёл.
Он хоронил двоюродного брата со всей пышностью, с какой только мог, и трудно было узнать весёлого и добродушного попа в суровом служителе Бога, провожавшем в последний путь своего врага.
Когда, после обедни, сняв рясу, в одной епитрахили, он вышел из алтаря и отчётливо начал читать:
— Отпускаю тебе грехи твои… — это не был один обряд. Сначала дрогнув, суровый голос попа окреп и зазвучал. Он отпускал своего брата к Богу без тяжести своей ненависти и вражды.
Стоявшая у гроба матушка Елена рванулась и, закричав, упала на тело. В первый раз обратившись к ней, отец Михаил повелительно произнёс:
— Елена, перестань! — и, дочитав, вложил в руки мертвеца отпуск.
С кладбища матушку Елену без памяти отнесли домой. Полтора месяца она была больна и, когда выздоровела, у ней уже не было сил ни на что. Она пришла на кладбище и упала лицом на свежий холм.
Постепенно старая жизнь захватила прежние права. Далеко откинутый бурей, отец Михаил стал приближаться опять. Он, по-прежнему, любил, он был готов всё забыть. У матушки Елены не было сил его оттолкнуть.
Через два года она родила пятого, сына, ещё через год шестую, дочь, и ещё через год седьмого, сына.
Ещё больше боясь потерять свою беспокойную жену, отец Михаил неутомимо ковал цепь, всё крепче связывая её семьёй. Чем прочнее делалась цепь, тем веселее и увереннее становился он.
Семья прибавлялась каждый год. Всё больше становилось крику и шуму, всё больше хлопот, чужие жизни всё больше заглушали собственную жизнь попадьи. Она кормила, шила, чинила платье, носила и рожала новых детей. Она готовила обед, разливала чай, учила, карала и миловала маленьких попят. Захватив, её незаметно перемалывал мягкий жёрнов.
Но для неё это была не жизнь, а только её ничтожная часть. Упрямо ускользнув от всего, настоящая жизнь ушла на кладбище, на могилу несчастного Никанора. Сначала матушка Елена проводила там целые дни, и отец Михаил не мешал ей. Когда первое горе прошло, она стала уходить туда только по вечерам и снова приблизившийся к ней отец Михаил прибегал за ней, хватал за руку и уводил.
Потом он перестал ревновать. Он снова почувствовал незыблемость своих прав, и матушка Елена могла сидеть на могиле, сколько хотелось её душе.
Приходя сюда, она точно отпирала комнату, замкнутую целый день, и, никем не стесняемая, свободно двигалась в ней.
Всё случайное, копайское — отец Михаил, дети, семейная жизнь, нужда — оставалось позади. Здесь было только незыблемое, настоящее — её единственная любовь. Никанор не умер. Он только ушёл. Очистившись и преобразившись, он лежит под землёй, в песке, таком же белом и нежном, как там в пещере, где она хотела его спасти.
Матушку Елену долго мучило то, что она совсем забыла его лицо. Она помнила его фигуру, его движения, его слова, но она не могла вспомнить его лица. Ей казалось, что Никанор не хочет ей чего-то простить.
Но через год, никем не посаженный, на могиле начал разрастаться розовый куст. Это было знамением для неё. С тайной и глубокой радостью она ждала и, действительно, скоро Никанор явился ей во сне. Он подошёл к ней, она увидела его ясное и спокойное лицо и он сказал:
— Я тебя люблю и буду с тобой всегда.
С тех пор матушка Елена видела его почти каждую ночь. Он стал неразлучен с ней. Он говорил с ней, внушал ей глубокие и важные мысли, поддерживал и ободрял её, когда ей было тяжело. Он знал всё, что происходило в семье, успокаивал и давал советы, когда её волновали дети, указывал, когда она была не права в ссорах с мужем, и помогал даже в мелочах. И он же через несколько лет дал ей последнее утешение, сказав:
— У тебя подрастает старшая дочь. Надейся и сделай так, чтобы она получила то, чего не досталось тебе.
После этого у матушки Елены появилась большая цель. Брезжущим светом она озарила тёмную даль, и матушка Елена стала жить, перенеся все надежды и мечты на своих детей, примирённо ожидая времени, когда и она ляжет рядом с Никанором в сухой песок, под ровный гул сосен и дубов.
Последняя борьба
I
Кружок растаял сам собой. Часть скосила коса. Часть разбрелась неизвестно куда. Остальные ушли в сытую жизнь. Павел Осипович остался один.
Эта зима была ужасна для него. Уже год, как его исключили из университета, и он не предпринимал ничего. Жил случайной работой, которую доставал у знакомого статистика, плохо ел, никого не видел, по целым дням сидел в Публичной Библиотеке и мучительно копошился на тёмном, холодном и липком дне.
В глухой переулок, где он жил в ободранной, жалкой комнате, заходили к нему только Катя Незванкова и Перелётов, уже поженившиеся, оба маленькие, жалкие, испуганные, по-прежнему робко верившие в него. Но Павел Осипович только пугал их. Он то молчал, как истукан, то плакал, то начинал возбуждённо говорить непонятные слова.
Ему было всего 27 лет, но за эту зиму он окончательно полысел. Его угловатый череп блестел, как полированный шар. Глубокие складки прорезались между бровями, худое лицо стало коричнево-жёлтым, под длинным и тонким носом висели тёмные усы, с подбородка тёмным клином спускалась узкая борода. Катя Незванкова — всё-таки женщина! — находила, что Павел Осипович стал очень хорош. Похож на средневекового художника — забыла только какого. Но его глаза! Они преследовали её, как кошмар. Они сделались совсем чёрными — так сильно расширились зрачки. Эти глаза снились ей по ночам. Она вскакивала, похолодев от ужаса, и ей казалось, что жить больше нельзя, потому что вся жизнь попала в тупик…
* * *
Когда настала весна, Павел Осипович стал очень много ходить. Беспокойные предчувствия погоняли его. Он ходил по вонючим, с облупившимися берлогами и ревущими трактирами улицам, где кишели кривоногие дети, озверелые мужики, пьяные и хулиганы. Его узкогрудую, длинноногую фигуру встречали на главных улицах, на рынках, на мостах, в рабочих кварталах и общественных садах. Жадно оглядываясь, он порывисто шёл, и всё больше отчаяния было видно в его блестящих глазах.
— Какие страшные, слепые и немые лица!.. Какие птичьи, рыбьи, звериные глаза, лбы, губы, носы! Нет голов — только морды! Нет духа — одна беспомощная, изуродованная, смрадная плоть!..
На него оборачивались иногда — такое у него было измученно-вдохновенное лицо, и такие он делал странные жесты руками, точно у него рвался отчаянный крик:
— Придите ко мне!..
* * *
Белые ночи — сумасшествие Петербурга. Бледно-мерцающее небо, чёткие отражения в бездонных водах, широкие перспективы слепых улиц и мёртвых площадей, по муравьиному расползающиеся кучки людей, громадный призрак туманной реки…
Павел Осипович перестал спать. Он целые ночи проводил на набережной Невы. Взвившийся над площадью всадник, могучий собор, адмиралтейство, крепость на той стороне и дворцы — особенно зимний, коричневый, с колючей крышей и извилистой оградой, точно лапы, голова и хребет дракона — вот были враги, каменные чудовища, властно разлёгшиеся по берегам мистической реки.
Неодолимая сила тянула его сюда. Громады оживали, в них чудились колоссальная тяжесть и тупая прожорливость допотопных зверей. Они потягивались и шевелились, не зная дум и безжалостно размалывали в кровавую кашу мириады существ. Потрясённый Павел Осипович убегал, но возвращался, снова крался и, как заворожённый, смотрел.
Ужас бессилия! Разве возможна борьба? Ведь это удары о гранитные глыбы обезумевших от отчаяния комаров! И эти немые лица ползущих у ног чудовищ людей, уже размолотых, безголовых, не понимающих и не ищущих ничего!..
Действительность сдвигалась, в голове закипал бред. Павел Осипович проклинал, грозил кулаками, кусал землю и бился о каменные парапеты головой. Потом ослабев, подавленный мраком, сидел в прилегающих скверах.
И из мрака надвигалось непонятное, ползло, как тяжёлая туча, мгновенными молниями сулило какое-то освобождение и свет. Слабый мозг ещё не понимал.
Но в одну из ночей это произошло. Лопнула мёртвая кора и, вырвавшись, заплясало под черепом раскалённое добела и слепящее — не мысли и образы, а живое, более сильное, чем он сам. Прежний человек мгновенно сгорел — Павел Осипович переродился и с невыносимым восторгом почувствовал, что стал борцом…
* * *
Через три дня после этого Катя Незванкова получила через посыльного толстый пакет. Когда она с удивлением раскрыла его, там оказалась связка гектографированных листков. Наверху каждого стояло:
Манифест освобождения духа!
Оставшимся, верным, ждущим!
Ниже была печать, представляющая круг с нацарапанным внутри словом: «Итак» и дальше шёл текст:
«Товарищи! Возглашаю освобождение! В эту ночь соединение сил. На бесконечном мосту против Зимнего Дракона в молчаливом громе объявлена война. Черпаю сознание, раздаю всем дух.
Великая формула Итак:
Эфирное сознание! Избранный Проводник! Помазание! Борец!
Вихри токов мирового эфира, которых центр. Эфирное сознание через проводник плавит из плоти дух. Я!! Громадное напряжение воли избранного, освободителя, проводника. Товарищи! Итак! Иду в огненную борьбу переродить плоть в дух. Тайна: великое влияние через прикосновение искрой мирового сознания от пальцев рук. Эфирное помазание создаёт борцов. Ухожу. Устрою твердыни в глубине страны. Дам генеральный бой. Во главе армии духа вернусь назад. Ждите. Распространяйте.
Вождь. Освободитель. Павел. Проводник. Итак».Прочитав это, Катя Незванкова долго плакала от горя и страха. Затем, когда вернулся со службы Перелётов, они вместе побежали к Павлу Осиповичу, но оказалось, что он уже исчез. Хозяйка рассказала им, что он два месяца не платил за квартиру, возвращался домой только по утрам, ничего не ел, был не в себе, плакал, разговаривал и будто молился сам с собой, а четыре дня тому назад прибежал утром весёлый, целый день плясал и кричал, потом ушёл и с тех пор пропал.
II
А Павел Осипович в это время уже мчался на поезде, с которым прежде каждую весну уезжал к себе домой. Всё было отлично, прекрасно, великолепно! Правда, попасть на поезд оказалось не так-то легко. Пришлось немало потрудиться, чтобы обмануть встревоженных манифестом врагов. Запутывая следы, он два дня колесил по Петербургу, пешком прошёл 15 вёрст, и на маленьком полустанке купил билет и незаметно сел.
Зато дальше всё пошло хорошо. Его ждали, машинист оказался своим и сейчас же тронулся в путь. Хитро усмехаясь, Павел Осипович улёгся на верхнем месте, лицом к стене, и поезд, чем дальше, тем мчался сильней. А ночью он нёсся со страшной быстротой, то с гулом раскатываясь по рельсам, то взвиваясь на воздух и вытягиваясь там длинной змеёй.
Под вечер следующего дня Павел Осипович вышел на маленькой станции, крадучись, прошёл по перрону туда, где через палисадник был выход на большую дорогу и, едва сдерживая нетерпение, пустился шагать.
Через полчаса он был уже далеко в степи. Всё было великолепно. Здесь его тоже ждали. Зеленеющая степь широко расстилалась по всем сторонам. Там и сям вспухали холмы. Небывало громадное солнце опускалось за одним из них, и на пылающем веере чётко рисовался воткнутый в вершину шест.
Это был знак. С торжествующим криком Павел Осипович пустился бежать. Выросшие за спиной крылья стрелой взнесли его на вершину холма. Он вырвал шест и запел песнь свободы голосом, слышным на весь мир. Степь была в крови. Это так! Скинув с себя рубашку, он топнул ногой, и белое превратилось в яркий кумач. Красное знамя развевалось над холмом. Стреляли пушки, гремели клики, громадные птицы радостно летели во все концы, солнце, склоняясь, опускалось за горизонт…
Взмахнув своими крыльями, Павел Осипович полетел. Накинувшись сзади, чёрные духи оторвали их, и он кувырком покатился вниз. Первая борьба! Он быстро отбился, подмял самого большого под себя и с песней победы помчался вперёд.
В овражке, поросшем бурьяном, он кинулся на колени. Затихла степь, тёмное небо бороздили огни. Вспыхнуло сиянье, огненная змейка, изогнувшись, прорезала воздух и слетела вниз. Пропилив голову, она зажгла его мозг, и с криком восторга Павел Осипович упал на землю лицом. Эфирное сознание снова снизошло на него!..
* * *
Было совсем темно, когда Павел Осипович спешил по пустынным улицам родного городка. Низко висели тучи, накрапывал тёплый дождь, лениво лаяли собаки. Вот и дом отца. Комнаты ярко освещены. Тоже ждали, ждали давно!..
Подтянувшись руками за ставни, он заглянул в окно. Вся семья: мать, отец, брат Дмитрий, четырнадцатилетняя Соня — все сидели за большим столом, радостно говорили о нём и нетерпеливо смотрели на дверь.
Павел Осипович соскочил. Пора! Обежав кругом дома, он по лестнице взобрался к слуховому окну на чердак. Ему нельзя было войти, как обыкновенному человеку, через дверь. Он должен был явиться сверху. Спотыкаясь о балки, он прошёл по чердаку, спустился по внутренней лестнице в коридор и распахнул дверь.
— Да будет этот дом твердыней, откуда начнётся освобождение духа!
Среди восторженных восклицаний, решительными шагами он подступил к отцу, посадил его на стул и, нагнув ему голову, три раза дунул на темя. Коснувшись до него пальцами, вдохновенно произнёс формулу Итак и обратился к матери. Брат Дмитрий начал бороться. Павел Осипович со страшной силой вывернул ему руки и, восклицая: «Не сопротивляйся, безумец!» — совершил и над ним обряд. Соня с визгом пустилась бежать, но Павел Осипович догнал её и ворвался в кухню.
Там он мгновенно помазал помертвевших от страха горничную и кухарку и кинулся к кучеру Матвею, который служил в доме уже двадцать лет и был приятелем всех детей. Опрокидывая лавки и ведра, Матвей кубарем выкатился на двор, но с победным кличем Павел Осипович догнал его, повалился с ним вместе на землю, сел на него верхом и тоже помазал, произнося заклинания.
III
Недели через три после этого Катя Незванкова получила, наконец, письмо от своей подруги, Анюты Ключаревой, служившей фельдшерицей в том городе, откуда был родом Павел Осипович. Анюта Ключарева писала ей:
«Милая Катечка! Прости, дорогая, что так замедлила ответом на письмо, в котором ты спрашивала относительно Павла. Слишком уже тяжело было писать, да и дела случились разные — сильно заболела мама — так что захлопоталась и откладывала со дня на день.
Павел был, действительно, здесь, но теперь нет его уже и я сейчас расскажу тебе всё. Господи, как тяжело видеть гибель человека, подобного ему! Я так потрясена, что кажется мне, что нам, маленьким людям, совсем незачем жить. Доктора думают, впрочем, что это не безнадёжно, хотя верного предсказания сделать нельзя. Благоприятен тот признак, что сумасшествие приняло сразу такую острую форму.
А теперь вот, что произошло. Павел явился вечером к своим, страшно всех перепугал, потому что вышло это так неожиданно, точно он свалился с неба. Начал говорить дикие слова, пел, плясал, хватал всех и дул на головы, утверждая, что этим помазывает на новую жизнь. Потом вспомнил про меня и прибежал к нам.
У мамы слабое здоровье, она страдает болезнью сердца. Бедняжка чуть не умерла от потрясения. Вообрази себе: лицо красное, глаза сверкают, весь в грязи — я подумала сперва, что он пьян. Но — увы! — это было не так. Меня он тоже сейчас же помазал и дал мне важный чин в своём ордене духа, по левую сторону от себя, на пять ступеней ниже, чем он — так, кажется! — и это бы, конечно, ничего, хотя от неожиданности я и начала отчаянно кричать, но он помазал и бедную маму, и она от страшного перепуга не может оправиться до сих пор.
Не было никакой возможности успокоить его, он говорил, как граммофон, воевал с врагами, командовал армией, пел так, что у меня чуть не лопнула барабанная перепонка и был необыкновенно счастлив. А я в конце концов начала рыдать от отчаяния и ужаса. К счастью, прибежали его отец, брат и другие и с огромным трудом удалось его уговорить и увести, а то он непременно хотел лечь спать на мою постель.
Ему представлялось, что он получил откуда-то свыше дар перерождать людей и он вербовал себе армию, чтобы сделать какой-то переворот! Как это ужасно и больно! Не сомкнув глаз, я проплакала целую ночь, а на следующий день оказалось, что, пробушевав до утра, он побежал потом на базар, и там разъярённые мужики страшно избили его. Его арестовали и счастье ещё, что Осип Васильич, его отец, пользуется таким уважением в городе! Павла поместили прямо в больницу, и он целую неделю сидел у нас, но я не могла решиться его повидать, в такое буйство он впал. Прямо невероятно кричал и бесновался три дня, так что пришлось надеть смирительную рубашку — потом сразу утих, точно пришёл в себя. Тогда его отвезли в психиатрическую лечебницу в Харьков.
Мы были все очень рады и думали, что это выздоровление, но оказалось не так. Он притворился. Нарочно сдержался, вёл себя очень хорошо, обманул докторов и каким-то образом убежал.
Можешь представить себе отчаяние семьи! Совершенно неизвестно, где он теперь. Пропал, точно в воду канул. Его ищут уже целую неделю. И когда я подумаю, что он, сумасшедший, ничего не понимающий, бегает теперь где-нибудь по голой степи, что его, может быть, бьют, а может быть и убили уже, я сама почти схожу с ума. Ведь какой это был ум! И как мы верили ему! Дорогая Катечка, жизнь страшно тяжела. И здесь, в глуши, она ещё ужаснее, чем у вас. Загорелась тогда перед нами коротенькая заря, и точно в отместку стало ещё безысходнее и темней. И все гибнут, гибнут!.. Бедный Павел!..
Но слишком тяжело, да и записалась я, — надо кончать. Прощай, родная, целую тебя. Кланяйся Николаю. Как только будут новости, напишу. Твоя А. Ключарева».
IV
Когда на Павла Осиповича снова набросились враги, он защищался отчаянно, но его одолели, избили и связанного повезли. Он думал сначала, что его везут на казнь, и в ужасе бился, рыдал и звал на помощь своих. Оказалось, что это не так. Его привезли в сумасшедший дом, но не в тот, откуда он убежал, а совсем в другой, называвшийся «Центр». Этот сумасшедший дом лежал в подземелье, был ярко освещён искусственным солнцем, имел шестьдесят этажей и был населён больными, которым делали прививки отупения. В самом низу, в глубоком мраке находилась лаборатория угашения духа. По телеграфному распоряжению здесь была назначена для Павла Осиповича окончательная борьба.
Поняв это, он, как только его ввели в железную комнату, сейчас же громовым голосом пропел песнь освобождения и испытал величайший восторг: весь дом разразился восторженными криками — его знали и ждали здесь, и его сторонники, разбивая двери, неистово рвались, желая увидеть своего вождя.
Целую неделю Павел Осипович, чтобы показать, что он жив, пел, кричал, кувыркался и ходил в железной комнате на руках. В то же время он вёл очень хитрые и сложные переговоры с доктором, который являлся к нему уполномоченным от врагов. Этот доктор был почти сверхъестественным существом: дьявольски умён, с полслова всё понимал, имел на ногах копыта и на голове прядь волос, которая то прилегала, не смешиваясь, к остальным волосам, то свободно лежала на выпуклом лбу. Это имело таинственный смысл.
Хитростью, или предательством захватив Павла Осиповича в плен, враги, тем не менее, испытывали перед ним необыкновенный страх. Зная, какая громадная армия стоит за ним и избегая открытой борьбы, они всеми силами старались решить дело другим путём. Понимая, что тут может крыться адская хитрость, Павел Осипович долго не уступал. Но эфирное сознание снова змейкой пробралось к нему и подало весть, что он может согласиться, потому что всё равно победит.
Тогда двери железной комнаты были раскрыты, и ему предоставили свободу выходить. Очень быстро для Павла Осиповича всё стало ясным, как день. Весь сумасшедший дом — все больные, сторожа, служители, доктора и даже самая лаборатория в недрах земли — всё раскололось на две партии — за и против него. Обе партии, не переставая, дрались, и Павлу Осиповичу с огромным трудом удавалось сдерживать своих. Мелкие стычки были не нужны, даже вредны. Доктор с прядью волос был прав. Предстояла совсем другая борьба — не грубая, материальная, доступная всем, а тонкая, эфирная, доступная только одному.
Замирая от предчувствий, Павел Осипович быстро ходил по коридорам и палатам, изучал положение дел и подавал таинственные знаки своим. Его глаза вдохновенно сверкали. Он ждал.
Там был высокий, костлявый капитан. Каждое утро он, выходя из своей комнаты и выкатывая жёлтые белки, кричал: «Здорово, ребята!» И каждый раз хор голосов отвечал ему: «Здравия желаем, Ваше благородие!» Оказалось, там были солдаты!..
Капитан их учил, вытаскивал зазевавшихся из углов, с остервенением хлестал по щекам и кричал: «Под суд! В каторгу! Расстрелять!» Он яростно преследовал бунтовщиков и признавал только генерала. Каждый день, в 10 часов, в халате, с погонами из золотой бумаги, с отвисшей губой и оловянным взглядом, выходил, тяжело колыхая животом, генерал. Капитан рапортовал, солдаты, вытянувшись, кричали: «Здравия желаем, Ваше Превосходительство!» — и генерал бессмысленно кивал головой.
Капитан целый день, как нянька, водил его под руку, подобострастно рассказывал анекдоты, устраивал смотры и жестоко избивал бунтовщиков. Капитана все боялись, как огня.
Павел Осипович понял. Здесь-то, вот с этими двумя и предстояла ему окончательная борьба. Несколько дней, замирая от ужаса, он кружил около капитана и генерала, приближаясь и удаляясь, но ни на минуту не выпуская их из глаз. Потом время пришло. Подступив к ним на несколько шагов, он издали загородил дорогу и, глядя капитану прямо в жёлтые белки, прокричал таинственную формулу: Итак. Затем оглушительно пропел песнь освобождения и ушёл. Такой вызов он повторял три дня подряд.
Павел Осипович видел, как страшно были поражены его враги. В первый раз, капитан оцепенел, точно перед ним взвилась змея, а генерал затрясся, плаксиво махая руками. Во второй раз капитан хотел броситься на Павла Осиповича, но не посмел, а в третий — он быстро схватил генерала за руку и увёл.
Павел Осипович торжествовал. Завернувшись в халат, он целые дни возбуждённо шагал, знаками убеждая своих сторонников терпеливо ждать. Генерал больше не выходил. Выходил один капитан. Каждый раз, встречаясь с ним, Павел Осипович повторял вызов, и они делали круги, пристально глядя друг на друга.
Борьба надвигалась. Оставалось только избрать способ борьбы. Это не могла быть ни драка, ни поединок, ни другая какая-нибудь физическая мера сил. Освобождение Духа было ставкой — духовной должна была быть и самая борьба. Напряжённо думал об этом Павел Осипович и так же напряжённо думал капитан. Однажды, когда они были в одной комнате и, впившись друг в друга глазами, ходили вдоль противоположных стен, их обоих пронизала одна и та же мысль. Они оба посмотрели на стоявшую у окна шахматную доску и оба шагнули к ней.
Павел Осипович очутился первый. Пронизывая горящим взглядом своего врага, он ткнул пальцем в белые фигуры и воскликнул: «Итак!»
Вздрогнув, как от удара, капитан быстро повернулся и ушёл.
V
В первый раз в течение всей истории мира происходила такая грандиозная борьба. До сих пор сталкивались племена, народы, армии. Боролись за пастбища, города и рынки. Били друг друга дубинами, кольями, пулями и гранатами — и преходящи и ничтожны были результаты.
Теперь, в первый раз, в самом центре, в лаборатории угашения духа, столкнулись два представителя света и тьмы, и над таинственной доской начали окончательную борьбу.
Борьба была молчаливая. Молча, капитан привёл генерала и, посадив его против чёрных, сам вытянулся подле него. Молча сел Павел Осипович против белых. Молча двинули они первые фигуры и провели между прошлым и настоящим неизгладимую черту. Но за этой борьбой, затаив дыхание, следил весь сумасшедший дом, вся Россия, весь мир. Работали телеграфы, говорили телефоны, исчезли все остальные интересы — все ждали. Невидимой струйкой эфирное сознание буравило над головой Павла Осиповича крышу и потолок.
В 1 час 24 минуты последнего дня началась эта борьба и без перерыва, со страшным напряжением шла семь часов. Это не была обыкновенная шахматная игра. Старые правила были здесь ни при чем. Ни тот, ни другой не умели играть. Новые правила, по молчаливому соглашению, создавались и отменялись каждый момент. Маленькие духи, вселившись в фигуры, наступали, теснили, отступали, бросались из засады и окружали друг друга. Белые сразу начали нападать. Через полчаса генерал устал и, распустив нижнюю губу, сладко заснул. Двигал фигуры один капитан. Бледный, с облитым потом лицом, он стоял, как скала, но Павел Осипович торжествовал. Пронизывая сверхъестественным взглядом своего врага, он чувствовал, как тот внутренне, не переставая, дрожал.
Вечером пришла депутация всех стран и убедительно просила отложить борьбу до следующего дня. Под руки, с величайшими почестями, борцов развели. Павел Осипович, как убитый, заснул до утра.
На следующий день доктор признался ему, что он его тайный сторонник и уверен в победе. Павел Осипович знал это сам. Буравя потолки, эфирное сознание ближе и ближе подходило к нему.
В 1 час 33 минуты второго последнего дня снова началась борьба. Генерал уже не спал, а сидел с испуганным и плаксивым лицом. Павел Осипович наступал, чувствуя непобедимую силу в своих глазах. Капитан слабел, защищаясь из последних сил.
Ровно в 4 часа ударил гром. Пробив все потолки, эфирное сознание соединилось с Павлом Осиповичем навсегда. В диком восторге вскочив, он одним взмахом смахнул чёрные фигуры с доски. Генерал заплакал, как испуганное дитя. Громовым голосом Павел Осипович запел гимн торжества. Почернев, капитан выкатит глаза, раскрыл рот и грохнулся на пол. У него лопнуло сердце.
Весь сумасшедший дом кружился, прыгал и выл. Павел Осипович плясал танец победы над трупом врага. Торжественная депутация подняла его на плечи, и его понесли в железную комнату короновать.
1912 г.
Рекогносцировка
Рассказ кавалериста
Это было под Лаояном. Наш эскадрон был спешно переведён на левом фланге далеко в сторону и расположился в двух деревнях. Подозревалось обходное движение неприятеля. Дня через два после прибытия меня позвал эскадронный и дал приказ: взять двадцать человек и сделать рекогносцировку на Фун, или Хун — не помню — и на Лу-фу, две деревни, лежащие почти в горах. Получились сведения, что там показались японцы.
Мы разобрали маршрут по карте, я вернулся к себе, велел людям приготовиться, и часа через два мы выступили. Деревня Фун должна была находиться верстах в пятнадцати к северу. Доехав до неё, надо было взять на северо-восток, добраться по очень пересечённой местности до Лу-фу, расположенной на дороге, ведущей через какой-то перевал и оттуда, другой уже дорогой, вернуться назад, описав, таким образом, треугольник, вершина которого находилась на месте стоянки нашего эскадрона.
К ночи мы должны были дойти до Фун, сделать там привал и с рассветом тронуться на Лу-фу. Так это и случилось. Поднимаясь на возвышенности, спускаясь в пади, объезжая поросшие мелким лесом сопки, мы ещё до наступления темноты добрались до края котловины, по дну которой бежал порядочный ручей. Глазу открылась большая и глубокая долина, обрамлённая то пологими, то крутыми холмами, дальше переходящими в настоящие горы. По ту сторону, несколько влево, рассыпались фанзы большой деревни. Перед ней зеленели поля. До неё было версты три.
Я не стал подходить к деревне вечером. Выбрав подходящее место, сделали привал и провели ночь, не разводя огня. С рассветом спустились в покрытую туманом долину, проехали по мосту, перекинутому через обрывистые берега ручья и встретили нескольких китайцев.
— Япезэ ю? Японцы есть?
— Ми ю. Нет.
— Это деревня Фун?
— Да, Фун.
Осмотрели деревню и увидели, что из неё ведут две дороги, одна на север через ущелье, другая по холмистому краю долины вправо. Первая вела прямо в горы, вторая на Лу-фу. Тронулись по ней дальше.
Постепенно поднимаясь, дорога извивалась, как червяк по подножиям сопок, ныряла в пади, переползала через возвышенности. С обеих сторон стояли лесистые вершины. Иногда раскрывались узкие долины, и тогда можно было видеть далеко вперёд.
Бодро проехали так вёрст семь и неожиданно очутились у перепутья: дорога раздвоилась и вилкой побежала вправо и влево. Я долго разбирался по карте, долго советовался с вахмистром Соколовым, у которого на эти дела был прямо звериный нюх, и мы ничего не могли решить. Послали двух людей вперёд посмотреть, не соединяются ли дороги, или не уменьшается ли которая-нибудь из них — оказалось, обе дороги одинаково хороши. И левая, чем дальше, тем больше забирает влево.
Решили тогда двинуться вправо — это соответствовало карте. Проехали ещё с полчаса, дорога раздвоилась опять и пошла так двоиться чуть ли не через каждые пять вёрст. Держась всё время вправо, ехали так часа три. Уже давно должны были добраться до Лу-фу, а вместо этого кругом были одни дикие сопки, ущелья и где-то вдали, по краям маячили кумирни и дальние деревни. И как назло, ни одного китайца навстречу! Точно провалились все сквозь землю.
Увидели, наконец, впереди какую-то деревню — обрадовались страшно. Подъехали, опять разговор с китайцами:
— Япезэ ю?
— Ми ю. Нигде не видно.
— А это Лу-фу?
Ничего подобного. Совсем другая деревня. А Лу-фу влево, чуть не за тридцать вёрст. Мы взяли не ту дорогу и уехали совсем в другую сторону.
Выругались хорошенько. Составили с вахмистром военный совет, вернуться ли назад, или прямо отсюда добраться до Лу-фу, — решили ехать прямо. Всё-таки ближе. Было часа два дня. Сделали привал, сварили чаю, закусили, отдохнули часа три, взяли проводника и тронулись дальше. Снова поднимались на холмы, спускались в пади, переходили через ручьи, объезжали сопки, ехали так час, или полтора и вдруг столкнулись с японским разъездом.
Мы были на самом дне лощины, между двух сопок, а они выехали саженей за сто впереди из-за каменистого бугра. Сначала от неожиданности и мы и они встали, как вкопанные, потом сами собой затрещали выстрелы и, повернувшись, мы поскакали друг от друга прочь.
Очевидно, Лу-фу было занято японцами. Приходилось возвращаться обратно. Поднялись на холм, с которого съехали только что, видим — внизу, из-за бокового отрога сопки, выезжают четыре человека и потихоньку подвигаются вперёд. Чтобы отбить охоту, спешились, дали хороший залп, посмотрели, как они пустились удирать и поехали дальше. Через полчаса, когда сзади снова открылся горизонт версты на полторы, оглянулись. Оказывается, всё те же четыре человека пробираются издали за нами. Стрелять было слишком далеко, и сделалось скверно на душе. Когда за тобой следят, ощущение отвратительное. Так и чувствуешь, как чужой глаз щекочет тебе спину. Ехали невольно быстрее, чем обыкновенно. Стало понемногу темнеть. Миновали, не останавливаясь, деревню, в которой пили чай, проехали ещё около часу, Когда стало трудно разбирать дорогу, выбрали подходящее место на холме, поставили пикеты и сделали привал.
Оказалось, еды нет никакой. Путь был рассчитан на сутки, и днём мы съели всё. Нашлось только несколько сухарей. Сварили чай. Я пожевал немного сухаря. Люди, прижавшись друг к другу, растянулись на земле. Лошади жевали сено. Я сидел на камне, дрожал от холода. Смотрел на огромные, чуть не с кулак величиной звезды на чёрном небе, и у меня не выходили из головы эти четыре увязавшихся за нами поганца. Чего им было нужно? И вдруг явилась мысль: «А что, если Фун занят уже японцами?» Пока мы путались по дорогам, они спокойно могли пройти туда из Лу-фу, или из другого места. Я вспомнил про ту дорогу, которая вела из деревни через ущелье прямо в горы. Стало очень неприятно. Почему-то показалось, что в темноте со всех сторон ползут японцы, сейчас кинутся и закричать свой: «банзай!..» Спать нечего было и думать. Я напряжённо слушал и вздрагивал от каждого шороха.
Стало немного легче, когда из-за сопки вылезла красная луна и полегчало ещё больше, когда она взошла совсем и осветила окрестность. Посоветовавшись с вахмистром, мы решили подождать ещё с час, чтобы лучше отдохнули лошади, и я начал уже дремать, как вдруг сзади ударило раз и два, а потом затрещало и посыпалось, как показалось, со всех сторон.
Мигом вскочили на лошадей, подскакали пикеты. Оказалось, опять эти проклятые японцы. К тем четырём, что следили за нами, подошло, должно быть, подкрепление, и они снова тронулись за нами. Приходилось удирать.
Я особенно хорошо помню эту часть пути — стук копыт, позвякивание амуниций, белеющую дорогу, то светлые, то чёрные вершины, полоску зари на горизонте… Иногда я начинал дремать, и мне казалось, я еду не верхом, а в экипаже и подъезжаю к знакомой усадьбе, где меня ждёт великолепный ужин, потом вскидывался, оглядывался кругом, и у меня начинало щемить в сердце: что-то в Фуне?..
Взошло солнце. Я приободрился. Только глаза горели от бессонницы и кишки переворачивались от голода. До Фун было уже недалеко. Объехав крутую сопку, стали подниматься на последнюю возвышенность, как вдруг подскакал передний дозор и рапортует, что деревня занята японцами. Выдвинулись из-за отрога, закрывавшего вид на лощину и увидели следующее: около фанз двигались фигурки, весело курились дымки, вокруг деревьев у коновязей стояли лошади, а по дороге через лощину солдаты вели к ручью лошадей. Было, по меньшей мере, пол эскадрона. Очевидно, они только что пришли и как раз по той дороге через ущелье, о которой я думал ночью.
Всё это версты за полторы. Я смотрел, смотрел и думал только одно: «Ловко!.. Мы попались в западню: дорога вперёд была закрыта, сзади напирал разъезд». Соколов говорил:
— Ваше благородие! Не иначе как нам по этой дороге проскочить на мост. Бог даст, прорвёмся.
Не доходя до деревни, дорога для сокращения пути делала обход и через гаоляновое поле вела прямо к мосту. Дальше, за ручьём, вспучивались холмы. Какие они были знакомые и родные! За ними, за пятнадцать каких-нибудь вёрст были свои. И вдруг:
— Ваше благородие! Разъезд.
Из деревни показался отряд человек так в десять и рысью тронулся прямо по направлению к нам. А солнце так и разгоралось, на сопках ползал ещё туман и видно было, как весело и бодро шли лошади.
— Ваше благородие! — говорил Соколов. — Не иначе, как залп, потом пачками, пока они до нашей дороги не дошли. Напугаем и, авось, проскочим.
Какая у меня была физиономия, не знаю, но у Соколова она была серьёзная, и у солдат лица точно окаменели. Спешившись, люди придвинулись вперёд, подпустили японцев шагов на пятьсот. Залп, потом треск пачек, эхо. Разъезд осадил, метнулся в сторону, одна лошадь упала, другая понеслась без всадника, а мы уже садились в седла, — шашки вон! карьером! — и скакали вниз.
Что было дальше, я помню смутно. Лошадь сразу вынесла меня вперёд, в деревне поднялась тревога, минут на десять всё закрыл гаолян и кругом только стучало, точно стрекотали цикады. Потом я смотрел на мостик, приближавшийся с каждым мгновением. Видел суету около него, видел, как прыгали вперёд белые дымки, — застучали доски, мелькнула вода, и я скакал уже дальше, поднимаясь к холмам, за которыми было спасенье. Оглянулся, — растянувшись лентой, люди догоняли меня. Скакал дальше, оглянулся ещё и удивился. Рядом со мной скакал уже, почему-то поддерживая меня под руку, Соколов. Хотел что-то понять, — гляжу — с другой стороны поддерживает меня рядовой Хохлов. Почувствовал, что в руке нет шашки и смутно понял, что случилось что-то важное. Лошадь хрипела от усталости, я твердил: «Тише, тише!» — голова моя не хотела держаться прямо, а падала то вперёд, то назад, на ней не было фуражки, и я очень удивлялся, зачем лошадь прядёт ушами и отчего у Соколова такое суровое лицо.
Долго ли так скакали, не знаю. Я пришёл в себя, когда ехали уже шагом и кругом было много своих. Навстречу нам, оказалось, выскакал наш разъезд. Шёл дождь, было холодно. Я никак не мог понять, зачем мне протыкают спину калёным прутом и умолял, чтобы меня положили на землю. Но меня держали под руки и везли.
Потом я лежал на спине на лавке, или на столе, не знаю. Надо мной копошился фельдшер и что-то делал на моем животе. Я хотел подняться, но меня снова проткнуло раскалённым прутом и меня сейчас же перевернули вверх спиной. Я спросил:
— Я ранен?
— Да.
— Во что?
— В живот. Да так, — говорит фельдшер, — ловко, что точно палкой насквозь. Спереди вошло, сзади вышло.
Должно быть, пуля попала в меня в тот момент, когда мы подскакивали к мостику. Из людей было убито, или ранено четверо — они свалились с лошадей и остались там. Остальные проскакали удивительно благополучно. А наш эскадрон, оказалось, был спешно передвинут ещё дальше вперёд и на его месте остался только этап.
Фельдшер почистил мне края обеих ранок, вытащил приставшие волоски, смазал йодом, забинтовал и философски сказал:
— Вишь какое счастье бывает! Не ели вы целые сутки, кишки у вас были пустые, — ну, и рана может оказаться пустяком. Проскочила пулька, и всё сейчас же и склеилось. А будь кишки полные, неприятно!..
На рассвете меня положили в одноколку, спереди сел санитар и повёз меня в госпиталь. Ехать приходилось вёрст пятьдесят.
Я находился в полном сознании, только в голове был туман, потому что мне дали каких-то капель. Всё остальное ушло. Осталось только одно — раненый живот и постоянная боль. То ныл весь живот, то болело спереди и сзади, то сверлило в глубине, то перекидывалось на ногу, на грудь, то вдруг, при толчке, протыкало насквозь, так что я кричал. А стонал всё время, не переставая, тихонько и жалобно, для собственного развлечения. И всё время смотрел на небо и на плывущие облака, а в голове, точно человек за занавеской, стояла мысль, но какая, я никак не мог додумать, потому что меня встряхивало, перекидывало, подбрасывало, и приходилось употреблять все усилия, чтобы беречь раненый живот.
Я додумал это только вечером, когда мы остановились на ночлег в деревне, занятой пехотой. Я заснул, проспал несколько часов, проснулся, и в голове у меня ярко встала мысль:
— Я ранен в живот, и такие раны почти всегда смертельны. Я умру.
Сначала я ужаснулся и хотел плакать и кричать, потом быстро примирился. Что-то сломилось, часть души точно растаяла без следа, и я начал думать, что такое смерть, но ничего не мог понять. А через короткое время пришли новые мысли, что, может быть, я и не умру. Я вспомнил, как фельдшер говорил, что, если кишки пустые, то пуля только проскочит и там сейчас же всё склеится, и считал, сколько же времени я не ел. Выходило, что обязательно должно было склеиться. Вспомнил, что от ран в животе умирают в страшных мучениях и подумал опять: «А у меня никаких мучений нет. Просто ноет, как обрезанный палец». Но прислушался и почувствовал, что внутри поднимается и подступает невыносимая боль. Ужаснулся, облился потом и так колебался между отчаянием и надеждой до самого утра. А лежал я в фанзе, рядом храпел санитар и ещё кто-то спал, и я ослабел до того, что не мог достать фляжки с водой. Меня мучила страшная жажда, я кричал санитару, чтобы он проснулся, но вместо крика получался один писк.
Утром повезли дальше. До госпиталя оставалось двадцать с чем-то вёрст. Местность была ровная, но дорога страшно выбита и трясло невыносимо. Вчера у меня были ещё силы придерживаться на толчках руками, теперь же я так ослабел, что переваливался, как куль. Госпиталь казался мне светлым раем, где можно вытянуться и блаженно лежать, и я всё время стонал и спрашивал: «Скоро ли? Скоро ли?» Санитар бодро отвечал, что уже скоро, но мы ехали, ехали и кругом была только пустая степь и сопки по краям. Я смутно видел, что он начинает беспокоиться, привстаёт на козлах, оглядывается по сторонам. Вспоминал, что уже давно мы не встречали ни одного солдата, наконец понял, что что-то неладно.
— В чем дело?
— Ваше благородие, так что заблудились…
Оказывается, взяли не тот поворот и уехали куда-то в другую сторону. Повернули, долго ехали назад, встретили китайцев, расспросили их, повернули ещё раз и, наконец, запутались окончательно.
Тут началось отчаяние. Солнце палило, лошадь помахивала хвостом и шагала, меня встряхивало, перекидывало, подбрасывало. Я впадал в забытьё, приходил в себя от невыносимой боли, снова впадал в забытьё и, как кошмар, всё время стояла страшная мысль, что в кишках сейчас расклеится и тогда конец. И меня всё везли, везли, перекидывали справа налево, и я плакал и умолял об одном, — чтобы меня положили на землю и дали отдохнуть.
Потом я помню только одно. Была ночь. Необыкновенно ярко светила луна, и мы стояли на бесконечной, огромной равнине. Я лежал, смотрел на чудесное мерцание впереди, внимательно слушал, и мне казалось, что я у себя дома, лежу на балконе, на гамаке и рядом стоит приказчик и что-то говорит. Пришёл немного в себя — вижу, на меня смотрит, вытаращив глаза, белый, как мел, санитар и твердит:
— Ваше благородие! Поют!..
— Ну, так что же?
Я как раз и слушал отдалённые, весёлые звуки, доносившиеся откуда-то из степи и мне представлялось, что идёт с песнями крестьянская свадьба. Сначала был только общий хор, потом отдельные голоса, гармоника, смутный топот и гул. Шли, играли и плясали…
— Ваше благородие! Китайцы…
Я сразу пришёл в себя, точно в голове взорвался фейерверк. Китайцы! Хунзузы! Здесь, в незнакомом глухом месте!.. Сейчас окружат, схватят и будут долго мучить, прежде чем убьют. Я вспомнил про их утончённые пытки, и меня залил такой невыразимый, страшный ужас, что я не мог шевельнуться, точно у меня не стало ни рук, ни ног. Я сознавал только одно: сейчас разрежут мой раненый живот и будут вытягивать из него кишки… А топот слышался всё ближе — с рёвом и визгом на нас катилась огромная толпа. И сразу радостная спасительная мысль: «Револьвер!.. Скорее застрелиться…»
Говорю санитару:
— Посади меня. — Кое-как помог мне сесть.
— Дай револьвер. Достань его из кобуры.
— Взведи курок. — Сам я не мог.
Он взвёл курок. Я взял револьвер обеими руками, вставил дуло в рот, хотел стрелять, но пальцы разжались и револьвер упал. Я начал его поднимать — не было сил. Воющая толпа была уже не больше, как в тридцати шагах и катилась, как растрёпанный клубок. В ней были пешие и конные. Я царапался руками, плакал и умолял санитара: «Застрели меня!» — но вдруг он закричал:
— Ваше благородие! Да это наши! Казаки!
Толпа охватила двуколку с обеих сторон, и я понял, в чем дело. Человек десять казаков гнали перед собой связанных за косы китайцев и покалывали их сзади пиками. От этого и был такой визг и вой. Увидев офицера, казаки повернули лошадей и в один миг ускакали прочь. Китайцы, решив, что я спас их, ползали вокруг одноколки на коленях, били себя в грудь, кланялись и причитали, а мне показалось, что я умираю. Когда же я пришёл в себя, то мне пришлось снова стонать. Часть китайцев впряглась в одноколку и везла её, а остальные бежали рядом, прищёлкивали языками, приседали и благодарили. Но мне уже было не до них.
К утру мы добрались таким образом до этапа, откуда меня повезли уже на лошади, и я окончательно пришёл в себя только в госпитале. Там я пролежал недели две и меня отправили в Россию. Рана зажила без всяких осложнений, но спина побаливает иногда и до сих пор.
1913 г.

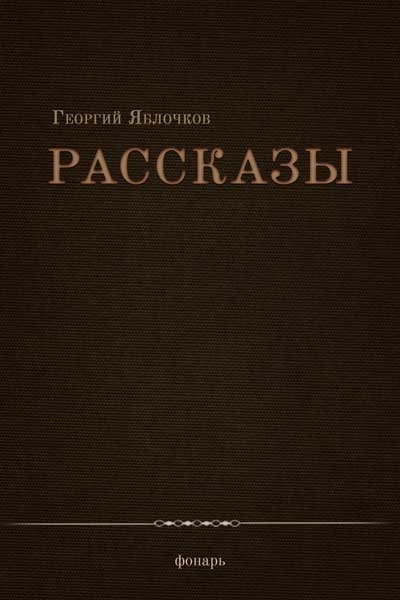

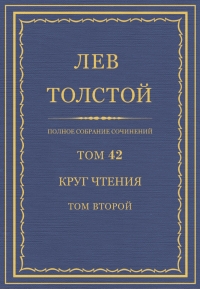

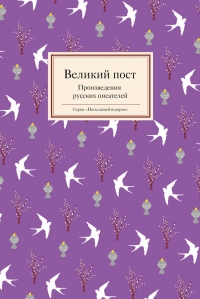
Комментарии к книге «Рассказы», Георгий Алексеевич Яблочков
Всего 0 комментариев