Бывалый вор ногтем открыл замок и оказался в квартире, не сулящей хорошей добычи; как и во всех домах Петрограда, здесь было холодно и голодно, ноябрьский дождь, стекая по мутным стеклам, заливал подоконник; безошибочное чутье указало, однако, на шкаф, где и нашлась богатая пожива. Женские боты и туфли, белье и платья впихнулись в мешок, туда же втиснулись чашечки, ложечки и неприятно звякнувшие предметы явно врачебного назначения – разные ножички, пилочки, щипчики и молоточки (подарок Реввоенсовета доблестному хирургу Баринову Л. Г.). Звяканье и разбудило младенца в детской кроватке, он запищал и задергался, а когда вор присовокупил к добыче и одеяльце, вытряхнув из него пищащее существо мужского пола, истошный вопль огласил всю спешно покидаемую квартиру, побегу воспрепятствовал мешок, раздутый добром так, что застрял в двери, и бежать пришлось через окно. От холода и ветра младенец заголосил по-взрослому, и ворюга пожалел, что все колющее и режущее уже упаковано и нечем пырнуть крикуна. Тогда-то он (это выяснилось на суде) и придушил сосунка, после чего спрыгнул со второго этажа вниз, где был изловлен и едва не растерзан, младенца же посчитали мертвеньким. Прибежавшая мать с плачем упала на синее тельце, а потом сунула его под кофту, в теплую утробную темноту межгрудья, – и ребенок ожил, родился во второй раз, а еще точнее – в третий, потому что лохани, куда шмякаются выскобленные зародыши, избежал он чудом: только отцу мать могла доверить аборт, а того срочно бросили на борьбу с Деникиным. Ни в августе поэтому, ни в ноябре выросший Ваня Баринов дня своего рождения не отмечал, избегал упоминания о нем, а потом столько раз умирал, оживал и возрождался, что совсем запутался; жить приходилось под разными именами, лишний паспорт всегда был под рукой, и на вопросы, когда он родился, Иван Баринов отвечал с нервным смешком: «В двадцатом веке!» Крестили его, кстати, в церквушке на Большом Сампсоньевском, как еще по старинке называли проспект имени Карла Маркса; мать вняла мольбам неатеистической родни и внесла ребенка в культовое заведение, снесенное вскоре безбожниками. Но уж дом-то, ставший Ивану родным, не мог не уцелеть, строился он на ближайшие века, его не тронули ни смелые градостроительные проекты, ни декреты новоявленной власти, квартира же стойко сопротивлялась уплотнениям, в любой комиссии, даже революционной, всегда есть женщины, а им умел заправлять арапа революционный хирург Баринов Леонид Григорьевич, обольщавший всех подряд, в том числе и приходящих студенток, которых учил кромсать трупы в Военно-медицинской академии. Мать Ивана, Екатерина Игнатьевна, происходила из семьи, вовсе не склонной что-либо крушить, ломать и резать, не в нее был мальчик, так и тянувшийся ручонками к скатерти, чтоб сдернуть ее со стола, к обоям, чтоб отодрать их; он, бывало, молочными зубками цеплялся за штанину отца, игрушки же, что приносили гости, поначалу испытывал на прочность, колотя ими по стене, а потом, когда стал раскорякою передвигаться по квартире, научился аккуратно разбирать их на части. Книги, что надо особо отметить, рвал, почему отец и соорудил полки, допрыгнуть до которых Иван не мог даже в десятилетнем возрасте, уже испытывая потребность в знаниях, уже беря верх в схватках с пацанами постарше. Как перевоспитать хулигана, родители не знали, с ликованием поэтому спешили к двери, когда приходил дальний родственник отца, питерский рабочий Пантелей, вернувшийся из Саратовской губернии, куда его посылали создавать колхоз, развалившийся в тот момент, когда крестьянам позволили забрать своих буренок из коллективного стада, и этого краткого периода послабления питерский рабочий выдержать не смог, в знак протеста убрался восвояси, горя мщением, втихую от родителей Ивана вымещая на мальчишеских ягодицах и ненависть к частному землепользованию, и презрение к новым порядкам. Стиснув зубы, Ваня покорно подставлял под взметнувшийся ремень свой возмущенный зад; мальчика начинала чем-то притягивать процедура порки, ни мать, ни отец так никогда и не узнали, что их сына еженедельно лупцует Пантелей: Ваня молчал, Ваня учился боли, терпению, поражаясь тому, что упоенно дерется со сверстниками, не ощущая боли от ударов их и удивляясь, отчего при шлепке матери страданием наливается тело. Боли бывают разными – к такой догадке пришел он, – и легче всего переносятся ушибы и удары, полученные в схватках с врагами – такими же, как он, мальчишками соседнего двора. Он стал накачивать в себе ненависть к Пантелею; притворно поохав, застегивал штаны и преспокойно уходил в другую комнату делать уроки, забывая о только что проведенном сеансе педагогики, который, конечно, не возрадовал бы родителей – у тех были свои боли и радости. Отца к тому времени вытурили из академии за «неправильную работу с женсоставом», о чем не раз напоминала со смехом мать в скоротечных и бурных семейных ссорах. Еще не повзрослев, Иван догадался, что и мать можно обвинить в кое-какой работе с «мужсоставом»: от всех женщин Ленинграда мать отличалась красотой и вечной молодостью, мужчины расступались, когда она входила в магазин. Слово «академия» прилипло, кажется, к семье: ушел отец из Военно-медицинской, зато мать устроилась библиотекаршей в Артиллерийскую, командиры, в ней учившиеся (все при шпорах, все в ремнях), гурьбой провожали мать до дома, на что не решались студентки того института, где ныне преподавал отец. Даже на родительское собрание в школу мать ходила с академическими краскомами, однажды вернулась, полная возмущением. «Наш сын будет артистом!» – с порога закричала она отцу, а тот довольно щурился и хмыкал: сын корчил педагогам рожи, поливал себя чернилами, спросил директора, к какой оппозиции тот примыкает – к правой или левой, завуча же огорошил вопросом, правильную ли работу ведет тот с женой. Мать, купеческая дочка из Пензы, воспиталась на презрении ко всем провинциальным фиглярам и лицедеям, отец же часто мурлыкал арии. Негодование матери было услышано Пантелеем, ремень все чаще погуливал по лежащему на диване мальчику, приучая того смело бросаться на обидчиков, даже когда их много. Наверное, Пантелей надорвался, загнать мальчишку в стадо так и не смог, перед каждой экзекуцией принимал стакан, а то и два, спился и умер за три года до того, как в Смольном убили его кумира, хозяина и благодетеля – Кирова. Ивана наконец-то оставили в покое, обед он готовил себе сам, вооружась поваренной книгой и не доверяя матери, которая больше времени проводила у зеркала, чем у плиты; наставление по пище включало рецепты армейских кулинаров, от книги, принесенной матерью из Артиллерийской академии, несло запахом мужских тел, одетых в ладную форму, браво шагающих по мостовой с цоканьем подков и звяканьем шпор. Были и другие книги: слушатели академии приручали к себе Ивана, как собачонку, и одна из книг – под названием «Алгебра» – поразила Ивана так, что он забыл про двор, про кино, часами сидел дома, уставившись на стену, подавленный необычайным открытием: оказалось вдруг, что люди и предметы, явления и события, боли и радости могут умертвляться, иссушаться, превращаться в нечто неопределенное, обозначаемое буквами латинского алфавита, и 7 ли чернильниц в классе или 12, все они вогнаны в символ «а», куда можно вместить сколько угодно чернильниц, коров на колхозном поле, трамваев на улице, – эдакая жадная, всасывающая в себя буквочка, обязательно в паре с другою, так что бараны («a») и птицы («b») вместе составляли живность, и в ней уже не было кудахтанья, перьев, блеяния, шерсти, мохнатых ног и трепещущих крыльев: все было свалено в кучу под названием «с». По условиям задачи все три символа выражались еще и деньгами, рублями и копейками, но за те рубли и копейки чего только не купишь в магазине, если у тебя есть еще и карточки, что совсем уж непонятно, и Ваня ошалело смотрел на стену, пугливо вставал, крался к окну, видел булочную, закрытую на ремонт, людей, спешащих куда-то… Да существуют ли они?.. Символы бегают мимо символов! И рука притрагивалась к подоконнику, ощущала жесткость его, гладкость, глаза видели застывшую белую краску, и не один еще день глаза, уши и руки Ивана ощупывали вещи, он обонял запахи квартиры, ароматы двора, пальцы касались плоскостей и выступов, пока однажды жаркие ладошки Вани не легли на шаровидные наросты, на грудочки Наташки из соседнего подъезда, и жар хлынул вниз, к ногам, по всему телу разлилась сладкая боль, от которой надо было избавляться, спасением была сама Наташка, сама непрекращающаяся боль, и рук уже не отнять от наростов, внезапно обострилось обоняние, Иван, прильнувший к Наташке сзади, вдыхал кухонный запах ее волос, хотелось вжаться в девочку, войти в нее, слиться с нею. Кроме двух полусфер, обжатых ладошками, ощущались еще и половинки круглой попки; Наташка вдруг изогнулась и попкою оттолкнулась от Ивана; ладошки сами собой отнялись от вздутостей, девчонка пошла в магазин, помахивая сумкою, а мальчик продолжал гореть стыдом в холодном одиночестве лестничной площадки, он возненавидел Наташку. Повзрослев и познав женщин, он всех тех, на ком мужчины избавлялись от детского стыда и детской боли, стал называть «наташками», позабыв о том, что девчонка возбудила в нем жгучий интерес к великой тайне шарообразности всего сущего, что загадка подогнала его тогда к настольной лампе; рука подсунулась под абажур, как под платье, и обожглась о горячую лампочку, рука гладила теплое стекло, но тело не испытывало от теплоты и круглости сладостной до мучения боли, не упивалось ею, и что было радостью, удовольствием, а что болью – непонятно, еда ведь тоже доставляла радость, сытость всегда приятнее голода, но так однажды захотелось испытать пронзившую боль, что он сбежал с урока, вцепился в трамвай, переехал на другой берег Невы, прокрался в Летний сад, где под осенним дождем мокли статуи величавых женщин, сумел дотянуться до шаровидных наростов, но ничего, ничего не ощутил, кроме твердости. Тогда-то и подумалось о матери, о шарообразностях, из которых составлено живое, теплое человеческое тело, пронизанное кровеносными сосудами; воскресным утром (отец дежурил в больнице) Ваня, затаив дыхание, приблизился к спящей матери и отогнул край одеяла; глубокий вырез ночной сорочки позволял видеть розовые груди, рука коснулась ближней, но ни жара, ни приятности боли так и не ощутила, и другая грудь была такой же бесчувственной, как стеклянная лампочка, как абажур, размерами превосходивший грудь. Отчаяние охватило его, хотя кое-какие надежды оставались; Ваня прикидывал, как забраться под одеяло и потрогать овальные половинки, – и вдруг ощутил на себе взгляд матери, в глазах ее была тревога, любопытство, легкая насмешка и сожаление. Мать натянула на себя одеяло, села, Ваня все рассказал ей – о Наташке, о холодных женщинах Летнего сада, и мать погоревала вместе с ним, прижала к себе, сказала, что алгеброй Наташку не разгадать, здесь надобна геометрия и стереометрия, и нужные книги она принесет, она все-таки – главная в библиотеке. Так велико было желание немедленно проникнуть в тайну, что книги с нижних полок были выворочены, сложены лесенкой, тут же разваленной матерью; мальчишеская рука успела вытащить «Учебник патологической физиологии» Н. Н. Аничкова, профессора Военно-медицинской академии, а мать твердо пообещала: будет куплена стремянка, будет! Но еще до того, как отец принес ее с рынка, приставленный к полкам стол позволял дотягиваться до старинных фолиантов, на титульном листе одного из них писано было вязью «Из книг вел. князя Сергея Михайловича», что весьма позабавило друга дома, частого гостя, научного работника Никитина, который посоветовал матери сжечь все-таки все списанные актом библиотечные книги. Появлялся он обычно с букетиком цветов, вручал его матери, затем деловито, по-учительски входил в комнату-класс, мрачным видом своим запрещая все разговоры, к уроку не относящиеся; более того, присутствие ребенка, то есть Ивана, считал столь же недопустимым и вредным, как нахождение первоклашки в компании курящих второгодников. Ивана поэтому за стол не сажали, загоняли его на стремянку, не догадываясь о том, что после Наташки у Ивана обострился слух. Девчонка мелькала во дворе, щебеча глупости, долетавшие до стремянки, если форточка была приоткрыта; громкие речи Иван не воспринимал, пропускал мимо себя, зато еле слышный шепот улавливал, не осмысливая, не вникая в него, уже зная, что слова, спрятавшиеся в нем, сами когда-нибудь заговорят, их вытолкнут запах и цвет, связанные с некогда услышанным. Он жил то с опозданием, то с опережением, слова настигали его с задержкою по времени, только через год после убийства Кирова прозвучал в нем разговор за двумя стенами. Никитин всерьез уверял отца и мать: все беды России – от мечтаний о сытости, и тяга к набитому желудку приводит к мору, нищете, голоду, из чего и составлена история государства, где население никогда себя не прокормит, где количество еды не соответствует числу едоков и правители вынуждены не массу пищи увеличивать, а умерщвлять голодающих. Революции, войны, смены властителей, продолжал упорствовать Никитин, – это и есть самые верные способы прокорма остающихся в живых, людей в России всегда будут убивать всеми дозволенными и недозволенными способами либо ограничивать рацион отправкою едоков в тюрьмы и лагеря, что всегда есть и будет. Сейчас же, бушевал Никитин, большевики перестарались, из чисто политических выгод изничтожили самую продуктивную часть сельского населения, так называемых кулаков, к чему приложил руку и Пантелей, зерна теперь станет еще меньше, морить голодом – это уже будет государственная необходимость, в ближайшие месяцы или годы начнется массовое уничтожение городского населения, ждите арестов, Ленинград опустеет, – это я вам говорю, с цифрами-то соглашаться надо!
Такими бредовыми речами доканывал он родителей, и те соглашались: да, надо быть осторожными, никаких знакомств с теми, на кого может пасть подозрение, ни единого повода к тому, что… Слушая злопыхателя, отталкивая от себя все слова его, Ваня с высоты стремянки смотрел во двор, где Наташка развешивала белье, поглядывал и на балкон, куда в незастегнутом халатике выходила порою, тайком от мужа, покурить веселая женщина; мир был так разнообразен, что ни одна книга не могла объяснить его, но так приятны все эти попытки словом или формулой объять все сущее, и дикие, разуму неподвластные связи соединяли мир и книги: Мопассан заставлял вдумываться в сущность бесконечно малых величин, во все сужающуюся область между нулем и числами, к нему стремящимися, зато невинные рассуждения Гсте о цветах радуги звали к проходной «Красного выборжца», с толпой подруг появлялась недавняя школьница Рая, притворно поражалась, пожимала плечами, однако же прощалась с понятливыми товарками и вела Ивана к себе, целоваться до одури и боли в деснах; иным, более тайным, занимались мать и Никитин в чьих-то домах, о чем догадывался отец, но помалкивал, ведь и мать не замечала частых отлучек отца, а обоим не понять, что научный работник Никитин противоречит себе: сам же водит знакомство с подозрительными, с матерью хотя бы, ту погнали уже из библиотеки, с ужасом обнаружили ее купеческое происхождение, и с отцом ему не следовало бы знаться: у того еще один выговор за что-то. Себя Никитин называл генетиком, работал в ВИРе, Всесоюзном институте растениеводства, там он, наверное, получал цифры о количестве едоков и пшеницы на один среднесоюзный рот, и прогнозы его стали оправдываться, начались аресты (пятнадцатилетний Иван давно уже почитывал газеты и перед сном слушал радио), однажды ночью увезли отца Наташки, он признался во вредительстве, как это, оказывается, делали и все арестованные, что угнетало, поражало родителей и что вызывало издевательский хохот Никитина, уверявшего: все признаются и сознаются, все одной веревочкой повиты, «палач пытает палача: ты людей – убивал?». Однажды он пришел без цветов, потребовал немедленного отъезда родителей, Ленинград уже опасен, орал он, был таким разъяренным, что не заметил Ивана, при нем произнес клятвенно: «Леонид Григорьевич, вы знаете мое истинное отношение к супруге вашей, вы можете себе представить, как буду я страдать без нее, и тем не менее умоляю, готов в ноги броситься: уезжайте, пока живы и на свободе, умоляю!..» По всей квартире пронеслось: «…яю …яю …яю!..», и мольба, отраженная от стен, колыхалась и вибрировала, подстегивая родителей, уже давно смирившихся с мыслью, что надо на время или навсегда покинуть Ленинград, где почти все друзья и знакомые – враги народа, но так не хочется уезжать, бросать такую квартиру! Никитин приходил почти ежедневно, повергая родителей в ужас невероятными известиями; подходящая квартира нашлась-таки, в Могилеве, работа отцу там обеспечена, мать возьмут в школу, желающий бежать из Могилева готов обменяться квартирами. Началась переписка, справки для обмена были получены, но чья-то властная рука мешала переезду, отец уверял, что рука требует взятки, тогда-то мать и подала идею: там же, в Могилеве, их родственник, многим обязанный Леониду, пусть постарается, хозяин города все-таки, секретарь горкома партии! Отец сдался на уговоры, написал в Могилев, домашнего адреса родственника не знал, письмо отправил в партийный орган, уж там-то должны знать своих вождей, ответа, однако, не получил, повторное послание тоже затерялось, та же участь постигла и телеграмму, и вдруг этот родственник сам заявился в Ленинград, и не один, со всем семейством. Однажды раздался требовательный звонок, сидевший на стремянке Иван ухом, конечно, не повел, таинственное число «пи» какой уже месяц будоражило его воображение, как и дразнившая папироской женщина на балконе, совершенство форм обязывало, эллипс мыслился то продолжением окружности, то предтечею; он уловил все-таки по голосам, что родители всполошенно радостны приходу гостей, а те чем-то раздражены, куда-то торопятся и хотят немедленно выяснить отношения. Голоса пошумели и смолкли, хозяева и гости уединились, Иван перевернул страницу, глянул вниз и увидел у подножия стремянки худенького мальчика, виновато глазеющего на него; мальчику этому было столько же лет, сколько и ему, но казался он меньше ростом, потому что Иван, оседлавший стремянку, видел его уменьшенным, пришибленным, задравшим голову, низеньким, Иван возвышался над белобрысым очкариком, что сразу и надолго определило, кто кому подчиняется, и старшинство Ивана мальчишка признал немедленно, протянув ему красное румяное яблоко и сказав, что завидует всем ленинградцам, ведь здесь так много интересного, разного… Себя назвал Климом, сообщил, что он – из Могилева, что Иван – его двоюродный брат, а может быть, и троюродный, он точно не знает, яблоко же – настоящее, крымское, очень вкусное, в Могилеве тоже есть румяные и сладкие яблоки, в Могилеве не так уж скучно, как это может показаться. Затем поведано было о неудачливом детстве: до пяти лет Клим не мог ходить без костылей, пока не отвалялся в грязях Евпатории, и самые счастливые дни его – не после обретения ног, а тогда, когда он ковылял по улицам и любовался домами и людьми, потому что все они – разные! Да, они не похожи друг на друга – ни люди, ни дома, ни деревья, ни города, крыши у домов бывают деревянными, железными, черепичными, соломенными, крыши под разными наклонами к земле, к стенам, на крышах – и такое случается – растут травы. А окна – на окнах занавески разных цветов из разных тканей, на разной высоте, занавески закрывают от прохожих внутренности комнат или, наоборот, дают им видеть комнаты и людей в них, девчонку, которая натужно смотрит в учебник, жуя кончик косички, люди вообще в своих жилищах ведут себя не так, как на улице, – он, Клим, это давно заметил, еще тогда, когда, докостыляв до какого-либо дома, рассматривал людей, да и люди-то – до того разные, что невозможно, кажется, словом «люди» объять все разнообразие и разноцветие их, нет двух одинаковых людей, человек от человека чем-нибудь да отличится, лица их – не похожие, походки тоже, одежда разная, но, признаться, чем разнообразнее и разноотличнее люди, тем острее желание видеть их одинаковыми, и однажды он, Клим, пропустил мимо себя колонну красноармейцев и очень обрадовался: у всех – одинаковые рубахи светло-зеленого цвета, штаны такие же, вместо кепок и шапок – серо-зеленые шлемы, и у каждого красноармейца на плече – как бы одно и то же ружье с сизым штыком. Так радостно было видеть повторение человека в человеке, так приятно, и все же – не повторялись они, на одинаковых рубахах – разные складки у ремней, штыки покачиваются, ботинки разных размеров, и стоит вглядеться в лица – пропадает одинаковость, губы, щеки, подбородки, глаза – у всех разные, и (Клим доверительно коснулся стремянки) – и то поразительно, что, при всей непохожести людей, они – люди, именно люди, их нельзя спутать с собаками, у всех людей – две руки, две ноги, один нос, два глаза, средний рост их – один метр шестьдесят восемь сантиметров, и то еще странно, что попадающиеся на улице инвалиды, он сам в том числе, существа с одной ногой или рукой, хромые, глухие, одноглазые, – все они подтверждают наличие у человека обязательно двух ног, двух рук, двух ноздрей и так далее, и получали они этот набор от родителей, разнясь в чем-то другом, вот братья той девочки, что кусала кончик косы, на сестру свою совсем не похожи, но что-то во всей семье – общее, только им присущее, причем люди стремятся, будучи родными, как-то отдалиться друг от друга внешними или внутренними приметами, – вот какие поразительные наблюдения проведены им, Климом Пашутиным, в Могилеве, там же он узнал о Грегоре Менделе, который на горохе пытался раскрыть тайну одинаковой неодинаковости; порою кажется, что Грегор Мендель тоже в детстве был калекою и жадно всматривался в тех, кто бойко передвигался на ногах, легко и свободно перемещаясь по земле…
Покусывая яблоко, выслушивая эту ерунду, Иван злился, потому что докучливые признания могилевского шкета забивали уши, преграждали еле слышный поток слов, произносимых в родительской комнате, там решалось что-то важное, его самого касающееся; пацан из Могилева – это уже начинало бесить – лупил в детстве глаза на то, что давно привлекало Ивана, с тех пор, как он раскусил хитрость мозга, умеющего сваливать в одну кучу, символом помеченную, абсолютно разные вещи, но – это он давно уже отметил – сколько бы трамваев разных маршрутов ни сводилось в понятие «трамвай», отличное от «автобуса», каждый вагон с дугою виделся все отчетливее. «Яблоко-то – гнилое…» – процедил он, спрыгивая со стремянки так, чтоб толкнуть могилевца, чтоб придавить шпендика, тощенького и робкого, не умеющего бросить камень в окно и смыться, – спрыгнул, убедился, что так оно и есть: да ни в одну компанию не примут двоюродного или троюродного братца, как был тот калекою, так и остался, а тут и сама могилевская родня зычно позвала Клима, в два голоса, в женском будто взметнулся ремень для порки, неожиданно заехавшие родственники чужими людьми стояли в коридоре, отказываясь от чаепития, ни улыбки на прощание, ни слова приветливого, отец хмуро молчал, мать – счастливо улыбалась, но Иван-то знал причуды ее, мать всегда возбуждалась неприятностями, однажды потеряла карточки на крупу – и хохотала до упаду. Закрылась дверь за родней, принесшей какую-то беду, и родители впервые в семейной жизни позвали сына к себе, на совещание, а тут и Никитин, за версту чуявший опасность, кулаком долбанул по двери, забыв о звонке. Ему и сыну было поведано о том, что в 1919 году хирург Баринов, попавший в плен к белым вместе с госпиталем и врачевавший всех подряд, и белых и красных, чего ни в одной анкете не скрывал, там, в белогвардейском тылу, встретил свояка, Ефрема Пашутина, белого офицера, ныне же Ефрем Пашутин, видный партийный начальник, царствует в Могилеве и не только не желает знаться с Бариновыми, но и готов отправить их в НКВД, если те переедут в подвластный ему город; у белых, услышал огорошенный отец, Пашутин был якобы по заданию подпольного ревкома («Чушь!» – заорал Никитин) и теперь предлагает мировую: Бариновы забудут о могилевских родственниках, нигде о них ни слова не скажут и не напишут, а он никому не доложит о том, что хирург Баринов не одного беляка вылечил… Мать звонко рассмеялась, никак не могла еще опомниться от встречи со сводной сестрой, изгнанной за что-то из семьи, Ивану же не забывалась просящая, виноватая улыбка двоюродного брата, названного Климом в честь легендарного наркома Климента Ефремовича Ворошилова, – знал, знал могилевский очкарик, что не с добром пришли его родители, потому и молил о прощении. «В Минск, в Минск уезжайте!» – забегал вокруг стола Никитин, уже строя планы будущей жизни Бариновых, и остановился, замер перед Иваном, стал вдалбливать: никому ни слова, надо быть чрезвычайно осторожным, страной управляют умалишенные с непредсказуемым поведением, пьяные с рождения хулиганы, таких нормальные люди обходят. «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» – вгонялись в Ивана правила жизни, а затем Никитин помчался на вокзал брать билет до Минска, куда и уехал в тот же вечер, отец же и мать до ночи сидели за столом, руки их были сплетены, с этого дня в них воссияла прежняя любовь, когда-то соединившая красного хирурга с уездной барышней, родители будто узнали, что заражены одной и той же смертельной болезнью, и решили не омрачать последние годы ссорами, упреками, ночными дежурствами отца и цветами от Никитина; отцу, правда, пошел уже пятый десяток, но мать по-прежнему ошеломляла мужчин, хотя и подувяла; в памяти Ивана мать всегда связывалась почему-то с белыми ночами Ленинграда, она была светом, потеснившим тьму, а Никитину мать смотрелась и тьмой, и светом.
Минск потому был выбран местом добровольной ссылки, что в Белоруссии, по мнению Никитина, главный удар НКВД обрушит не на врачей и педагогов, чекисты ежовыми рукавицами схватят писателей и поэтов – за то, что они чересчур восхваляют родную республику, и пророчества еще не сбылись, как в Ленинграде арестовали всю минскую семейку, поселившуюся в квартире Бариновых; квартира, это определенно, была уже помечена, родители признали правоту Никитина, гнавшего их вон из Ленинграда, они же и повели Ивана к математику, который со слов Никитина знал о ленинградском школьнике, как орехи щелкавшем уравнения всех степеней, и математик взял Ивана под свою опеку. Ленинград славен памятниками, зовущими в будущее; пустые глаза изваяний смотрят во все стороны света, безмерно расширяя пределы города на Неве; властители подпирают небо гордой осанкой, на собственные плечи взвалив груз чужих ошибок; руки их молитвенно сложены, мечтательно стиснуты или выброшены в указующем порыве, сжатый кулак демонстрирует способ, каким надо хватать врага за горло или гвоздить его по голове. В минской школе на первой же перемене Иван расквасил нос однокласснику, утвердил себя и возвысился в глазах тихих белорусских девчушек, будущих «наташек»; сын – студентом – повторил подвиги отца, неделями дежуря у постели девиц с короткими комсомольскими прическами, пока не надоело, пока, заночевав у одной медички, не раскрыл случайно учебник биологии и с замиранием сердца не прочитал о Грегоре Менделе. Этот работник монастырского фронта, как назвала его шаловливая студентка, жил почти отшельником, сан не позволял ему заглядывать в чужие окна и снаружи рассматривать внутреннее устройство добропорядочных семей, мимо него не топали солдаты в одинаковых кепи или касках, зато на грядках своего сада, делая опыты с горохом, он усомнился в истинности древнего речения о том, что подобное рождает подобное, совершил надругательство над самоопыляющимися подобиями, скрестив красноцветковый горох с белоцветковым, дети от этого брака оказались белыми, но четверть внуков родилась красными, что несколько разочаровало Ивана: раз есть точное количественное соотношение, то наследственные начала – дискретны, цельночисленны и, следовательно, подчинены математическому воспроизведению, даже если принять во внимание, что люди – не семейство бобовых, что свойства людей не ограничены цветом глаз и формою ушей. Какой-нибудь математик решит эту задачку, если еще раньше головоломку с различиями в сходстве и сходством в различии не разгадает Клим Пашутин, именно этим делом занятый в Горках, в тамошней Сельскохозяйственной академии, где его славили за успехи в учебе. Иван же учился на физмате Минского университета, хотя честно признавался себе: нет, не для математики родился он, для чего-то другого, потому что не было усидчивости, опекавший его профессор часто гневался. Однажды ночью пришел Никитин, ужом вполз в квартиру, шепотом сказал, что наступают, кажется, хорошие времена, квартира на проспекте Карла Маркса очищена от подозрений, никого из нее не берут, карающий меч притупился, но расслабляться нельзя, Ивану следует помнить все то же: «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» Пусть тезка героя гражданской войны, Клим Пашутин, усердствует и публикует умные, что ни говори, статьи о гетерозиготных мутациях, он, Иван, обязан жить тихо, не трезвонить, тиснул одну статейку о простых числах – и достаточно. Отец так был рад видеть единственного друга семьи, что до утра не отпускал Никитина, в темноте пили водку, а мать отдала другу руку, и тот водил ею по щекам своим, по губам. Квартиру Никитин покинул, надвинув шляпу на лоб, ссутулясь для изменения походки, он и в разговоре шепелявил, совсем уж сбивая со следа ищеек, и к вокзалу шел петляя. «В Горки – ни шагу!» – дополнил он свежим пунктом кодекс поведения и пропал из вида в предрассветных сумерках; тем и кончилась ночь, дивная ночь в жизни Ивана: одеяло, наброшенное на поющий патефон, громкое и пронзительное молчание любящих его людей, он – в разнеженном полусне и все они, скованные цепью не родства, а тайны.
Дивная, дивная ночь – а за нею пасмурное минское утро октября 1939 года, воссоединились обе Белоруссии, в аудиториях появились первые «западники», новые заботы, новые хлопоты, заветы Никитина не то что забылись, а подмялись другими запретами, о Климе Пашутине был напечатан очерк, Иван прочитал песнопения без интереса, без ревности и ничуть не взволнован был, когда в сентябре его, лучшего студента, вызвали в деканат и сказали: ехать в Горки, немедленно! Срочно, поскольку университет взял шефство над кафедрой математики Горецкой академии, уже и курс биометрии там введен, уже и лекции читаются с перевыполнением плана, и все бы хорошо, но, оказалось, у биологов новое направление в исследованиях, изучаются вероятностные процессы среди нейтральных мутаций, а литературы нет, вот ее и надо срочно доставить да вклинить как-нибудь шесть часов теории вероятности; вот она, литература, – десять пачек, машину даст ректор, дает не ему, а немцам из научной делегации, едут они в Горки, за немцами надо присматривать, друзья все-таки, договор о ненападении еще в прошлом году подписан, так чтоб ничего не случилось с ними, понятно? Чтоб живыми и невредимыми доехали до Горок, полными веры в торжество социализма, чтоб… «Головой за немцев отвечаешь!» – рявкнул вошедший в деканат командир с двумя шпалами и показал Ивану кулак, такое же напутствие получил и шофер, баранку крутивший неумело, тормозивший перед каждой ямой и вслух гадавший, как объезжать ее, – энкавэдэшный шофер, да и не шофер вовсе, а подвернувшийся под руку оперативник, норовивший и с немцев глаз не спускать, и с дороги.
А те сидели сзади, один худой, жилистый и мосластый, как кулак чекиста, хорошо говоривший по-русски, некогда живший в России («на территории бывшей России»), другой – мягонький, лупоглазый, по-детски любопытный, физик из Гейдельберга, костлявый же был химиком и биологом, звали его Юргеном Майзелем, и он чрезвычайно не понравился Ивану. Мало что понимая по-немецки, Иван тем не менее догадывался, как, отвечая физику, издевается над всем виденным Георг Майзель, пальцем тыча в колхозников на картофельных полях, пренебрежительно отзываясь о коровьих стадах, не тучных, конечно, однако белорусских, своих, Ивану дававших молоко и мясо, а уж дорогу-то он клял русским матом, шофера тоже, подгонял его, тот же на третьем часу езды вымотался, руки уже не держали баранку, а срок был установлен жесткий: немцев привезти в Горки до захода солнца! И шофер охотно передал руль Майзелю, машина сразу прибавила ходу. Но Ивана ошеломила не скорость, не то, что «эмка» едва не сковырнулась в кювет, а вскользь брошенные слова Майзеля: немец рвался повидать в Горках Клима Пашутина, спросить кое о чем автора статьи о приоритетах в наследственности! Именно над этой темой бился немец в своем берлинском институте, в Минске он подзадержался, а теперь догонял немецкую делегацию, сутками раньше уехавшую в Горки, что ставило Ивана в неприятнейшее положение, показываться на глаза Климу он не хотел, братец мог сдуру броситься ему на шею, презрев все правила конспирации, надо поэтому опоздать, приехать ночью, сплавить учебники и прочую литературу какому-нибудь дошлому студенту, договориться втихую с деканом о дополнительных часах по теории вероятности и сразу податься обратно, в Минск, на черта ему этот чересчур талантливый брат, которому пророчат великое будущее, да пошел он куда подальше, – и когда до Горок оставалось менее ста километров, он решительно положил руку на руль, остановил машину и сказал Майзелю: пусть немцы на себя берут ответственность за возможную аварию при такой езде, сами за рулем – сами и отвечайте, пишите документ, снимающий с русских все подозрения в умышленной катастрофе, пишите! Презрительно усмехавшийся Майзель такой документ составить и подписать согласился, он не знал лишь, что именно писать, в какую форму облечь расписку, должную иметь юридические последствия, и обозленный усмешкой Иван (так и не искоренивший в себе детского фиглярства) стал диктовать, а Майзель записывал обнаженным пером «паркера», переводя коллеге текст, пока не спохватился и не заорал в ужасе: «Вы мне ответите за провокацию!..» До лупоглазого добряка смысл надиктованного дошел позднее, добряк возымел желание бежать без оглядки, потому что спасительная для Ивана расписка имела примерно следующее содержание: «Я, Майзель Юрген-Луиза, и я, Шмидт Вильгельм, пребывая на территории Белорусской Советской Социалистической Республики, находясь в полном уме и здравии, решили покончить жизнь самоубийством в знак протеста против злодеяний, чинимых Адольфом Гитлером…» Угрожая Ивану дипломатическими акциями, Майзель на мелкие кусочки разорвал бумагу, принесшую немалую пользу, потому что немцы, собрав кусочки и подержав их над огнем зажигалки, вернули руль шоферу, и машина понуро покатилась, освещая фарами ухабы и рытвины, Майзель же – после долгого молчания – снисходительно заметил, что Ивану следует еще поучиться провокациям, что попади он в гестапо – там с ним не церемонились бы… Успокоительно прибавил: ладно уж, никому не скажет; добрячок что-то лопотал по-своему, Ивану подарил зажигалку. Встретили немцев с таким почетом, что им, пожалуй, было не до жалоб, Иван в суматохе передал книги по назначению и завалился спать в общежитии, досадуя на себя за немцев: нельзя было их пугать, не они настрочат жалобу, так шофер постарается. И утром покусывали мысли о вчерашнем, хотелось – в наказание – причинить себе боль, Иван забалагурил с «наташкой» в коридоре, дамочкой из Минска, тощей дурой и кривоножкою, наврал ей с три короба, пригласил в клуб, отлично зная, что еще до вечера покинет Горки, дел-то всего в академии – на час или полтора. Шофер-доносчик уже смылся, прихватив с собою украденную у Ивана зажигалку, до минского поезда времени хватит, настроение улучшилось и тут же сникло: Иван увидел Клима, издали, в учебном корпусе, он узнал его сразу, и холодно стало в душе; брата окружала делегация, брат говорил с ними по-немецки – самоуверенный, ростом выше Ивана, в белом халате; так торопившийся к нему Юрген Майзель стоял поодаль, с расспросами не приставал, слушал внимательно, ничего не записывая, а все прочие немцы вооружились перьями и блокнотами. Чтоб не быть замеченным, Иван попятился, свернул в другой коридор, нашел кафедру математики, договорился, долго и нудно сидел в столовой, уже собрался было на станцию, но решил все-таки побывать в знаменитом ботаническом саду, сам нашел его, никого не встретил, сел на корточки, рассматривая бутон какого-то растения, чувствуя себя полным профаном, потому что ботанику со школы еще считал девчоночьей наукой, соседка по парте за него бегала на каникулах в поле собирать цветы для гербария. Сейчас, приблизив к глазам выпрямленный рукою стебель, он вглядывался в бутон, так и не распустившийся в цветок: или корни не отсосали из земли что-то нужное для роста, или тепла и света было мало; а будь всего в достатке – и в бархатной утробе растения созрели бы семена, в которых все уже есть: и этот выпрямленный стебель, сгибавшийся под тяжестью детородного устройства, и корневая система, и запах объекта растительного мира, который повторяется вообще и в частностях, вся природа – возобновляющееся повторение, и все, что ни есть, – повторение, и этот миг, которого уже нет, продублировал предыдущий и сам будет восстановлен будущей копией, – да-да, та же проблема суммы бесконечно малых величин, и генетика, если вдуматься, наука о повторах, нахождение того элемента наследственности, который подобен не только себе, но и той среде, что способствует страсти воспроизведения, и элемент этот – в клетке, в очаге воспроизводства, где теплится постоянно нечто такое, что сохраняет в себе прошлое и, как ни странно, будущее; эти очаги – сразу и почва и семя, утроба и плод…
Иван встал, поднятый неприятной мыслью: оказывается, он все эти годы в Белоруссии по крохам собирал сведения о клетке, ловил обрывки разговоров, что-то читал, вспоминал то, чего вроде бы и не было, ему даже известно, о чем нынче спорят биологи, все они в недоумении: так какая же субъединица клетки сконцентрировала в себе наследственные факторы? Кое-кто вообще отрицает телесность этих факторов, вещественность их, и понять отрицающих можно, абсолютно диким кажется предположение, что из каких-то там цепей кислот или белков рождается пыл, вдохновение, страсть, боль и радость, мысль и звезды, луна и этот вот ботанический сад, – нет, должна же быть некая сила, нематериальная субстанция, должна быть, должна!..
Он вздрогнул, услышав несомненно к нему обращенное слово «братан», и стрельнул глазами вправо и влево, догадавшись, что сзади стоит Клим, слово это он услышал впервые в Ленинграде от него, голос же изменился, стал не взрослым, а чистым, исчезла гнусавость, сделали, наверное, операцию, удалили полипы, но взгляд остался прежним – виновато-просящим, и улыбка такая же, Клима, это уж точно, поднатаскали родители, навнушали ему страхов, предостерегли: к Бариновым – ни шагу! Но встретились, и с первых слов стало ясно: все эти протекшие вдали друг от друга годы они продолжали начатую в Ленинграде беседу, и Клим мечтательно сказал, что хорошо бы им поработать вдвоем, потому что только два работающих в паре человека способны разгадать великую тайну бытия; два дружных и враждующих начала, как бы мужское и женское, бесятся, меняя пол, в замкнутой клетке, корректируя себя, – примерно так выразился он, на что Иван брякнул: «Так ищи женщину!», а когда не понявший его Клим грустно заметил, что не умеет даже правильно, по-мужски говорить с женщинами, то Ивану только и оставалось, что подумать: а не перестарались ли хирурги, отхватив вместе с полипами и еще кое-что?..
Как всхлип короткая встреча, всего-то минуту или две поговорили, но главное было сказано – то, что их теперь связывает не родство, а головоломная хитрость Природы; «До встречи!» – прозвучало одновременно из уст обоих, а когда эта встреча – не знал ни тот, ни другой. Стояли в ста метрах от оранжереи, где парень стеклил выбитый проем, поблизости – никого, от дальних чужих взоров заслонены были яблонями, сошлись и разошлись, кому какое дело до двух экскурсантов, можно и не огорчать родителей, но так любил их Иван с той дивной ночи, что рассказал им о Климе, и те, ни слова не сказав, с пронзительным упреком глянули на него, сожалея и сокрушаясь, и сам он застыдился. Сорокасемилетний отец был уже седым, мать исхудала, синие очи ее полыхали вымученным весельем; отец отвел глаза от провинившегося сына, мать горько усмехнулась, прощение было получено, но не сообщить Никитину нельзя было, и тот приехал через неделю, заглянул на часок и повеселил всех своей нелепой, как и он сам, бородкой, похожей на мочалку, и успокоил: Пашутиных никто не трогает и трогать не собирается, о чем свидетельствует уверенное сидение Пашутина-старшего на могилевском троне, поговаривают даже, что его с области перебрасывают на благодатное Ставрополье. Никитин повеселил, успокоил и отбыл в свой институт растениеводства, посматривать в микроскоп на пшеничные зерна, занятие это научило и приучило его всех людей определять на всхожесть и сохранность, однако власть орудовала более мощными и точными приборами, не прошло и трех месяцев, как Пашутина и его супругу арестовали, скоропалительно объявили врагами народа; капризная судьба благоволила Бариновым, Пашутиных расстреляли так быстро, что они и рта раскрыть не сумели, родственные связи их остались невыявленными, но ядоносные угрызения совести уже отравили Бариновых. Маститый, всеми уважаемый хирург издали – седой гривой и посадкою головы – напоминал царя зверей, льва, готового предупреждающе рыкнуть, теперь же, после гибели Пашутиных, грива свалялась в комки грязной шерсти, а вместо рева слышалось хрипловатое брюзжание, неразборчивая воркотня, Иван соглашался с ней: да-да, виноват, не надо было ни ехать в Горки, ни подставлять себя Климу, уцелевшему и продолжавшему, кстати, научные и студенческие труды в академии. Никитин тоже уверял, что нет никакой связи между мимолетной встречей братьев и арестом Пашутиных, бывшего белогвардейца подвел страх, желание из пласта менее подозреваемых перескочить в тончайший слой непогрешимых; но и он сник, узнав о вызове Ивана в органы, родителей тем более встревожила повестка. Тот же чекист с двумя шпалами, обладатель гиреобразного кулака, заорал на Ивана: «Кто дал тебе разрешение на вербовку немцев? Почему не предупредил органы?» К тому времени германская делегация прокатилась по стране и благополучно вернулась в Берлин, все документы о слежке пронумеровались и подшились, безграмотный рапорт приставленного к немцам шофера прочитали справа налево и слева направо, с запятыми и без оных, любое направление приводило к обескураживающим выводам. Иван, притворяясь напуганным, честно рассказал, что произошло и как по дороге в Горки; шофер же сдуру упомянул в рапорте о зажигалке, предъявить ее Иван не мог, тогда-то и раскололи чекисты ворюгу, понизили его в должности, зажигалка же, потеплившись в кулаке, возвращена была Ивану. Человек с двумя шпалами в петлицах, добряк по натуре, примирительно сказал Ивану, чтоб тот не держал зла на органы: работа у них тяжелая, врагов полно, ошибки исправляются не сразу. Родители безмерно обрадовались, узнав про зажигалку, о всем прочем Иван умолчал; на новый, 1941 год прокрался в Минск Никитин, ему-то и было все поведано под рюмочку на кухне, родители, продолжавшие упиваться запоздалым медовым месяцем, грустили под патефон, сидя рядышком. «Чую близкое горе…» – всплакнул Никитин.
С этим справедливым чекистом Иван два года пробыл в партизанском отряде, научился у него метко стрелять, правильно подкладывать мины, сидеть в засаде, ходить на явки, показывать себя немцам так, что те ленились у него проверять документы. Однажды, при переправе через реку, чекист свалился в воду, кутенком барахтался в ледяном Немане, пока Иван не выдернул его и не подтащил к лодке. С тех пор кулачный боец о двух шпалах представлялся ему не иначе как неумелым пловцом, ногами ищущим дно, и такой точкой или такой плоскостью опоры в службе была чекисту подпись под любым документом, он и зажигалку приказал вернуть потому лишь, что уворование ее шофером не было должным образом оформлено, в оперативно-следственном деле зиял досадный пробел. Документы и сгубили чекиста, а с ним и весь отряд, целый год питавшийся подачками из Москвы, оттуда самолетами гнали обмундирование, продовольствие, оружие, взрывчатку, людей, медикаменты, чекист по накладным проверял наличие товара и однажды разорался: не хватало пятнадцати килограммов риса; смешно было подозревать летчиков в том, что они где-то в воздухе продали полмешка его, так нужного раненым, и чекист затеял долгую радиовойну с Москвой, нажил себе там врагов, отряд сняли с довольствия, деревни волком смотрели на партизан, отбиравших последнее, в нападениях же на немецкие обозы гибли бойцы. В еще больший конфуз чекист вляпался, когда отряд напоролся в лесу на брошенный при отступлении танк БТ-7, добыча показалась огромной и лакомой, в танке – полтора миллиона советских денег да ящики с бумагами Комиссариата внутренних дел. Москва встревожилась, ящики приказала надежно спрятать, насчет денег же – промолчала, а советские деньги тоже ходили по Белоруссии наравне с оккупационными марками, немцы и те со скрипом, но брали их; голодающий отряд сидел на деньгах, пока однажды самый удалой взвод не стянул половину их и откололся; отряд таял медленно и верно, опустошаясь в боях, наводненный немецкими агентами, деньги наконец-то пошли в ход, остаток их чекист решил передать подполью в городе, веры у него оставалось только на Ивана, его и снарядили деньгами, ночью он покинул отряд, дорога была дальней, до самого Минска, но знакомой, безлюдный лес не давал ни пищи, ни крова, полмиллиона за спиной не разрешали ночевку даже в тихих деревнях, запрещали разводить огонь, кусочек сала на язык два раза в сутки, вода из ручья – вот и вся пища, за неделю Иван отощал и ослабел, едва не утонул в болоте, выбрался на твердую полоску земли, обсушился, подставляя себя проглянувшему сентябрьскому солнцу. Он лежал и блаженствовал; тепло подняло поникшие травы, разогрелся воздух, от портянок, ватника и брюк исходил приятный кислый запах, а к полудню стало совсем жарко, Иван поспал, прогрелся, натянул на себя высушенные одежды, закурил; так редки были минуты уединенности, что приходилось ценить каждую из них и с недоумением вспоминать бестолковые годы Ленинграда и Минска. Там были радости и боли, наслаждения и страдания, но как бы поднятые над бытом, над средоточием мелких обид и мелких удач, в войне же все на одном уровне и все просто: ты ненавидишь немцев, потому что они ненавидят тебя, ты стреляешь в них, потому что они посылают пули в тебя, и если пули тебя достигают, а такое случалось трижды, то боль не такая уж острая, она вроде бы по праву раздирает тебя, законно, что ли, и организм сам себя врачует. Или – быт возвысился до философских вершин, с которых жизнь и смерть кажутся равновероятными? Была однажды радость, сытостью наполнившая тело, был день великой удачи, радостного страха, когда ему посчастливилось: из пяти тонн аммиачной селитры, обычнейшего удобрения, он сварил нечто, оказавшееся аммоналом, три эшелона подорвали на нем, два моста – и почти месяц, двадцать восемь дней, корпел Иван над учебниками химии, пока не догадался, как из колхозного добра сделать смертоносные брикеты. Тогда подумалось: да, и впрямь не для математики рожден он – для химии, для нее! Сидеть в лаборатории среди колб, придумывать новые соединения, быть в чистой рубашке – нет, в той прошлой жизни, что в ленинградской, что в минской, не уважались примитивнейшие желания, только сейчас, в осеннем лесу, в сорока километрах от Минска, начинаешь понимать, какое это благо – быть сухим и ходить посуху!
Осины сменились редким березняком, пришлось увалить в сторону; к вечеру Иван вновь продрог и с надеждой посматривал на знакомую деревеньку, там жил связной, через него деньги пойдут в Минск; на плетне – два глечика, знак того, что опасности нет, однако и доверия к дому тоже нет, явка была подмоченной, чекист предупреждал. Идти с деньгами к связному Иван поостерегся, углубился в лес, для надежности прошел по ручью метров триста, искусно закопал мешок, завалив его листвою, и только тогда приблизился к деревеньке, с опушки обозревая дома, поглощаемые синей мглой ночи. Немцев, кажется, нет – а это значит, что надо быть вдвойне осторожным; лимонка в левой руке, пистолет в правой – так он пробрался к дому и успел выстрелить за долю секунды до того, как приклад опустился на его голову и сознание померкло. Оно вернулось, прояснилось, Иван разлепил веки и увидел наклоняемое над ним ведро, полилась вода, стало мокро; он привстал и увидел, что в доме – немцы, их было пятеро, они сидели за столом и ели, трое в форме, но не полевой жандармерии, а в обычной вермахтовской, все пятеро разговаривали, и речи их шли не об Иване, немцы судачили о каких-то дополнительных пайках, об отпусках, о наградных за партизан, о каком-то пакет-аукционе, через который выгодно отправлять посылки в Германию. За два года Иван наловчился понимать по-немецки и говорить, он ловил каждое слово и рассматривал всех сидящих, только один из немцев сидел к нему спиной, был этот немец в гражданском, он-то и глянул на пришедшего в себя Ивана, отвернулся, показав спину, жестокую и неумолимую, презрительно пожав плечами, и четверо немцев воззрились на Ивана, кто-то крикнул, подзывая солдата, тот вышел из-за печки, повозился у плиты и поставил у ног Ивана миску – как собаке: становись на четвереньки и хлебай, ложки тебе не надобно, руки-то связаны. Иван извернулся и ногой опрокинул миску, немцы засмеялись, чисто говоривший по-русски вермахтовец внятно и рассудительно сказал, что до следующей кормежки – сутки, так что есть смысл все-таки покушать, господин Баринов. Тут связной появился, зажег вторую лампу, стало светлее, связной требовал, ссылаясь на обещания германского командования, полтора гектара земли и корову, немцы же вразумительно объясняли ему: он, связной, состоит на службе германского командования и может быть поощрен только в служебном порядке, земля же и корова положены тем, кто о крупном партизане сообщал добровольно, исходя причем из высших моральных побуждений, так что связной будет представлен к медали. Ивану же немцы дали ночь на размышления: говорить или не говорить? О деньгах они знали, искать их не собирались, от Ивана требовали показать место, где спрятаны бумаги бобруйского НКВД; покажет – отпустят его на все четыре стороны, откажется – будет отвезен для горячих допросов туда, в гестапо, в Минск. «Ну?»
В одиночной камере минской тюрьмы Иван пролежал неделю; избиваемый каждый день, он не мог стоять и ходить, боль была где-то вне его, и боль могла прятаться, таиться, возникать, нападать, наваливаться на него, исподтишка ударять по нему, по той радости, что плескалась в нем, а радость была потому, что враги Ивана, немцы, – страдали, бесились, были в ярости, их трясло от злобы, они не Ивана пытали, а себя, в их кровавых глазах читалось: «Да пожалей же ты нас! Да расскажи же ты!» И били, били, били, но – вполсилы, щадя, учитывая возможную транспортировку пленного к месту хранения бобруйских документов, – и, вконец измочаленные допросами, дали себе отдых, Ивану заодно, проведывали в камере, расписывали сладкое житье-бытье в Германии, где такому выдающемуся химику и математику всегда найдется применение, приносили египетские сигареты, а потом словно с цепи сорвались, драли глотки, орали, что вынуждены прибегнуть к более убедительным способам, и однажды привели в подвал: с потолка свисали цепи, на жаровне калились еще не разогревшиеся до красноты железные прутья, длинный топчан покрывала корка запекшейся крови, два ведра с водой для приведения в чувство запытанного до потери сознания человека, солдат канцелярской внешности, познакомивший Ивана с вопросником, на каждый из пунктов которого ему надлежало дать ясный ответ, и два столика, на одном – лампа, под светом ее – разложенные на белой салфетке никелированные щипчики и подобные им инструменты, другой стол предназначался солдату, но тот увидел, что до признательных минут еще далеко, и удалился, оставив Ивана наедине с палачами, которым было не до него. Ивана же начала бить дрожь, когда он увидел никелированные инструменты, и, превозмогая дрожь, он стал рассматривать палачей. Их было двое, они были в фартуках, они пили и ели на краю топчана, расстелив на нем газету, они пили свою законную, преддопросную водку, закусывая толстыми ломтями хлеба, цилиндриками аккуратно нарезанной колбасы и квадратными пластинами сала. Один – маленький, щуплый, с косою, под Гитлера, прядкою волос на высоком и воспаленном лбу; второй отличался красотою и мощью мускулатуры, кожаный мясницкий фартук – на голом теле, затылок вырастал из плеч, покрытых густым рыжим пухом. Это были специалисты, они умели хладнокровно наслаждаться страданиями не своих тел; со все возрастающей частотою дрожь колотилась в Иване, скручивая узелки размягченных побоями мышц в тугие колючки, и в предчувствии боли, не такой, как прежде, а нестерпимой, стали подкашиваться ноги, и что-то упало в Иване, в душе его, он даже слышал звук падения, глухой и мягкий, а затем – треск разрываемой ткани какого-то органа в теле, предвестник страха. Немцы, которых Иван ненавидел, неожиданно стали казаться не такими уж бесчувственными и чужими, подлыми и бесчеловечными: да есть же у них сострадание, пожалеют они его, дадут полежать без боли, когда потерзают его, и если их попросить, то не так уж больно будет, люди они все-таки, люди, едят и пьют по-человечески, обстоятельно, без жадности, ценя время, уважая саму добротную пищу и сам процесс потребления, и что-то есть успокаивающее в плеске и бульканье наливаемой жидкости, в чавканье…
Бутылка была выпита, тощенький немец закурил, здоровяк долго еще ковырял во рту зубочисткой, потом, тоже закурив, протянул руку, взял никелированный предмет со стола и почистил им ногти, вмял сигарету в объедки, поднялся, понес газету с объедками и пустую бутылку в угол, где – Иван скосил глаза – стояло корыто с окровавленными тряпками. Здоровяк прошел мимо, швырнул бутылку и газетный сверток в корыто, а его напарник, тот, что с челкою под Гитлера, отогнул край фартука, достал чистейший носовой платок, высморкался, улыбнулся, обнажив белые, как вываренное мясо, противные, гадкие десны; страх начал спадать с Ивана, потому что никакой опасности от Ивана немцы не ощущали, он для них был уже закланным, они привыкли получать для топчана обезволенных, сломленных, так напуганных болью, которой еще не было, что и мысли о борьбе за себя не возникало у людей, как трухой набитых мелкой дрожью. Ненависть приятной теплой волной подступала к нему, лизнула ноги, поднялась выше, наполняя тело силой и вдохновением, и казнь уже не была неотвратимой; одним прыжком Иван добрался до жаровни, схватил раскаленный прут и вонзил его в спину здоровяка, в то место, откуда начинали струиться покрывавшие лопатки волосы; в хилого полетели щипцы, Иван навалился на немца, сомкнув пальцы на цыплячьей шейке его, и музыкой победы был хрип, острое колено немчика упиралось в его грудь, мешая душить, потом немец стал отдаляться, Иван же начал взлетать и уже с высоты увидел канцелярского солдата и парабеллум в его руке…
Все покрылось мраком и стихло, не стало радостей и болей, возобновившихся, но потерявших направление, не нацеленных на него, а как бы всеобщих. Затем боль сжалась до мешка с гвоздями, будто бы в нем несли Ивана куда-то, он орал в полной темноте, пока наконец его из мешка не вытряхнули, но бросили опять же на гвозди; дыра пробилась над головой, и показался свет, выступили человеческие лица, запахло чем-то приятным, знакомым, запах вытащил из памяти дом в деревне, немцев за столом, миску, поставленную к ногам, вспоминать остальное было так страшно, что Иван застонал, но приятное, жидкое, теплое влилось в рот, уши откупорились, послышались звуки, говорили по-русски, успокоительно и сладко. Он заснул, просыпался и засыпал, и однажды вспомнилось все: и немцы в доме связного, и тюрьма в Минске, и подвал для пыток, и оба палача, и – почти осязаемо – щупленький немчик: зубы и десны его при улыбке, тело чуть наклонено вперед, как у курицы перед клевком, а руки крыльями загнуты назад и радостно поглаживают ягодички… Так ярко вспомнился подвал с немцами, что Иван зажмурился и рукой потянулся к подбородку; немцы в Минске побрили его для опознания, по густоте бороды можно высчитать: после парабеллума, из которого по нему стреляли, прошло две недели, не меньше, что подтвердили и люди, кормившие его, бородатые и безбородые, последние разделились на мужчин и женщин, голоса были теплыми, мелодичными. Снег ослепил Ивана, когда его вынесли на крыльцо, белизна мира была расчерчена перпендикулярными штрихами оголенных деревьев, Ивану рассказали, как он попал сюда, к партизанам, услышанное он дополнил и домыслил, с тупым равнодушием подумав о везении, не таком уж редком на войне. Там, в подвале, его застрелили и посчитали умершим, мертвым, а это – смерть во время допросов – было служебным упущением, и немцы включили его как живого в списки на расстрел, акции они проводили в двадцати километрах от Минска, трупы забросали землей, мальчишки из поселка неподалеку увидели у рва недострелянного человека, уже выбравшегося из-под трупов, этот человек и выволок Ивана, сам же умер назавтра, а Ивана увезли в лес к партизанам, сюда. Вот и все, жизнь продолжалась, иногда плакалось от слабости, потом наступало полное безразличие и глухое забвение. Две бабы выходили его, поставили на ноги, ленивые и шаткие, весной поэтому его на подводах увезли куда-то, тряслись сутки, темнота наступала дважды, последнюю ночь провел он у костра, шипел ельничный лапник, дым ел глаза, уши поняли: самолет в небе, сейчас идет на посадку. В Москве – не тележный скрип, а шорох автомобильных шин, привезли в школу, где разместился госпиталь, ноздри чутко различали запахи, чей-то голос негодовал: «А ну, ироды, не курить!..» Коридор, тусклый свет лампочки, светлая до рези в глазах операционная, здесь стало известно: три пули, две в груди, одна в затылке – и вновь провал, снова – будто парит он над белыми халатами. Потом палата, то есть классное помещение, как в ленинградской школе, и свежее, что радовало чрезвычайно, белье, теплый синий халат, на кальсонах, правда, не хватало верхней пуговицы, и голод: он ел, ел, ел, никак не насыщаясь, но утоляя боли, растянувшиеся на месяц, боли отчетливые, точечные и боли, давившие прессом неутихающего надсадного грохота во всем теле. Нормальная, то есть довоенная, жизнь представлялась победою радости над болью, некой константой, функцией двух переменных, порою изменение одной влекло спад или подъем другой; в госпитале тоже боролись радость и боль, кратковременность страдания каким-то образом соответствовала мгновенности удовольствия или, наоборот, длительности возврата к норме. Месяц пролежал Иван в школе, здесь его нашли офицеры НКВД, в кабинете начальника Иван рассказал, где спрятан отрядом архив бобруйской госбезопасности, начертил схему; через три дня приехали вновь, схема утеряна, соврали ему, и он начертил такую же, вместо якобы посеянной, – да, много полезного дал ему чекист, погибший вскоре; Иван был теперь единственным, знавшим место захоронения так нужных НКВД ящиков, и его перевели в настоящий госпиталь, где он продлил курс изучения болей после того, как из-под шейных позвонков извлекли последнюю пулю. Он градуировал боли, по остроте и длительности подразделяя их на виды и подвиды, классы и подклассы, он прислушивался к шевелению в себе потревоженных мышц, в нем постоянно сражались новые и давние боли, нейтрализуя друг друга, устанавливая себя в некое промежуточное состояние, в мерцание уходящих и возвращающихся недугов, скорбей и печалей мускулатуры; то сердце всхлипывало, то легкое, еще помнившее пулю, и боль начинала растекаться по всему телу, как жидкость на гладкой поверхности, пока не встречала щель, куда уходила, но не топилась в ней, а собиралась в чуткий комок. Бывали боли, от которых перехватывало дыхание, спасением от них был крик, протяжный стон, визг или вопль, звуковой образ болей вмещался в рядом лежащих раненых, что облегчало страдания болящего, но будоражило соседей; боль объединяла людей точно так же, как радость, и не оттого ли общий плач на похоронах? А если бы рядом стонали враги – что тогда? И вспоминалась поразившая в гестапо странность: да, было больно, когда били немцы, но и радость была в этой боли, потому что, перенося ее, он мстил немцам, его молчание – это боль для истязующих тебя, зато здесь, в госпитале, боль как бы упакована в радость скорого избавления от всех скорбей.
Но когда боли кончились, радость не воссияла, пошла обычная жизнь, пологая часть доселе метавшейся кривой, склонной к падениям и взлетам. Конец войны уже близился, под Минском окружили двадцать немецких дивизий, еще немного – и выйдут на госграницу, «Даешь Берлин!». Когда в палату приносили почту, Иван уходил в коридор, писать ему было некому и получать письма не от кого, отец и мать погибли во второй день войны при бомбежке, Иван сам похоронил их, о Климе никаких вестей, его, конечно, сожрала война, никого из сестер и братьев отца в живых не осталось, и однажды, просматривая на парковой скамейке газеты, Иван наткнулся на реляцию из Ленинграда: сотрудники ВИРа, Всесоюзного института растениеводства, подыхали с голоду, но сохранили коллекцию семян, и среди умерших героев – Ф. М. Никитин. Надо начинать новую жизнь, со старой покончено, теперь у Ивана – никого на этом свете, даже любимой девушкой не обзавелся, уж не познакомиться ли с кем? Как-то потянул его в коридор сосед по палате, танкист, парень из тех, кому всегда достается первый кусок и последняя пуля: «Две дамочки тут неподалеку, ты как, способен уже?..» Сходил с танкистом к дамочкам, которых хватило бы на весь госпиталь Бурденко, еще раз навестил, потом уступил очередь товарищу. Военно-врачебная комиссия установила и другие способности: годен для дальнейшего прохождения службы, а ту определил еще раньше чекист, поручавшийся за Ивана, и вышел он из госпиталя в военной форме, старшим лейтенантом, на самолете доставили его в освобожденный Минск, повезли в барановичские леса, не решились без Ивана искать бобруйские ящики; «Здесь!» – ткнул он пальцем в землю, и по тому, с каким радостным рвением вытаскивали энкавэдэшники спрятанное, понял: не только о бумагах пекутся они, а что там помимо них – не хотел знать, поднадоели уже все эти чекистские выкрутасы. В Минске ему вручили орден, о деньгах, что нес он подполью, слова не было сказано: считалось, что их захватили немцы, со связным же еще раньше расправились народные мстители. Иван сам не хотел говорить о спрятанных рублях – сразу же возникала боль, обращенная на себя: зачем, идиот ты этакий, пошел на явку, зная, что ожидает провал, зачем? Молчал еще и потому, что – потянуло в лес, на знакомое, в засады и преследования, походил сухим по сухой московской земле – и скучно стало, теперь же – раздолье, открытая борьба, утоление чувственного голода, леса кишат пособниками, националистами и недобитками, знаток партизанских методов старший лейтенант Баринов получил под командование роту и аж до самой весны сорок пятого скитался по северо-западу Белоруссии, находя наслаждение в том, что болотная жижа хлюпает в сапогах, шинель колом стоит от холода и грязи, в животе бурчание; только вернувшись в Минск он отоспался, отмылся и отъелся, пришил к гимнастерке белейший подворотничок и до блеска начистил наконец-то выданные хромовые сапоги. Рота обустраивалась у разрушенного мелькомбината, Ивану дали койку в офицерском общежитии. Зеркало у стены показало ему себя во весь рост: широкоплечий парень из тех, кому палец в рот не клади, в синие глаза разрешено смотреть только женщинам.

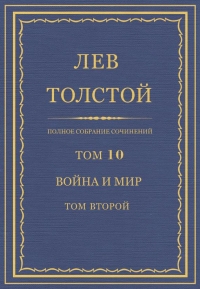


Комментарии к книге «Клетка», Анатолий Алексеевич Азольский
Всего 0 комментариев