Александр Степанович Грин Собрание сочинений в шести томах Том 6. Дорога никуда. Автобиографическая повесть
Дорога никуда*
Часть I
Глава I
Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там десять столиков, могущих единовременно питать человек тридцать, но даже половины сего числа никогда не сидело за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор, посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом, кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся, с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» – хижину среди снежных сугробов. «Осень» озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая – «Зима» – могла заставить нервного человека задуматься над отношениями действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся потом в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла надпись, сделанная черными наклейными буквами, внизу рам.
Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери, со стороны улицы, висело меню – обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирал очки, если носил их, если же не носил очков, – его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол.
Вот это меню в день начала событий:
Ресторан «Отвращение»
1. Суп несъедобный, пересоленный.
2. Консоме «Дрянь».
3. Бульон «Ужас».
4. Камбала «Горе».
5. Морской окунь с туберкулезом.
6. Ростбиф жесткий, без масла.
7. Котлеты из вчерашних остатков.
8. Яблочный пудинг, прогоркший.
9. Пирожное «Уберите!».
10. Крем сливочный, скисший.
11. Тартинки с гвоздями.
Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст:
«К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость».
Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузен, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно.
Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза.
Повар сидел на кухне, и ему было смешно.
Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей.
– К сожалению, – сказал Кишлот, – мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок.
– Старый дурак! – сказал человек и ушел. До вечера никого не было. В шесть часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял; Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину.
– Итак, это только реклама?
– Да, – ответил Кишлот. – Мой расчет основан на приятном после неприятного.
Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк; он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил.
– Это что? Шутка? – с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость.
– Как хотите, – сказал Кишлот. – Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.
– Нехорошо, – сказал толстяк.
– Но…
– Нет, нет пожалуйста! Это крайне скверно, возмутительно!
– В таком случае…
– Очень, очень нехорошо, – повторил толстяк и вышел. В девять часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет.
– Малодушный! – сказал ему Кишлот. Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Тиррея Давенанта, который искал работу. Переговорив с Давенантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Тиррей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в «Отвращении» было нетрудно. Давенант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику.
Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной.
Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день, – Орт Галеран, человек сорока лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от висков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы, длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галеран носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он небогат. Уже три дня Галеран приходил с книгой, – при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Давенанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги.
В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы.
– Ваш расчет, – сказал он однажды, – неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, что вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо, много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты?
– Десять лет я пытаюсь разбогатеть, – ответил Кишлот. – Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает.
– Не хватает Кишлотов, – смеясь, сказал Галеран. – Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло.
Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек.
– Я держал, – сказал он, – булочную, кофейную и зеркальный магазин. Магазин имел вывеску: «Все красивы», – а в объявлении на окне говорилось, что из десяти женщин, купивших у меня зеркало, девять немедленно находят себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа! Дело не пошло. Торгуя булками, я объявил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам, но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено, как настоящий ручеек: среди цветов, по жестяному руслу текло горячее кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь – «Отвращение». Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток.
– Вполне понятно, – сказал Галеран. – Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе.
Давенант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился щегольской экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Давенант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежавших к обществу, красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли, под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было двенадцать лет, вторая же, семнадцатилетняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой.
Их спутница вскричала:
– Роэна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда.
– Но мы уже вошли, – сказала девочка, которую звали Элли. – На вывеске стоит «Отвращение». Я хочу самого отвратительного!
Пока она говорила, Роэна пожала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог.
– Надеюсь, вы не будете применять силу? – спросила она пожилую даму.
– Я запрещаю! – беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками.
Смешливый Кишлот обратился к Элли:
– Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшая сестрица пожаловали, она должна ей сказать, что «Отвращение» только для виду, а кушать здесь одно удовольствие.
Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хотя на один миг сестрой хорошеньких девушек, возразила:
– Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей. Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?
– Если он и будет приглашен вами, – воскликнул Кишлот, – то лишь затем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс.
– Ну, посмотрим, – снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Роэна. Они осматривались, а Давенант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.
На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили.
– Вот, мы сели, – сказала Урания. – Что же дальше?
– Что это значит? – спросила Роэна, строго указывая на меню, где значилось: «Тартинки с гвоздями».
– Тартинки с гвоздями, – объяснил Кишлот, – это такие тартинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья. А относительно гвоздей написано для тех, кто – как бы сказать? – Любопытен…
– Вроде нас, – перебила Элли. – Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно!
– Элли! – застонала Урания.
– Многоуважаемая Урания Тальберг, – ответила непокорная девочка, – папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользовались… Хозяин!
– Я здесь, барышня.
– Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?
– Хозяин шутит, – решил вставить Давенант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям.
– Но мы тоже шутим, – ответила Элли, внимательно смотря на него. – Нам весело. Значит, ничего такого не будет? Очень жаль. В таком случае принесите мне молока.
– Чашку молока! – повторили Давенант и Кишлот.
– Чашку кофе и печенье, – заявила Роэна.
– Печенье! Кофе! Молоко! – закричал Давенант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему допытываться, не пожелает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Давенант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло девушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить «вертеп».
Давенант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть.
– Рой, – неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек, – вот там один из отравившихся пищей дома сего.
– Отравился и умер, и похоронили его, – громко подхватил засмеявшийся Галеран.
– Ах! – вздрогнула гувернантка.
– Элли! – зашипела Роэна.
Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглы и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя.
– Уф-ф! Уф-ф! – едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы.
Урания побледнела.
– Довольно! – заявила она, дрожа от негодования. – Какой стыд!
– Извините, – гордо обратилась Роэна к Галерану. – Моя сестра очень несдержанна.
– Эх ты! – горестно прошептала Элли.
– Я рад видеть детей Футроза, – добродушно ответил Галеран. – Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело.
– Как, вы нас знаете?! – вскричала Элли.
– Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет: Орт Галеран.
Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратило в шутку неловкость девочки.
Давенант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела.
– Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе.
– Что вы сказали? – крикнул Давенант. – Разве я вас просил?
Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб.
Но было уже поздно. Давенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре:
– Будем, как Аль-Рашид. Почему бы не так?
– Тиррей прав, – согласился, нимало не смущаясь, Галеран, – он меня ни о чем не просил. Эта мысль пришла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле: странное кафе, странные посетители, – странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал: дурного ничего нет в моих словах, случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо…
– Однако… – нашла наконец силу и дыхание заговорить гувернантка, – я неприятно удивлена. О боже! Какой ужасный день. Роэна! Элли! Нам совершенно пора идти.
Бессвязно проклокотав шепотом о неприличии сидеть долее за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Урания Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Давенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно некстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Давенанта предстало нервной даме во всей беззащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка: сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосого и печального.
– Чего же вы хотите? – сказала Урания Галерану. – Я, право, не знаю… Это так неожиданно. Роэна! Элли!
Сконфуженный Давенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решившей, что шутливый тон будет уместнее всякой торжественности.
– Обожаю неожиданности! – сказала она. – Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем: мы – «случайности». А вы – вы почему молчите? Ведь все это о вас!
Давенант, запинаясь, сказал:
– Заговорил не я. Сказал Галеран, чего я ему никогда не прощу.
– Но он угадал? – осведомилась Роэна тоном взрослой дамы.
Давенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи.
– Да. Если бы…
То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь. Однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Давенанту, говоря одна за другой:
– Вы, конечно, понимаете…
– Что ваш друг…
– Что в кафе «Отвращение»…
– С кушаньем «Неожиданность»…
– Произошло движение сердца…
– Мы клянемся вашей галереей: зимним летом и осенней весной…
– Постой, Рой!
– Не перебивай, Элли!
– Я не перебиваю. Мы сегодня делаем, что хотим. Тампико сделает все.
– Сделает все, что мы пожелаем! – воскликнула Элли, сердито смотря на Уранию, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы. – Придите завтра к нам. Хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9 – это наш дом. Не раньше одиннадцати. Прощайте! – Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решилась и закончила: – Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто… И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу, сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать? Сюда? В «Отвращение»? Кому? Неожиданности?
– Элли! – воззвала Урания со стоном и хрипом.
Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре.
Кишлот тяжко вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался.
Давенант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился.
Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски.
Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света, среди серых грив и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.
Глава II
Урбан Футроз так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем: в награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любым просьбам избалованных девушек. Футроз родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающееся. Однако Футроз не имел естественной склонности ни к какой профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем, единственно важным, что – странно сказать – было для него призванием: Футроз безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествие, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футроз жил так, как единственно мог и хотел жить: в судьбах, очерченных мыслями и пером авторов.
Его жена, Флавия Футроз, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на четвертом году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов доказать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее, – всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место – наполовину сверстник, наполовину отец.
К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей Давенант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой, и опомнился лишь, когда увидел фургон с ящиками.
Вздохнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Давенант охотно оставил бы немытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков.
– Однако вы смелый оригинал, – сказал Кишлот Галерану. – Репутация моего кафе укрепится теперь в светских кругах. Не так, так этак. Не тартинки с гвоздями, так рекомендательная контора.
– Вы не правы именно потому, что правы буквально, – возразил Галеран, набивая трубку. – Но вы не поймете меня.
– Что говорить: я, разумеется, бестолков, – отозвался Кишлот, – а вы человек ученый. Действительно вы знаете их отца?
– Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?
– Вначале я рассердился, – ответил Давенант, вспыхнув. – Я испугался.
– Чего?
– Не знаю.
– Хорошо. А затем?
– Рад был, конечно, что там говорить! – крикнул Кишлот. – Прожить жизнь слугой тоже несладко, это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу.
– Скорей я не был рад, – пояснил Давенант, обращаясь к Галерану. – Но вдруг стало приятно дышать. И больно. Они не ветрогонки, – задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот так же машинально тянул у него из рук. – О! Я очень хотел бы всего такого! – вскричал Давенант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки. – Как вы думаете, что теперь может быть?
– Об этом рано говорить, – сказал Галеран. – Завтра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти.
– Почему вы так добры ко мне?
– На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен.
Галеран ушел, и Давенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе, было уже девять часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающего Давенанта события – идти завтра к Урбану Футрозу – Кишлот разрешил юноше отсутствовать три часа – от десяти утра до часу дня – и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Давенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец – унижения и дерзкого вызова, сам не замечая, что перепутал принципы кафе «Отвращение» с приемами слезливых нищих. Давенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них двух стало четыре, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво дозволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его наконец. Давенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза.
У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалованья, и соломенная шляпа с порыжевшей лентой.
Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Давенант, как бы случайно, сказал Футрозу, что «Отвращение» есть, в сущности, «Приятное разочарование» – небезынтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города.
Давенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня, – видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию.
Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его посвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на три ступени, уже томило Давенанта, как скучное воспоминание. Повар начал допытываться, куда это идет слуга, одевшись, как в праздник, вместо полотняной куртки и тикового передника. Давенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал:
– Тоже… с секретами.
Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять. Меж тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота: «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или: «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек?» Случайно его не было за стойкой, когда Давенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к Якорной улице. Не было еще одиннадцати часов, но он уже разыскал дом Футроза – старинное здание из серого камня, с большими окнами и входом посредине фасада. Набравшись решимости, Давенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная, с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Давенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Давенант сказал:
– Вчера мне назначили… Какое-то дело…
Но горничная перебила его:
– Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите. Я передам.
Давенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций, с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненым атласом, так сильно понравились Давенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами, Стеклянная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта; за ней блестели небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра.
Давенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел Футроз. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности – невысокий, худой; его черные волосы спускались бакенами до середины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка Футроза открывала перламутровой чистоты зубы; при этом на его щеках появились заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда Футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно-серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением не упомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета.
Усадив Давенанта против себя, Футроз сказал:
– Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал, – занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни!
Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Давенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить, как в гостиную вошло существо о двух головах: Роэна обнимала сестру сзади, установясь подбородком в волосы Элли. Заметив Давенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятясь, в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась. За ней раздались возня и откровенный взрыв хохота.
Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, Футроз сказал просиявшему Давенанту:
– Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей.
– Видите ли, – сказал Давенант, невольно посматривая на дверь, – самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался, – жив он или умер. Мне было тогда пять лет, и я помню, как моя мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту – получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участи, несмотря на всякие справки.
– Следовательно, – заметил Футроз, после приличествующего молчания, – ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса.
– Да! И еще более, тот человек отсутствовал, – он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него.
– Действительно!
– Когда я вырос, – продолжал Давенант, вздохнув, – многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне, очень странное.
– Мне интересно знать, рассказывайте.
– Это было так: я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани – далеко, около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно: так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода. – И он услышал, знаете… стук барабана: солдаты вышли из переулка и прошли мимо него: «Раз-два… Раз-два…», – а впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились… Конечно, дико! Я знаю! – вскричал Давенант, торопясь досказать. – Но барабан бил. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит – это не та улица. Идет дальше – это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер … В больнице, должно быть, – прибавил Давенант, с облегчением видя, что Футроз слушает его без насмешки. – Но он жив… Я иногда чувствую это. Большей частью я знаю, что он умер.
Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Давенант умолк.
Футроз спросил:
– Как это у вас получилось?
– Не знаю. Но стало представляться одно за другим. Я сам удивился.
– Вы фантазер, – заметил Футроз, задумчиво рассматривая Давенанта. – Одиннадцать лет – большой срок. Оставим это пока.
Давенант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец адвокат Франк Давенант был горький пьяница и несчастливый игрок; сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Давенанта шесть лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончает она свои дни: покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Давенант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тиррея на одиннадцатом году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тиррей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лисе, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Давенанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сделалась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тиррея работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Давенант был уступлен своим хозяином Кишлоту.
Футроз, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего.
– Вчера в вашем «Отвращении» был некто Галеран, – начал Футроз. – В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?
– Видите ли, – ответил, все еще посматривая на дверь, Давенант, – это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем неизвестно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится.
– Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?
– Я взял бы от нее все, да, как говорится, – руки коротки. Но… ведь вы знаете больше, чем я.
– А потому должен знать, чего вы хотите!!! Ну, нет, дудки, молодой человек! Подумайте и скажите.
– В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших путешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. Но что я говорю! – воскликнул Давенант. – Верно: это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно.
– Послушайте, милый мой, – сказал Футроз, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову, – только то и хорошо, что вы откровенный. Вот на чем окончим мы нашу беседу: вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часа.
– Что вы надумали для меня? – спросил Давенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза.
– Законный вопрос. Так вот: у меня есть знакомый в Географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году, – экспедиций небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа.
– Это верно! – воскликнул Давенант. – Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако, – добавил он великодушно, – я очень прошу вас: если вы встретите затруднения, – не хлопочите тогда.
– Ах так?! Хорошо.
– Но это не в таком смысле, что… – запутался опешивший Давенант, – а в другом … Мне совестно.
– Хорошо, – Футроз задумался, быстро проворчав сам себе: – «Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник».
– Как вы сказали? – не расслышал Давенант, думая, что Футроз спрашивает его.
– Я сказал, – шутливо оборвал Футроз деловой разговор, – что я возьму вас пинцетом за крылышки и пущу бегать по глобусу.
Чувствуя серьезность обещания, Давенант глубоко вздохнул, а Футроз позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть.
– Вы будете нас посещать, – сказал он Давенанту, хлопая его по плечу, – и вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это – хорошие, но очень коварные дети.
Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Тиррею.
– Серьезный разговор кончен, – сказал им отец, – а теперь Давенант – наш гость. Боюсь, что он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его понемногу перевернем. Роэна, я могу быть спокоен?
– О да, папа! – грустно сказала Рой, опуская глаза. – Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер.
– Как энциклопедия на древнеегипетском языке, – успокоила отца Элли, печально гладя рукав.
Футроз с сомнением взглянул на них и вышел.
Язвительницы немедленно подошли к Давенанту и сели против него.
Элли томно сказала:
– Какая чудесная погода!
– О да! – ласково улыбнулась Рой краснеющему Давенанту. – Но, кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобили вам нравятся?
– Вы любите музыку? – спросила Элли, кусая губы. – Какой ваш любимый композитор?
Продолжая дурачиться, они заметили, что Давенант удручен, и рассмеялись.
– Вы на нас не сердитесь, – сказала Рой. – Сегодня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?
– Да, – сказал Давенант, – вы угадали.
– А мы? – нагло спросила Элли, подскакивая на стуле.
– Мы постараемся вам понравиться, – скромно пообещала Роэна. – Вы будете приходить часто. Хорошо?
– Очень хорошо, – ответил Давенант, – это лучше всего. – Подумав, он добавил: – Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво. Так я не очень серьезен.
– Я вижу, что у нас найдется общая почва, – Элли подмигнула сестре. – Я тебе говорила.
– Что говорила?
Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились.
– Хотите, мы вам сыграем? – предложила Элли.
– Конечно! – вскричал Давенант. Улыбка не покидала его.
Возник спор, кому первой играть. Кончился он тем, что Роэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом – переворачивать листы нот.
– Слушайте «Вальс изгнанника», – говорила Роэна в то время, как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру. – Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Роэна, упорное существо… Слышите, как соврала? И вот, теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу.
– Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там, – Элли закатила глаза, – его дочь, в цветах и бриллиантах, приехала из церкви … Сказать ли? С довольно недурным субъектом.
– И… – подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист. – Элли, зачем дергаешь ноты?.. И изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес.
Давенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Роэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их, разогревшаяся, охваченная светом мелодии.
С нее Давенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи.
Роэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала.
– Вот и все, – сказала она. – Хотите еще? Давенант не успел ответить, так как вошел Футроз с конвертом в руке.
– Давенант, увидите ли вы Галерана? – спросил Футроз, обняв прижавшуюся к нему Элли.
– Да, я думаю, – да, – ответил Давенант, не понимая, что означает этот вопрос. – Галеран приходит в … обедать каждый день.
– В «Отвращение», – вставила Элли. – Ох! Я обещала ему написать.
– Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра.
– Загадка! – вскричала Рой.
– Галеран влопался, – кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге.
– Хорошо, письмо будет передано, – сказал Давенант, пряча пакет.
– Тампико, мы пошли, – объявила Элли. – Прощайте, Давенант! Передайте письмо!
– Передайте его из рук в руки, за утлом, чтобы никто не видел, – посоветовала Рой.
Футроз повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Давенант увидел два носика, просунутые в щель двери, затем Рой сказала: «Идем!» – и дверь плотно закрылась. Футроз отпустил Давенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын.
Выпущенный на улицу почтительной горничной, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Давенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «изгнанник целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Давенант явился к Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил:
– Выставили?
– Нет, не выставили, – рассеянно ответил наш герой, оглядываясь. – А где Галеран?
– Он тут, если ты на него смотришь, – сказал Галеран в пяти шагах от Давенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом.
Давенант вздрогнул.
– Ах, это вы! Странно – я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо.
Кишлот только что принес тарелку супа для Галера-на. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт.
– Сам Футроз написал его, – пояснил Давенант. В течение нескольких минут остальные посетители «Отвращения» – старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки – тщетно требовали: женщина – соль, а приказчик – печеное яблоко. Кишлот разинул рот еще шире, чем Давенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Давенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.
Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое.
– Разве вы не будете есть дичь? – удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым. – «Куропатка с ревматизмом», – как значится сегодня в меню… Хе-хе! Должно быть, важное это письмо, от старых знакомых… Давенант, принеси «мороженое с ангиной»!
Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Тиррей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо.
– Не буду есть даже «павлина с аппендицитом», – сказал Галеран, – не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых, прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона.
– Так не надо мороженого? – спросил Давенант, стащив старухе третью солонку.
Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы.
– Сознаешь ты, что отчасти обязан мне? В деле с Футрозом?
– Конечно. Вы первый начали.
– Тогда ты должен зайти сегодня вечером, в десять часов, на Северную улицу, номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили.
– Футроз сказал, что сделает все. Понимаете? Я не шучу. Я приду к вам, – быстро говорил Давенант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму. – Но …что он вам написал? Уж вы простите меня.
– Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футроз просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных «Тирреев», шестнадцати лет.
– Я не мальчик, – сказал Давенант, вспыхнув. – Но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость…
Галеран ушел, а Давенант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футроз переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде: «Чего не бывает в жизни!», «Не каждому так везет!», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках.
– Вот если ты сам достигаешь всего – это другое дело, – говорил Кишлот, – это не то, что хвататься за чужой хвост.
Ворчание старика Давенант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался наконец часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в три этажа, стоявший на углу песчаного пустыря плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри, на грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Давенант взобрался на третий этаж по второй лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Давенанта к помещению в конце широкого коридора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком.
– Я всегда запираюсь, – сказал Галеран, – потому что жильцы имеют привычку вваливаться не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент.
Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из двух столов – на одном провизия и посуда, другой с книгами и чернильницей, – трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейсонье. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Давенанта; впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер.
– Вы очень меня заинтересовали, – сказал мальчик, – я все ждал, когда наступит вечер. Но я все равно страшно хотел прийти к вам.
– Отлично. Тем более, что я тебя сейчас поведу.
– Да. То есть – куда?
– Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь.
– Замечательно интересно! – вскричал Давенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза. – Я согласен. Что же я увижу?
– А! Не стоит с тобой разговаривать! Принимай условие без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение.
. – В таком случае я готов, – заявил Давенант, вскакивая. – Но у меня нет оружия.
– Нам не понадобится оружие. Если хочешь, вооружись терпением.
Галеран надел шляпу и взял трость. Давенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал: «Идем», – пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил:
– Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки.
– Хорошо, – басом ответил Симпсон. – Впрочем, что я говорю! Вы незаслуженно оскорбили меня!
– Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам.
Не слушая, что кричит вдогонку Симеон, Галеран вышел из дома и привел Тиррея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Давенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тиррея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне – как он застал его в своей комнате за кражей вина, – похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Давенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее.
– Хочешь, я тебе расскажу анекдот? – спросил Галеран.
Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан.
– Немного поздно, – сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками. – Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату.
Давенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул.
– Иди же, – сказал он. – Я говорю правду. Футроз просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить.
– Его письмо! – вскричал Давенант. – Так это он вам писал?
– Да; еще кое-что.
– Заботятся о молодом человеке, хлопочут, – осторожно произнесла старуха как бы про себя, но с явной целью завязать разговор. – Пожалуйте, пожалуйте, там вам все приготовлено, останетесь довольны.
– Значит, сегодня мне не уснуть! – объявил Давенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев.
Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь.
– Сегодня тебе нет смысла перебираться, – сказал Галеран, – так как уже поздно, да и Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай: эта комната оплачена вперед за три месяца с полным содержанием: завтрак, обед, ужин и два раза кофе. Хорошее приключение?
– Чем я отплачу Футрозу и вам?
– Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Давенантом. Что касается меня, то моя роль случайна – я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф!
Давенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья.
– Ты видишь, – продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка, – ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака – это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и четыре галстука различных оттенков. Две шляпы – соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить.
Галеран взял мягкую шляпу и водрузил ее на голову Давенанта.
– Очень хорошо. Я снял мерки твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать благодаря ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?
– Ничего он мне не сказал.
– То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Давенант? Прикоснуться необходимо.
Давенант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф.
– Лучше не смотреть пока, – сказал он. – Я должен привыкнуть. Вы не можете догадаться, почему Футроз дал мне так много всего?
– Представь – могу. Футроз такой человек, что если делает, то делает основательно, до конца, или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна, так что если он невзлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоем существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин – старый счетовод Губерман, его жена – Эмма Губерман, которая открыла дверь, – дьявольски любопытна, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты, – ее непременно засидят мухи мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?
– А вот что! – вскричал Давенант. – Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать.
Прежде чем Галеран успел защититься, Давенант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал.
– Бойся несчастий, – внушительно сказал Галеран, беря мальчика за плечо, – ты очень страстен во всем, сердце твое слишком открыто, и впечатления сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть. Одиночество – вот проклятая вещь, Тиррей! Вот что может погубить человека. Мы пойдем.
Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об «ангелах на земле».
– Шестьдесят лет живу, – прибавила она неожиданно брюзгливой скороговоркой, уже без пения и умиления, – а такого случая не бывало. Все понимаю, все. Очень хорошо, будьте спокойны.
На улице Давенант спросил:
– Куда вы направляетесь, позвольте узнать?
– Думаю, что немного выпью, сказал Галеран, пересчитывая карманную мелочь. – Ах да! От денег, которые Футроз приложил к письму, осталось вот … Сколько тут? – Он передал мальчику три золотые монеты и серебро. – Ну, ступай…
Он сел в трамвай, а Давенант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам.
– Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены, – сказал Давенант, остановясь на пороге. – Вы знаете ли, где я живу?
– Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось.
– Галеран нанял мне комнату, – объявил Давенант. – Честное слово. Я там сейчас был. На деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал.
– Врешь! – сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Давенанта.
– Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится, – продолжал Давенант, машинально обрывая пальцами свечной нагар. – Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?!
– Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя. Бывает такое, – сказал пораженный Кишлот. – С этим уж ничего не поделаешь, – в раздумье прибавил он тоном странного утешения.
– За что же это, как вы думаете?
– Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил?
– Что без мерки?
– Галеран – фраки и смокинги?
– Это просто костюмы. Я их даже не примерял. Кишлот повел Давенанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине.
– Да! – воскликнул он после молчания и вздохов. – Ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападу на золотые россыпи, говорю тебе! Рано или поздно! Будет такая верная идея, она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми!
Наспех передав ему все существенное своей истории, Давенант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом, который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалованье.
– Окончательно разбогател Давенант, – сказал Кишлот, всучивая бывшему слуге горсть серебра. – За четырнадцать дней! Проваливай!
Выпроводив счастливца, он запер дверь, крикнув:
– Заходи пообедать!
Глава III
Хотя Давенант страшно торопился, однако прибыл к Эмме Губерман уже в полночь, и старуха открыла жильцу дверь без неудовольствия: она получила за комнату хорошие деньги. Старуха принесла Давенанту наскоро состряпанную яичницу, которую поспешно съев, он занялся рассматриванием своих богатств: примерил серый костюм; нигде не жало, жилет не теснил грудь. В зеркале отразился некто изящный, чужой, без усов. Сняв серый костюм, Давенант облачился в белый. «Волшебство!» – сказал он, застегивая перламутровые пуговицы. Все сняв с себя, повесив одежду в шкаф, он погасил свет и уснул так крепко, что утром не сразу очнулся на стук в дверь: хозяйка начала беспокоиться, было уже одиннадцать часов, и ее кофейник закипал восьмой раз.
Давенант радостно засвистал: не надо подметать пол, расстилать скатерти и выбрасывать из вазы гнилые яблоки. Время принадлежит ему. Пахло чистотой и теплом тонкого белья. Нервы еще гудели, но не так порывисто, как это было вчера. Совершившееся приобрело законность длительной очевидности. Выпив кофе и закусив, Давенант оделся в белый костюм. Едва кончил он возиться с прикреплением галстука, как явилась старуха.
Одолеваемая любопытством, разведя руками, покачав головой в знак умиления при виде такой перемены внешности квартиранта, она стала допытываться, почему бедно одетый юноша с простым сундучком вызвал к себе столько заботливого внимания. Ее интересовало, кто – Галеран, кто – Давенант, как он жил до сего дня, а также что будет делать.
Старуха показалась Давенанту весьма противной, тем более, что спрашивала не прямо, а как бы отвечая на свои мысли:
– Конечно, не все сразу. Вы осмотритесь, отдохнете, а там, надо думать, будет вам служба или не знаю что. Приятно видеть, как господин Галеран вас любит, я думала – не отец ли он?! У моего мужа тоже ничего не было, но он начал трудиться, копить …
Эти намеки Давенант обошел молчанием, он свел разговор на комнату, а старуха пыталась залезть с когтями и очками в его сердце.
Не имея опыта выпроваживать докучных людей, Давенант терпел ее скрипучий речитатив, пока, устав, она не ушла, поджав губы, с жестким лицом, а Давенант отправился бродить по городу. На выходе он столкнулся с мужем хозяйки – унылым, раздражительного вида стариком, который сунул свои хилые пальцы в его горячую руку и прохрипел:
– Ну-с, так. Все в порядке, я полагаю? Старик скрылся за углом, Давенант предпринял сложное путешествие, пересаживаясь с автобуса на трамвай, с трамвая на автобус, доезжая до конца каждой линии, и за несколько часов исколесил город, как до того никогда. Он мчался, повинуясь одолевающему его внутреннему движению. Но скоро заметил Давенант, что старается не думать о цели этих блужданий, удерживая тайные мысли. Наконец он решился и прошел по Якорной улице; когда же поравнялся с домом Футроза, уши его горели, а сердце стучало. Если так хорошо было в том доме при нем, то как очаровательна жизнь его обитателей, когда их никто не видит! Так он думал. При чужом человеке, естественно, самое прекрасное должно прятаться. Там что-то мелькает, вспыхивает, звенит – казалось ему, там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные голубым светом. Между тем, ничего не зная о совершеннейшем из всех зданий мира, прохожие покупают газеты, бросают окурки под окна, мимо которых он идет, страшась встретить даже гувернантку Уранию Тальберг, так как на ней тоже блестят упоительные лучи красно-желтой гостиной, полной золотых кошек и розовых лиц.
А между тем Давенант очень хотел увидеть хотя бы Уранию, хотя бы горничную, но при условии остаться незамеченным ими.
Утешившись тем, что завтра снова придет к Футрозу, Давенант остаток дня употребил на посещение зверинца и покупку нескольких старых книг; к завтраку он опоздал, обедать пришел поздно и был голоден, отчего съел суп, рыбу и сладкий пирог без остатка, съел даже весь хлеб, так что старуха долго рассуждала с соседкой об аппетите жильца. После обеда Давенант лег с книгой, читая повесть Хаггарда, но скоро, утомясь пережитым, заснул. Как стемнело, пришел Галеран и увел его гулять на Лунный бульвар.
Они медленно ходили под листвой огромных деревьев, разговаривая о жизни, которую Галеран знал во всех ее проявлениях, стараясь внушить мальчику доверие к своим чувствам.
– Никогда не бойся ошибаться, – говорил Галеран, – ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное, может быть, несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны.
Эти простые истины отвечали характеру Давенанта; особенную прелесть имели они именно теперь, представляя как бы надежное оружие для его переполненных чувств, поданное отважной рукой.
Возвращаясь ярко освещенной аллеей, они остановились у террасы ресторана, привлеченные бурной сценой: оборванный пьяный человек рвался к столикам, крича, что хочет развеселить посетителей замечательной песней. Уже слуги схватили его, намереваясь вытолкать вон, как одна богатая компания, желая потешиться, вступилась за оборванца, и, злобно оглянувшись на отошедших официантов, оборванный человек, вытерев потный лоб тылом руки, хрипло запел:
Пришла к тюрьме девчонка, Рябая Стрекоза, Вихлявая юбчонка, подбитые глаза. «Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять, Вы будете, приятель, со мной в постели спать. Вчера я ночь гуляла, Два шиллинга достала, Прошу их передать На номер триста пять!» Скривился надзиратель и так ей говорит: «Я не работодатель, а честный Джонни Смит, Любовник твой, убийца, повешен он вчера За то, что кровопийца, в шестом часу утра. А ты иди, паскуда, Прочь от ворот, покуда Тебя не прогнал я. Поди, хлебни вина!» «Ах так, – она сказала и плюнула в него. – Тебя повесить мало, и больше ничего, Сегодня, только смеркнет, твой брат ко мне придет И у меня в постели зарезанный уснет…»Бродяга пел с чувством, жеманно вертясь, когда изображал проститутку, и выпячивая грудь, строго хмуря брови, когда Рябой Стрекозе отвечает непреклонный надзиратель. Часть слушателей расхохоталась, иные вознегодовали, но артист все же собрал мзду. Больше ему петь не дали. Он ушел, пошатываясь и разглядывая монеты на дрожащей ладони. Затем бродяга быстро миновал Давенанта, крикнув отшатнувшемуся юноше: «Держись, сосунок, а то сшибу!» – и исчез в аллеях. Давенант заметил его спутанные волосы. Тяжелое, коварное лицо этого человека метнулось перед ним на одно мгновение и скрылось в тени ночи.
Такого рода песни Давенанту приходилось слышать не раз, когда он возил тележку с горячей пищей на окраинах порта, а потому он равнодушно слушал ее. Между тем Галеран остановился; вытащив блокнот, он записал в него отдельные выражения этого образца тюремной поэзии.
– Я составляю сборник уличных песен, – сказал Галеран, – и надеюсь продать мой труд какому-нибудь издательству. Ты, наверное, часто старался понять, чем я живу. Я составляю сборники самого разнообразного типа: от анекдотов до «игр и забав». Я жил бы лучше, если бы не был подвержен страсти к игре. Не моту не играть.
– Значит, вам не везет?
– Ты проницателен.
– А вы старайтесь выигрывать.
– Совет мудреца! – рассмеялся Галеран. – Покинь меня и отправляйся спать. Спать хорошо.
– Вот что, – подумав, сказал Давенант, – в первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет!
– Идет! – согласился Галеран. – Я никогда не отказываюсь играть на чужое счастье. Приходи завтра в «Отвращение». Я буду там от часу до трех.
– Да, я всегда хочу быть с вами, – сказал Давенант. – Я буду там, мы что-нибудь придумаем.
На том они расстались. Прошла еще одна ночь, и занялся день, сказавшийся лучом в глаза:
– Сегодня, сегодня – туда!
Глава IV
Роэна и Элли принимали участие в судьбе молоденькой чахоточной портнихи Мели Скорт, затеяв отправить ее лечиться на морской берег Ахуан-Скапа. Мели явилась незадолго перед тем, как вошел Давенант.
Увидев ее в гостиной смиренно рассматривающей альбомы, Давенант поклонился бледной, бедно одетой девушке и сел поодаль. Его белый костюм не обманул проницательность Мели Скорт. Взглянув на Давенанта исподтишка, она угадала зависимое положение юноши и решилась сказать:
– Такой чудесный дом, не правда ли? Они очень богаты.
– Замечательный дом, – с воодушевлением отозвался Давенант. – Скажите, еще никто не выходил?
– Нет, – Мели кашлянула. – Я тоже жду. Меня отправляют на курорт лечиться. У меня чахотка. А вы?
– Я? Тут есть одно дело, – сказал Давенант, несколько смешавшись. – Впрочем, сегодня выяснится.
Его избавило от признаний появление Роэны. Она вошла без сестры, в темном платье, скромно причесанная, и глаза ее лукаво блеснули.
– Давенант! Мели! – воскликнула Рой. – Как хорошо! Познакомьтесь, Тиррей Давенант, с Мели Скорт. Мели, когда вы едете?
– Я уеду завтра, так как…
– Тампико, то есть отец, только что говорил в телефон…
Рой стала шептать ей на ухо, и Мели покраснела, а Давенант расслышал окончание шепота: «…раскройте сумочку». Понимая, что происходит, он отвернулся, смотря в окно. Роэна вскоре подбежала к нему, говоря:
– Идем, посидим на диване. Сегодня вы не увидите Элли. Бедняжка прихворнула. Доктор уже смотрел язык и посоветовал целый день лежать. Только это не опасно, он так сказал. Давенант, вам тоже от отца весть: еще не приехал его знакомый, который должен будет посвятить вас в рыцари географии. Так что мы поболтаем. Ах, Элли беспокоит меня!
– Должно быть, перемена погоды, – сказала Мели. – Я под утро не могла заснуть от кашля.
Они уселись. Рой села между Давенантом и Скорт.
– Очень неровный климат, – продолжала Мели.
– Да, ужасные, ужасные перемены. Отвратительно! Юная хозяйка не дурачилась, как вчера, но в ее голосе слышались знакомые Давенанту боевые ноты первого дня, когда играли «Изгнанника».
Девушки помолчали. Встретясь глазами, они улыбнулись и рассмеялись.
– Отчего вы рассмеялись? – воскликнула Рой, привскакивая на сиденье.
– Не знаю. А отчего вы?
– Просто так. Так вот что: съедим конфеты. Она убежала и вернулась с коробкой, поставив ее на диван между собой и девушкой.
– Давенант, отчего вы сидите так чинно? – сказала Рой. – Идите помогать.
Давенант подержал конфетку у губ и спросил:
– Что же с Элли? Может быть, она опасно больна?
– Нет, нет, успокойтесь. Она, так сказать, наполовину здорова. Но ей придется весь день лежать.
– Что такое?! – вскричал ревнивый голосок, и в гостиную вышло зеленое одеяло, из которого торчала кудрявая голова. На ногах Элли были огромные туфли Урании, и она бойко шаркала ими, поддерживая свисающее одеяло, как шлейф.
– Здравствуйте, дети, – сказала Элли, – я к вам. И… О, дай мне конфету. Рой! Уже я знаю: Давенант пришел к нам. Могла ли я утерпеть?
– Элли, ступай назад! – крикнула ей Роэна. – Как ты смела?
Не обращая внимания на ее тревогу, Элли подошла к Мели Скорт и присела.
– Как вы думаете, – хочу я общества или нет? Позвольте представиться: минус вселенной!!!
– Мели, скажите ей, что когда вы больны, то не вскакивали в этаком кимоно!
– Будьте послушны, – сказала Мели, давая девочке взять себя под руку, после чего Элли решительно уселась на диван, – даже маленький сквозняк вам опасен.
Элли, вздохнув, встала и пересела к Давенанту.
– Он защитит меня и даст мне конфетку. Будьте моим рыцарем!
– Хорошо, сказал Давенант, – но, как рыцарь, я дам вам конфетку только с разрешения градусника.
– В том-то и дело, что я его разбила сейчас. Я хотела доказать, как я здорова. Что такое ртуть? Кто знает?
– Иди-ка сюда, – Рой приложила руку к щеке Элли. – Кажется, ничего нет, но ведь Урания помешается.
– Накликала, – проговорила Элли, завидев входящую гувернантку.
– Это что такое! – закричала Урания, подняв руки. Она сразу узнала Давенанта, но, узнав, покраснела от возмущения. Воспитательная система Футроза приводила ее в ярость.
– Элли, вы меня… убить? Хотите меня убить, да? Сию минуту в постель!
Элли закрыла лицо руками и помотала головой.
– Ах, как не хочется лежать! – просто сказала она. – Что делать? Иду. Прощайте! Пусть у вас расстроятся желудки от ваших конфет!
Одеяло удалилось, шаркая туфлями и напевая грустный мотив, а Урания объявила Роэне, что ее ждет учитель музыки, после чего вышла, закинув голову и грозно дыша.
– Желаю вам быстро поправиться, – сказала Роэна, прощаясь с Мели Скорт. – Папа был в Ахуан-Скапе и очень хвалит это место. Вам будет там хорошо.
– У меня перед отъездом разные противные дела. Благодарю вас.
– Давенант, – сказала Роэна, – в воскресенье вы наш гость, не забудьте. Мы будем стрелять. Вы любите стрелять в цель?
Она стояла совсем близко к нему, с слегка раскрытым ртом, и ее брови смеялись.
– Давенант, вы уснули?
– Нет, – ответил Давенант, выходя из блаженной рассеянности. – Я, знаете, люблю думать. Должно быть, я думал.
– Да? Значит, я вгоняю в задумчивость! Замечу это. Роэна проводила гостей до выхода и выглянула вслед им за дверь, сказав:
– Рыцарь Элли! Оглянитесь! Ау!
Роэна помахала рукой, затем скрылась.
Бледная, белокурая, с усталым счастливым лицом, Мели Скорт сказала Тиррею:
– Вот как живут! У них есть все, решительно все!
– Ну да, – согласился Давенант, удивляясь, как могло бы быть иначе.
Он расстался с Мели на углу, не понимая, что она ему говорит, и тотчас забыв о ней.
Некоторое время Давенанту казалось, что смех Роэны, одеяло Элли и предметы гостиной разбросаны в уличной толпе. Но впечатления улеглись. Он пришел в «Отвращение», где увидел Галерана, сидящего, как всегда, у окна с газетой и кофе. Новый слуга, рыжий, матерый парень, подошел было к нему, но, услышав восклицание Кишлота: «Граф Тиррей!» – догадался, что это его предшественник, о котором повар уже сочинил роскошные басни. В увлечении творчества повар признал Давенанта незаконнорожденным сыном Фут-роза.
Давенант раскаялся, что зашел сюда. Кишлот не мог или не хотел взять простой тон. Ощупав костюм мальчика, он снял его шляпу и бесцеремонно примерил на себе, отпуская замечания:
– О-го-го! Наверно, тебе не снилось одеться так шикарно! – Затем пошутил:
– А ну-ка, подай соус. Хе-хе! Нет, теперь ты сам будешь заказывать!
Смутясь, Давенант быстро подошел к Галерану.
– Еще ничего не известно, – сказал он как можно тише, чтобы не впутался в разговор Кишлот. – Еще не приехал Старкер.
– Слушай, Тиррей, – ответил Галеран, – иди отсюда и будь дома завтра утром. Мы проведем целый день на лодке. Я не играл вчера, не получил денег. Хочешь взять свой золотой?
– О нет, ведь я сказал.
– Хорошо.
Давенант хотел выйти, но рыжий слуга ткнул его слегка в бок, спросив:
– Сколько платил? Материя знаменитая.
– Это не я покупал.
– Как. – не ты?
– Верно, не я.
– Может быть, твой камердинер?
– Не болтайте глупостей, Дик, – вступился Галеран, – лучше принесите мне табаку.
Он дал рыжему парню мелочь, а Давенант, крикнув Кишлоту: «До свидания!» – вышел. Уже он повернул за угол, как Дик окликнул его и загородил дорогу.
– Вот я тебя проучу, – сказал Дик, сбрасывая куртку и швыряя ее на тумбу.
– Стань-ка как следует.
– Что? Драться? – удивился Давенант, не совсем понимая гнев Дика. Но скоро он понял причину истерики.
– Ты даже не знаешь меня, – сказал он миролюбиво.
– Не разговаривай! Зазнался, дрянь этакая. Дик засучил рукава, но Давенант вынул из жилетного кармана серебряную монету и, улыбаясь, протянул ее взбешенному врагу.
– Возьми себе, – сказал он, – деньги тебе нужны.
– Что-о-о! – заревел парень. С презрением схватил он монету и потряс ею перед лицом Давенанта. – Этим ты думаешь отделаться?
– Вот еще, – сказал Давенант, протягивая вторую монету.
– Что же? Струсил, что ли?
– Думай как хочешь. Берешь?
– Давай сюда! – Дик вырвал деньги из его пальцев и сунул в карман. – У, сволочь!
Он схватил куртку и побежал покупать табак, а Давенант, задумавшись, направился домой, где его ждал обед В тот день ничего особенного больше не произошло. Давенант читал, посетил кинематограф и спал хорошо.
В воскресенье, рано утром, пришел Галеран. Они ездили на лодке под парусом до мыса Бай, взяв с собой вина, провизии; разложили костер, варили кофе и несколько раз купались.
Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатления волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось Давенанту, внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевали ее. Едва расставшись, при возвращении, с Галераном, он был рад снова очутиться в городе. Уже было четыре часа, когда, еще не побывав дома, расхаживая из улицы в улицу, Давенант, втайне ожидая этого, встретился с Роэной и Элли при выходе их из магазина. Он смутился как своего старого костюма, в котором он ездил к мысу Бай, так и от горячо ожидаемой неожиданности. Девушек сопровождала Урания. Давенант хотел незаметно пройти в толпе, за спиной гувернантки, но Рой увидела его и сделала ему рукой знак. Сильно взволновавшись, Давенант подошел, отвесив гувернантке такой почтительный поклон, что она, смягчившись, перестала рассматривать его в упор, как афишу. Сияющие нарядные девушки тотчас атаковали Давенанта. Набравшись смелости, он сообщил им, что всего полчаса как вернулся с прогулки по морю.
– Со мной был Галеран, – прибавил он. – Мы прыгали в воду с отвесной скалы, не очень высоко… Там замечательные гигантские водоросли.
– Вы хорошо плаваете? – спросила Элли. – Я еще не умею.
– У меня хорошие дыхание и сердце, я могу далеко плыть, – сказал Давенант.
– Садитесь, мы вас подвезем, – предложила Рой. – Вам куда?
Давенант очень хотел сесть с ними в экипаж и потому отказался.
Усевшись и наклоняясь из экипажа, Рой сказала:
– Давенант, мы вас ждем!
– Я лучше пройдусь, – ответил он и поправился, – я сяду в трамвай.
– Где вы сейчас находитесь? – крикнула, смеясь, Элли.
Не поняв шутки, он сказал:
– Там же, все в той же комнате.
– Сомневаюсь! – заявила Рой.
– Сомневаюсь! – воскликнула Элли.
Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Давенант сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобия альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Там они были из того мира, где все неясно и важно.
Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение, но, если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тирреем. Дожидаясь половины восьмого вечера, Давенант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев три минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Давенант надел шляпу и отправился на улицу без четверти семь. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на пятнадцать минут. «Вот это хорошо», – сказал Давенант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к Якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться в десять минут девятого. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение – огромно, и, как следовало ожидать, Давенант оказался вблизи дома Футроза за полчаса до восьми. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали и простоял, не сходя с места, тридцать минут, осведомляясь у каждого прохожего:
– Который час?
– Четыре минуты девятого, – сказал ему наконец словоохотливый человек с розовыми, морщинистыми щеками. – Поставьте ваши часы по моим – это часы фабрики…
Но Давенант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная, мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса.
– Я велел просить вас к себе, пока вас еще не завертели мои хозяйки, – сказал Футроз, мельком осмотрев Давенанта. – Могу порадовать вас: приехал профессор Старкер. Я скоро увижусь с ним и попрошу его записать вас участником первой же экспедиции. Своевременно я вас извещу.
Затем он расспросил Давенанта о комнате, о Гале-ране, дружески посоветовал застегивать пиджак на все пуговицы и усадил в огромное кресло-нишу, откуда, как из провала, видны были книжные шкафы, мраморная фигура Ночи и проникновенно улыбающийся Футроз.
– Я еще не поблагодарил вас, – сказал Давенант. – Иногда мне кажется: я проснусь – и все это исчезнет.
– Ну-ну, – добродушно отозвался Футроз, – будьте спокойнее. Ничего страшного не произошло.
Давенант хотел прямо сказать: «Я никогда не был счастлив так, как все эти дни», – но услышал подлетающие шаги и, не посмев обернуться к двери, забыл, что хотел выразить.
– Давенант здесь? – воскликнула, вбегая, нарядная, красиво причесанная Роэна. – Вот он. Запрятан в кресло.
Давенант вскочил.
– Здравствуйте – сказала Элли, напоминающая уменьшенную Роэну, – в коротком платье. – Позволь его увести, Тампико. Он нам нужен.
– Кто у вас?
– Все: Гонзак, Тортон и Тита Альсервей.
– Единственно не хватает вас, – сказала Роэна Давенанту. – Тампико, он человек с понятием. Ему нечего у тебя делать. У нас веселее, правда? Ты тоже явишься, мы очень просим тебя.
– Вы надеетесь, что я приду к вам хихикать?
– Да, мы надеемся, – сказала Элли. – Отец и его две дочери хихикают… Это мы включим в программу.
– Я приду позднее. Давенант, повинуйтесь!
– А-рес-то-вать! – закричала Элли, беря под локоть Давенанта с одной стороны, другим локтем завладела Рой, и они увлекли его в гостиную.
Теснее и ярче, чем днем, показалась теперь Давенанту эта комната, сильно озаренная огнями люстры и пахнущая духами. Вечерние оттенки несколько изменяли ее вид; присутствие в ней незнакомых Давенанту – Гонзака, Тортона и Титании Альсервей – вызвало в нем ревнивое чувство, делая гостиную Футроза похожей на другие гостиные, которые приходилось иногда видеть ему с улицы в окно. Давенант любил ярко освещенные помещения: аптеки, парикмахерские, посудные магазины, где блеск огней в множестве стеклянных и фаянсовых предметов создавал лишь ему понятные праздничные видения.
Роэна познакомила Давенанта с другими гостями. Гонзак – рыжеватый юноша с острым лицом, сероглазый, надменный, не понравился Давенанту, Тортон вызвал в нем оттенок расположения, несмотря на то, что бесцеремонно оглядел новичка и спросил, будто бы не расслышав:
– Да… ве…?
– …нант, – закончил Тиррей.
Тортон был смугл, черноволос, девятнадцати лет, с начинающими пробиваться усами и вечной улыбкой.
Он без околичностей перебивал каждого, если хотел говорить, и смеялся не грудью, а горлом, говоря похоже на смех: «Ха-ха– Ха-ха!»
Титания Альсервей, однолетка Роэны, тонкая, удивленная, с длинной шеей и золотистыми глазами при темных бровях, двигалась с видом такой слабости, что каждое ее движение взывало о помощи.
Давенант чувствовал себя не свободно, стараясь скрыть замешательство. У него не было естественно-развязных манер, лакированных туфель, как на Гонзаке и Тортоне; его костюм, казалось ему, имел надпись: «Подарок Футроза». Должно быть, его лицо сказало что-нибудь об этих смешных и трагических чувствах обласканного человека «с улицы», так как Элли, посмотрев на Давенанта, задумалась и села рядом с ним. Это был знак, что он равен. Роэна разлила чай. Давенант получил чашку вторым, после Титании Альсервей, и начал немного отходить.
Старательно слушая, о чем говорят, он присматривался к гостям. Разговор шел о неизвестных ему людях в тоне веселых воспоминаний. Наконец заговорили об Европе, откуда недавно вернулся со своим отцом Тортон.
При первой паузе Рой сказала:
– Давенант, почему вы так молчаливы?
– Я думал о гостиной, – некстати ответил Давенант, нарочно говоря громче обыкновения, чтобы расшевелить себя, и замечая, что все внимательно его слушают. – Вечером она другая, чем днем.
– Вам нравится эта печь, в которой мы сидим? – снисходительно произнесла Титания.
– Да, как огонь!
– Мы ее тоже любим, – сказала Роэна, – у нас страсть к горячим и темным цветам.
– Несомненно, – подтвердил Гонзак.
– Я равнодушен к обстановке, но люблю, когда есть качалка, – сообщил Тортон.
– Нет ничего хуже прямых стульев с жесткими спинками, как, например, у Жанны Д'Аршак, – заметила Титания.
– Какая у вас будет гостиная? – спросила Элли Тиррея. – Впоследствии? Минуя времена и сроки?
– Такая же, как и ваша, – смело заявил Давенант.
– Однако вы – патриот! – заметил Гонзак.
– Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, кто ты, – изрек Тортон.
– Неужели вы это сами придума… – спросила Рой, но Тортон перебил ее одним словом:
– Аксиома.
– Малоизвестная, надеюсь, – отозвалась Альсервей.
– Вы хотите сказать, что я не оригинален? Ха-ха! Оригинально то, что так может случиться с каждым оригиналом.
– Тортон, вам – нуль. Садитесь, – сказала Рой.
– Сижу. Молчать?
– О, нет, нет! Говорите еще!
– Как же вас понять?
– Женское непостоянство, – объяснил Гонзак и уронил ложечку.
Все расхохотались, потому что смех бродил в них, ища первого повода. Рассмеялся и Давенант.
– Давенант засмеялся! – воскликнула Элли. – О как чудно!
– Вы под сильной защитой, – сказал Тиррею Гонзак. – Если вы смеетесь один раз в год, то в этом году выбрали удачный момент.
– А почему?
– Именно потому, что вас поощрили.
– Фу-фу? – закричала Элли. – Это не шутка, это перешутка. Гонзак!
– Слушаюсь, пере-Элли!
– Окончилось ваше увлечение балетом? – спросила Рой Титу Альсервей.
– Нет, когда-нибудь я умру в ложе. Мой случай неизлечим.
Давенант откровенно любовался Роэной. Она была так мила, что хотелось ее поцеловать. Взглянув влево, он увидел блестящие глаза Элли, смотревшие на него в упор, сдвинув брови.
– Я вас гипнотизировала, – заявила девочка. – Вы – нервный. Ах, вот что: можете вы меня переглядеть?
– Как так – переглядеть?
– Вот так: будем смотреться в глаза, – кто первый не выдержит. Ну!
Давенант принял вызов и воззрился взгляд во взгляд, а Элли, кусая губы и смотря все строже, пыталась победить его усилие. Скоро у Давенанта начали слоиться в глазах мерцающие крути. Прослезившись, он отвернулся и стал вытирать глаза платком. Его самолюбие было задето. Однако он увидел, что Элли тоже вытирает глаза.
– Это оттого, что я смигнула, – оправдывалась Элли. – Никто меня не может переглядеть.
Пока тянулась их комическая дуэль, Рой, Гонзак и Тортон горячо спорили о стихах Титании, которые она только что произнесла слабым голосом умирающей. Роэна возмутилась выражением: «И рыб несутся плавники вокруг угасшего лица…»
– Рыбы штопают чулки, пустив бегать плавники, – поддержал Гонзак Роэну.
Титания надменно простила его холодным нездешним взглядом, а Тортон так громко сказал: «Ха-ха!» – что Элли подбежала к спорщикам, оставив Давенанта одного, в рассеянности.
Некоторое время, казалось, все забыли о нем. Прислушиваясь к веселым голосам Роэны и Элли, Давенант думал – странное для своего возраста: «Они юны, очень юны, им надо веселье, общество. Почему они должны заниматься исключительно мной?» Подняв голову, он увидел картину, изображающую молодую женщину за чтением забавного письма. Давенант прошелся, остановясь против небольшой акварели: безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении. Элли, успев погорячиться около спорящих, подбежала к нему.
– Это – «Дорога Никуда», – пояснила девочка Давенанту: – «Низачем» и «Никуда», «Ни к кому» и «Нипочему».
– Такое ее название? – спросил Давенант.
– Да. Впрочем… Рой, будь добра, вспомни: точно ли название этой картины «Дорога Никуда» или мы сами придумали?
– Да… Тампико придумал, что «Дорога Никуда». Прекратив разговор, все присоединились к Давенанту.
– До-ро-га ни-ку-да! – громко произнесла Рой, улыбаясь картине и Тиррею и смущая его своим расцветом, который лукаво и нежно еще дремал в Элли.
– Что же это означает? – осведомилась Титания.
– Неизвестно. Фантазия художника… – Рой рассмеялась. – Давенант!
– Что? – спросил он, добросовестно стараясь понять восклицание.
– Ничего, – она повторила: – Итак, это – «Дорога Никуда».
– Непонятно, – сказал Тортон.
– Было ли бы понятнее, – процедил Гонзак, – понятнее: «Дорога Туда»?
– Куда – туда? – удивилась Титания.
– В том-то и дело, – заметил Тортон.
– Дорога – куда? – воскликнула Элли. – О, дорога! Куда?!
– Вот мы и составили, – сказал Гонзак. – Дорога никуда. Куда? Туда. Куда – туда?
– Сюда, – закончил Давенант.
Снова молодых людей одолел смех. Все хохотали беспричинно и заразительно.
Изображение неизвестной дороги среди холмов притягивало, как колодец. Давенант еще раз внимательно посмотрел на нее. В этот момент явился Футроз.
– Вот и Тампико! – воскликнула Элли, бросаясь к нему. – Милый Тампико, нам весело! Мы ничего не разбили! Просто смешно!
– Что вас так насмешило? – спросил Футроз.
– Ничего, но мы стали произносить разные слова… Вышло ужасно глупо. – Рой вздохнула и, пересилив смех, указала на картину: – Дорога никуда.
Она объяснила отцу, как это вышло: «туда, сюда, никуда». Но уже не было смешно, так как все устали смеяться.
– Я купил ее на аукционе, – сказал Футроз. – Эта картина напомнила мне одну таинственную историю.
– Какая история? Мы ее знаем? – закричали девушки.
– По-видимому – нет.
– А почему не рассказал, Тампико? – спросила Элли.
– Почему? В самом деле – почему?
– Ну, мы этого не можем знать, – заявила Роэна.
– Я люблю истории о вещах, – сказал Гонзак. – С нетерпением ожидаю начала.
– Разве я обещал?
– Извините, мне показалось…
– Крепкие ли у всех вас нервы? – спросил Футроз, делая загадочное лицо.
– За себя я ручаюсь, – сказала Титания, усаживаясь в стороне, спиной к окнам.
– И я ручаюсь – за тебя! – Рой села рядом с отцом. – Но не за себя.
Элли полулегла на диван. Давенант, Тортон и Гон-зак поместились на креслах. Тогда Футроз сказал:
– Бушевал ветер. Он потрясал стены хижин и опрокидывал вековые деревья…
– Так было на самом деле? – строптиво перебила Элли.
– Увы! Было.
– Смотри, Тампико, не подведи.
– Начало очень недурно, – заметил Гонзак, – особенно «стены хижин». Футроз молчал.
– А дальше? – спросил Давенант, который был счастлив как никогда.
– Все ли успокоились? – хладнокровно осведомился Футроз.
Но бес дергал за языки.
– Папа, – сказала Рой, – расскажи так, чтобы я начала таять и умирать! Футроз молчал.
– Ну, что же, скоро ли ты начнешь? – жалобно вскричала Элли.
– Все ли молчат? – невозмутимо осведомился Футроз.
– Все! – вскричали шесть голосов.
– Ветер выл, как стая гиен. В придорожную гостиницу пришел человек с мешком, с бородой, в грязной одежде и заказал ужин. Кроме него, других посетителей не было в тот странный вечер. Хозяин гостиницы скучал, а потому сел к столу и заговорил с прохожим человеком – куда направляется, где был и кто он такой? Незнакомец сказал, что его зовут Сайлас Гент, он каменотес, идет в Зурбаган искать работу. Хозяин заметил одну особенность: глаза Сайласа Гента не отражали пламя свечи. Зрачки были черны и блестящи, как у всех нас, но не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь…
Рой заглянула в глаза отца.
– Даже две точки, – сказала она. – А у меня?
Элли подошла к ней и освидетельствовала зрачки сестры; та проделала это же самое с девочкой, и они успокоились.
– Нормально! – заявила Элли, возвращаясь на свое место. – Мы отражаем огонь. Дальше!
– Из сделанного хозяином наблюдения, – продолжал Футроз, – вы видите, что хозяин был человек мечтательный и пытливый. Он ничего не сказал Генту, только надел очки и с замешательством, даже со страхом, установил, что зрачки Гента лишены отражения – в них не отражалась ни комната, ни хозяин, ни огонь.
– Как это хорошо! – сказал Давенант.
– Вот уж! – пренебрежительно отозвалась Титания. – Две черные пуговицы!
– Но пуговицы отражают огонь, – возразила Роэна. – Не мешайте Тампико!
– Теперь меня трудно сбить, – заявил Футроз, – но будет лучше, если все вы воздержитесь от замечаний. Сайлас Гент начал спрашивать о дороге. Хозяин объяснил, что есть две дороги: одна прямая, короткая, но глухая, вторая вдвое длиннее, но шоссейная и заселенная. «У меня нет кареты, сказал Гент, и я пойду короткой дорогой». Хозяину было все равно; он, пожелав гостю спокойной ночи, отвел его в комнату для ночлега, а сам отправился к жене, рассказать, какие бывают странные глаза у простого каменотеса.
Едва рассвело, Сайлас Гент спустился в буфет, выпил стакан водки и, направив свои редкостные зрачки на хозяина, заявил, что уходит. Между тем ураган стих, небо сияло, пели птицы, и всякая дорога в такое утро была прекрасной.
Сайлас Гент повесил свой мешок за спину, подошел к дверям, но остановился, снова подошел к хозяину и сказал: «Послушайте, Пиггинс, у меня есть предчувствие, о котором не хочу много распространяться. Итак, если вы не получите от меня на пятый день письма, прошу вас осмотреть дорогу. Может быть, я на ней буду вас ожидать».
Хозяин так оторопел, что не мог ни понять, ни высмеять Гента, а тем временем тот вышел и скрылся. Весь день слова странного каменщика не выходили из головы трактирщика. Он думал о них, когда ложился спать, и на следующее утро, а проснувшись, признался жене, что Сайлас Гент задал ему задачу, которая торчит в его мозгу, как гребень в волосах. Особенно поразила его фраза: «Может быть, я буду вас ожидать».
Его жене некогда было углубляться в человеческие причуды, она резко заявила, что, верно, он напился с каменщиком, поэтому оба плохо понимали, что говорят. Рассердясь, в свою очередь, и желая отделаться от наваждения, трактирщик сел на лошадь и поскакал по той дороге, куда пошел Гент, чтобы не думать больше об этом чудаке, а если с ним что-нибудь приключилось, то, в крайнем случае, помочь ему.
Он въехал в лес, усеянный камнями и рытвинами, а после часа езды увидел, что Гент висит на дереве…
Тортон незаметно протянул руку к стене и погасил электричество.
Все вскочили. Девушки вскрикнули, а хладнокровная Титания, голося пуще других, требовала прекратить глупые шутки.
Сказав:
– То-то! Ха-ха! – Тортон пустил свет. У всех были большие глаза. Рой держала руку на сердце.
– Это Тортон, – предал его Гонзак.
– Разве так можно делать! – строго вскричала Элли. – Все равно, что налить вам за воротник холодной воды!
– Я не буду, – сказал Тортон.
– Давенант, присматривайте за вашим соседом, – попросила Рой. – Впрочем, пересядьте, Тортон. Куда?! Туда, никуда, вот сюда.
Тортон повиновался.
Футроз не торопился. Ему было хорошо дома, он следил за переполохом с добродушием птицевода, наблюдающего скачки малиновок и щеглов.
– Ну, – сказал он, – можно кончать? Но мне осталось немного… Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним на плоском камне были аккуратно разложены инструменты его ремесла, как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот, обратите внимание, как странно он написал:
«Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое случается и будет случаться. Остерегитесь».
Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор кто бы, презрев предупреждение, ни отправился по той дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая – с кем именно, я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо: по этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли.
– Тампико, ты густо, густо присочинил! – сказала Элли, когда слушатели зашевелились. – Те, кто искал лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то… Сделай вывод!
– Я не оправдываюсь, – ответил Футроз. – Все запутанные дела несколько нелепы в конце. Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее.
– Что же все это значило? – спросил Давенант. – В особенности – глаза, не отражающие ничего. А он не был слеп! У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины, между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял.
– Ах, вот что! – сказала Рой. – Мы будем стрелять в цель. Прошлый раз Гонзак осрамился. Гонзак, мы дадим вам реванш. Элли тоже хочет учиться. Давенант, вы должны хорошо попадать, – у вас такие твердые глаза.
Стрельба издавна привлекала Давенанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами.
– Я присоединяюсь, – сказал Футроз. – Нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмуривается…
– Какая низость! – вскричала Элли.
– Ну конечно. Составим список и назначим приз, – не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам. Так значится во всех книгах о турнирах и других состязаниях.
– Так как приз получу я, – заявил Тортон, – не разрешат ли мне самому придумать награду? Ха-ха!
– Нет, это слишком! – возмутилась Титания. – Я стреляю не хуже вас и, вот назло, заберу приз.
Взаимно попеняв, остановились на следующем: если победит дама, она вправе требовать что хочет от самого плохого стрелка-мужчины, если произойдет наоборот, победителю вручается приз от Титании и Роэны, который они должны приготовить тайно и держать в секрете.
Футроз взял лист бумаги и написал: Состязание хвастунишек.
– Номер первый. Кто же первый?
– Разрешите мне быть последним, – обратился к нему Давенант, волнуясь и страстно желая получить приз.
– Последний хочет быть первым, – догадалась Титания.
– О Давенант, выступайте первым! – предложила Рой. Но он не соглашался, как ни хотелось ему сделать все, что попросит Рой, Элли или Футроз. Он хотел выиграть, а потому – твердо знать, какие придется ему осилить успехи других участников.
– Становится любопытно, – заметил Гонзак. – Некоторые из нас довольно ретивы. Что касается меня – выйду под каким мне назначат номером.
Наконец список составился. Титания значилась первым, Рой – вторым, Тортон – третьим, Гонзак – четвертым и Давенант – пятым номером. Ранее прочих решили дать Элли выстрелить три раза, так как она очень просила.
Роэна с Титанией ушли в другую комнату обсудить приз и вернулись с простосердечными лицами, положив на стол нечто завернутое в газету, маленькое и тяжелое. Затем они посмотрели друг на друга и важно приспустили взгляды.
– Какое-нибудь ехидство? – спросил Футроз, намереваясь пощупать сверток. Но поднялся крик:
– Тампико, это нечестно!
Футроз позвонил и приказал слуге принести мишень, а также малокалиберную винтовку, пуля которой была не толще карандаша записной книжки. Мишень поместили на террасе, раскрыв стеклянную дверь гостиной. Стрелять следовало, став у внутренней двери, шагах в двадцати от мишени. Это был квадратный картон на верху треножной подставки; концентрические круги картона имели цифры от центра к окружности: 500, 250, 125 и т. д., а центр – черный кружок диаметром в один дюйм – означал тысячу.
– Ну, Элли, – сказал Футроз, заряжая винтовку, – иди сюда. Стань вот так.
– О папа, я отлично все знаю. – Элли, сжав губы, нахмурясь и приложив к плечу ружьецо, отставила широко ногу вперед, но от внезапного страха забыла все уроки, как берется прицел, и, нажимая пальцем мимо курка, стала жмуриться. Дуло ружья поднялось вверх, качнулось, и, крепко зажмурясь, стараясь не слышать визга убежавших за ее спину зрителей, Элли нашла курок и пальнула в золоченый карниз.
Настало глубокое, унизительное молчание.
– Что? Я попала? – сказала Элли, затем, вся красная, со слезами в глазах, осторожно, положила винтовочку на ковер и ушла к дивану, где села, схватила отца за плечо и, спрятав лицо на его груди, расхохоталась.
– Хочешь еще попробовать? – спросил Футроз. – Но только с моими советами?
– Благодарю. Попробуйте кто-нибудь так, как я.
– Действительно! – сказала Рой.
– Ах, ах! Ты еще хуже меня!
– Номер первый! – провозгласил Гонзак. – Титания Альсервей!
Титания стала на место (каждый должен был сделать семь выстрелов), снисходительно осмотрелась и с видом делающей грациозное одолжение, лениво заряжая и паля, отщелкала свою порцию, почти не целясь. Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов. Она передала оружие Роэне, и все отправились смотреть мишень.
Две дырки были на 250, одна на 125 и четыре разного значения, но мельче цифрой; по подсчету всего – семьсот пятьдесят очков. Эти отверстия перечеркнули красным карандашом.
– Это я старалась для Тортона, – объявила Титания. – Теперь я посмотрю, так ли он уверен в себе, как говорил.
– А все же – ха-ха! – вы не отстукали тысячу! – заметил Тортон.
– Хорошо, хорошо, посмотрим!
Настала очередь Рой. Давенант понял, что она волнуется и старается. Он мысленно помогал ей, напрягаясь перед спуском курка, задерживая дыхание и шепча: «Точнее, точнее».
– Не смотрите на меня, – сказала Рой. – И не смешите.
Это относилось к Гонзаку, который послушно отвернулся. Роэна целилась долго, но в момент выстрела дуло слегка трепетало. Каждый раз, начав прицеливаться, она мягко отводила рукой волосы со лба и, выставив вперед подбородок, пристраивалась щекой к ложу особым, ей лишь свойственным, интимным движением.
Подсчет очков произвел Давенант, считая явно пристрастно, так как одно отверстие на линии 250–125 объявил за 250, чем удивил и насмешил девушку.
– Вы очень добры, Давенант, – сказала она, – только мне это не нужно. Скиньте-ка сто двадцать пять.
Оказалось, после придирчивой проверки Элли и Тор-тона, что Рой настреляла пятьсот пятьдесят.
– О, неплохо! – сказал Футроз. – Тем более, что в прошлый раз бедняга успокоилась на ста пятидесяти.
– То-то! – вскричала Рой, кружась и помахивая ружьецом. – Кому страдать? Тортон, вам.
– «При всеобщем глубоком молчании, – сказал Гонзак, – атласский стрелок вогнал пулями гвоздь на расстоянии пятисот метров».
– Хорошо смеется последний, – ответил Тортон. Он взял ружьецо в левую руку и, вскинув его, как пистолет, то есть не прикладывая к плечу, выстрелил с вытянутой руки.
– На круге с цифрой 500, – заявил он, всмотревшись, затем выстрелил с правой руки.
– Только две руки, – пытался пошутить Гонзак, которому стало завидно.
– Нам хватит. Ха-ха!
Беря поочередно ружьецо правой и левой рукой, Тортон швырнул свои пульки в мишень и раскланялся на все стороны, как актер у рампы.
– Какова наглость! – сказала Титания.
– Вы, Титания, должны перечеркнуть мои попадания, – строго заявил Тортон, – так как высмеивали меня, пока я наблюдал ваши горделивые упражнения.
Закусив губу, Титания взяла карандаш и пошла к мишени.
Тортон выбил девятьсот двадцать очков, не попав в центр, и все ахнули; но обнаружился заговор.
– Это случайно, – сказала Рой, с состраданием смотря на опешившего стрелка, – это не более, как счастливая случайность.
– Понятно, случайность, – поддержал Гонзак.
– Дикий, нелепый случай! – ввернула Титания Альсервей. Футроз смеялся.
– Папа, отчего ты смеешься? – спросила Элли, втянув щеки и рассматривая Тортона унылыми большими глазами. – Тортон ошибся. Он не хотел попасть. Правда ведь, вы не хотели этого?
– А ну вас! – яростно вскричал Тортон. – Девятьсот двадцать. Чего же еще?
– Но не полторы тысячи, – заметила Титания.
– Тортон, не огорчайтесь, – утешила его Рой, – в следующий раз вы попадете по-настоящему, добровольно.
– О мелкие, завистливые душонки! – взревел Тортон. Его подразнили еще и оставили в покое.
– Факт тот, что я получу приз, – объявил он и уселся с торжеством на диване.
Следующим выступил Гонзак. Он стрелял, сардонически улыбаясь, скверно попадал и был так пристрастен к себе, что его триста очков пришлось пересчитывать несколько раз. Вдобавок он уверял, что ему подсунули патроны с наполовину отсыпанным порохом.
– Давенант, вам, – сказал Футроз. – Боюсь, что после Тортона вы в безнадежном положении, как и я.
Давенант увидел черные глаза Рой, стесненно взглянувшей на его замкнутое лицо.
– Давенант! Пожалуйста, Давенант! – закричала Элли.
– Что вы хотите? – спросил он, улыбаясь в тумане, где блестели направленные на него глаза всех.
– О Давенант! Я хочу… – Элли зажала рукой рот, а другой рукой тронула завернутое в газету. – Будьте только спокойны!
– Будьте, будьте спокойны! – крикнули остальные.
– Я не знал, что судьи пристрастны! – сказал Тортон.
– Судьи как судьи, – заметил Гонзак. – А еще говорят, что женщины должны занимать судейские должности.
– Тише! – сказала Рой.
Став на место, Давенант так взволновался, что у него начали трястись руки. «Неужели я хочу быть первым?» – подумал он, сам удивляясь, как страстно стремится получить таинственный приз. Он видел, что его напряжение передалось всем. Пылким волнением своим он невольно заставлял ожидать странных вещей и должен был оправдать ожидание. Он испугался, замер и начал прицеливаться. Едва он начал брать прицел и увидел за острием мушки черные круги, напоминающие поперечный разрез луковицы, как испуг исчез, а мишень начала приближаться, пока не очутилась как бы на самом конце дула, которое упиралось в нее. Он подвел мушку к нижней черте центральной точки и увидел, что ошибается. Свойства ружья были в его душе. Он видел мушку и цель так отчетливо, как если бы они были соединены с его пальцами. Почувствовав, что ошибся, Давенант увел мушку к левой черте центральной точки и снова ошибся, так как теперь пулька должна была пробить круг с цифрой 500. Он не знал, почему знает, но это было именно так, не иначе. Тогда, заведя мушку на правый край точки, немного ниже ее центра, а не в уровень с ним, и не чувствуя более сомнений в руке, палец которой прижимал спуск, Давенант, сам внутренне полетев в цель, спустил курок и увидел, что попал в центр, так как на нем блеснуло отверстие. Ничего не видя, как только отверстие, охваченный холодным, как сверкающий лед, восторгом и в совершенной уверенности, делающейся мучительной, как при чуде, Давенант выпустил остальные пули одна за другой, ловя лишь то сечение момента, в котором слышалось «так», и, ничего не сознавая, пошел к мишени, дыша, как после схватки, с внезапным сердцебиением.
– Ура! – вскричала Рой, первая подбежав к мишени, и, оборотясь к Давенанту, схватила его за плечи, толкая смотреть. – Видите, что вы наделали?
– Что там? – крикнул заинтересованный Футроз.
– Он попал в тысячу! – воскликнула Элли.
– Все в центре, – сказала Титания тоном вежливого негодования.
Футроз встал и пошел смотреть. Давенант, молча улыбаясь, оглядывался, наконец подошел и остановился против мишени. Это был действительно подвиг со стороны начинающего стрелка. Два отверстия даже слились краями, образовав подобие гитары, третье было чуть ниже и четыре прочих у самого края центрального кружка с внутренней его стороны.
Это полное и неожиданное торжество Давенанта собрало всех возле него. Элли трясла его руку. Рой взяла от него ружье и поставила к стене, Гонзак, часто мигая, смотрел на победителя в упор, а Тортон, подавив зависть, спросил:
– Как это могло быть? Стало быть, вы рекордсмен?
– Ничего подобного, – ответил Давенант, которого общее волнение привело в замешательство. – Я вам расскажу. Я стрелял всего несколько раз в жизни, не лучше, чем Рой…
– Благодарю вас, – сказала девушка, насмешливо приседая.
– О, я не хотел… – встревожился Давенант, но, получив успокоительный знак, продолжал: – Стрелял скверно, а сегодня на меня что-то нашло. Я сам не понимаю, поверьте, я удивлен не менее вас.
– Я знаю это чувство, Давенант, – сказал Футроз: – Голова горит и под ложечкой истерический холодок?
– Пожалуй.
– А вы очень хотели? – серьезно спросила Роэна, приказывая взглядом ответить так же серьезно.
– Да, очень, – сознался Давенант и вспыхнул. – Однако все хотели этого.
– Вы правы. Получайте ваш приз. Кто угадает, что здесь такое?
Говоря так, она взяла сверток и, видя, что Гонзак нагнулся, дала ему понюхать.
– Духи? – сказал он.
– Что-о-о?!
– Часы с надписью? – сказал Тортон.
– Рой, покажи им! – вскричала Элли.
– Разумеется, не надо мучить Давенанта, – заметил Футроз.
Тиррей получил сверток и застенчиво развернул его. Там оказался маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя. Олень стоял, должно быть, в глухом лесу; подняв голову, вытянув шею, он прислушивался или звал – нельзя было уразуметь, но его рога почти касались спины. Оленя девушки нашли среди вещиц, оставшихся после матери.
– Серьезный приз, – сказал Футроз, о чем-то задумываясь.
– О, я не ожидал, что это так хорошо! – наивно восторгался Тиррей.
– Теперь вы владеете оленем, – сказала Элли, видя удовольствие, с каким Давенант принял хорошенькую безделушку.
Почти вслед за вручением приза Титания уехала домой, сопровождаемая Гонзаком и Тортоном. Давенанту не хотелось выходить с ними, и он задержался, однако, узнав, что уже двенадцатый час, тоже, наконец, встал. Если бы было можно, он просидел бы до утра.
– Вот что, – сказала Рой, – хотите выйти таинственно? Так будет хорошо после всего. И это к вам идет. У нас есть в саду Сезам, а ключ от Сезама папа носит с собой.
– Да, – сказал Футроз, сдерживая зевоту, – ключ этот сделан из меча Ричарда Львиное Сердце, закален в крови дракона и отпирает дверь только при слове: «Аргазантур».
– Ну-ка, давай нам «Аргазантур»! – Элли протянула руку. – Тампико, дай!
– Может быть, Давенант предпочитает ту дверь, которой вошел?
– Не отвечайте ему, – приказала Рой, – папа вас собьет. Ключ взяла, Элли?
Горничная принесла шляпу Тиррея. Он простился с Футрозом и вышел через террасу в сад.
Девушки шли рядом с ним, шаля и смеясь. Лиц их он не различал. Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно-чистого волнения. Давенант шел совершенно счастливый; было бы ему еще лучше, если б он остался сидеть здесь, когда все уснут, под деревом, до утра.
Они свернули, прошли среди кустов к стене, где была высокая ниша, запертая железной калиткой. Из-за нее, с переулка, слышались езда и шаги.
Рой стала отпирать, но не смогла и уронила ключ в траву. По звуку падения ключа Давенант немедленно отыскал его, накрыв ключ рукой.
Едва он вскричал: «Нашел!» – как две остывшие от росы девичьи руки ткнулись об его руку и сжали ее.
– Я нашла, но вы первый схватили. – Рой попыталась отодвинуть его пальцы, вместо них ей попалась рука Элли. – О, – сказала она, – где же ваша рука?
– Она тут.
– Вот она, под моей! – Элли сильно придавила руку Тиррея. – Я уже коснулась ключа. Рой, честное слово, а он схитрил!
Три руки лежали в сырой траве, взаимно грея друг друга, наконец, ключ каким-то путем оказался у Рой, и она с торжеством вскочила.
– Позвольте, я открою! – предложил Давенант.
– Ну, открывайте. «Аргазантур»! – раз!
– «Аргазантур»! – два! – пискнула Элли.
– И «Аргазантур»! – три! – сказал Давенант, одолевая тугой замок.
Он оттянул железную дверь и вышел, но, обернувшись, остановился.
– Идите, идите! – закричали девушки и, прикрыв калитку, договорили в щель: – Спокойной ночи!
– Спокойной ночи! – ответил Давенант.
Замок щелкнул.
«Теперь они поспешно бегут назад», – подумал Тир-рей и по дороге из лучей и цветов пошел домой.
Глава V
Как всегда, Давенанту открыла дверь старуха Губерман, стремившаяся подсмотреть, не целует ли жилец у порога какую-нибудь девицу. На этот раз другое было в ее уме, а Тиррея ожидало событие настолько скверное, что, знай он о нем, он предпочел бы вовсе не являться домой.
В серых глазах Губерман таилось нестерпимое любопытство, жажда нюхать, грызть чужую жизнь. Глубокомысленно и лицемерно вздохнула она, открыв дверь. Схватив жесткой лапой плечо Давенанта, старуха стала шептать:
– Бедный мальчик! Мужайтесь! Бог послал вам радость! Он пришел, ждет вас уже два часа в вашей комнате. Он такой жалкий, несчастный. Соберитесь с силами.
– Кто ждет? – тревожно сказал Давенант, бессмысленно подумав о Галеране и отстраняясь, так как старуха дышала странными словами своими прямо ему в лицо. – Скажите, кто пришел? Разве пришел?
– Боже, помоги ему! Ваш отец!
– Не может быть!
– Ах, не волнуйтесь так! Провидение ведет нас. Ступайте, ступайте к отцу!
Давенант бросился вперед и открыл дверь.
У стола сидел оборванный седой человек с тяжелым, едким лицом, подвыпивший и сгорбленный. Встав, он патетически протянул руки.
Губерман медленно закрывала дверь, не в силах отойти от нее.
– Сын?! – сказал неизвестный.
Давенант отшатнулся. Он узнал исполнителя тюремных песен в ресторане на Лунном бульваре. Слово «сын» убило его. Чувствуя внимание сзади себя, Давенант повернулся к двери, где красный, слезящийся нос Губерман таился в тени.
– Прочь! – сказал он. Дверь дернулась и захлопнулась.
– Какой сын? – спросил Давенант. – Кто вы?
– Значительный момент! – ответил оборванец. – Мой сын – ты, Тиррей Давенант. Я – твой отец.
– Я думал, вы умерли, – произнес Давенант, теряясь и дрожа, как в ожидании приговора. – А впрочем, чем вы это докажете?
– Неприятно? Да? – сказал Франк.
– Я не знаю. Что я могу сделать? Франк пожал плечами.
– Я тоже ничего не могу сделать, – заявил он. – Значит, встреча не вышла. Я должен был явиться в автомобиле. Самое неблагодарное дело – это представлять себе встречу после многих лет. Чего ты дрожишь?
– Я хочу доказательств, – с отчаянием сказал Тиррей, хотя инстинкт родства и воспоминания о портретах отца установили горькую истину, которой противился он всем существом. Перед ним стоял не мечтатель, попавший в иной мир под трель волшебного барабана, а грязный пройдоха.
– Вы пели в саду, как нищий, – сказал Тиррей. – А теперь пришли.
– Ах, вот что? Так ты меня видел, но не узнал? Будь ты проклят! – зашипел Франк, теряя охоту разыгрывать нравственное волнение. – Я привык обедать, понимаешь? Одним словом, мы познакомились. Когда-то ты был пятилетним. Те твои черты проглядывают даже теперь. Забавно! Ты куда? Мы еще только начали говорить.
– Мне нужно, – сказал Тиррей, сам не зная, зачем стремится выйти. – Я скоро вернусь.
– В таком случае принеси мне бутылку вина. Деньги есть? Мне кажется, что ты вырос бесчувственным. Так вот, смотри и смирись: я твой отец.
Тиррей тупо взглянул на него и вышел без шляпы в коридор, где, забыв направление, приблизился к раскрытым дверям гостиной. Там, за столом, сидел Губерман с женой. Раскрыв рты, были оба они – слух и внимание. Заметив жильца, Губерманы дернулись встать, но удержались, воззрясь на Тиррея так пристально, как если б он шел по канату. Отрицательно качнув головой в знак, что ошибся, Давенант отыскал выходную дверь и очутился на улице.
Ему некуда было уйти, нечего было делать среди громкого разговора прохожих. Он тоскливо открыл дверь, желая вернуться, но вспомнил о вине и перешел улицу; затем некоторое время стоял в магазине среди суеты покупателей, тягостно отвлекавшей его от созерцания боли, ударившей так бесчеловечно. Впечатление вечера у Футроза еще билось, как нервный тик, в его душе, но те чувства уже исчезли; возвращение отца сыграло роль предательского удара, после которого столкнутый в воду стремится не к радостям береговой прогулки, но только к спасению.
Тиррей вернулся, стараясь ободриться и твердя:
«Все-таки ведь он мой отец!» Но значение этих слов только еще больше угнетало его. Отчасти выручило Тиррея естественное любопытство – печальное любопытство узника, больное сознание которого после звука ключа в дверях камеры, устанавливающего погребение заживо, начинает постепенно интересоваться устройством камеры и видом из окна сквозь решетку.
Давенант вернулся, впущенный на этот раз прислугой, так как даже старуха Губерман не решилась еще раз увидеть сокрушенное лицо жильца, в комнате которого происходила такая редкая и тяжелая сцена.
– Я принес вино, – сказал Давенант, ставя на стол бутылку. – Как вы меня нашли? Вы должны знать, что я вас почти не помню. Теперь, глядя на вас, я что-то припоминаю. Вам не везло? Зачем вы бросили нас?
За время короткого молчания Франка Тиррей внимательно рассмотрел его, усевшись на стуле в углу комнаты. Бродяга, отрывисто, но пристально наблюдая за сыном, хранил среди грязных своих усов затяжную улыбку, метившую выражение его лица дикой и тонкой, совершенно не отвечающей моменту двусмысленностью. Его старое кепи из темного шевиота валялось на столе подкладкой вверх, и в этом кепи лежала круглая жестянка с табаком. На ее крышке была изображена голая женщина с роскошными волосами. Одетый в рваную матросскую фуфайку, когда-то синей, а теперь грязно-голубой фланели, ластиковые черные брюки, заплатанные на коленях квадратами, вшитыми старательно, но криво, как штопают мужчины, вынужденные судьбой носить в кармане иголку и нитки, Франк Давенант, согнувшись, сидел у стола. За расстегнутым воротом его фуфайки торчали обрывки белья, цвета трудно вообразимого. На его ногах были старые кожаные калоши. Разговаривая, он достал трубку с обгрызенным черенком и набил ее смесью сигарных окурков, собранных на улице. Вдавив табак в трубку желтым, как луковая шелуха, ногтем большого пальца, отец еще раз взглянул на сына поверх поднесенной к трубке горящей спички, отбросил ее и, обратясь к бутылке, вытащил пробку штопором своего складного ножа. Давенант подал стакан.
– О боже! Что с вами было? – спросил Тиррей, содрогаясь от печали и злобы.
– Я пал, – Франк выпил стакан вина и обсосал усы. – Так говорят, так ты услышишь, таково ходячее мнение. Но я прежде скажу, как я тебя разыскал. Видишь, Тири…
При этом уменьшительном имени «Тири», каким звала его всегда мать, Тиррей ощутил подобие терпимости. Возвращение Франка начало принимать реальный характер. Заметив его чувства, Франк повторил:
– Да, Тири, это я выдумал тебе такое имя. Корнелия хотела назвать тебя Трери… Впрочем, все равно… Так вот, я зашел в дом, где мы жили тогда. Там еще живет Пигаль, его должен ты помнить: он однажды подарил тебе деревянную пушку. Ну-с, он больше не служит в управлении железной дороги, а так… Хотя… Да, о чем это я? Его дочь служит в банке. Ах, да! Так вот, он мне рассказал, что ты возишь тележку у Гендерсона, а Гендерсон направил меня к Кишлоту. Итак, ты сразу стал заметен на горизонте моих поисков.
– Кишлот узнал от вас, что вы… Что я ваш…
– А как же иначе? Он посвятил меня в твои дела. Фаворит?! Как это тебе удалось? Тири, смышленый тихоня, ведь ты поймал жирную кость и можешь заполучить богатую жену, разве не так? Которая же из двух? Одна созрела… Хотя как ты должен быть до конца умен, чтобы стебануть этот кусочек! Родители твоей матери ни черта не дали за Корнелией, и оттого мои дела пошатнулись. – Хотя … Да, я все-таки любил эту бедную большеглазочку, твою мать, однако меня ограбили.
Слушая речь отца, в которой остаток прежней манеры, выражаемой голосом, еще не совсем разучившимся соединять мысль с интонацией, так странно аккомпанировал смыслу слов, Давенант замер. Его охватило развязным смрадом.
– Так с этим вы пришли ко мне? Вы, отец? – крикнул Давенант, сдерживая слезы гнева. – Не смейте говорить ничего такого ни о Футрозах, ни о матери! Я только что пришел от Футроза. Там было мне хорошо и никогда, – слышите вы, отец? – никогда не было так хорошо, как там! Но вы этого не поймете. А я не могу рассказать, да и не хочу, – прибавил он, исподлобья рассматривая Франка Давенанта, который, тяжело полузакрыв глаза, слушал, ловя в этих словах сына черты характера, могущие пригодиться.
– Слышу, сын, – едко ответил Франк. – Вначале я думал, что ты не сентиментален. Это скверно. Впрочем, мы еще только начали наше сближение. Там увидим.
– Я не вещь, – сказал Давенант. – А что вы хотите сделать?
– Ха-ха! Ничего, Тири, решительно ничего.
– Зачем вы вернулись?
– Милый, я здесь проездом из Гель-Гью. Я, собственно говоря, не понравился капитану «Дельфина», так как доказал ему, что, с юридической точки зрения, отсутствие билета не есть повод считать меня выбывшим из числа пассажиров. Я хотел выдать ему письменное обязательство об уплате сроком на один год, но эта скотина только мычала. Зачем я вернулся? Я не вернулся, Тири. Того человека, который одиннадцать лет назад ушел из дома, чтобы разбогатеть в чужих краях и приехать назад богачом, больше нет. Я – твой отец, но я не тот человек.
– Чтобы разбогатеть?
– Да. Романтический порыв. Я написал Корнелии. Разве она не получила моего письма? Я не имел ответа от нее.
– Письма не было, – сказал Тиррей. – Мне все известно: как вас разыскивали, как … Не было, не получалось письма.
– Ну, тогда это письмо пропало. Правда, я поручил бросить его в ящик одному человеку … Ага! Он мог, конечно, потерять письмо. Но, как бы там ни было, я счел себя преданным проклятию. А я знал силу характера Корнелии, я знал, что она мужественно перенесет два-три года, за что будет вознаграждена. Но … Да, мне не везло. Хотя… Время шло. Я встретил другую, и… Таким образом, жизнь распалась.
Франк Давенант лгал, но Тиррей скорее мог поверить такой версии, чем – по незнанию лишаев души – истинной причине странного поступка отца. Франк ушел из болезненного желания доказать самому себе, что может уйти. Такое извращение душевной энергии свойственно слабым людям и трусам, подчас отчаянно храбрым от презрения к собственной трусости. Так бросаются в пропасть, так изменяют, так совершаются дикие, роковые шаги. Это самомучительство, не лишенное горькой поэзии слов: «пропавший без вести», – началось у Франка единственно головным путем. Немного больше любви к жене и ребенку – и он остался бы жить с ними, но его привязанность к ним благодаря нетрезвой жизни, темной судейской практике и бедности приобрела злобный оттенок; в этой привязанности таилось уже предчувствие забвения. Все же ему пришлось сделать громадное усилие, чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию, при том единственном утешении, что он может теперь созерцать трагический колорит этого, по существу низкого, поступка. Но такую истину Тиррей счел бы бессмысленной ложью; ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны, Франк опасался делать сыну эти признания. Итак, он лгал. Тиррей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Давенант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое соответственное предложение.
– Ты добр, это тоже … Гм… Не совсем хорошо… Хотя… Я действительно хочу есть. Так ты богат, плут A знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири! Покажи, сколько у тебя денег?!
По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча:
– Да, да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное – башмаки. Вот хорошие башмаки, видишь, Тири? Они дешевы. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за одиннадцать лет!
Они шли кратчайшим путем, через падающие лестницами переулки, к порту, вблизи которого находился «Хобот». Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона; в поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой, большой, комнатой, пахнущей, как рынок в сырой день, и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Тиррей увидел человека в грязной белой рубашке, с постным лицом и толстой нижней губой; его влажные глаза, поставленные за треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом.
Франк Давенант направился к этому человеку, который, почесав шею, молча осмотрел Тиррея с ног до головы и сказал:
– Что, Франк, разыскали сыночка? Вот это он самый? Трагедия отцов и детей! Судя по его костюму, ты будешь спать сегодня в кровати с балдахином!
– Не дурачьтесь, Гемас, – ответил бывший адвокат, садясь на табурет у стола и оглаживая лицо рукой. – Присядь, Тири. Итак, ты угощаешь меня? Угости заодно Гемаса. Он – замечательный человек, Тири, некогда он задавал тон.
– Бывали деньки! – сказал Гемас. – Христина! Появилась служанка, считая в руке деньги. Она рассеянно взглянула, увидев три пальца Франка, поднятые вверх, и, кивнув, принесла три фаянсовые кружки белого вина, после чего Франк потребовал две порции котлет, а Тиррей отказался есть.
– Выпьешь, Тири? – обратился отец к сыну. Туман отчаяния так стеснил дыхание Давенанта, что, захотев вина, он кивнул и сразу выпил полкружки.
Франк пристально посмотрел на него, но, убедясь, что в поступке сына не кроется ни вспышки, ни выходки, взглянул с усмешкой на Гемаса. Тот значительно опустил веки. Приятели усердно ломали котлеты кривыми вилками, запивая еду вызывающим изжогу дешевым вином.
Тиррей выпил еще. Стало спокойнее на душе, лишь в картинном безобразии ярко освещенного пьяного трактира тревожно проплывали красно-желтые оттенки гостиной Футроза, а хохот женщин вдали преступно напоминал о ясном смехе Элли и Рой.
– Как же ты жил, мальчик? – спросил Франк, кончив есть. – Понимаете, Гемас, все это – как встреча во сне. Рассказывай!
– Вы не очень помнили о нас, так что же спрашивать?
– О, смотри, пожалуйста… Ну, а все-таки?
– Жили, – сказал Тиррей. – Жили так и этак. Бедствовали. А что?
– Ваш сын прав, – заявил Гемас. – Сразу обо всем не переговорить. Я слышал – вам повезло? – обратился Гемас к юноше тоном игривого участия. – Вы пользуетесь покровительством влиятельных лиц?
Тиррей хотел резко ответить Гемасу, но его предупредил Франк, сказав:
– Не торопитесь, Гемас. Я сам. Тири, хочешь ты мне помочь?
– Говорите, – сказал Тиррей. – Я не знаю, о чем вы думаете.
– Милый, это так просто. Поговори обо мне с Футрозом. Скажи, что вот неожиданно нашелся твой отец, раздетый, разутый… Ты потрясен. Ну, короче говоря, сказать ты сумеешь. Отец, скажи, был конторщиком на чайных плантациях, заболел, полтора года пролежал в больнице и обнищал. Мы это разработаем подробнее. В таком случае. –
– Напрасно надеетесь, – перебил Тиррей. – Я никогда не сделаю этого. Я не могу.
– П-сс! – удивленно отозвался Гемас.
– Как это – «не могу»? – сказал Франк. – Почему не можешь?
Тиррей, хмурясь, молчал, смотря вниз.
– Ты не хочешь, – вздохнул Франк, – не хочешь из-за дурацкого твоего упрямства. Послушай, ведь тебе не нанося вреда, наоборот, ты выиграешь, являясь заботливым сыном. Да я клянусь тебе, что Футроз сам захочет меня увидеть, когда ты сообщишь ему о таком происшествии!
– Не знаю, – с трудом ответил Тиррей. – Говорите что хотите. Я не скажу ничего Футрозу, я лучше умру. Не заставляйте меня сказать вам что-нибудь еще, вам будет нехорошо.
– Так вот как … – медленно сказал Франк. – Неужели ты не понимаешь, что твой удачный случай послан судьбой для меня, а не для тебя?
– Вы слышали мой ответ. Ничего не поможет. Гемас с презрением осмотрел Тиррея и помахал кружкой. Служанка наполнила опять все кружки, и Франк залпом выпил свою, держа ее трясущейся от гнева рукой.
– Ну хорошо, – заявил он, посасывая усы. – В таком случае я сам отправлюсь к Футрозу.
– Хорошо, что вы это мне сказали, – твердо произнес Тиррей, и его полные слез глаза ответили испытующему, прищуренному взгляду отца таким отчаянным вызовом, что Франк сунул руки в карманы и откачнулся на стуле с бесшабашным видом, сказав:
– Ну-ка, заплачь в самом деле, чувствительный идиот.
– Если вы пойдете к Футрозу, – продолжал Тиррей, – то я предупрежу вас. Я скажу, чтобы вас не принимали. Я расскажу о встрече на Лунном бульваре и о том, кто вы теперь.
Наступило молчание. Гемас, ухмыляясь, водил по столу пальцем в лужице пролитого вина, а Франк Давенант задумчиво набивал трубку, иногда внезапно взглядывая на сына, который в свою очередь рассматривал его так, как смотрят на упавшую и разбитую вещь.
– Кто же это – «я», да еще «теперь»? – иронически спросил Франк.
– По-видимому, вы – преступник, – не задумываясь, ответил Тиррей. – Не ошибусь, если скажу, что вы сидели в тюрьме. Я все понял.
– Договорились! – сказал Гемас. Франк медленно поднял брови; скорбная и коварная улыбка перекосила его изменившееся лицо.
– Тири, я виноват, – произнес он с торжественным выражением. – Я забыл разницу наших жизненных опытов. Бог с тобой. Завтра утром я к тебе загляну.
– Не приходите ко мне. Где-нибудь в другом месте.
– Ах так? Хорошо… Хотя… Тогда приходи сюда.
– В какое время?
– Приходи утром, к десяти часам.
– Сказано. Я приду.
– Отлично, сынок. Поговорим подробно; узнаешь, как я жил… Как ты… Предадимся воспоминаниям. Уходишь? Ну, а мы еще посидим немного, две старые калоши… Хе-хе!
Тиррей заплатил служанке и, кивнув, направился к гавани, чтобы ходить там до полного изнурения – идти домой спать он не мог. Больше того, казалось ему, что он никогда уже не захочет спать.
Бесцельно огибая углы подозрительных переулков или сидя на каменных лестницах скверов, Давенант с тоской ожидал рассвета, чтобы пойти к Галерану и все ему рассказать. Он верил, что Галеран выручит его. Угроза Франка вымогать у Футроза, объявив себя отцом, убивала Тиррея. Отношение к нему этой семьи должно было неизбежно стать осторожным и недоверчивым. Тиррей отлично понимал разницу между горячим сочувствием к нему лично и необходимостью, навязанной – ради него – сочувствовать разнузданному пройдохе, усмотревшему в своем сыне доходную статью. Довольно было Футрозам узнать о существовании Франка Давенанта, чтобы Тиррей не решился более показаться им на глаза. Скрывать, скрывать и скрывать должен был он возвращение своего отца, и он решил утром просить Франка, ради памяти матери, умолять и просить, если понадобится, на коленях, чтобы отец оставил свою затею. С помощью Галерана Тиррей надеялся достать немного денег на отъезд Франка в другой город и уговорить отца, чтобы тот сел в поезд или на пароход.
В таких размышлениях, перебиваемых изредка печальным боем часов, прошла страшная ночь, и, когда рассвело, Давенант поспешил к Галерану, но узнал там, что Галеран дома не ночевал. Впервые мысль об особости каждой человеческой жизни, преследующей свои интересы и не обязанной знать, как страстно ждет от нее спасения другой человек, предстала Тиррею со всей безвинной горечью ее смысла. Растерявшись, – так как только теперь ощутил, как одинок он со своей бедой, – Давенант отправился разыскивать Галерана по улицам, все надеясь, что встретит его высокую фигуру среди ей подобных фигур. Устав оглядываться во все стороны, Давенант наконец пришел домой, и, недовольная ранним звонком, впустила его заспанная служанка. Он вошел в свою комнату с таким чувством, как будто не был в ней несколько лет. Пустая бутылка от вина и окрашенный вокруг донышка закисшим вином стакан источали тленный запах. Тут сидел отец, тут Давенант угощал его. Задернув занавеску окна, так как ослепляющие лучи солнца обманывали, сияя без утешения, и грели, не согревая, измученный Давенант лег на кровать, почти тотчас уснув. Когда пришло время, служанка внесла кофе и разбудила спящего, он сказал: «Хорошо», – опять уснув так же крепко, без сознания своего краткого пробуждения. Все время ему снился отец, и он говорил с ним о тяжелых вещах. Наконец Давенант проснулся. Вскочив, он старался понять смысл тревоги, овладевшей им, но не сразу вспомнил о том, что случилось вчера. Кофе давно остыл. Взглянув на часы, Тиррей спохватился, так как приближался полдень.
Мучаясь страхом, что, устав ждать в «Хоботе», отец с минуты на минуту может явиться сюда, да еще, может быть, не один, а с Гемасом, Тиррей начал торопливо застегиваться. Схватив шляпу, искал он глазами сам не зная чего, твердя:
– Только бы выйти в дверь… Вот-вот раздастся звонок..
Действительно раздался звонок, и Тиррей услышал его в момент, когда открывал дверь своей комнаты. Оцепенев, он немедленно снял шляпу и отошел к столу, зная уже, что пришел Франк Давенант. Он слышал его лебезящую благодарность старухе Губерман, шаркавшей своими туфлями в передней, и ее лживые вздохи. Тогда Тиррей открыл дверь, не дожидаясь стука, и Франк уверенно вошел в комнату с небрежным пьяным жестом, которым как бы приглашал мир раскрыться перед его благодушием.
С первого взгляда Тиррей заметил, что отец пьян как стелька и, вероятно, не спал. Хотя был он выбрит, умыт, его старое, в красных жилках лицо по-прежнему не внушало никакого доверия.
– Я ждал, – сказал Франк, беря обеими руками руку сына и похлопывая ее. – Должно быть, ты проспал? Ну, конечно, вид у тебя заспанный. Что, Тири, как?! Ты очень рассердился вчера?
– Да, я проспал, но …
– Но что, мол, делать, раз явился этот негодный старик отец?! Ха-ха! Мы с Гемасом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Это человек с головой. Он говорит: «Я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья». И – добавлю я сам – пока, корчась и издыхая, не проклянет все лукавые огни мира!
Тиррей налил себе стакан холодного кофе, затем выпил залпом, без сахара, терпкий напиток, чтобы хотя немного отогнать угнетение.
– Будете ли вы пить холодный кофе? – спросил Тиррей. – А вина у меня нет.
– Кофе? Едва ли… Хотя… потом я выпью вина. Я уже ел, Тири. Ну вот, я сяду. Слушай, Тири, ты почти взрослый человек, и я хочу коснуться, заметь – только коснуться, так неудачно поднятого вчера вопроса о Фут-розе и его славных малюточках Однако… не в том дело… Хотя… Но, видишь, я должен высказаться.
– Да, вы должны высказаться, – с горечью заявил Тиррей. – Поверьте, я буду вас слушать очень внимательно.
– Ах так? Чудесно, – Франк достал табак. – В таком случае закурим старую добрую трубку житейского мудреца. Я, Тири, стал мудрецом. Да, прошлое, добренькая бестолковая Корнелия, надежды выдвинуться, разбогатеть – все это теперь для меня как что-то хорошее, бренькающее, но почти нереальное. Есть два способа быть счастливым: возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть, а когда в награду за это голова твоя начнет седеть и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе досталась высота положения и деньги, конечно. Да, так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?
– Я понимаю. Вы – неудачник.
– Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул… Ты ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник – с вульгарной точки зрения, – но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху: такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемые стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой «высоты» для того, чтобы пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой, эту сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх – концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый – я сам отверг всех, я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязны и пьяны, вино – дешевое, игра – на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона – это все то самое, чем владеет миллионер, такая же, черт побери, жизнь, и, если даже взглянуть на нее с эстетической стороны, – она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения! Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых «высоте» струн! Слушай, Тири, шагни к нам! Плюнь на своих благотворителей! Ты играешь унизительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки и, когда она надоест, швыряют ее через плечо.
Хмельной голос Франка звучал, как назойливый бред, но сам он, давно не произносивший таких длинных речей, считал взятый им тон достаточно убедительным для действия на Тиррея, который, по его мнению, не мог бы сам никогда прийти к столь яркому откровению. Притупленный алкоголем мозг Франка находился во власти примитивных расчетов.
– Стоит ли продолжать? – пытливо спросил он, видя, что Тиррей молчит. – Осталось мне сделать тебе практическое предложение, дать совет … Хотя …, Одним словом, я желаю тебе добра.
– Говорите. Мне все равно.
– Ну, слушай, и пусть эта мысль несколько дней зреет в тебе. Можешь сейчас ничего не решать. У Фут-роза две дочери, обе хорошенькие. Одна совсем девчонка, но другая почти взрослая. Ты – прямо скажу – красивый, интересный мальчик. Если бы ты подъехал к этой… к старшей… Понимаешь? Понимаешь, какие перспективы? Если бы ты с ней тайно вступил в связь, она выманила бы у отца столько денег, сколько тебе даже не снилось… ты знаешь, как это делается? Хочешь, я тебя научу?
На всякий случай Франк приготовился к тому, что могло последовать за его вопросом. Тиррей встал, протянул отцу его шапку и тихо сказал:
– Ступайте вон и никогда не приходите ко мне! Если бы вы не были мой отец, я задушил бы вас без всякого раскаяния. Уходи, старая сволочь!
Франк мутно взглянул на сына и бессильно свесил голову. Его ноги расползлись, рука упала со стола, тело, пытаясь держаться прямо, вздрагивало и поникало.
– Совсем раз-вез-ло, – бормотал он, притворяясь, что силится встать. – Четыре б-бу-тылки… на-то-щак… ф-фу!
– Что с вами?
– С-с-с-пать, – сказал Франк. – Пр-рости… пь-пьяного.
Поверив, что отец впал в беспомощное состояние, Тиррей задумался и тоскливо вздохнул. Гнать жалкое существо, которое свалилось бы за порогом, он не мог. Кое-как он подвел отца к кушетке и уложил его, причем Франк грузно повалился, как мертвый, и Тир-рею пришлось поднимать ему ноги. Думая, что отец будет спать, по крайней мере, до вечера, Давенант еще раз отправился искать Галерана и вновь не застал его. Возвратясь, он был встречен старухой Губерман, которая сообщила ему, что Франк ушел. Она прибавила:
– Не перемените ли вы комнату? Вам будет у меня неудобно жить вдвоем, а я вам скажу один очень хороший адрес.
– Как вы хотите, – равнодушно сказал Тиррей. – Я не виноват.
Он вошел к себе и увидел раскрытый шкаф; белый костюм и белье исчезли. Внутри шкафа валялся старый пиджак Тиррея, оставленный Франком сыну только потому, что он не смог его захватить. Все остальное было обернуто им вокруг тела, под блузу. Таким образом прислуга ничего не заметила.
Глава VI
С этой минуты Тиррей стал внешне спокоен, но его как будто ударили по глазам. Некоторое время он видел плохо, неясно вокруг себя. Он хмурился и моргал, стараясь вызвать в себе хоть какое-нибудь резкое чувство, и не мог, и сам он был, как пустой шкаф. Присев, Тиррей взял со стола какую-то нитку, должно быть, оставленную Франком. Он стал обматывать ее вокруг пальца и рвать. Так он сидел несколько времени, представляя ряд кабаков, замеченных вчера, где мог теперь настигнуть отца. Давенант решился на это с глубоким отвращением и почти без всякой надежды. Заперев комнату, чтобы никто не знал истину его положения, Давенант вышел на поиски вора и, тщательно осмотрев «Хобот», где не было ни Гемаса, ни Франка, отправился к одному углу около порта, где находилось семь питейных заведений. Потолкавшись из дверей в двери, увидел он наконец своего отца в компании Гемаса и трех скуластых бродяг в рваных шляпах. За их столом сидели две женщины. Нарумяненные ярко, до самых висков, эти пьяные фурии заволновались первыми, увидев Тиррея; догадавшись, что мальчик с потрясенным лицом – сын щедрого мецената, они сказали что-то Франку, весело разливавшему в этот момент вино. Франк взглянул, мрачно опустил веки, насупился и положил локти на стол.
– А-ха-ха! Вот потеха, – сказал Гемас, с любопытством ожидая скандала.
Все молчали, и Тиррей подошел, осматриваемый с ног до головы, как потешный враг, который скоро уйдет.
– Отец, – произнес Тиррей, – я пришел! Я должен вам сказать несколько слов.
– Уже продано! – заявил Франк. – Напрасно будешь кричать!
– Не буду кричать. Отойдите поговорить со мной.
– Гм… Так лучше для тебя. Потолкуем. Франк встал и, растолкав соседей, опрокинув табурет, вышел из-за стола к сыну. Хотя он держался с вызывающим видом, гордо подтягивал пояс и играя бровями, он не мог скрыть тревоги. Говорил он преувеличенно твердо, с выкриком, как человек, страдающий манией величия.
Отец с сыном вышли на улицу.
– Как вы могли? – тихо спросил Тиррей.
– А так, дитя мое. Почему эти вещи должны быть твои, а не мои? В самом деле! Ты заработал их? Купил? Нет! Путь, на который я тебя зову дружески, не знает жалости ни к своим вещам, ни к чужим. Так было надо, в высшем смысле, в смысле… падения и страдания!
– Пусть так, – сказал Тиррей, – мне уже мучительно говорить об этом. Но не ходите к Футрозу! Даже не пишите ему! Ради бога!
– Непременно пойду, Тири, клянусь тебе в этом мозгами и печенкой Футроза. Задумано без промаха! Я буду бить на то, чтобы Футроз почувствовал ко мне так называемое «омерзение», чтобы он ради тебя, этакого романтика, дал мне сто фунтов отступного. И он даст! Тогда я уеду в Сан-Фуэго. Покет гнусен.
– Действительно вы тогда уедете?
– Да… А что?
– У меня, вы знаете, нет денег… Я… так спросил.
– Ну-с, вместо твоего «так» я буду говорить с Футрозом завтра утром. Это будет великолепный мрачный эскиз к картине: «Дьявольские огни падения Франка Давенанта».
Он замолчал, потом достал платок, высморкался и снисходительно посмотрел на Тиррея.
– Отец– сказал юноша. – Кто вы?
– Сказать?
– Говорите.
– «Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять Вы будете, приятель, со мной в постели спать», – медленно проговорил Франк, пристально смотря сыну в глаза. – Понял?
Но Тиррей понял не сразу. Поняв, он отступил и кивнул.
– Понял, слезоточивая образина? – закричал Франк. – Уходи!
Тиррей нервно смеялся, пытаясь удержать слезы, которых стыдился, как последнего унижения.
Франк сделал рукой перед своим лицом значительный жест и ушел в трактир. Развивая нелепую внезапную мысль, Давенант направился искать лавку старого платья. Он был под влиянием замысла продать свой серый костюм и выиграть сто фунтов, чтобы его отец, получив деньги, оставил город.
Тиррей разыскал лавку, сторговался продать костюм за два фунта и, вернувшись домой, переоделся в старое платье, а серый костюм завернул в газету и отнес в лавку. Таким образом, исчезли все новые красивые вещи, он был опять одет так, как в выходной день на службе в кафе. Оставались на нем от так пламенно сверкнувшей сказки лишь белье и шляпа. Давенант съел в таверне кусок баранины и отправился на Кайенну – так назывался квартал, где кабаре и игорные дома взаимно поддерживали друг друга. Он бывал в этом квартале, но никогда не заходил ни в один яркий подъезд с белыми фонарями, никогда не играл. В Органном переулке таких подъездов было два, с ажурными вывесками из золотых букв, ночью превращавшихся в перелетающий узор зеленых лампочек.
Притон, куда вошел Давенант, назывался «Лесной царь». Среди ковров и цветов, озаренных так ярко, что, казалось, были даже видны надежды и отчаяние в душах бледных людей, сновавших вдоль ограненных зеркал, Давенант отдал свою шляпу швейцару, пройдя затем в высокую дверь, где несколько групп толпилось у игорных столов.
Давенант подошел к относительно свободному краю одного стола и, не понимая игры, не зная, какая это игра, стал смотреть, как золото и банковые билеты перемещаются за зеленом столе под наблюдением спокойно работающего крупье. Крупье изредка говорил мягко и непонятно, тоном легкой забавы, которой будто бы радуются все, сошедшиеся к столу. Однако от этих небрежных его замечаний лица играющих вспыхивали или тускнели, а некоторые, беспомощно оглянувшись, резко выбирались из круга прочь и, вздохнув, вытирали платком потный лоб.
– Пора, – сказал себе Давенант, видя, как много рук потянулось бросать деньги на стол. Он вынул из кармана все, что оставалось у него, и положил свою ставку, ничего не придержав про запас. Рука крупье, считая ставки по очереди, коснулась денег Тиррея. Он пристально посмотрел на мальчика, взметнул бровью и отобрал мелкое серебро; отодвинув его Давенанту и говоря:
– Возьмите, это не идет.
Сконфузившись, Давенант убрал мелочь. Карты легли, выразили свое, непонятное ему отношение к его и чужим надеждам, но ничего не изменилось: никто не убирал денег, никто не ставил еще. Опять банкомет треснул колодой и разбросал карты.
Тиррей спросил смуглого человека, стоявшего рядом с ним:
– Что это? Почему снова играют?
– Сыграли вничью, – сказал тот и посмотрел на Тиррея. – Вот теперь… Ага! Вы выиграли.
– Да неужели? – сказал Давенант.
Действительно, его ставка удвоилась, и он забрал ее так неловко, торопясь, что ребра монет торчали между его пальцами. «Что же делать дальше?» – думал он, не замечая, что говорит вслух, хоть тихо, но ясно.
Смуглый молодой человек заинтересованно присмотрелся к нему.
– Как играть, чтобы скорее выиграть? Я не знаю…
– Отойдите, – сказал вдруг смуглый незнакомец Тиррею, – я хочу вас выручить.
Тиррей удивился, но повиновался. В этом роковом месте он ждал всяких чудес. Отойдя на середину зала, неизвестный сказал:
– Слушайте: играя так, как сейчас, вы через пять минут останетесь без гроша. Хотите быть участником банка? Я намерен заложить банк в десять тысяч, а ваши деньги могу взять для игры, и вы получите свою долю. При удаче – несколько сот фунтов.
Он говорил спокойно, серьезно, был прекрасно одет, но Давенант колебался. В это время подошел грузный человек с сигарой в зубах и, узнав от смуглого человека, о чем разговор, небрежно процедил:
– Оле, Гордон! Хотите взять юношу под свое покровительство? Что же, ваше дело, – Опять обогатите новичка… Советую отдаться на волю Гордона, – сказал толстяк Тиррею. – Гордон так богат, что играет, как лев, и ему адски везет. Не упускайте случая. У Гордона страсть к новичкам. Добр, как старая няня.
Смеясь от возбуждения и надежды, юноша вручил свои деньги Гордону. Тот, хлопнув Давенанта по плечу, посоветовал ему ожидать результат игры в одной из гостиных, которую весьма предусмотрительно указал. Тиррей прошел туда, сел в кресло и стал ждать. В этой комнате с опущенными шторами не сидел, кроме него, никто, но сюда изредка входили два-три человека, обсуждая свои дела, горячась или упрашивая о чем-то один другого. Редко присаживались входящие – страдание игры вскоре гнало их в залы, на свет высоких дверей, за которыми, в дыму и лучах, торопливо пробегали от стола к столу люди с вдохновенными или озирающимися лицами. Давенант увидел двух женщин. Они присели в гостиной и стали плакать, утешая друг друга. Эти немолодые толстые женщины, пошептавшись, решительно вытерли глаза, напудрились и, поснимав с рук кольца, ушли, громко вздыхая. Прибежал молодой человек с розовым лицом и растрепанным галстуком. Он стал посредине гостиной, обшарил жилетные карманы, свистнул, повернулся на каблуках и исчез. Вошли трое рослых людей с массивными лицами. Держа руки в карманах брюк, они долго ходили по гостиной, громко говоря, с хохотом и увлечением; эти люди вспоминали игру. Они выиграли и условились ехать в ресторан.
На Давенанта никто не обращал внимания. Он сидел, положив ногу на ногу и устремив взгляд на дверь в зал, чтобы заметить появление Гордона и узнать по его липу результат. Наконец он устал сидеть, устал менять ногу и думать. Часы на камине били уже дважды; когда пробило восемь часов, Давенант решил идти искать важного игрока. Несколько тревожась, но не настолько, чтоб быть уверенным в похищении своей незначительной суммы человеком, играющим на десятки тысяч, Давенант обошел все группы зала, присмотрелся ко всем лицам, но Гордона там не было. Юноша проник во второй зал и там увидел толстого человека, который ранее говорил с Гордоном. Толстяк стоял поодаль от играющих, просматривая свой бумажник. Заметив Давенанта, он сделал движение, пытаясь удалиться, но Давенант уже улыбался ему.
– Ах да! – сказал толстяк. – Так как? Гордон обогатил вас?
– Я его ищу, – сказал Давенант, – я был везде, у всех столов. Вы его видели?
– Обождите одну минуту, – заявил толстяк, – должно быть, он мечет банк. Я его сейчас приведу.
Он быстро ушел, а Давенант остался стоять и стоял, пока ему на ухо не крикнула догадка: «Это мошенники». Увидев служащего, Давенант рассказал ему о Гордоне и попросил указать, где сидит смуглый молодой человек.
К ним подошел другой служащий.
– Так это, верно, Гутман-Стригун, – сказал он, разузнав от Тиррея внешность вора. – Опять та же история! Кто его пропустил? Был приказ не впускать ни Гутмана, ни Пол-Свиста.
Первый служащий развел руками.
– Черт его знает, – сказал он. – Я только что сменил Вентура. Хотите пройти в дирекцию?
– А что? – спросил Давенант, понимая теперь происшествие, но обманывая себя. – Разве Гордон там?
– Вас обобрали, – сказал второй служащий, – но вы можете подать жалобу.
– Нет, не стоит.
– Пожалуй, что не стоит. Все равно деньги ваши пропали.
– Да, я вижу теперь.
Давенант повернулся и вышел из клуба. Не торопясь, он пришел домой, равнодушный уже к мнению о себе хозяйки, видевшей, открывая дверь, его старый костюм, изнуренное лицо и, конечно, уже заметившей опустошенный шкаф.
– Завтра я перееду, – сказал Тиррей старухе, когда вошел.
– Пожалуйста, – насмешливо ответила Губерман, – вам будет лучше, уверяю вас, эта комната для вас велика, да и дорога, пожалуй.
– Хорошо. А вы вернете мне деньги. Я прожил всего неделю.
– Кто мне платил, тому и верну. Но только еще вопрос, как быть с моим мужем. Карл болен от ваших родственников. Он боится, что нас ограбят. Так вот, суд еще может признать, что вы обязаны потратиться на леченье, на докторов.
Давенант не ответил. Он прошел в комнату и лег, не зажигая огня, на кровать. Его мысли были подобны болезненным опухолям. Некоторые представления заставляли его страдать так сильно, что он приподнимался, спрашивая тьму: «Что же это такое? Почему?»
Его холодный обед стоял на столе. Незадолго перед рассветом Давенант съел остывшее кушанье и лег снова. Теперь начал набегать сон, но малейшее движение мысли отгоняло его. Давенант часто поднимался и пил воду; наконец он уснул и очнулся в одиннадцать утра.
Не зная, что с ним произойдет, он на всякий случай достал из ящика письменного стола серебряного оленя и спрятал его во внутренний карман пиджака, затем оставил квартиру и разыскал аптеку, где был телефон-автомат.
Отсюда, намереваясь предупредить Футроза, Давенант вызвал его номер по книге абонентов. За то время, что станция соединяла его с обитателями красно-желтой гостиной, Давенант немного отдохнул душой – опять он касался вырванного из его жизни прекрасного дома. Услышав голос, отвечающий ему, Давенант весь потянулся к аппарату и начал улыбаться, но с ним говорила Урания Тальберг.
Она не дала ему ничего сказать. Узнав от него, кто с ней говорит, гувернантка сказала:
– Как дико с вашей стороны! Ради чего вы прислали этого человека? Он сказал, что он ваш отец и что вы прислали его. Кто он такой?
– Я никого не посылал, – ответил Давенант, побледнев от стыда. – Ради бога… Я хочу объяснить … Хочу сказать всем… Господин Футроз…
– Господин Футроз и девочки уехали в Лисе сегодня с восьмичасовым поездом. Они вернутся через три дня.
– Уехали?
– Да. На спектакли Клаверинга и Меран. До свидания.
Телефон молчал. Давенант вышел из аптеки. На ее двери висела афиша, теперь он видел ее. Она была ему нужна, и он прочел ее с начала до конца, а затем отправился к Галерану. Это была его последняя попытка найти защиту.
Глава VII
Афиши о гастролях в Лиссе знаменитых актеров Леона Клаверинга и Леонкаллы Меран были расклеены по городу. Тем более обеспечен был им успех у состоятельного населения, что театр Покета еще только заканчивался постройкой. Объявленные три выступления гастролеров: «Кин», «Гугеноты» и «Сон в летнюю ночь» – следовали одно за другим 3-го, 4-го и 5-го августа. Давенант должен был попасть в Лисе сегодня же к вееру или к вечеру следующего дня. В первом случае он мог мчаться на автомобиле, которым не обладал, во втором – сесть в утренний поезд. Лишь утром отходил поезд на Лисе, а на билет у него не было денег. Не видя другого выхода, он бросился к Галерану и узнал от жильцов, что Галерана все еще нет дома. «С ним иногда это бывает, – объяснил Давенанту Симпсон. – Бывало, что он и по семь дней отсутствовал, так что, если вам очень необходимо его разыскать, ступайте в ресторанчик Кишлота, на Пыльную улицу, туда Галеран заходит, там его знают». Не дослушав, Давенант оставил Симпсона так поспешно, что тот не успел выпросить у него взаймы мелочи. С горечью подумал Давенант о Кишлоте, идти к которому обобранным и отверженным не мог бы даже под угрозой смерти. Между тем не увидеть в последний раз людей, сделавших для него так много, он тоже не мог. Мысль встретить их у театра, представляя их изумление, которое скажет им все об его преданности и привязанности к ним, – взволнует, быть может, и заставит крепко, в знак вечной, пламенной дружбы, сжать его руку – приняла болезненные размеры; вне этого не существовало для него ничего, и, если бы его теперь заперли или связали, он неизбежно и опасно заболел бы. Это был крик погибающего, последняя надежда спастись, за которой, если она не сбылась, наступает худшее смерти успокоение.
«Вот они вернутся, – соображал Давенант. – Когда гнусный отец мой явится к ним, все станет понятно. Но будет поздно уже. Они поймут, ради чего я скрываюсь и ухожу навсегда, чтобы даже тени сомнения не было у них на мой счет. Каким был, таким и ушел».
С самого утра Давенант не был дома и ничего не ел; совсем не желая есть, он все-таки купил хлеб, чтобы не ослабеть, но есть не мог; завернув хлеб в газету, он вышел на шоссе, по которому должен был пройти сто семьдесят миль. Его не удивляло ни расстояние, ни очевидная невозможность одолеть к сроку такой огромный конец. Он знал, что должен быть у театра в Лиссе не позже восьми часов вечера 5 августа. Как ухитряются ездить в вагоне без билета, он не имел о том ни малейшего представления. Во всяком случае для него было это непосильной задачей. Он прошел милю-другую, все еще держа хлеб под мышкой нетронутым. Иногда, завидя нагоняющий его автомобиль, Давенант останавливался и поднимал руку. Вглядевшись, шофер сплевывал или презрительно кривил лицо, проезжие оглядывались на бледного путника с недоумением, иногда насмешливо махая рукой, думали, что он пьян, и действительно, никак нельзя было уразуметь по его виду, что хочет сказать этот странный юноша с широко раскрытыми глазами. В течение часа мелькнуло в его сознании восемь автомобилей. Потерпев неудачу с одним, он молча поднимал руку навстречу другому, третьему и так далее, иногда говоря: «Стойте. Прошу вас, посадите меня». На слове «прошу» машина пылила уже так далеко впереди, что она как бы и не проезжала мимо него.
Солнце закатывалось, и некоторое время дорога была пуста. Услышав очередной шум позади себя, говорящий о спасительной быстроте, мало сознавая, что делает, и рискуя быть изуродованным или даже убитым, Давенант встал на середине дороги, лицом к машине, и поднял руку. Он не дрогнул, не сдвинулся на дюйм, когда автомобиль остановился против его груди. Он не слышал низменной брани оторопевшего шофера и подошел к дверце экипажа, смотря прямо в лицо трех подвыпивших мужчин, которые разинули рты. Их вопросы и крики Давенант слышал, но не понимал.
– Одного прошу, – сказал он толстому человеку в парусиновом пальто и кожаной фуражке. – Ради вашей матери, невесты, жены или детей ваших, возьмите меня с собой в Лисе. Если вы этого не сделаете, я умру. Я должен быть завтра к восьми часам там, куда вы едете, в Лиссе. Без этого я не могу жить.
Он говорил тихо, задыхаясь, и так ясно выразил свое состояние, что пассажиры автомобиля в нерешительности переглянулись.
– С парнем что-то случилось, – сказал худой человек с помятым лицом. – Его всего дергает. Эй, юноша, зачем тебе в Лисе?
– Почему ты знаешь, куда мы едем? – спросил третий, черноусый и краснощекий хозяин автомобиля.
– Разве вы едете не в Лисе?
– Да, мы едем в Лисе, – закричал толстяк, – но ведь по топоту наших копыт этого не узнать. Эванс, посадим его?! Что это у тебя под мышкой? Не бомба?
– Это хлеб.
– А почему ты не сел в поезд? – спросил черноусый человек.
Давенант молчал.
– Я не мог достать денег, – объяснил он, поняв наконец смысл вопроса.
– Пусть сядет с Вальтером, – решил хозяин экипажа, вспомнив, на счастье Давенанта, собственные свои скитания раннего возраста. – Садись к шоферу, парень.
Давенант так обрадовался, что схватил черноусого человека за локоть и сжал его, смеясь от восхищения. Сев с Вальтером, он продолжал смеяться. Шофер резким движением пустил замершую машину скользить среди вечерних холмов и сказал Давенанту:
– Тебе смешно?! Весело, что ли? У, козел! Встал, как козел. Жалею, что не сшиб тебя за такую наглость. На, выпей, козлище!
Он протянул ему бутылку, подсунутую сзади хозяином. Давенант, все еще дрожа от усталости в порыве отчаяния, сменившегося благодетельным ощущением быстроты хода дорогой новой машины, выпил несколько глотков. Ему передали кусок курицы, сыра и апельсин. Он все это съел, потом, услышав, что сзади что-то кричат, обернулся. Худощавый человек крикнул: «Зачем так торопишься в Лисе?» – и, не расслышав его бессвязного ответа: «Я не могу, я не сумею вам объяснить. – поверьте…», – снисходительно махнул рукой, занявшись бутылкой, которая переходила из рук в руки.
Шофер больше не разговаривал с Давенантом, чему Давенант был рад, так как хотел без помехи отдаться горькому удовольствию пробега к последнему моменту своего недолгого хорошего прошлого.
Солнце скрылось, но в сумерках были еще видны камни шоссе и склоны холмов с раскачиваемой ветром травой. По этому шоссе он теперь шел мысленно и блаженно созерцал этапы воображаемых им своих шагов, струящиеся назад со скоростью водопада. Сидя на колеблющемся автомобиле, он много раз опередил самого себя, идущего где-то там, стороной, так тихо по сравнению с быстротой езды, что мог бы считаться неподвижным. Но скоро устал он и думать и сравнивать, лишь вспоминая, что завтра будет в Лиссе, упоенно сосредоточивался на этой уверенности.
Люди, взявшие его с собой, были мукомолы Покета, ехавшие на торги по доставке муки для войск. Сжалившись над Давенантом, они накормили его и вскоре успокоились относительно его присутствия, вернувшись к составлению коммерческого заговора против других подрядчиков.
Отличное цементированное шоссе между Покетом и Лиссом давало возможность ехать со скоростью сорока миль в час. В исходе одиннадцатого, промчавшись через Вильтон, Крене, Блек, Лавераз, Рульпост и Даккар, автомобиль остановился в Зеарне, рудничном городке из трех улиц и десяти кабаков.
– Это Лисе? – сказал Давенант, завидев огни и обращаясь к Вальтеру.
– Лисе? Сам ты Лисе, – отвечал Вальтер, утомленно подкатывая машину к ярко освещенной одноэтажной гостинице. – Отсюда еще пятьдесят миль.
Почти четыре часа сидел Давенант с поднятым воротником пиджака, удерживая шляпу на голове озябшей рукой. Он продрог, занемел телом, но остановка не обрадовала, а встревожила его. Он стал бояться, что автомобиль задержится. Мукомолов звали: хозяина автомобиля – Эванс, толстого Лэйк и худого – Берганц. Они потащили Давенанта с собой в гостиницу, где было много народа и так дымно в ярком свете, что слои дыма изображали литеры S. Отчасти радуясь теплу, Давенант прошел в помещение, держась позади Берганца, у которого спросил:
– Может быть, вы не поедете дальше?
– Что? – крикнул Берганц и, остановив Эванса, указал ему длинный стол около кухонной двери. – Куда же еще? – сказал он. – Там все и сядем.
Давенант не решился переспросить, но Берганц, вспомнив его вопрос, сказал:
– Надо же отдохнуть, чудак. Мы хотим ужинать. Тебе очень не терпится? О! – вскрикнул он, уставившись на подошедшего к группе приезжих огромного человека с багровым лицом. Его голова была вставлена в воротник из жира и полотна. – Я как будто чувствовал. Сам Тромп.
Кровавые глаза Тромпа блестели от удовольствия.
– А я выехал вас встретить, – сказал он, пожимая руки. – Вам, Эванс, по носу и Лэйку тоже: торги не состоятся.
– Что за чушь?!
– Идемте, все узнаете. Теперь… Как зовут этого зимородка? Он с вами? Кто такой?
– Так… попросился, – неохотно сообщил Лэйк, торопясь обсуждать торги. – Что-то трагическое. Ну, скорей сядем. Да, за тот стол.
– Если хочешь. – сказал Берганц Давенанту, который все беспокойнее смотрел на неприятного огромного Тромпа, – то поди закажи себе пива и сядь, где хочешь, нам надо поговорить.
Четверо дельцов загромыхали вокруг стола, и, как мухи начали летать перед их обветренными лицами руки слуг, тащивших бутылки и тарелки, а Давенант с стесненным сердцем подошел к стойке. Он хотел выпить пива, чтобы успокоиться. Сам заплатив за пиво, Давенант прислушивался к разговору торговцев, но стоял такой шум, что он не разбирал ничего.
Тромп что-то говорил, возбужденно перебрасывая с места на место вилку; скосив на него глаза, Лэйк жевал бутерброд; Эванс, потупясь, хмурился; Берганц, оглядываясь, гладил усы. Пока Давенант оканчивал свою кружку, за столом, как видно, было решено что-то успокоительное и потешное, так как Тромп поцеловал кончики своих пальцев и приятели расхохотались.
Лэйк обернулся, отыскал взглядом Давенанта и что-то сказал Эвансу. Тот задумался, но, пожав плечами, сделал Давенанту знак подойти.
– Слушай, – сказал он ему, замершему в тревожном предчувствии, – мы не поедем в Лисе. У нас тут дело.
– Так! Так! – повторял Давенант, не находя слов.
– Он дойдет пешком! – вскричал Тромп. – Здоровый, молодой парень… Я хаживал в его годы не такие концы. Если припустишься… – эй, ты! Слышишь, что говорю?! – то и не заметишь, как долетишь!
– Конечно, – машинально сказал Давенант.
– Да, уж извини, – пробормотал Берганц. – Хотели бы выручить тебя, но такое дело. Сам понимаешь.
– Я понимаю.
– Ну вот, ну и ступай с богом, – сказал Лэйк, начиная сердиться. – Осталось тебе пятьдесят миль. Как-нибудь доберешься.
– Да, я пойду, – Давенант вздохнул всей силой легких, чтобы рассеять тяжесть этой мрачной неожиданности. – Благодарю вас.
– Не за что, – сказал Эванс. – Идешь? Иди. Ну, так вот, – обратился он к Тромпу, – значит, так. Что же взять с собой? Вина, что ли?
Давенант оставил гостиницу и расспросил прохожих, как выйти на шоссе в Лисе. Ему указали направление, следуя которому он двинулся в путь, держа сверток под мышкой и обвязав поднятый воротник пиджака носовым платком в защиту от резкого ночного ветра.
Давенант не обиделся на мукомолов, бросивших его, он был доволен уже тем, что осталось идти всего пятьдесят миль – жестокое по времени и все же доступное расстояние.
Характер пережитого Давенантом за последние сутки был таков, что от воскресного вечера у Футроза, казалось, прошло много времени. Теперь он совершал переход из одной жизни в другую, от надежд – к неизвестности, от встречи – к прощанию. Галеран будет его искать, но никогда не найдет. Может быть, печально задумается Футроз. Элли и Роэна со слезами начнут вспоминать о нем, когда выяснится, почему он скрылся, ничего не объясняя, не жалуясь, и все поймут, что он не виноват в грязных затеях отца. Тот, конечно, явится к ним, будет просить денег. Тогда все откроется.
Разгоряченный этими мыслями – все об одном и том же с разных сторон, – Давенант не чувствовал холодного ветра. Шагая среди равнин и холмов, мимо спящих зданий, слушая лай собак и звук своих шагов, ставших неотъемлемой частью этой ночи, Давенант достиг состояния, в котором душевная деятельность уже не подчинена воле. Чувства и мысли его возникали самостоятельно, ни удержать, ни погасить их он не мог. Его представления достигли яркости цветного рисунка на черной бумаге. Он входил в гостиную Футроза, точно видя все узоры и тени, все предметы и расположение мебели так отчетливо, что мог бы записать цифрами, без ошибки, расстояние между ними, мог мысленно коснуться лака и бархата. Эта гостиная вызывала в нем тоску силой тех взволнованных чувств, которыми он сам наполнил ее. Неизвестно, какой связью зрительного с бессознательным горячая красно-желтая комната стала отражением его неискушенных желаний. Он вспомнил, как шесть рук искали в траве ключ, и, остановясь, не смог молча перенести живого воспоминания.
Давенант сказал:
– Прощайте, руки и ключи. Прощай и ты – я сам, который там был, – ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго, всегда.
Помня, что ему приходилось слышать о пешей ходьбе, Давенант шел не присаживаясь, чтобы избежать утомления, неизбежно наступающего после краткого отдыха, потому что нарушается инерция мускульных сокращений, согласованная с дыханием и сердечным ритмом. Он шел упруго и ровно, подгоняемый цифрой расстояния. К рассвету Давенант прошел двадцать четыре мили, одержимый бредом невозможности поступить иначе. Его сознанием стало пространство; ни думать, ни чувствовать он более ничего не мог. Иногда в деревнях его окликали с порога женщины, желая узнать, не гонится ли кто-нибудь за этим мальчиком с воспаленным лицом, оглядывающимся как бы намеренно странно. Люди, проезжающие в повозках, нахмурясь, подстегивали лошадей, если Давенант просил подвезти его, плохо владея голосом, осипшим от ветра и пыли. Он спросил фермера, копающего канаву, много ли осталось до Лисса, и узнал, что осталось еще двадцать пять миль. Далеко впереди виднелась ясная синяя гора, возвышающаяся под облаками, – самое высокое место горизонта, – и фермер сказал: «Видишь ту гору? Когда вот эта гора окажется позади тебя, тогда считай еще десять миль, там будет и Лисе».
Эти слова приковали все внимание Давенанта к горе, которая виднелась обнадеживающе близко, – по свойству всех гор, если воздух прозрачен. Об угрожающей отдаленности ее говорил лишь лес на ее склонах, напоминающий сизый плюш, но Давенант сообразил это лишь после часа ходьбы, когда плюш стал чуть рыхлее на взгляд. По направлению пути гора была слева, и она сделалась для Давенанта главной мыслью этого дня.
Все время он видел ее перед собой то в ярком блеске неба, то в тени облака, соскальзывающего по склонам, подобно пару дыхания на гладком стекле.
Солнце пригрело Давенанта. После сопротивления ночному холоду его ослабевшее от бессонницы и ходьбы сердце гнало из него испарину, как воду из губки, но он, задыхаясь, шел, смотря на медленно меняющиеся очертания горы. Тяжело уступала эта гора его изнемогающему неровному шагу. Уже начал он замечать в мнимом однообразии ее поверхности выпуклости и провалы, долины, сникающие в леса, каменные уступы и обрывы; гора явилась ему теперь не запредельно-картинным миром, как облачный горизонт, а громадой из многих форм, доступных сравнению.
Вскоре Давенант должен был проходить вдоль ее левого склона, где внизу прятались среди рощ отдельно стоящие белые дома. Шоссе стало поворачивать, огибая лежащий вправо большой холм, так как между горой и дорогой открылась долина с блестящей тонкой чертой реки; от реки вился пар, и зеленое дно долины предстало страннику, как летящей птице. У скалы лепился грубый небольшой дом с крышей из плоских камней. Перед входом умывалась женщина, и Давенант захотел пить. Женщина, вытирая лицо, смотрела на него, пока он просил воды, и ушла, наказав подождать.
Давенант сел на ступеньку у двери. Когда перед его лицом появилась кружка с водой, он припал к ней с такой жадностью, что облился.
– Еще? – сказала женщина, задумавшись над его больным видом.
Давенант кивнул.
Осушив вторую кружку, он развернул свой хлеб, пропитанный пылью, и с сомнением посмотрел на него.
– Надо есть, – сказал он.
– Куда вы идете? – спросила женщина, снова появляясь с бутылкой водки.
– В Лисе. Далеко ли еще? – спросил Давенант, кладя в рот немного хлеба и тотчас вынимая его обратно, так как не мог жевать.
– Далеко, тринадцать миль. Выпейте водки.
– Водки? Не знаю. Который час?
– Скоро двенадцать. Выпейте водки и лягте под навесом. Если вы проспите час, то скорей дойдете. Я разбужу вас.
– Видите ли, добрая женщина, – сказал Давенант, пытаясь подняться, – если я усну, то не проснусь долго. Я шел из Зеарна всю ночь, но я опять должен идти.
– Так выпейте водки. Разве вы не сознаете, что с вами? Вы сгорели!
– Сгорел?
– Ну да, это бывает у лошадей и людей. Легкие загорелись.
– Я понимаю. Но не только легкие. Что же, дайте водки, я заплачу вам.
– Он с ума сошел! Мне платить?! Сам-то нищий! Давенант отпил из горлышка несколько глотков и, передохнув, стал пить еще, пока не застучало в висках. Отдав бутылку, он приподнялся, мертвея от боли в крестце, засмеялся и сел.
– Ну, марш под навес! – сказала женщина. У нее было рябое быстроглазое лицо и приветливая улыбка.
– Ничего, – ответил Тиррей, валяясь по земле в тщетных усилиях подняться.
– Мне только встать. Я должен идти.
Он ухватился за дверь и выпрямился, трясясь от разломившего все тело изнеможения, но, встав, стиснул зубы и медленно пошел.
Женщина охала, сокрушенно качая головой и крича:
– Иди же, несчастный, пусть будет тебе лучше там, чем здесь! Что я могу? Сердце разрывается, смотря на него!
Насильно заставляя себя идти, Давенант шаг за шагом чувствовал восстановление способности двигаться. Не прошло десяти минут, как он вышел из мучительного состояния, но его шаг стал неровен.
Наступили самые знойные часы дня, в запыленном и потном течении которых Давенант много раз оборачивался взглянуть на гору; она отставала от него едва заметно, принимая прежний вид синего далекого мира, – формы тучи на горизонте.
Уже не было подъемов и огибающих высоту закруглений; шоссе вело под уклон, и к закату солнца Давенант увидел далекую равнину на берегу моря, застроенную зданиями. Это был Лисе, блестевший и дымивший, как слой раскаленных углей.
Думая, что идет скорее, возбужденный близостью цели, Давенант на самом деле двигался из последних сил, не в полном сознании происходящего, и так тихо, что последние две мили шел три часа.
Город скрывался за холмами несколько раз и, когда уже начало темнеть, открылся со склона окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт. Стал слышен гул толпы, звон баковых колоколов на пароходах, отбивающих половину восьмого, задумчивые гудки. Давенант принудил себя идти так быстро, как позволяла боль в ногах и плечах. Автомобили обгоняли его, как птицы, несущиеся по одной линии, но он уже видел неподалеку дома и скоро проник в тесные улицы окраин, пахнущие сыростью и горелым маслом.
Много раз прохожие указывали ему дорогу к театру, но он все сбивался, попадая то на темную площадь товарных складов, то на лестницы переулков, уводящих от центра города. Хлеб в истрепанной газете мешал ему представлять себя среди роскошной залы театра. Давенант положил хлеб на тумбу. Наконец два последних поворота вывели его на громадную улицу, где жаркий вечер сверкал тысячами огней, а движение экипажей представляло армию черных лиц с огненными глазами, ринувшихся в бой против толпы. Вскинутые головы лошадей и задки автомобилей мелькали на одном уровне с веселыми женскими лицами; витрины пылали, было светло, страшно и упоительно. Но этот гремящий мир помог Давенанту в его последней борьбе с подступающим беспамятством.
– Где театр? – спросил он молодого человека, который пытливо взглянул на него, сказав:
– Вы стоите против театра.
Давенант всмотрелся; действительно, на другой стороне улицы был четырехэтажный дом с пожаром внутри, вырывающимся из окон блеском электрических люстр. Внизу оклеенные афишами белые арки и колонны галерей были полны народа; люди входили и выходили из стеклянных дверей. Тогда Давенант спросил у надменной старухи:
– Разве уже восемь часов?
– Без пяти восемь, – сказала она, выведенная из презрительного колебания – ответить или нет – лишь тем, что Давенант не сходил с места, глядя на нее в упор.
Старая дама тронула свою сумку и, убедясь, что ничего не похищено, рванулась плечом вперед, а Давенант бросился к входу в театр. Он увидел кассу, но касса была закрыта. Темное окно возвещало большими буквами аншлага, что билеты распроданы.
Давенант стал на середине вестибюля, мешая публике проходить, оглядываясь и ища глазами тех, ради кого принял эти мучения. Огромная дверь в зал театра была полураскрыта, там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса, изображающего голубую лагуну с парусами и птицами. Тихо играла музыка. Большое зеркало отразило понурую фигуру с бледным лицом и черным от пыли ртом. Это был Давенант, но он не узнал себя.
– Могу ли я войти? – спросил Давенант старого капельдинера, стоявшего у дверей. – Я прибыл издалека. Прошу вас, пропустите меня.
– Как так?! – ответил капельдинер. – Что вы бормочете? Где ваш билет?
– Касса закрыта, но я все равно отдам деньги.
– Однако вы шутник, – сказал служащий, рассмотрев посетителя и отстраняя его, чтобы дать пройти группе зрителей. – Уходи, или тебя выведут.
– Что такое? – подошел второй капельдинер.
– Пьян или поврежден в уме, – сказал первый, – хочет идти в зал без билета.
– Ради бога! – сказал Давенант. – Меня ждут. Я должен войти.
– Вильтон, выведите его.
– Пойдем! – приказал Вильтон, беря Тиррея за локоть.
– Я не могу уйти.
– Ничего, мы поможем. Ну-ка ползи!
Вильтон вывел Тиррея за дверь, слегка подтолкнув в спину, и сказал швейцару:
– Снук, не пропускать.
Давенант вышел на тротуар, сошел с него, оглянулся, нахмурился и стал всматриваться в круговое движение экипажей перед театром. В отчаянии был он почти уверен, что Футроз и дети его уже заняли свои места. Вдруг на скрещении вечерних лучей за темной гривой мелькнули оживленные лица Роэны и Элли. Футроз сидел спиной к Давенанту.
– Здравствуйте! Здравствуйте! – закричал Тиррей, бросаясь с разрывающимся сердцем сквозь толпу, между колес и людей, к миновавшему его экипажу, затем не устоял и упал.
Как только его глаза закрылись, пред ним встали телеграфные провода с сидящими на них птицами и потянулись холмы.
– Кто-то вскрикнул! – сказала Элли, оглядываясь на крик. – Тампико, смейся, если хочешь, но мне почудился голос Давенанта. Это он зовет нас, в Покете. Право, не совестно ли, что мы не взяли его?
Футроз не нашел, что ответить. Все трое оставили экипаж и скрылись в свете подъезда. Роэна посмеялась над мнительностью сестры, и Элли тоже признала, что «сбрендила, надо полагать». Затем наступило удовольствие осматривать чужие туалеты и сравнивать их со своими нежными платьями.
Давенант оставался в замкнутом мире бреда, из которого вышел не скоро. Он был в доме Футроза, и его беспрерывно звали то старшая, то младшая сестра: починить водопроводный кран, повесить картину, прочитать вслух книгу, закрыть окно или подать кресло. Он делал все это охотно, увлеченно, лежа на койке больницы Красного Креста с воспалением мозга.
Часть II
Глава I
Дорога из Тахенбака в Гертон, опускаясь с гор в двенадцати километрах от Гертона, заворачивает у моря крутой петлей и выходит на равнину. Открытие серебряной руды неподалеку от Тахенбака превратило эту скверную дорогу в очень недурное шоссе.
Над сгибом петли дороги, примыкая к тылу береговой скалы, стояла гостиница – одноэтажное здание из дикого камня с односкатной аспидной крышей и четырехугольным двориком, где не могло поместиться сразу более трех экипажей. Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего две минуты времени.
Эта гостиница называлась «Суша и море», о чем возвещала деревянная вывеска с надписью желтой краской по голубому полю, хотя все звали ее «гостиницей Стомадора» – по имени прежнего владельца, исчезнувшего девять лет назад, не сказав, куда и зачем, и обеспечившего новому хозяину, Джемсу Гравелоту, владение брошенным хозяйством законно составленной бумагой. В то время Гравелоту было всего семнадцать лет, а гостиница представляла собою дом из бревен с двумя помещениями. Через два года Гравелот совершенно перестроил ее.
История передачи гостиницы Стомадором не составляла секрета; именно о том и разговорился Гравелот с возвращающимся в Гертон живописцем вывесок Баркетом. Баркет и его дочь Марта остановили утром свою лошадь у гостиницы, зайдя поесть.
У хозяина были слуги – одна служанка и один работник. Служанка Петрония ведала стряпню, провизию, уборку и стирку. Все остальное делал работник Фирс. Гравелот слыл потешным холостяком; подозревали, что он носит не настоящее свое имя, и размышляли о его манере обращения и разговора, не отвечающих сущности трактирного промысла. Окрестные жители еще помнили общее удивление, когда стало известно, что гостиницей завладел почти мальчик, работавший вначале один и все делавший сам. У него был шкаф с книгами и виолончель, на которой он выучился играть сам. Он не любезничал со служанкой и никого не посвящал в смысл своих городских поездок. Кроме того, Гравелот исключительно великолепно стрелял и каждый день упражнялся в стрельбе за гостиницей, где между зданием и скалой была клинообразная пустота. Иногда, если шел дождь, эта стрельба происходила в комнате. Такой хозяин гостиницы вызывал любопытство, временами выгодное для его кошелька. Гравелот нравился женщинам и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок задумчивого покровительства, с каким он относился к их почти всегда детскому бытию. Поэтому он нравился, но не имел такого успеха, который выражается прямой атакой кокетства.
Разговор о Стомадоре начался с вопроса Баркета: съездит ли Гравелот в Гертон посмотреть дела и развлечения свадебного сезона.
Гости и Гравелот сидели за одним столом. Гравелот велел подать свой завтрак на общий стол.
– Там будут различные состязания. Между прочим, конкурс стрельбы, а вы, как говорят, дивный стрелок, – сказал Баркет, знавший Гравелота, так как несколько раз останавливался у него, возвращаясь из Тахенбака.
– Едва ли поеду. Я стреляю хорошо, – без ложной скромности согласился Гравелот. – Однако в Гертоне идет теперь другого рода стрельба – по дичи, не согласной иметь даже царапину на своей нежной коже. Девять лет назад попал я в эти места – тоже к разгару свадебного сезона.
– Говорят, что вы купили у Тома Стомадора гостиницу. Действительно так?
– О нет! Все произошло очень странно. Я шел из Лисса и остановился здесь ночевать. Утром Стомадор сделал предложение отдать гостиницу мне, – он решил ее бросить и переселиться в Гелъ-Гью. Гостиница не давала ему дохода: место глухое, дорога почти пустынная, хотя он и сказал, что «тут дело не в этом».
– Странный человек! – заметил Баркет. – Он взял с вас деньги?
– Денег у меня не хватило бы купить даже Стомадорова поросенка. Он ничего не взял и ничего не просил. «Ты человек молодой, – сказал мне Стомадор, – бродишь без дела, и раз ты мне подвернулся, то бери, если хочешь, эту лачугу и промышляй». Я согласился. Мне было все равно. В шкафу и кладовой остались кое-какие запасы, к тому же – готовое помещение, две свиньи, семь кур. Я мог жить здесь и работать у фермеров. На доходы я не надеялся.
– Как же он ушел? – спросила Марта.
– С мешком за плечами. Лошадь и повозку он уже продал. Ну, мы составили у нотариуса в Тахенбаке бумагу о передаче гостиницы мне. Стомадор даже сам оплатил расходы и, прощаясь сказал: «Ничего у меня не вышло с „Сушей и морем“. Может быть, выйдет у тебя».
– По-моему, этот Стомадор какой-то ненормальный тип! – заметила круглолицая розовая Марта, поклонница вещей ясных и точных.
– Едва ли, – ответил Гравелот. – У него была, может быть, особая мысль. Он был одинок. Как знать, о чем думает человек? Встретил он меня дико, это так; я спросил поесть. Стомадор стоял у окна, заложив руки за спину. «Очень мне надо заботиться о тебе», – сказал он. «Но ведь вы хозяин?» – «Да, а что же из этого?» – «То, что я должен был обратиться к вам, вот я обратился и спросил поесть. Я заплачу». – «Но почему я должен тебя кормить? – закричал Стомадор. – Какая связь между тем, что я хозяин, и тем, что ты голоден?» Я так удивился, что замолчал. Стомадор успокоился и заявил: «Ищи, где хочешь, что найдешь, то и ешь». Я решил прямо толковать его слова и вытащил из шкафа за стойкой три бутылки вина, масло, окорок, холодный рис с перцем, пирог с репой, все снес на стол и молча принялся за еду, а Стомадор ехидно смотрел. Наконец он рассмеялся и сказал: «Экий ты дурак! Кто ты такой?» Вдруг он стал очень заботлив ко мне, ничего не расспрашивая о том, как я жил раньше. Забавный, грузный человек тронул меня до слез. Он постлал мне постель, заставил вымыться горячей водой, а утром показал убогое хозяйство свое – почти что пустые стены – и передал гостиницу довольно торжественно. Мы даже выпили по этому случаю. Сказав: «Будь счастлив!» – он ушел, и я больше о нем ничего не знаю …
– Конечно, простая случайность, – подтвердил Баркет.
– Случайность… Случайность! – отозвался Граве-лот после короткого раздумья о словах живописца вывесок. – Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решения, случайно находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека – будь то инстинкт или сознательное начало, – как начинают происходить важные изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии.
Марта и Баркет плохо поняли Гравелота, думая:
«Да, странный человек этот молодой трактирщик, должно быть, он образованный человек, скрывающий свое прошлое».
– Рассуждение основательное, – сказал Баркет, – но дайте, как говорится, пример из практики.
– Вот вам примеры: человек видит проходящую женщину, о такой он мечтал всю жизнь, он знакомится с ней, женится или погибает. Голодный находит кошелек в момент, когда предчувствует, что его ждет выигрыш, заходит в клуб и выигрывает много денег. В село приезжает моряк. Оживают мечты о путешествиях у какого-нибудь мечтателя. Ему дан толчок, и он уходит бродить по свету. Или человек, когда-то думавший покончить с собой, видит горизонтальный сук, изогнутый с выражением таинственного призыва… Возможно, что несчастный повесится, так как откроются его внутренние глаза, обращенные к красноречиво-притягательной силе страшного дерева. Однако все это минует следующих людей: богатого – с находкой кошелька, черствого – с женщиной, домоседа – с моряком и торопящегося к поезду – с горизонтальной ветвью, удобной для петли. Если бы я девять лет назад имел важную, интересную цель, – предложение Стомадора никак не могло быть моей случайностью, я отказался бы. Его предложение попало на мою безвыходность.
– В самом деле! – захохотал Баркет. – Как это вы того… здорово обрисовали.
– Постой, постой! – воскликнула Марта. – Пусть он скажет, как считать, если человек выиграл в лотерею? Не ожидал выиграть, а получил много, поправил дела, разбогател. Это как?
– А так, Марта: покупающий билет всегда хочет и надеется выиграть. Это – сознательное усилие, не случайность.
– Так какой же ваш вывод? – осведомился Баркет. – То есть – итог?
– Вот какой: все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, – не случайность. Оно – в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием.
– Вот, – сказала Марта, – я оступилась, сломала ногу, это – как?
– Не знаю, – уклонился Гравелот от ответа, чтобы избежать сложного объяснения, непонятного девушке. – Впрочем, тут – другой порядок явлений.
– Как сбился, так уж и другой порядок. Все рассмеялись. Затем разговор перешел на обсуждение свадебного сезона. Марте в будущем году тоже предстояло сделаться женой – пароходного машиниста, – а потому она с удовольствием слушала речи отца и Гравелота.
– Нынешний сезон проходит очень оживленно, – говорил Баркет, – и я мог бы перечислить десятки семейств, где венчаются. На днях венчается Ван-Конет, сын губернатора Гертона, Пейвы и Сан-Фуэго; говорят, он сам, этот Ван-Конет, года через два получит назначение в Мейклу и Саардан.
– Желаю, чтобы юная губернаторша наделала хлопот только в кондитерских, – сказал Гравелот. – Кто же она?
– Она могла бы наделать хлопот даже у амстердамских бриллиантщиков, – заявил Баркет с гордостью человека, имеющего счастье быть соотечественником знаменитой невесты. – Консуэло Хуарец уже восемнадцать лет, но действительно, как говорят, она еще ребенок. Сам брак ее указывает на это. Ведь Ван-Конет ведет грязную, развратную жизнь. Она не красавица, бедняжка, но более милого существа не сыщете вы от Покета до Зурбагана.
– Почтенный Баркет, не испортите же вы мне день, сказав, что Консуэло крива, горбата и говорит в нос? Я любитель красивых пар.
– Я ее видела, – заявила Марта, – она действительно некрасива и много смеется.
– Вот так всегда с женщинами: не любят они друг друга, – заметил Баркет и принялся объяснять. – Разговор не о безобразии. Я хочу сказать, что девушка с двумястами тысяч фунтов приданого, если она не ослепительно красива, всегда даст повод к злословию. Наверное, скажут, что у жениха больше ума, чем любви. Консуэло Хуарец очень привлекательна, отрадна, и все такое, но, понятно, не совершенство безупречной, аттической красоты. Однажды я видел, как она шла с собакой по улице. Прелестная девушка, настоящий апельсиновый цветок!
Улыбнувшись такому смешению восторга и педантизма, Гравелот выразил надежду, что сын губернатора оценит достоинства своей жены после того, как она будет гулять с ним и собакой вместе.
– Остроумный вывод, – сказал Баркет. – Только навряд ли Георг Ван-Конет оценит то утешение, а может быть, даже искупление, которое посылает ему судьба. Большего негодяя не сыщете вы от Клондайка до Огненной Земли.
– Если так, – что заставляет девушку бросаться в его объятия?
– Она любит его. Что вы хотите? Это всему решение. Собеседники не подозревали, что им придется через несколько минут увидеть жениха Консуэло Хуарец. В это утро Ван-Конет со своей компанией возвращался из поездки на рудники. Близость бракосочетания заставила Ван-Конета, во избежание роковых слухов, устроить очередную оргию в доме знакомого рудничного инспектора. За окном пропела сирена, и у дверей остановился темно-зеленый автомобиль. Баркет посмотрел в окно. Его лицо вытянулось.
– Накликали! – вскричал Баркет. – Приехал Ван-Конет, отвались моя голова! Это он!
– Ты шутишь! – сказала Марта, волнуясь от неожиданности и почтения.
Гравелот не побежал навстречу приехавшим, Он спокойно сидел. Отец с дочерью удивленно смотрели на него.
– Еще нет девяти часов. Он едет из Тахенбака. Что это значит? – пробормотал Баркет.
– Кутил всю ночь, я думаю, – шепнула Марта, рассматривая выходящих из экипажа людей. – Там – Ван-Конет, его любовница Лаура Мульдвей и двое неизвестных. Уже знойно, а они все в цилиндрах. О! Подвыпивши.
– Ты права, разумная дочь, – сказал Баркет. Гравелот поднялся встретить гостей. Он подошел к раскрытой двери, наблюдая гуливого жениха. Это был высокий брюнет с безупречно правильными чертами лица, тридцати пяти лет. Его прекрасное лицо выглядело надменно-скорбным, как будто он давно примирился с необходимостью жить среди недостойных его существ. Держась с затрудненной твердостью, Ван-Конет всходил по деревянной лестнице «Суши и моря», неся на сгибе локтя тонкие холодные пальчики Лауры Мульдвей, своей приятельницы из веселого мира холостых женщин. Высокая белокурая Лаура Мульдвей, с детским лицом и чистосердечными синими глазами, гибкостью тонкой фигуры напоминала колеблющуюся от ветерка ленту. Зеленый жакет, серая шляпа с белым пером и серые туфельки Лауры стеснили Марте дыхание. Сзади шли Сногден и Вейс. Сногден, приятель Ван-Конета, сутуловатый и нервный, с темными баками на смуглом умном лице, пошатывался рядом с Вейсом, хозяином недавно прибывшей в Гертон яхты, веснушчатым сонным человеком, белые ресницы которого прикрывали нетвердый и бестолковый взгляд.
– Эй, любезный! – сказал Ван-Конет Гравелоту, которого можно теперь называть его настоящим именем – Давенант. – Поездка утомительна, жара ужасна, и жажда велика. Сногден, я должен восстановить твердость руки, я послезавтра подписываю брачный контракт. Я не хочу, как уверяет Сногден, посадить кляксу.
Говоря так, он вместе с другими уселся за стол, напротив того стола, где сидели Баркет с дочерью. Сногден подошел к буфету, сам выбрал вино, и Петрония, служанка Давенанта, притащила четыре бутылки. Есть никто не хотел, а потому были поданы только чищеные орехи и сушеные фрукты.
– Да, я посажу кляксу, – повторил Ван-Конет, проливая вино. – Но я застрелю эту муху, Лаура, если она не перестанет мучить ваше мраморное чело.
Действительно, одна из немногочисленных мух усердно надоедала женщине, садясь на лицо. Лаура с трудом прогнала ее.
– После такой ночи, – сказал Сногден, – я взялся бы подписать разве лишь патент на звание мандарина.
Несколько обеспокоенный, Давенант внимательно следил за Ван-Конетом, который, заботливо согнав со щеки Лауры возвратившуюся досаждать муху и приметив, куда на простенок она села, начал целиться в нее из револьвера. Марта закрыла уши. Ван-Конет выстрелил.
Зрители, умолкши, взглянули на место прицела и увидели, что дыра в штукатурке появилась не очень близко к мухе. Та даже не улетела.
– Мимо! – заявил Сногден, в то время как охотник прятал свой револьвер в карман. – Бросьте, Георг. Очень громко. Вы слышали, – обратился Сногден к Вейсу, – историю двойного самоубийства? Это произошло вчера ночью. Двое попали друг другу в лоб.
– В двух шагах?
– В пяти дюймах. Мне сказал за игрой Бекль. В гостинице «Генуя» застрелились влюбленные. Хозяин горюет, так как возник слух, что из-за этих смертей все браки нынешнего года будут несчастны. Ясно, что гостиница опустела.
– Тьфу! – плюнул Ван-Конет. – Не каркайте. Пусть предсказывают, кто и как хочет. Я женюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища.
, – Осмелюсь спросить, – почтительно обратился Баркет к знатному посетителю. – Как произошло такое несчастье? Филипп Баркет, к вашим услугам, мастерская вывесок, Безлюдная улица. 6, а также транспаранты, бенгальские огни, если позволите… Печальное происшествие!
Ван-Конет хотел пропустить вопрос мимо ушей, но заметил розовое лицо Марты и не сдержал бессмысленного позыва – коснуться, хотя бы словами, свежести девушки, задевшей его фантазию.
– Как? Милейший, я не знаток. Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч.
Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван-Конета и без нужды переместила тарелку.
– Странное объяснение! – заметил Давенант, тихо смеясь.
Все с удивлением посмотрели на хозяина гостиницы, осмелившегося перебить Ван-Конета.
Ван-Конет, выпрямившись, думал о том же. Наконец, двинув бровью, он снизошел до ответа:
– Чем оно странно? Я нахожу, между прочим, что эта гостиница… странная. А можете вы попасть в муху? Мне кажется, меткости ваших замечаний должно отвечать еще какое-нибудь точное качество.
Не поняв скрытой пьяной угрозы и желая смягчить неловкость, Баркет набрался духом, заявив:
– Гравелот – первоклассный стрелок, не имеющий, я думаю, равных себе.
– А! В самом деле? Я обижен, – сказал Ван-Конет, начиная скучать.
– Но я тоже стрелок! – заявил Вейс. Захотев от скуки стравить всех, Лаура обратилась к Давенанту:
– Ах, покажите ваше искусство! Ведь это все хвастуны.
– Как, и я?! – воскликнул Ван-Конет.
– Ну, вы, пожалуй, еще не очень плохой стрелок.
– Мы все – стрелки, – сказал Сногден. Опять села муха на подбородок Лауры, и она махнула рукой перед лицом, сгоняя докучное насекомое.
– Хозяин! Застрелите муху с того места, где стоите! – приказал Ван-Конет.
– В случае удачи – плачу гинею. Вот она где сидит! На том столе.
Действительно, муха сидела на соседнем пустом столе, у стены, ясно озаряемая лучом.
– Хорошо, – покорно сказал Давенант. – Следите тогда.
– Наверняка промажете! – крикнул Сногден. От буфета до стола с мухой было не менее пятнадцати шагов.
– Ставлю еще гинею!
Давенант задумчиво взглянул на него, вытащил свой револьвер с длинным стволом из кассового ящика и мгновенно прицелился. Пуля стругнула на поверхности стола высоко взлетевшую щепку, и муха исчезла.
– Улетела? – осведомился Вейс.
– Ну нет, – вступилась Мульдвей. – Я смотрела внимательно. Моя муха растворилась в эфире.
– Гинея ваша, – отозвался Ван-Конет. Став угрюм, он бросил деньги на стол. Сногден призвал служанку и отдал ей гинею для Давенанта.
Все были несколько смущены.
Давенант взял монету, которую принесла служанка, и внятно сказал:
– Эти деньги, а также и те, что лежат на столе, вы, Петрония, можете взять себе.
– Случайное попадание! – закричал Ван-Конет, разозленный выходкой Гравелота. – Попробуйте-ка еще, а? На приданое Петронии, а?
– Отчего бы и не так, – сказал Давенант. – Шесть пуль осталось, и, так как муху мы уже наказали, я вобью пулю в пулю. Хотите?
– А черт! – крикнул Сногден. – Вы говорите серьезно?
– Серьезно.
– Получайте шесть гиней, – заявил Ван-Конет.
– Игра неравная, – вмешался Вейс. – Он должен тоже что-нибудь платить со своей стороны.
– Двенадцать гиней, хотите? – предложил Давенант.
– Ну вот. И все это – Петронии, – сказал Ван-Конет, оглядываясь на пылающую от счастья и смущения женщину.
Противоположная буфету стена была на расстоянии двадцати шагов. Давенант выстрелил и продолжал колотить пулями в стену, пока револьвер не опустел. В штукатурке новых дырок не появилось, лишь один раз осыпался край глубоко продолбленного отверстия.
– А! – сказал с досадой Ван-Конет после удрученного молчания и крика «Браво!» Лауры, аплодировавшей стрелку. – Я, конечно, не знал, что имею дело с профессионалом. Так. И все это – ради Петронии. Плачу тоже двенадцать гиней. Я не нищий. Для Петронии. Получите деньги.
На знак хозяина трепещущая служанка взяла деньги, сказав:
– Благодарю вас. Прямо чудо.
Она засуетилась, потом стала у двери, блаженно ежась, вся потная, с полным кулаком денег, засунутым в карман передника.
Марта тихо смеялась. Ван-Конету показалось, что она смеется над ним, и он захотел ее оскорбить.
– Что, пышнощекая дева… – начал Ван-Конет; услышав торопливые слова Баркета: «Моя дочь, если позволите», – он продолжал: – Достойное и невинное дитя, вы еще не вошли в игру с колокольным звоном и апельсиновым цветом? Гертон полон дураков, которые надеются остаться ими «до гробовой доски». А вы как? А?
– Марта выйдет замуж в будущем году, – почтительно проговорил Баркет, желая выручить смутившуюся девушку. – Гуг Бурк вернется из плавания, и тогда мы нарядим Марту в белое платье… Хе-хе!
– Отец! – воскликнула, краснея от смущения, Марта, но тут же прибавила: – Я рада, что это произойдет в будущем году. Может быть, смерть тех двух, застрелившихся, окажется для нас нынче несчастной приметой.
– Ну, конечно. Мы будем справлять поминки, – ответил Ван-Конет. – Сногден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга? Как же вы не знаете? Надо узнать. Забавно. Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете, муж будет вас бить…
– Георг, – прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника, – пора ехать. К трем часам вы должны быть у вашей невесты.
– Да. Проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть золотом, как песком!
– Э… Э… – смущенно произнес Вейс. – насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас.
– Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплевывание в дверную щель.
Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Сногден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала.
– Как это зло! – крикнула она, топнув ногой. – О, это очень нехорошо!
Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающим ссору Лауры, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван-Конет совершенно забылся.
– Ваше счастье, что вы не мужчина! – крикнул он плачущей девушке. – Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад.
Выйдя из-за стойки, Давенант подошел к Ван-Конету.
– Цель достигнута, – сказал он тоном решительного доклада. – Вы смертельно оскорбили девушку и меня.
Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетелей этой сцены и самого Ван-Конета, как слова Давенанта. Баркет дернул его за рукав.
– Пропадете! – шепнул он. – Молчите, молчите! Сногден опомнился первым.
– Вас оскорбили?. – закричал он, бросаясь к Тиррею. – Вы… как, бишь, вас?.. Так вы тоже жених?
– Все для Петронии, – пробормотал, тешась, Вейс.
– Я не знаю, почему молчал Баркет, – ответил Давенант, не обращая внимания на ярость Сногде-на и говоря с Ван-Конетом, – но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне.
– А! Вот проповедник романтических взглядов! Напоминает казуара перед молитвенником!
– Оставьте, Сногден, – холодно приказал Ван-Конет, вставая и подходя к Давенанту. – Любезнейший цирковой Немврод! Если, сию же минуту, вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины.
– Вы подлец! – громко сказал Давенант. Ван-Конет ударил его, но Давенант успел закрыться, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними.
В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды.
– Вот что, – сказала Вейсу Мульдвей, – я сяду в автомобиль. Проводите меня.
Они вышли.
Сногден подошел к Ван-Конету. У покинутого стола находились трое: Давенант, Сногден и Ван-Конет. Баркет, наспех собрав поклажу, отвел Марту на двор и кинулся запрягать лошадь.
Давенант слышал разговор, отлично понимая его оскорбительный смысл.
– С трактирщиком? – сказал Ван-Конет.
– Да. – ответил тот. – Таково положение.
– Слишком большая честь. Но не в том дело. Вы знаете, в чем.
– Как хотите. В таком случае моя роль впереди.
– Благодарю, вы – друг. Эй, скотина, – обратился Ван-Конет к Давенанту, – мы смотрим на тебя, как на бешеное животное. Дуэли не будет.
– Если вы откажетесь от дуэли, – неторопливо объяснил Давенант, – я позабочусь, чтобы ваша невеста знала, на какой щеке у вас будут лучше расти волосы.
Эти взаимные оскорбления не могли уже вызвать нового нападения ни с той, ни с другой стороны.
– Вы знаете, кому говорите такие замечательные вещи? – спросил Сногден.
– Георгу Ван-Конету я говорю их.
– Да. А также мне. Я – Рауль Сногден.
– Двое всегда слышат лучше, чем один.
– Что делать? – сказал Ван-Конет. – Вы видите, – этот человек одержим. Вот что: вас известят, так и быть, вам окажут честь драться с вами.
– Место найдется, – ответил Давенант. – Я жду немедленного решения.
– Это невозможно, – заявил Сногден. – Будьте довольны тем, что вам обещано.
– Хорошо. Я буду ждать и, если ваш гнев остынет, приму меры, чтобы он начал пылать. Наступило молчание.
– Негодяй!.. Идем, – обратился Ван-Конет к Сногдену, медленно сходя по ступеням, в то время как Сногден вынимал деньги, чтобы расплатиться. Швырнув два золотых на покинутый стол, он побежал к автомобилю. Усевшись, компания исчезла в пыли знойного утра.
Задумавшись, Давенант стоял у окна, опустив голову и проверяя свой поступок, но не видел в нем ничего лишнего. Он был вынужденным, этот поступок.
Расстроенная Марта вскоре после того передала хозяину свою благодарность через отца, который уже собрался уехать. Он был потрясен, беспокоился и упрашивал Давенанта найти способ загладить страшное дело.
Давенант молча выслушал его и, проводив гостей, обратился к работе дня.
Глава II
Большую часть пути Ван-Конет молчал, ненавидя своих спутников за то, что они были свидетелями его позора, но рассудок заставил его уступить требованиям положения.
– Я хочу избежать огласки, – сказал Ван-Конет Лауре Мульдвей. – Обещайте никому ничего не говорить.
Лаура знала, что Ван-Конет вознаградит ее за молчание. Если же не вознаградит, – ее карты были сильны и она могла сделать безопасный ход на крупную сумму. Эта неожиданная удача так оживила Мульдвей, что она стала мысленно благословлять судьбу.
– На меня положись, Георг, – сердечно-иронически шепнула ему Лаура. – Я только боюсь, что тот человек вас убьет. Не разумнее ли кончить все дело миром? Если он извинится?
– Поздно и невозможно, – Ван-Конет задумался. – Да, поздно. Сногден заявил от моего имени согласие драться.
– Как же быть?
– Не знаю. Я извещу вас.
– Ради бога, Георг!
– Хорошо. Но риск неизбежен.
Ван-Конет приказал шоферу остановиться у пригородной таверны и, кивнув Сногдену, чтобы тот шел за ним, расстался с Вейсом, которого тоже попросил молчать о тяжелом случае.
– Дорогой Георг, – ответил Вейс, – мне, каюсь, странно ваше волнение из-за таких пустяков, которое следовало там же, на месте, исправить сногсшибательной дракой. Но я буду молчать, потому что вы так хотите.
– Дело значительно сложнее, чем вам кажется, – возразил Ван-Конет. – Характер и взгляды моей невесты решают, к сожалению, все. Я должен жениться на ней.
Вейс уехал с Лаурой, а Ван-Конет и Сногден вошли в таверну и заняли отдельную комнату.
Сногден, не имея состояния, обладал таинственной способностью хорошо одеваться, жить в дорогой квартире и поддерживать приятельские отношения с холостой знатью. Ходил слух, что он – шулер и шантажист, но, никогда не подкрепляемый фактами или даже косвенными доказательствами, слух этот был ему скорее на пользу, чем во вред, по свойству человеческого сознания восхищаться порядочностью, если ее атакуют, и неуловимостью, если она талантлива.
Догадываясь, что хочет от него Ван-Конет, которому вскоре надо было ехать к Консуэло Хуарец, Сногден предупредительно положил на стол часы, а затем распорядился подать ликеры и кофе.
– Сногден, я пропал! – воскликнул Ван-Конет, когда слуга удалился. – Пощечина приклеена крепко, и не сегодня, так завтра об этом узнают в городе. Тогда Консуэло Хуарец, со свойственной ее нации театральной отвагой, будет ждать моей смерти от пули этого Гравелота, потом нарыдается досыта и уйдет в монастырь или отравится.
– Вы хорошо ее знаете?
– Я ее достаточно хорошо знаю. Это смесь патоки и гремучего студня.
– Несомненно, дядя Гравелот – идеальный стрелок, – заговорил Сногден, после продолжительного размышления и вполне обдумав детали своего плана. – Даже тяжело раненный, если вы успеете выстрелить раньше, Гравелот отлично поразит вас в лоб или нос, куда ему вздумается.
– Не хватает еще, чтобы вы так же игриво нарисовали картину моих похорон.
– Примите это как размышление вслух, Ван-Конет, – я не хочу вас ни дразнить, ни мучить, а потому скорее разберем наши возможности. Примирение отпадает.
– Почему? – быстро спросил Ван-Конет, втайне надеявшийся замять дело хотя бы ценой нового унижения. Потому что он вам дал пощечину, а также потому, что мы не можем быть уверены в скромности Гравелота: идя мириться, рискуем наскочить на отказ. Ведь вы первый его ударили.
Ван-Конет сжал виски, мрачно смотря в рюмку. Вздохнув, он улыбнулся и выпил.
– Ничего не понимаю. Сногден, помогите! Выручите меня! После кошмарной ночи с этой Мульдвей у меня в голове сплошной вопль. Я теряюсь.
– Георг, – громко сказал Сногден, тряся за плечо приятеля, который, уронив лицо в ладони, сидел полумертвый от страха и ненависти, – я вас спасу.
– Ради чертей, Рауль! Что вы можете сделать?
– Прежде чем сказать что, я требую слепого доверия.
– Я на все согласен.
– Слепое доверие есть главное условие. Второе: я должен действовать немедленно. Для моих действий мне нужны наличные деньги.
Ван-Конет не был скуп, в чем Сногден убеждался довольно часто. Но, когда Сногден назвал сумму – три тысячи, – Ван-Конет нахмурился и несколько охладел к спасительному авторитету приятеля.
– Так много? Для чего вам столько денег?
– Мною записаны имена свидетелей. Баркет, его дочь, служанка и сам Гравелот, – объяснил Сногден так серьезно, что Ван-Конет покоробился. – Со всеми этими людьми я добьюсь их молчания. Гравелот будет стоить дороже других, но с остальными я берусь устроить дешевле. Вейс уезжает сегодня. Лаура будет молчать, надеясь на благодарность впоследствии. Люди не сложны. Иначе я давно бы уже чистил прохожим сапоги или писал романы для воскресного приложения.
– Вы правы. Действуйте, – сказал Ван-Конет, вытаскивая книжку чеков. Написав сумму, он подписал чек и передал его Сногдену.
– Теперь, – сказал Сногден, спрятав чек, – я буду говорить откровенно.
– Самое лучшее.
– Прекрасно. Мы – люди без предрассудков. Я устрою ваше дело, но только в том случае, если вы выдадите мне теперь же вексель на два месяца, на сумму в десять тысяч фунтов.
Ван-Конет не был так глуп, чтобы счесть эти напряженные, жестко сказанные слова шуткой. Внешне оставшись спокоен, Ван-Конет молчал и вдруг, страшно побледнев, хватил кулаком о стол с такой силой, что чашки слетели с блюдцев.
– Что за несчастный день! – крикнул Ван-Конет. – Неужели все пошло к черту? И вы – вы, Сногден, грабите меня?! Как это понять? Я знаю, что вы не брезгуете подачками, я знаю о вас больше, чем кто-нибудь. Но я не знал, что вы так злобно воспользуетесь моим несчастьем.
Сногден взял трость и бросил чек на стол.
– Вот чек, – сказал он, испытывая громадное удовольствие игры, со всей видимостью риска, но при успокоительном сознании безопасности. – Я корыстен, вернее, я – человек дела. Ваш чек не вдохновляет меня. Прощайте. Я не считаю эту ссору окончательной, и завтра, если будет еще не поздно, вы сможете возобновить наши переговоры, когда десять тысяч покажутся вам не так значительны, чтобы из-за них стоило лишиться остального.
– Сногден, вы меня оглушили, – сказал Ван-Конет, видя, что его друг направляется к двери, и проклиная свою вспыльчивость. – Не уходите, а выслушайте. Я согласен.
– Боже мой! – заговорил Сногден, так же решительно возвращаясь к своему стулу, как покинул его, и опускаясь с видом изнеможения. – Боже мой! За те пять лет, что я вас знаю, Георг, – начиная вашим проигрышем Кольберу, когда понадобилось перетряхнуть мошну всех ростовщиков и я, как собака, носился из Гертона в Сан-Фуэго, из Сан-Фуэго в Покет и опять в Гертон, – с тех дней до сегодняшнего утра я был уверен, что в вас есть признательность заговорщика, обязанного своему собрату по обстоятельствам той жизни, которую вы вели главным образом благодаря мне. Я уже не говорю о случае с несовершеннолетней Матильдой из дамского оркестра, когда вам угрожал суд. Я не говорю о моих хлопотах перед вашим отцом, о деньгах для мнимого отступного Смиту, якобы грозившему протестовать поддельный вексель, которого не было. Не говорю я и о спекуляциях, принесших, опять-таки благодаря мне, вашей милости двенадцать тысяч за контрабанду. Не говорю я также о множестве случаев моей помощи вам, попадавшему в грязные истории с женщинами и газетчиками. Я не говорю о Лауре, которую буквально выцарапал для вас из алькова Вагрена. Но я говорю о чести… Нет, дайте мне сказать все. Да, Ван-Конет, у людей нашего закала есть честь, и честь эта носит имя: «взаимность». Лишь чувство чести заставляет меня напоминать вам о ней. Теперь, когда я мог бы воспитать своего мальчика порядочным человеком, не знающим тех чадных огней греха, в каких сжег свою жизнь его приемный отец, вы ударом кулака по столу заявляете, что я грабитель и негодяй. Я был бы смешон и жалок, если бы я был бескорыстен, так как это означало бы мою беспомощность спасти вас. Для такого дела нужен человек, подобный мне, не стесняющийся в средствах. Кроме того, я ваш друг, и согласитесь, что корыстный друг лучше бескорыстного врага. Однако вам пора отрезвиться и ехать. Пишите вексель.
Говоря о мальчике, Сногден не сочинял. Восемь лет назад, выиграв крупную сумму, он из прихоти купил у какой-то уличной нищенки грудного младенца и нанял ему кормилицу. Впоследствии он привязался к мальчику и очень заботился о нем.
– Так вот цена мухи! Вексель я дам, – сказал Ван-Конет, которому, в сущности, не оставалось ничего иного, как подчиниться уверенности и опыту Сногдена. – Есть ли у вас бланк?
– У меня есть про запас решительно все. Сногден передал Ван-Конету бланк и, когда слуга принес чернила, стал искоса наблюдать, что пишет Ван-Конет.
По окончании этого дела Сногден сложил вексель и откровенно вздохнул.
– Так будет лучше, Георг, – сказал он рассудительным тоном взрослого, успокаивающего ребенка, – уж вы поверьте мне. Крупная сумма воспламеняет способности и усиливает изобретательность.
– Но, черт побери, посвятите же меня в ваши затеи!
– К чему? Я, должен вам сказать, не люблю критики. Она расхолаживает. Что же касается моих действий, они так неоригинальны, что вы впадете в сомнения, тогда как я отлично знаю себя и абсолютно убежден в успехе.
– О, как я буду рад, Сногден. Могу ли я спокойно ехать к Консуэло?
– Да. Можете и должны.
– Но, Сногден, допустим невероятное для вашего самолюбия – что вы спасуете.
– Я отдам вексель вам, и вы при мне разорвете его, – твердо заявил Сногден. – Отправляйтесь и ждите у Хуарец. Я извещу вас.
Ван-Конет несколько успокоился. Они расплатились, вышли и направились в противоположные стороны. Сногден так и не сказал, что хочет предпринять, а Ван-Конет поехал брать ванну и собираться к своей невесте.
Глава III
Молоденькая невеста Ван-Конета, Консуэло Хуарец, была единственное дитя Педро Хуареца, разбогатевшего продажей земельных участков. Владелец табачных плантаций и сигаретных фабрик, депутат административного совета, человек, вышедший из низов, Хуарец стал очень богат лишь к старости. Его жена была дочерью скотопромышленника. Десятилетнюю Консуэло родители отправили в Испанию, к родственникам матери. Там она окончила пансион и вернулась семнадцатилетней девушкой. Таким образом, легкомысленные нравы гертонцев не влияли на Консуэло. Она приехала незадолго до годового праздника моряков, который устраивался в Гертоне 9 июня в память корабля «Минерва», явившегося на Гертонский рейд 9 июня 1803 года. Танцуя, Консуэло познакомилась с Ван-Конетом и вскоре стала его любить, несмотря на репутацию этого человека, которой, как ни странно, она верила, спокойно доказывая себе и не желавшему этого брака расстроенному отцу, что ее муж станет другим, так как любит ее. На взгляд Консуэло, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита. Немного она ошибалась в этом, и разве лишь потому, что такая любовь действует только на сильных и отважных людей.
Как следствие прямого и доверчивого характера Консуэло, важно рассказать, что она первая призналась Ван-Конету в своей любви к нему и так трогательно, как это способно выразить только неопытное существо. Всякий избранник Консуэло на месте Ван-Конета, чувствуя себя наполовину прощенным, крепко задумался бы, прежде чем взять важное обязательство охранять жизнь и судьбу девушки, дарящей сердце так легко, как протягивают цветок. Ван-Конет притворился влюбленным ради богатого приданого, несколько недоумевая, при всех успехах своих среди женщин, как это жертва сама выбежала под его выстрел, когда он только еще изучал след. Его отец жаждал приданого больше, чем сын. Август Ван-Конет так погряз в долгах и растратах, что его служебное, а также материальное банкротство было лишь вопросом времени.
Два месяца сын губернатора прощался с холостой жизнью, более или менее успешно скрывая свои похождения. Приближался день брака, а сегодня Ван-Конет должен был приехать к невесте для разговора, который девушка считала весьма важным. Она хотела искренне, сердечно сказать ему о своей любви, чтобы затем взять с него обещание быть ей верным и настоящим другом. Это было естественное волнение девушки, смутно чувствующей всю важность своего шага и стремящейся к немедленному порыву всех лучших чувств как в себе, так и в избраннике, чтобы забежать сердцем в тайну близости многих лет, которые еще впереди.
Семья Хуарец обыкновенно не уезжала из пригородного имения, но за неделю до бракосочетания Консуэло с матерью переехали в городской дом, стоявший на возвышении за узкой Карантинной улицей, неподалеку от сквера и церкви св. Маврикия. Одноэтажный дом Хуареца представлял группу из трех белых кубов различной высоты, с плоскими крышами и каменной площадкой лицевого фасада, на которую поднимались по ступеням. Площадка эта была обнесена чугунной решеткой. Отсюда виднелась часть крыш Карантинной и других улиц, прилегающих к ней, до отдаленных семиэтажных громад новейшей постройки. Восточная часть дома имела две террасы, расположенные рядом, одна выше другой. Внутренний двор, с балконами, фонтаном и пальмами среди клумб, был любимым местопребыванием Консуэло. Там она читала и размышляла, и туда горчичная мулатка провела Ван-Конета, приехавшего с опозданием на четверть часа, так как, расставшись со Сногденом, он занялся приведением в равновесие своих нервов, ради чего долго сидел в ванне и выпил мятный коктейль.
Баркет удачно определил Гравелоту впечатление, производимое Консуэло, а потому следует лишь взглянуть на нее так близко, как часто имел эту возможность Ван-Конет. При всем богатстве своем девушка любила простоту, чем сильно раздражала жениха, желавшего, чтобы финансовое могущество семьи, лестное для него, отражалось каждой складкой платьев его невесты. Для этого свидания Консуэло выбрала белую блузку с отложным воротником и яркую, как пион, юбку; на ее маленьких ногах были черные туфли и белые чулки. Тонкая золотая цепочка, украшенная крупной жемчужиной, обнимала смуглую шею девушки двойным рядом, в черных волосах стоял черепаховый гребень. Ни колец, ни серег Консуэло не носила. Кисти ее рук по сравнению с маленькими ногами казались рукой мальчика, но как в пожатии, так и на взгляд производили впечатление доброты и женственности. В общем, это была хорошенькая девушка с приветливым лицом, ясными черными глазами, иногда очень серьезными, и с очаровательными ресницами – легкая фигурой, небольшого роста, хотя подвижность, стройность и девически тонкие от плеча руки делали Консуэло выше, чем в действительности она была, достигая лишь подбородка Ван-Конета. Ее голос, звуча одновременно с дыханием, имел легкий грудной тембр и был так приятен, что даже незначительные слова звучали в произношении Консуэло скрытым чувством, направленным, может быть, к другим, более важным предметам сознания, но свойственным ее тону, как дыхание – ее речи.
С такой девушкой был помолвлен Ван-Конет. Встреченный матерью Консуэло, худощавой женщиной, отчасти напоминающей дочь, в темном шелковом платье, отделанном стеклярусом, Ван-Конет уделил несколько минут будущей теще, притворяясь, что ничего не интересует его, кроме невесты. Хотя у Винсенты Хуарец были живые, проницательные глаза, некогда снившиеся многим мужчинам, но, поддакивая мужу и вздыхая вместе с ним, тайно она была на стороне Ван-Конета. Олицетворение элегантного порока, склонившегося перед сильным и свежим чувством, умиляло ее романтическую натуру. Кроме того, дочери скотовода грехи знатных лиц казались не следствием дурных склонностей, а лишь подобием причудливого, рискованного спорта, который нетрудно подменить идиллией.
Поговорив с ней, Ван-Конет ушел к невесте. Заметив его, Консуэло расцвела, зарделась. Ее взгляды выражали нежность и нетерпение говорить о чем-то безотлагательном.
Со скукой, угнетенный страхом дуэли, Ван-Конет, лицемеря осторожно и кротко, начал играть роль любящего – одну из труднейших ролей, если сердце играющего не тронуто хотя бы симпатией. Если оно смеется, а любовь девушки безоглядная, успех игры обеспечен – нет стеснения ни в словах, ни в позах: будь спокоен, подозрительно ровен, даже мрачен и вял – сердце женское найдет объяснение всему, все оправдает и примет вину на себя.
Ван-Конет поцеловал руку Консуэло, но она обняла его, поцеловала в висок, отстранилась, взяла за руку и подвела к стулу.
– Идите сюда, сядьте… Садитесь, – повторила девушка, видя, что Ван-Конет задумался на мгновение. – Оставьте все ваши дела. Вы теперь со мной, а я с вами.
Они сели и повернулись друг к другу. Консуэло взяла веер. Обмахнувшись, девушка вздохнула. Глаза ее, смеясь и тревожась, были устремлены на молчаливого жениха.
– Я в страшной тоске, – сказала Консуэло. – Вы знаете, что произошло? Сегодня весь Гертон говорит о самоубийстве двух человек. Он ужасно любил ее, а она его. Как горестно, не правда ли? Им не давали жениться, а они не снесли этого. Только посмертная записка рассказывает причину несчастья. Там так и написано:
«Лучше смерть, чем разлука». Так написала она. А он приписал: «Мы не расстанемся. Если не можем вместе жить, то пусть вместе умрем». Теперь все говорят, что это – дурное предзнаменование и что те, кто обвенчается в нынешнем году, несчастливо кончат, да и жизнь их будет противной. Как вы думаете, не отложить ли нам брак до будущей весны? Мне что-то страшно, я так боюсь всего такого, и из головы не выходит. Вы уже слышали?
– Я слышал эту историю, – сказал Ван-Конет, беря из рук Консуэло веер и рассматривая живопись на слоновой кости. – Замечательная вещь. Но я так люблю вас, милая Консуэло, что суеверия не тревожат меня.
– О, вы меня любите! – тихо вскричала девушка, схватывая веер, причем Ван-Конет удержал его, так что их руки сблизились. – Но это правда?
Консуэло рассмеялась, затем стала серьезной, и опять неудержимый счастливый смех, подобно утренней игре листьев среди лучей, осветил ее всю.
– Это правда? А если это неправда? Но я пошутила! – крикнула она, заметив, что левая бровь Ван-Конета медленно и патетически поднялась. – Ведь это так чудесно, что вот мы, двое, я и вы, так сильно, сильно, навсегда любим. Лучше не может быть ничего, по-моему. А как думаете вы?
– Я так же думаю. Мне кажется, что вы высказываете мои мысли.
– В самом деле? Я очень рада, – медленно произнесла Консуэло, отвертываясь и опуская голову с желанием вызвать торжественное настроение, но улыбка бродила на ее полураскрытых губах. – Нет! Мне весело, – сказала она, выпрямляясь и вздохнув всей грудью. – Я могу сидеть так долго и смотреть на вас. Всего не скажешь! Целое море слов, как волн в море. Так как же нам быть? Пожалуйста, успокойте меня.
Ван-Конет хотел оживиться, непринужденно болтать, но не мог. Ожидание известий от Сногдена черной рукой лежало на его стесненной душе. Консуэло заметила состояние Ван-Конета, и он заговорил в тот момент, когда она уже решила спросить, что с ним случилось.
– Какой смысл беспокоиться? – сказал Ван-Конет. – Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов. Погибших, разумеется, жаль, но такие истории происходят каждый день, если не в Гертоне, то в Мадриде, если не в Мадриде, то в Вене. Вот и все, я думаю.
– Вы так уверенно говорите… Ах, если бы так! Но если человек обратит это на себя… если он не расстается с печальными мыслями…
Консуэло запуталась и сама прервала себя:
– Сейчас я придумаю, как выразить. Вас как будто грызет забота. Разве я ошибаюсь?
– Я полон вами, – сказал, проникновенно улыбаясь, Ван-Конет.
– Ах да… Я поняла, как сказать свою мысль. Если человек полон счастья и боится за него, не может ли чужая трагедия оставить в душе след, и след этот повлияет на будущее?
– Клянусь, я с удовольствием воскресил бы гертонских Ромео и Джульетту, чтобы вас не одолевали предчувствия.
– Да. А воскресить нельзя! Странно, что моя мать вам ничего не сказала.
– Ваша матушка не хотела, должно быть, меня тревожить.
– Моя матушка… Ваша матушка… Ах-ах-ах! – укоризненно воскликнула Консуэло, передразнивая сдержанный тон жениха. – Ну, хорошо. Вы помните, что у нас должен быть серьезный разговор?
– Да.
– Георг, – серьезно начала Консуэло, – я хочу говорить о будущем. Послезавтра состоится наша свадьба. Нам предстоит долгая совместная жизнь. Прежде всего мы должны быть друзьями и всегда доверять друг Другу. а также чтобы не было между нами глупой ревности.
Она умолкла. Одно дело – произносить наедине с собой пылкие и обширные речи, другое – говорить о своих желаниях внимательному, замкнутому Ван-Коне-ту. Поняв, что красноречие ее иссякло, девушка покраснела и закрыла руками лицо.
– Ну вот, я запуталась, – сказала она, но, подумав и открыв лицо, ласково продолжала: – Мы никогда не будем расставаться, все вместе, всегда: гулять, читать вслух, путешествовать, и горевать, и смеяться… О чем горевать? Это неизвестно, однако может случиться, хотя я не хочу, не хочу горевать!
– Прекрасно! – сказал Ван-Конет. – Слушая вас, не хочешь больше слушать никого и ничто.
– Не очень красивый образ жизни, который вы вели, – говорила девушка, – заставил меня долго размышлять над тем – почему так было. Я знаю: вы были одиноки. Теперь вы не одиноки.
– Клевета! Черная клевета! – вскричал Ван-Конет. – Карты и бутылка вина… О, какой грех! Но мне завидуют, у меня много врагов.
– Георг, я люблю вас таким, какой вы есть. Пусть это две игры в карты и две бутылки вина. Дело в ваших друзьях. Но вы уже, наверно, распростились со всеми ними. Если хотите, мы будем играть с вами в карты. Я могу также составить компанию на половину бутылки вина, а остальное ваше.
Она рассмеялась и серьезно закончила:
– Друг мой, не сердитесь на меня, но я хочу, чтобы вы сжали мне локоть.
– Локоть? – удивился Ван-Конет.
– Да, вы так крепко, горячо сжали мне локоть один раз, когда помогали перепрыгнуть ручей.
Консуэло согнула руку, протянув локоть, а Ван-Конет вынужден был сжать его. Он сжал крепко, и Консуэло зажмурилась от удовольствия.
– Вот хороша такая крепкая любовь, – объяснила она. – Знаете ли вы, как я начала вас любить?
– Нет.
Прошло уже три часа, как Ван-Конет предоставил Сногдену улаживать мрачное дело. Его беспокойство росло. С трудом сидел он, угнетенно выслушивая речи девушки.
– Вы стояли под балконом и смотрели на меня вверх, бросая в рот конфетки. В вашем лице тогда мелькнуло что-то трогательное. Это я запомнила, никак не могла забыть, стала думать и узнала, что люблю вас с той самой минуты. А вы?
Вопрос прозвучал врасплох, но Ван-Конет удачно вышел из затруднения, заявив, что он всегда любил ее, потому что всегда мечтал именно о такой девушке, как его невеста.
Дальше пошло хуже. Настроение Ван-Конета совершенно упало. Он усиливался наладить разговор, овладеть чувствами, вниманием Консуэло и не мог. Ни слов, ни мыслей у него не было. Ван-Конет ждал вестей от Сногдена, проклиная плеск фонтана и слушая, не раздадутся ли торопливые шаги, извещающие о вызове к телефону.
После нескольких робких попыток оживить мрачного возлюбленного Консуэло умолкла. Делая из деликатности вид, что задумалась сама, она смотрела в сторону; губки ее надулись и горько вздрагивали. Если бы теперь она еще раз спросила Ван-Конета: «Что с ним?» – то окончательно расстроилась бы от собственных слов. Несколько рассеяло тоску появление Винсенты, объявившей, что приехал отец. Действительно, не успел Ван-Конет пробормотать нескладную фразу, как увидел Педро Хуареца, тучного человека с угрюмым лицом. Взглянув на дочь, он понял ее состояние и спросил:
– Вы поссорились?
Консуэло насильственно улыбнулась.
– Нет, ничего такого не произошло.
– Я ругался с моей женой довольно часто, – сообщил старик, усаживаясь и вытирая лицо платком. – Ничего хорошего в этом нет.
Эти умышленно сказанные, резко прозвучавшие слова еще более расстроили Консуэло. Опустив голову, она исподлобья взглянула на жениха. Ван-Конет молчал и тускло улыбался, бессильный сосредоточиться. Бледный, мысленно ругая девушку грязными словами и проклиная невесело настроенного Хуареца, который тоже был в замешательстве и медлил заговорить, Ван-Конет обратился к матери Консуэло:
– Очень душно. Вероятно, будет гроза.
– О! Я не хочу, – сказала та, присматриваясь к дочери, – я боюсь грозы.
Снова все умолкли, думая о Ван-Конете и не понимая, что с ним произошло.
– Вам нехорошо? – спросила Консуэло, быстро обмахиваясь веером и готовая уже расплакаться от обиды.
– О, я прекрасно чувствую себя, – ответил Ван-Конет, взглянув так неприветливо, что лицо Консуэло изменилось. – Напротив, здесь очень прохладно.
Выдав таким образом, что не помнит, о чем говорил минуту назад, Ван-Конет не мог больше переносить смущения матери, расстройства Консуэло и пытливого взгляда старика Хуареца. Ван-Конет хотел встать и раскланяться, как появилась служанка, сообщившая о вызове гостя к телефону Сногденом. Не только оповещенный, но и все были рады разрешению напряженного состояния. Что касается Ван-Конета, то кровь кинулась ему в голову, сердце забилось, глаза живо блеснули, и, торопливо извиняясь, взбежал он вслед за служанкой по внутренней лестнице дома к телефону проходной комнаты.
– Сногден! – крикнул Ван-Конет, как только поднес трубку к тубам. – Давайте, что есть, сразу – да или нет?
– Да, – ответил торжествующе-снисходительный голос, – категорическое да, хотя пришлось иметь дело с вашим отцом.
Ван-Конет сжался: среди радости упоминание об отце намекнуло о чем-то и обещало неприятную сцену. Однако «да» все перевешивало в этот момент.
– Черти целуют вас! – закричал он. – Но, как бы там ни было, дыхание вернулось ко мне. Ждите меня через час.
– Хорошо. Признаете ли вы, что я знаю цену своих обещаний?
– Отлично. Не хвастайтесь.
Ван-Конет засмеялся и, глубоко, спокойно дыша, вернулся к фонтану.
Семья молча сидела, дожидаясь его возвращения. Консуэло печально взглянула на жениха, но, заметив, что он весь ожил, смеется и еще издали что-то говорит ей, сама рассмеялась, порозовела. Догадавшись о перемене к лучшему, Винсента Хуарец посмотрела на Ван-Конета с благодарностью; даже отец Консуэло обрадовался концу этого унизительного как для него, так и для его дочери и жены омертвения жениха.
– Что-нибудь очень приятное? – воскликнула Консуэло, прощая Ван-Конета и гордясь его прекрасным любезным лицом. – Вы задали мне загадку! Я так беспокоилась!
– Признаюсь, – сказал Ван-Конет, – да, меня беспокоило одно дело, но все уладилось. Мою кандидатуру на должность председателя компании сельскохозяйственных предприятий в Покете поддерживают два влиятельных лица. Вот этого я и ждал, от этого приуныл.
– О, надо было сказать мне! Ведь я ваша жена! Я – самое влиятельное лицо!
– Конечно, но… – Ван-Конет поцеловал руку девушки и сел, довольно оглядываясь. – По всей вероятности, мы с Консуэло будем жить в Покете, – сказал он Хуарецу, – как уже и говорилось об этом.
– Мне дорого мое дитя, – неожиданно трогательно и твердо сказал Хуарец, – она у меня одна. Я хочу на вас надеяться, да, я надеюсь на вас.
– Все будет хорошо! – воскликнул Ван-Конет, заглядывая во влажные глаза девушки с сиянием радости, полученной от разговора с Сногденом, и придумывая тему для разговора, которая могла бы заинтересовать всех не более как на десять минут, чтобы поспешить затем на свидание и узнать от Сногдена подробности благополучной развязки.
Глава IV
Дела и заботы Сногдена обнаружатся на линии этого рассказа по мере его развития, а потому внимание должно быть направлено к Давенанту и коснуться его жизни глубже, чем он сам рассказал Баркету.
Подобранный санитарной каретой перед театром в Лиссе, Давенант был отвезен в госпиталь Красного Креста, где пролежал с воспалением мозга три недели. Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек. Как игра, как ясная и ласковая забота жизни о невинной отраде человека, представлялась ему та судьба, какую он бессознательно призывал.
По миновании опасности Давенант несколько дней еще оставался в больнице, был слаб, двигался мало, большую часть дня лежал, ожидая, не разыщет ли его Галеран или Футроз. Его тоска начиналась с рассветом и оканчивалась дремотой при наступлении ночи; сны его были воспоминаниями о незабываемом вечере со стрельбой в цель. Серебряный олень лежал под его подушкой. Иногда Тиррей брал эту вещицу, рассматривал ее и прятал опять. Наконец он уразумел, что его пребывание в чужом городе лишено телепатических свойств, могущих указать местонахождение беглеца кому бы то ни было. Теперь был он всецело предоставлен себе. Он вспоминал своего отца с такой ненавистью, что мысли его о нем были полны стона и скрежета. Выйдя из больницы, Давенант отправился пешком на юг, чтобы уйти от Покета как можно далее. Дорогой он работал на фермах и, скопив немного денег, шел дальше, выветривая тоску. А затем Стомадор отдал ему «Сушу и море».
В тот день Давенанту никак не удавалось побыть одному до самого вечера, так как была суббота – день разъездов с рудников в город. Торговцы ехали закупать товары, служащие – повеселиться со знакомыми, рабочие, получившие расчет, – хватить дозу городских удовольствий. Многие из них требовали вина, не оставляя седла или не выходя из повозок, отчего Петрония часто выбегала из дверей с бутылкой и штопором, а Давенант сам служил посетителям.
За хлопотами и расчетами всякого рода его гнев улегся, но тяжкое оскорбление, нанесенное Ван-Конетом, осветило ему себя таким опасным огнем, при каком уже немыслимы ни примирение, ни забвение. Угадывая свадебные затруднения высокопоставленного лица, а также имея в виду свое искусство попадать в цель, Давенант отлично сознавал, насколько Ван-Конету рискованно принимать поединок; однако другого выхода не было, разве лишь Ван-Конет стерпит пощечину под тем предлогом, что удар трактирщика, так как и уличное нападение, не могут его унизить. На такой случай Давенант решил ждать двадцать четыре часа и, если Ван-Конет откажется, напечатать о происшествии в местной газете. Такую услугу мог ему оказать Найт, брат редактора газеты «Гертонские утренние часы», человек, часто охотившийся с Гравелотом в горах и искренне уважавший его. Однако Давенант так еще мало знал людей, что подобные диверсионные соображения казались ему фантазией, на самом же деле он не хотел сомневаться в храбрости Ван-Конета. Единственное, что Давенант допускал серьезно, – это вынужденное признание противником своей вины перед началом поединка; тогда он простил бы его. Если же гордость Ван-Конета окажется сильнее справедливости и рассудка, то на такой случай Давенант намеревался ранить противника неопасно, ради его молоденькой невесты, не виноватой ни в чем. Эту девушку Давенант не хотел наказывать.
Самые тщательные размышления, если они имеют предметом еще не наступившее происшествие, обусловленное какими-нибудь случайностями его разрешения, есть размышления, по существу, отвлеченные, и они скоро делаются однообразны; поэтому, все передумав, что мог, Давенант стал с часу на час ожидать прибытия секундантов Ван-Конета, но много раз убирались и накрывались столы для посетителей, которым Давенант ничего не говорил о событиях утра, запретив также болтать Петронии, а день проходил спокойно, как будто никогда за большим столом против окна не сидели Лаура Мульдвей, отгонявшая муху, и Георг Ван-Конет, смеявшийся со злым блеском глаз. Радостным и чудесным был этот день только для служанки Петронии, неожиданно осчастливленной восемнадцатью золотыми. Но не так поразили ее деньги, скотская грубость Ван-Конета и драка с ее хозяином, как поведение Гравелота, который ударил богатого человека, отказался от выигрыша и, пустяков ради, грудью встал против своей же доходной статьи из-за надутых губ всхлипывающей толстощекой девчонки, которой, по мнению Петронии, была оказана великая честь: «такой красавец, кавалер важных дам, изволил с ней пошутить».
Петрония служила недавно. Работник Давенанта, пожилой Фирс, терпеливо сближался с ней, и она начала привыкать к мысли, что будет его женой. Восемнадцать гиней делали ее независимой от накоплений Фирса. Улучив минуту, когда тот привез бочку воды, Петрония вышла к нему на двор и сказала:
– Знаете, Фирс, когда вас не было, приезжал сын губернатора с какой-то красавицей … Хотя она очень худая … Он, а также его двое друзей, все богачи, дали мне двадцать пять фунтов.
– Это было во сне, – сказал Фирс, подходя к ней и беря ее твердую блестящую руку с засученным до локтя рукавом.
Петрония освободила руку и вытащила из кармана юбки горсть золотых.
– Врете. Это хозяин посылает вас за покупками, – сказал Фирс. – А вы сочиняете по примеру Гравелота. Вы заразились от него сочинениями, – Признайтесь! Он мне сказал на днях: «Фирс, как вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет! Я только обернулся, а затем отвернулся. Не люблю я таких шуток. Выходит, что я – глупее его? Итак, едете в город покупать? – Да, – ответила Петрония, сознавая, что положение изумительно и что у Фирса нет причины верить истине происшествия, а рассказать о стрельбе она боялась: Фирс умел вытягивать из болтунов подробности, и тогда, если узнает о ее нескромности Гравелот, ему, пожалуй, вздумается забрать деньги себе.
– Петрония! – закричал Давенант из залы, видя, что появилось несколько фермеров.
Она не слышала, и он, выйдя ее искать, заглянул в кухонную дверь. Петрония стояла у притолоки, откинув голову, пряча за спиной руки, мечтая и блаженствуя. Весь день она тревожно присматривалась к хозяину, стараясь угадать, – не сошел ли Гравелот с ума. Такой ее взгляд поймал Давенант и теперь, но, думая, что она беспокоится о нем из-за утренней сцены, улыбнулся. Ему понравилось, как она стояла, цветущая, рослая, олицетворение хозяйственности и здоровья, и он подумал, что Петрония будет помнить этот день всю жизнь, как своенравно залетевшую искру чудесной сказки. «Вся ее жизнь, – думал Давенант, – примет оттенок благодарного воспоминания и надежды на будущее».
Она встрепенулась, а хозяин отослал ее и сказал Фирсу:
– Кажется, вам нравится моя служанка, Фирс? Женитесь на ней.
– Мало ли нравится мне служанок, – замкнуто ответил Фирс, распрягая лошадь, на всех не женишься.
– Тогда на той, которая перестанет быть для вас служанкой.
Фирс не понял и подумал: «С чего он взял, что я держу служанок?»
– Ехать ли за капустой? – спросил Фирс.
– Вы поедете за ней завтра.
Давенант возвратился к буфету, замечая с недоумением, что солнце садится, а из города нет никаких вестей от Ван-Конета. По-видимому, его осмеяли и бросили, как бросают обжегшее пальцы горячее, казавшееся безобидным на взгляд железо. Рассеянно наблюдая за посетителями, которых оставалось все меньше, Давенант увидел человека в грязном парусиновом пальто и соломенной шляпе; пытливый, себе на уме взгляд, грубое лицо и толстые золотые кольца выдавали торговца. Так это и оказалось. Человек сошел с повозки, запряженной парой белых лошадей, и прямо направился к Давенанту, которого начал просить разрешить ему оставить на два дня ящики с книгами.
– У меня книжная лавка в Тахенбаке, – сказал он, – я встретил приятеля и узнал, что должен торопиться обратно на аукцион в Гертоне, – выгодное дело, прозевать не хочу. Куда же мне таскать ящики? Позвольте оставить эти книги у вас на два дня, послезавтра я заеду за ними. Два ящика старых книг. Пусть они валяются под навесом.
– Зачем же? – сказал Давенант. – Ночью бывает обильная роса, и ваши книги отсыреют. Я положу их под лестницу.
– Если так, то еще лучше, – обрадовался торговец. – Благодарю вас, вы очень меня выручили. Недаром говорят, значит, что Джемс Гравелот – самый любезный трактирщик по всей этой дороге. Мое имя – Готлиб Вагнер, к вашим услугам.
Затем Вагнер вытащил два плохо сколоченных ящика, в щелях которых виднелись старые переплеты, а Давенант сунул их под лестницу, ведущую из залы в мезонин, где он жил. Вагнер стал предлагать за хранение немного денег, но хозяин наотрез отказался – ящики нисколько не утруждали его. Вагнер осушил у стойки бутылку вина, побежал садиться в повозку и тотчас уехал.
Это произошло за несколько минут до заката солнца. Петрония прибирала помещение, так как с наступлением тьмы гостиница редко посещалась, двери ее запирались. Если же приезжал кто-нибудь ночью, то гостя впускали через ворота и кухню. Сосчитав кассу, Давенант приказал служанке закрыть внутренние оконные ставни и отправился наверх, раздумывая о мрачном дне, проведенном в тщетном ожидании известий от Ван-Конета. Лишь теперь, сидя перед своей кроватью, за столом, на который Петрония поставила медный кофейник, чашку и сахарницу, молодой хозяин гостиницы мог сосредоточиться на своих чувствах, рассеянных суетой дня. Оскорбления наглых утренних гостей не давали ему покоя. Умело, искусно, несмотря на запальчивость, были нанесены эти оскорбления; он еще никогда не получал таких оскорблений и, оживляя подробности гнусной сцены, сознавал, что ее грязный след останется на всю жизнь, если поединок не состоится. Более всего играла здесь роль разница мировоззрений, выраженная не препирательством, а ударом. Действительно, так больно ранить и так загрязнить рану мог только человек с низкой душой. Догадываясь о роли Сногдена, Давенант придавал мало значения его явно служебной агрессии: Сногден действовал по обязанности.
Вдруг, как это часто бывает при взволнованном состоянии, развертывающем представление действия в связи не только с прямыми, но и с косвенными обстоятельствами, у Давенанта возникло сомнение. Богатый человек, сын губернатора, жених дочери миллионера, обладающий могущественными связями и великолепным будущим, – захочет ли такой человек рисковать всем, даже претерпев удар по лицу? Насколько характер его открылся в «Суше и море», следовало признать отсутствие благородных чувств. А в таком положении люди редко изменяют себе, разве лишь выгода толкнет их к неискреннему театральному жесту. Это соображение так встревожило Давенанта, что он немедленно подкрепил его сопоставлением джентльмена с трактирщиком и риском, которым грозила для Ван-Конета огласка курьезно-мрачного дела. Надежды его исчезли, мысли спутались, и, чтобы отвлечься, – так как ничего другого не оставалось, как ждать, что принесет завтрашний день, – Давенант снял со стены маленькую винтовку, подобную той, из которой несколько лет назад стрелял на вечере у Футроза. Пристрастившись к стрельбе в цель, чем-то отвечавшей его жажде торжества усилия и результата, Давенант, уже став несравненным стрелком, не оставлял этого упражнения, но ему помешали.
Он услышал быстрый стук в ворота, шаги и голос Петронии; затем мужской голос назвал его имя: «Граве-лот», но дальше Давенант не расслышал. Кто-то взбежал по лестнице, дверь быстро открылась, и он увидел контрабандиста Петвека, который даже не постучал.
– Скандал! Готовьтесь! – закричал Петвек. – Я к вам прямо из Латра. Сюда мчится таможенный отряд.
– Что такое, Петвек? Садитесь прежде всего. О чем вы кричите?
– У вас были обыски?
– До сих пор не было.
– Так будет сейчас. Я был в Латре. Двенадцать пограничников направились к вам. Я видел этих солдат. Один из них – не то, чтобы проболтался, но он с нами имеет дела. У вас что-нибудь есть, Гравелот?
– Если вы до сих пор не соблазнили меня, ясно, что сам я не стану прятать карты или духи. Однако вы не врете? – сказал Давенант, встревоженный шумным дыханием Петвека, который смотрел на него с испугом и недоумением.
– Вот как я вру, – ответил Петвек, – я сразу помчался к вам, оставив солдат доканчивать свое пиво у старухи Декай. Ведь вы знаете, что в Латре у нас постоянный наблюдательный пункт – пограничники вечно толкутся там. Я мчался по короткой тропе и опередил их, но через четверть часа вы сами будете говорить с ними, тогда узнаете, лжет Петвек или не лжет.
– Вот что, – сказал Давенант, прислушиваясь к одной мысли, начавшей его терзать. – Идем-ка вниз. Под лестницей есть два ящика, и я хочу узнать, чем они набиты.
Он взял молоток, лампу и поспешно сошел вниз, с Петвеком за спиной, все время торопившим его. Вытащив из-под лестницы один ящик, оставленный Вагнером, Давенант сбил верхние доски. Действительно, там лежали старые книги, но они прикрывали десятка два небольших ящиков. Распаковав один из них, хотя и без того уже слышался весьма доказательный запах дорогих сигар, Давенант больше не сомневался.
– По крайней мере закурим, – сказал Петвек, беря сигару и с остервенением отгрызая ее конец. – Так! Хорошие сигары, Гравелот. Но с нами вы не хотели иметь дела.
– Молчите, – сказал Давенант. – Товар мне подкинули. Петвек, тащите тот ящик, а я возьму этот. Мы выбросим их в кусты.
Но в это время застучали копыта лошадей. Прятать роковой груз было уже поздно.
– К черту! – сказал Давенант, крепче задвигая дверной засов и пробуя крюк. – Придется бежать, Петвек. Дело хуже, чем пять месяцев тюрьмы. На этом не остановятся. Я один знаю, в чем дело. Где стоит ваша «Медведица»?
– Гравелот, – ответил Петвек, чувствуя какое-то более серьезное дело, чем два ящика сигар, – я не покину вас в беде.
Услышав это, Давенант кинулся в комнату Фирса и одним толчком разбудил его.
– Бросьте протирать глаза, – сказал Давенант, – дело плохо. Оставляю вам гостиницу. Ведите торговлю, вот вам сто фунтов. Потом отчитаетесь. Я должен временно скрыться. Сейчас будут ломиться в ворота и двери, – не открывайте. Пусть ломают вход или лезут через стену, но задержите, как можно дольше. Некогда рассуждать.
Раздался удар в дверь гостиницы. Одновременно загремели ворота и послышались приказания открыть. Фирс сел, спустил ноги, вскочил и, торопливо кивнув, спрятал деньги под наволочку, затем выхватил их и начал бегать по комнате, ища более надежного места. Давенант покинул его и увлек Петвека наверх. Из комнаты косое окно вело на крышу, по той ее стороне, которая была обращена к скале. Достав и захватив с собой серебряного оленя, а также все деньги из стола и карманов одежды, Давенант с револьвером в руке вылез через окно, указывая Петвеку место, где прыжок на скалу с крыши короче. Они прыгнули одновременно, прямо над головой пограничника, стоявшего с этой стороны дома, чтобы помешать бегству. Солдат, увидев две тени, перемахнувшие вверху, с крыши на скалу, яростно закричал и выстрелил, но беглецы были уже в кустах, а в это время через стену двора перепрыгивали солдаты, начиная разгром. Лодка Давенанта стояла неподалеку от дома; он скатил ее в воду и сел, а Петвек распустил парус. Умеренный ветер погнал лодку прочь от опасной земли.
– Передохнем, – сказал Петвек, сев к рулю и доставая из кармана горсть сигар. Он благоразумно захватил столько сигар, сколько успел набить в карманы, пока Давенант путал и обогащал Фирса.
– Что ж, я везу вас на «Медведицу». Если так, то она этой же ночью пойдет в Покет. Закурите, Гравелот. Видали вы, как быстро изменяется жизнь?
– Знаю, – сказал Давенант, уже немного освоившийся с мыслью, что вновь ступил на тропу темной судьбы. – Мне это известно, увы! Но у меня крепкое сердце, Петвек.
– Хорошо, если крепкое. Объясните, в чем дело? Зачем надо бежать?
Пока они плыли, Давенант рассказал утреннюю историю, и, всесторонне обсудив ее, Петвек должен был признать, что другого выхода, как бегство, нет.
– Раз так тонко задумано с контрабандой, будьте уверены, – сказал Петвек, – что этим Ван-Конеты не ограничатся. Сын боится вас, а его отец, высокородный Август Ван-Конет, сумел бы устроить вам долгое житье за решеткой. Это – сила. Поедете с нами в Покет, а там будет видно, что делать.
– В Покет? – сказал Давенант. – Ну что же! Мне почему-то это приятно. Я там давно не был. Очень давно. Да, это хорошо – Покет, – повторил он, на мгновение чувствуя себя слоняющимся у дома Футроза, а тут воспоминания, одно за другим, прошли в темноте ночи. Галеран, Элли, Роэна, старуха Губерман, Кишлот, бродяга отец… И в ветре возбуждения опасного дня они предстали теперь мирно, лишь оттенок тоски сопровождал их. «Меня, пожалуй, трудно узнать, – думал он. – Странно и хорошо: я буду в Покете. Хорошо, что так выходит само собой, без намерения».
– Богатое было у вас дело, – сказал Петвек. – Кто бы мог думать?.. Вы хотя сказали кому-нибудь?
– Да. Останется Фирс. Ему я могу верить.
– Жулик ваш Фирс, – ответил Петвек. – Не то чтобы он мне не нравился, но, когда он является в Латр, первым делом прохаживается на счет вас. Завистливая скотина.
– Я оставил ему сто фунтов, – сказал Давенант. – Особенно я не сомневаюсь, но все же, когда вы будете там, присмотрите немного. Фирс и Петрония должны управиться, пока я не улажу историю с Ван-Конетом. А я улажу ее. Еще не знаю как, но это дело я доведу до конца.
– Правильно, – согласился Петвек, – я зайду в гостиницу, а с вами спишусь.
Лодка шла близко к береговым скалам. Не прошло часа, как Давенант увидел «Медведицу», стоявшую на якоре без огней. Петвек издал условный свист.
– Что привез? – крикнул человек с низкого борта потрепанного двухмачтового судна.
– Я привез одного твоего знакомого! – крикнул Петвек и, пока Давенант убирал парус, продолжал объяснять: – Со мной Гравелот. Надо будет перемахнуть его в Покет. Вот и все.
Все береговые контрабандисты хорошо знали Давенанта, так как редкий месяц не заходили в «Сушу и море» и неоднократно пытались приспособить гостиницу для своих целей, но, как ни выгодны были их предложения, Давенант всегда отказывался. На таком ремесле его увлекающийся характер скоро положил бы конец свободе и жизни этого человека, сознательно ставшего изгнанником, так как жизнь ловила его с оружием в руках. Он не был любим ею. Хотя Давенант уклонился от предложений широко разветвленной, могущественной организации, контрабандисты уважали его и были даже привязаны к нему, так как он часто позволял им совещаться в своей гостинице. Итак, Давенант встретил новых лиц и, пройдя в маленькую каюту шкипера Тергенса, скоро увидел себя окруженным слушателями. Петвек вкратце рассказал дело, но они желали узнать подробности. Их отношение к Давенанту было того рода благожелательно-снисходительным отношением, какое выказывают люди к стоящему выше их, если тот действует с ними в равных условиях и одинаковом положении. При отсутствии симпатии здесь недалеко до усмешки; в данном же случае контрабандисты признавали бегство Гравелота более удивительным, чем серьезным делом. Не скрывая сочувствия к нему, они всячески ободряли его и шутили; их забавляло, что Гравелот обошелся с Ван-Конетом, как с пьяным извозчиком.
– Однако, – сказал Тергенс, – Гравелот не улетел по воздуху, пограничники это знают, они обшарят весь берег, и, я думаю, нам пора тащить якорь на борт.
– Как же быть с Никльсом? – спросил боцман Гетрах.
Речь шла о контрабандисте, ушедшем в село к возлюбленной на срок до шести часов утра. В семь «Медведица» должна была начать плавание, но теперь возник другой план. Тергенс боялся оставаться, так как пограничники, выехав на паровом боте вдоль скал, легко могли арестовать «Медведицу» с ее грузом, состоявшим из красок, хорьковых кистей, духов и пуговиц.
– Не думал нынче плыть на «Медведице», – сказал Петвек боцману. – Раз я здесь, я поеду. Мне надоело торчать в Латре. На этой неделе больших дел не предвидится. Там есть Блэк и Зуав, их двух хватит, в случае чего. Гетрах, пишите Никльсу записку, я возьму шлюпку, свезу записку в дупло. Никльс прочтет, успокоится.
Взяв записку, Петвек ушел, после чего остальные контрабандисты мало-помалу очистили каюту, служившую одновременно столовой. Гетрах спал на столе, Тергенс – на скамье. Пока Петвек ездил к берегу, Тергенс открыл внутренний трюмовый люк и со свечой прошел туда, чтобы указать Давенанту место его ночлега. Перевернув около основания мачты ряд кип и ящиков, Тергенс устроил постель из тюков, на нее шкипер бросил подушку и одеяло.
– Не курите здесь, – предупредил Тергенс беглеца, – пожар в море – дело печальное. Впрочем, я вам принесу тарелку для окурков.
Он притащил оловянную тарелку, глухой фонарик, бутылку водки. Давенант опустился на ложе и принял полусидящее положение. Уходя, Петвек дал ему шесть сигар, так что он был обеспечен для комфортабельного ночлега в плавании. Хлебнув водки, Давенант закурил сигару, стряхивая пепел в тарелку, которую держал на коленях сверху одеяла. Мальчик еще крепко сидел в опытном, видавшем виды хозяине гостиницы; ему нравился запах трюма – сыроватый, смолистый; полусвет фонаря среди товаров и бег возбужденной мысли в раме из бортов и снастей, где-то между мысом «Монаха» и отмелями Гринленда. Между тем слышался голос возвратившегося Петвека и стук кабестана, тащившего якорь наверх. Заскрипели блоки устанавливаемых парусов; верхние реи поднялись, парусина отяготилась ветром, и все разбрелись спать, кроме Гетраха, ставшего к рулю, да Тергенса и Петвека, влезших из каюты в трюм, чтобы потолковать перед сном. Гости уселись на ящиках и приложились к бутылке, после чего Петвек сказал:
– Никак нельзя было спрятать вашу лодку на берегу. Пограничники могли ее найти и узнать нашу стоянку. А тут хорошее сообщение с нашей базой. Я отвел лодку за камни и пустил ее по ветру. Что делать!
Давенант спокойно махнул рукой.
– Если я буду жив, – лодка будет, – сказал он фаталистически. – А если меня убьют, то не будет ни лодки, ни меня. Так мы уж плывем, Тергенс?
– О да. Если ветер будет устойчив – зюйд-зюйд-ост, – то послезавтра к рассвету придем в Покет.
– Не в гавань, надеюсь?
– Ха-ха! Нет, не в гавань. Там в миле от города есть так называемая Толковая бухта. В ней выгрузимся.
– Знаю. Я бывал там, когда бегал еще босиком, – сказал Давенант.
– Вы родились в Покете? – вскричал Петвек.
– Нет, – ответил из осторожности Давенант, – я был проездом, с родителями.
– Странный вы человек, – сказал Тергенс. – Идете вы, как и мы, без огней, сигналов. – Никто не знает, кто вы такой.
– Вы были бы разочарованы, если бы узнали, что я – сын мелкого адвоката, – ответил Давенант, смеясь над испытующим и заинтересованным выражением лиц бывших своих клиентов, – а потому я вам сообщаю, что я незаконный сын Эдисона и принцессы Аустерлиц-Ганноверской.
– Нет, в самом деле?! – сказал Петвек.
– Ну, оставь, – заметил Тергенс, – дело не наше. Так вы думали, что Ван-Конет будет с вами драться?
– Он должен был драться, – серьезно сказал Давенант. – Я не знал, какой это подлец. Ведь есть же смелые подлецы!
– Интересно узнать, кто этот тип, который оставил вам ящики, – сказал Петвек. – Каков он собой?
Давенант тщательно описал внешность мошенника, но контрабандисты никого не могли подобрать к его описанию из тех, кого знали.
– Что же… Подавать в суд? Да вас немедленно арестуют, – сказал Тергенс.
– Это верно, – подтвердил Давенант.
– Ну, так как вы поступите?
– Знаете, шкипер, – с волнением ответил Давенант, – когда я доберусь до Покета, я, может быть, найду и заступников и способы предать дело широкой огласке.
– Если так … Конечно.
Тергенс и Петвек сидели с Давенантом, пока не докончили всю бутылку. Затем Тергенс отправился сменять Гетраха, а Петвек – к матросам, играть в карты. Давенант скоро после того уснул, иногда поворачиваясь, если ребра тюков очень жали бока.
Почти весь следующий день он провел в лежачем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал. «Медведица» шла по ровной волне, с попутным ветром, держась, на всякий худой случай, близко к берегу, чтобы экипаж мог бежать после того, как дозорное судно или миноносец сигнализируют остановиться. Однако, кроме одного пакетбота и двух грузовых шхун, «Медведица» не встретила судов за этот день. Уже стало темнеть, когда на траверсе заблестели огни Покета, и «Медведица» удалилась от берега в открытый океан, во избежание сложных встреч.
Когда наступила ночь, судно, обогнув зону порта, двинулось опять к берегу, и незначительная качка позволила экипажу играть в «ласточку». Давенант принял участие в этой забаве. Играли все, не исключая Тергенса. На шканце установили пустой ящик с круглым отверстием, проделанным в его доске; каждый игрок получил три гвоздя с отпиленными шляпками; выигрывал тот, кто мог из трех раз один бросить гвоздь сквозь узенькое отверстие в ящике на расстоянии четырех шагов. Это трудное упражнение имело своих рекордсменов. Так, Петвек попадал чаще других и с довольным видом клал ставки в карман.
Чем ближе «Медведица» подходила к берегу, тем озабоченнее становились лица контрабандистов. Никогда они не могли уверенно сказать, какая встреча ждет их на месте выгрузки. Как бы хорошо и обдуманно ни был избран береговой пункт, какие бы надежные люди ни прятались среди скал, ожидая прибытия судна, чтобы выгрузить контрабанду и увезти ее на подводах к отлично оборудованным тайным складам, риск был всегда. Причины опасности коренились в отношениях с береговой стражей и изменениях в ее составе. Поэтому, как только исчез за мысом Покетский маяк, игра прекратилась и все одиннадцать человек, бывшие на борту «Медведицы», осмотрели свои револьверы. Тергенс положил на трюмовый люк восемь винтовок и роздал патроны.
– Не беспокойтесь, – сказал он Давенанту, вопросительно взглянувшему на него, – такая история у нас привычное дело. Надо быть всегда готовым. Но редко приходится стрелять, разве лишь в крайнем случае. За стрельбу могут повесить. Однако у вас есть револьвер? Лучше не ввязывайтесь, а то при вашей меткости не миновать вам каторжной ссылки, если не хуже чего. Вы просто наш пассажир.
– Это так, – сказал Давенант. – Однако у меня нет бесчестного намерения отсиживаться за вашей спиной.
– Как знаете, – заметил Тергенс с виду равнодушно, хотя тут же пошел и сказал боцману о словах Граве-лота. Гетрах спросил:
– Да?
Они одобрительно усмехнулись, больше не говоря ничего, но остались с приятным чувством. В воображении им приходилось сражаться чаще, чем на деле.
Между тем несколько бутылок с водкой переходило из рук в руки: готовясь к высадке, контрабандисты накачивались для храбрости, вернее – для спокойствия, так как все они были далеко не трусы. Только теперь стало всем отчетливо ощутительно, что груз стоимостью в двадцать тысяч фунтов обещает всем солидный заработок. «Медведица» повернула к берегу, невидимому, но слышному по шороху прибоя; ветер упал. Матросы убрали паруса; судно на одном кливере подтянулось к смутным холмам с едва различимой перед ними пенистой линией песка. Всплеснул тихо отданный якорь; кливер упал, и на воду осела с талей шлюпка. В нее сели четверо: Давенант, Гетрах, Петвек и шестидесятилетний седой контрабандист Утлендер. Как только подгребли к берету, стало ясно, что на берету никого нет, хотя должны были встретить свои.
– Ну, что же вам делать теперь? – сказал Петвек Давенанту, выскакивая на песок вместе с ним. – Мы тут останемся. Я пойду искать наших ребят, которые, верно, заснули неподалеку в одном доме, а вам дорога известная: через холмы и направо, никак не собьетесь, прямо выйдете на шоссе.
Контрабандист был уже озабочен своими делами. Гетрах нетерпеливо поджидал его, чтобы идти. Давенант, чрезвычайно довольный благополучным исходом плавания, тоже хотел уходить, даже пошел, – как он и все другие остановились, услышав плеск весел между берегом и «Медведицей». Подумав, что оставшийся в лодке Утлендер зачем-то направился к судну, так укрытому тьмой, что можно было различить лишь, да и то с трудом, верхушку его матч, Петвек крикнул:
– Эй, старый Ут! Ты куда?
Одновременно закричал Утлендер, хотя его испуганные слова не относились к Петвеку.
– Тергенс, удирай! – вопил он и, поднеся к губам свисток, свистнул коротко три раза, чего было довольно, чтобы на палубе загремел переполох.
Таможенная шлюпка, набитая пограничниками, стала между берегом и «Медведицей», другая напала с открытой стороны моря, из-за холмов раздались выстрелы – и стало некуда ни плыть, ни идти. Пока обе таможенные шлюпки абордировали «Медведицу», темные фигуры таможенных, показавшись из береговой засады, кричали:
– Сдавайтесь, купцы!
Давенант быстро осмотрелся. Заметив большой камень с глубокими трещинами, он сунул в одну из трещин бумажник с деньгами и письмами, а также своего оленя, и успел засыпать все это галькой. Затем он подбежал к Утлендеру, готовый на все.
– Отбивайтесь! – кричал Тергенс с палубы в то время, как момент растерянности уже прошел и все, словно хлестнуло их горячим по ногам, начали, без особого толку, сопротивляться. Трудно было знать, сколько здесь солдат. Ничего лучшего не находя, Петвек, Гетрах и Давенант бросились в шлюпку Утлендера, где, по крайней мере, суматоха могла выручить их, дав как-нибудь ускользнуть к недалеким скалам, а за их прикрытием – в море. Так случилось, таково было согласное настроение всех, что началась усердная пальба ради спасения ценного груза и еще более от внезапности всего дела, хотя, может быть, уже некоторые раскаивались, зная, как дорого поплатятся за стрельбу оставшиеся в живых. Отойдя от берега, шлюпка качалась на волнах, и в нее уже стреляли с берега. Пули свистели, пронзая воду или колотя в борт зловещим щелчком. Тьма мешала прицелу. Утлендер, дрожа от возбуждения, встал и стоя стрелял на берег, Петвек и Гетрах старались повалить таможенников, сидевших в шлюпке, приставшей к борту «Медведицы». Давенант схватил револьвер, более опасный в его руках, чем винтовка в руках солдата, и прикончил одного неприятеля.
– Вы то… чего? – крикнул Гетрах, но уже забыл о Давенанте, сам паля в кусты, где менялись очертания тьмы.
Между тем на палубе судна зазвучали сабли, тем указывая рукопашную. Там же был начальник отряда; задыхаясь, он твердил:
– Берите их! Берите!
Протяжно вскрикнув, командир изменившимся голосом сказал:
– Теперь все равно. Бейте их беспощадно!
– Ага! Дрянь! – крикнул Тергенс.
«Если я брошусь на берег, – думал Давенант со странной осторожностью и вниманием ко всему, что звучало и виднелось вокруг, – если я скажу, кто я, почему я с контрабандистами и ради чего преследуем я Ван-Конетом, разве это поможет? Так же будут издеваться таможенники, как и Ван-Конет. Все это маленькие Ван-Конеты. Да. Это они!» – сказал он еще раз и на слове «они» пустил пулю в одну из темных фигур, бегавших по песку. Солдат закружился и упал в воду лицом.
Между тем на «Медведице» перестали стрелять; там опустошенно и тайно лежала тьма, как если бы задохнулась от драки.
– Связаны! Связаны! – крикнул Тергенс. – Бросайте, Гетрах, к черту винтовки и удирайте, если можете!
Но уже трудно было остановить Петвека и Утлендера. Таможенные шлюпки, освободясь после «Медведицы», напали на контрабандистов с правого и левого борта.
– Гибель наша! – сказал Утлендер, стреляя в близко подошедшую шлюпку.
Он уронил ружье и оперся рукой о борт. Пуля пробила ему грудь.
– Меня просверлили, – сказал Утлендер и упал к ногам Гетраха, тоже раненного, но легко, в шею.
Однако Гетрах стрелял, а Давенант безостановочно отдавал пули телам таможенников, лежа за прикрытием борта. Шлюпки качались друг против друга, ныряя и повертываясь без всякого управления, так как солдаты были чрезвычайно озлоблены и тоже увлеклись дракой. Давенант стрелял на берег и в лодки. Выпустив все патроны револьвера, он поднял ружье Утлендера, а Петвек сунул ему горсть патронов, сжав вместе с ними руку Давенанта так сильно, что выразил вполне свои чувства и повредил тому ноготь. Довольно было Давенанту колебания во тьме ночной тени, чтобы он разил самую середину ее. Хотя убил он уже многих и сам получил рану возле колена, он оставался спокоен, лишь над бровями и в висках давил пульс.
– Петвек! – сказал Давенант зачем-то, но Петвек уже лежал рядом с Утлендером; он только разевал рот и двигал рукой.
– Захватите этого! – кричали таможенники. Однако Давенант не отнес крик к себе, – пока что он не понимал слов. Наконец у него не осталось патронов, когда Тергенс громко сказал:
– Бросьте, Гравелот, вас убьют!
Стрелять ему было нечем, и он, поняв, сказал:
– Уже бросил.
С тем действительно Давенант бросил ружье в воду и дал схватить себя налетевшему с двух сторон неприятелю, чувствуя, что чем-то оправдал воспоминание красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками, хотя бы не знал об этом никто, кроме него.
– Кончилось? – спросил связанный Тергенс, сидевший на люке трюма, когда под дулом ружей Давенант взобрался на палубу, чтобы, в свою очередь, испытать хватку наручников.
– Кончилось, – ответил Давенант среди общего шума, полного солдатской брани.
– Если буду жив, – сказал Тергенс, – я ваш телом и душой, знайте это.
– Я ранен, – сказал Давенант, протягивая руку сержанту, который скрепил вокруг его кистей тонкую сталь.
– Да, что это было? – вздохнул Тергенс. – Мы все прямо как будто с ума сошли. Не бойтесь, – процедил он сквозь зубы. – Постараемся. Будет видно.
Давенант сел. Солдаты начали поднимать на борт и складывать трупы. Утлендер еще стонал, но был без сознания. Остальные плыли к могиле.
Таможенники, забрав шлюпки на буксир, подняли паруса, чтобы вести свой трофей в Покет. Было их пятьдесят человек, осталось двадцать шесть.
Полная трупов и драгоценного товара, «Медведица» с рассветом пришла в Покет, и репортеры получили сенсационный материал, тотчас рассовав его по наборным машинам.
Пока плыли, Давенант тайно уговорился с Тергенсом, что контрабандисты скроют причины его появления на борту «Медведицы».
Глава V
Сногден встретил Ван-Конета в своей квартире и говорил с ним как человек, взявший на себя обязанность провидения. Окружив словесным гарниром свои нехитрые, хотя вполне преступные действия, результат которых уже известен читателю, придумав много препятствий к осуществлению их, Сногден представил дело трудным распутыванием свалявшегося клубка и особенно напирал на то, каких трудов будто бы стоило ему уговорить мастера вывесок Баркета. О Баркете мы будем иметь возможность узнать впоследствии, но основное было не только измышлением Сногдена: Баркет, практический человек, дал Сногдену обещание молчать о скандале, а его дочь, за которую так горячо вступился Тиррей, сначала расплакалась, затем по достоинству оценила красноречивый узор банковых билетов, переданных Сногденом ее отцу. Сногден дал Баркету триста фунтов с веселой прямотой дележа неожиданной находки, и когда тот, сказав: «Я беру деньги потому, чтобы вы были спокойны», – принял дар Ван-Конета, пришедшийся, между прочим, кстати, по обстоятельствам неважных дел его мастерской, Сногден попросил дать расписку на пятьсот фунтов. «Это для того, – сказал Сногден, смотря прямо в глаза ремесленнику, – чтобы фиктивные двести фунтов приблизительно через месяц стали действительно вашими, когда все обойдется благополучно».
Не возражая на этот ход, чувствуя даже себя легче, так как сравнялся с Сногденом в подлости, Баркет кивнул и выдал расписку.
Когда он ушел. Марта долго молчала, задумчиво перебирая лежащие на столе деньги, и грустно произнесла:
– Скверно мы поступили. Как говорится, подторговали душой.
– Деньги нужны, черт возьми! – воскликнул Баркет. – Ну, а если бы я не взял их, – что изменится?
– Так-то так…
– Слушай, разумная дочь, – нам не тягаться в вопросах чести с аристократией. А этот гордец Гравелот, по-моему, тянется быть каким-то особенным человеком. Трактирщик вызвал на дуэль Георга Ван-Конета! Хохотать можно над такой историей, если подумать.
– Гравелот вступился за меня, – заявила Марта, утирая слезы стыда, – и я никогда не была так оскорблена, как сегодня.
– Хорошо. Он поступил благородно – я не спорю… Но дуэли не будет. Тут что-то задумано против Граве-лота, если, едва мы приехали, Сногден пришел просить нас молчать и, собственно говоря, насильно заставил взять эти триста фунтов.
– Я не хотела… – сказала Марта, крепко сжав губы, – хотя что сделано, то сделано. Я никогда не прощу себе.
– Отсчитай-ка сейчас же. Марта, восемьдесят семь фунтов, я оплачу вексель Томсону. Остальные надо перевести Платтеру на заказ эмалевых досок. Но это завтра.
– Оставь мне двадцать пять фунтов.
– Это зачем?
– Затем… – сказала Марта, улыбаясь и застенчиво взглядывая на отца. – Догадайся. Впрочем, я скажу: мне надо шить, готовиться: ведь скоро приедет мой жених.
– Да, – ответил Баркет и прибавил уже о другом: – Самый ход дела отомстил за тебя: Ван-Конет трусит, замазывает скандал, боится газет, всего, тратится. Видишь, как он наказан!
Если Сногден не мог рассказать эту сцену Ван-Коне-ту, зато он представил и разработал в естественном диалоге несговорчивость, возмущение Баркета и его дочери; в конце Сногден показал счет, вычислявший расход денег, самые большие деньги, по его объяснению, пришлось заплатить мнимому Готлибу Вагнеру, темному лицу, согласному на многое ради многого. Затем, как бы припомнив несущественное, но интересное, Сногден сказал, что обстоятельства заставили его иметь объяснение с отцом Ван-Конета, чье вмешательство единственно могло погубить Гравелота, согласно тем незначительным уликам, какие подсылались в «Сушу и море» под видом ящиков старых книг.
Не ожидавший такого признания, Ван-Конет с трудом удерживался от резкой брани, так как ему предстояло терпкое объяснение с отцом, человеком двужильной нравственности и тем не менее выше всего ставящим показное достоинство своего имени.
– Однако, если на то пошло, – в бешенстве закричал Ван-Конет, – таким-то путем и я мог бы уладить все не хуже вас!
– Нет! – Сногден резко схватил приятеля за руку, которую тот хотя вырвал немедленно, однако стал слушать. – Нет, Георг, нет и нет, – я вам говорю. Лишь я мог представить отцу вашему дело в том его значении, о котором мы говорили, в котором уверены, которое нужно рассудить холодно и тонко. Со мной ваш отец вынужден был говорить сдержанно, так как и он многим обязан мне. Дело касается не только ареста Гравелота, а главное, – как поступить с ним после ареста. Судебное разбирательство немыслимо, и я нашел выход, я дал совет, как прекратить все дело, но уже когда пройдет не меньше месяца и вы с женой будете в Покете. До сих пор я еще нажимаю все пружины, чтобы скорее состоялось ваше назначение директором акционерного общества сельскохозяйственных предприятий в Покете. Я работаю головой и языком, и вы, так страстно стремящийся получить это место, не можете отрицать…
– Я не могу отрицать, – перебил Ван-Конет, – что вы зарвались. Повторяю – я сам мог уладить дело через отца.
Он умолк, потому что отлично сознавал, как много сделал Сногден, как неизбежно его отец должен был обратиться к тому же Сногдену, чтобы осуществить эту интригу, при всей ее несложности требующую особых знакомств. Ван-Конету предстоял отвратительный разговор с отцом.
– Уверены вы, по крайней мере, что эта глупая история окончена?
– Да, уверен, – ответил Сногден совершенно спокойно. – А, Вилли, дорогой мой! Что хочешь сказать?
Вбежал мальчик лет семи, в бархатной курточке и темных локонах, милый и нежный, как девочка. Увидев Ван-Конета, он смутился и, нагнувшись, стал поправлять чулок; затем бросил на Сногдена выразительный взгляд и принялся водить пальцем по губам, не решаясь заговорить.
Сын губернатора с досадой и размышлением смотрел на мальчика; настроение Ван-Конета было нарушено этой сценой, и он с усмешкой взглянул на лицо Сногдена, выразившее непривычно мягкое для него движение сердца.
– Вилли, надо говорить, что случилось, или уйти, – сказал Сногден.
– Хорошо! – вдруг заявил мальчик, подбегая к нему. – Скажите, что такое «интри… гланы» – «интриганы»? – поправился Вилли.
Бровь Сногдена слегка дрогнула, и он хотел отослать мальчика с обещанием впоследствии объяснить это слово, но ироническое мычание Ван-Конета вызвало в его душе желание остаться самим собой, и у него хватило мужества побороть ложный стыд.
– Как ты узнал это слово? – спросил Сногден, бесясь, что его руки дрожат от смущения.
– Я прочитал в книге, – сказал мальчик, осторожно осматривая Ван-Конета и, видимо, стесняясь его. – Там написано: «Интри… ганы окружили короля Карла, и рыцарь Альфред… и рыцарь Альфред… – быстро заговорил Вилли в надежде, что с разбега перескочит сопротивление памяти. – И ры… Альфред…» Я не помню, – сокрушенно вздохнул он и начал толкать изнутри щеку языком. – А «интри… ганы» – я не понимаю.
– Сногдену задача, – не удержался Ван-Конет, зло присматриваясь к внутренне потерявшемуся приятелю.
Прямой взгляд мальчика помог Сногдену открыть заветный угол своей души. Нисколько не задумываясь, он ответил воспитаннику:
– Интриган, Вилли, – это человек, который ради своей выгоды губит других людей. А подробнее я тебе объясню потом. Ты понял?
– О да! – сказал Вилли. – Теперь я пойду снова читать.
Он хмуро взглянул на сапоги Ван-Конета, медленно направился к двери и вдруг убежал.
– Однако… – заметил Ван-Конет, потешаясь смущением Сногдена, лицо которого, утратив острую собранность, прыгало каждым мускулом. – Однако у вас есть мужество, или нахальство. Вы так всегда объясняете мальчику?
– Всегда, – нервно рассмеявшись, неохотно сказал Сногден.
– А зачем?
– Так. Это мое дело, – ответил тот, уже овладевая собой и сжимая двумя пальцами нижнюю губу.
– Магдалина… – тихо процедил Ван-Конет.
– Поэтому, – начал Сногден, овладевая прежним тоном, уже начавшим звучать в быстрых, внушительных словах его, – ваш отец подготовлен. Этим все будет кончено.
Ван-Конет встал и, презрительно напевая, удалился из квартиры.
Он не любил толчков чувств, издавна отброшенных им, как цветы носком сапога, между тем Гравелот, Консуэло и Сногден толкнули его хорошими чувствами, каждый по-своему. Он мог отдохнуть на объяснении со своим отцом. В этом он был уверен.
Месть губернатора выразилась замкнутой улыбкой и любопытным выражением бескровного лица; его старые черные глаза смотрели так, как смотрит женщина с большим опытом на девицу, утратившую без особой нужды первую букву своего алфавита.
– Адский день! – сказал молодой Ван-Конет, уныло наблюдая отца. – Вы уже все знаете?
– Меньше всего я знаю вас, – ответил старик Ван-Конет. – Но бесполезно говорить с вами, так как вы способны наделать еще худших дел накануне свадьбы.
– Нет гарантии от нападения сумасшедшего.
– Не то, милый. Вы вели себя, как пройдоха.
– Счастье ваше, что вы мой отец … – начал Ван-Конет, бледнея и делая движение, чтобы встать.
– Счастье? – иронически перебил губернатор. – Думайте о своих словах.
– Отлично. Ругайтесь. Я буду сидеть и слушать.
– Я признаю трудность положения, – сказал отец с плохо скрываемым раздражением, – и, черт возьми, приходится иногда стерпеть даже пощечину, если она стоит того. Однако не надо было подсылать ко мне этого Сногдена. Вы должны были немедленно прийти ко мне, – я в некотором роде значу не меньше Сногдена.
– Кто подсылал Сногдена! – вскричал Георг. – Он явился к вам, ничего мне не говоря. Я только недавно узнал это!
– Так или не так, я провел несколько приятных минут, слушая повесть о кабаке и ударе.
– Дело произошло…
– Представьте, Сногден был до умиления искренен, так что вам нет надобности ни в какой иной версии. Ван-Конет покраснел.
– Думайте что хотите, – сказал он, нагло зевнув. – А также скорее выразите свое презрение мне, и кончим, ради бога, сцену нравоучения.
– Вы должны знать, как наши враги страстно желают расстроить ваш брак, – заговорил старый Ван-Конет. – Если Консуэло Хуарец ничего не говорит вам, то я отлично знаю зато, какие средства пускались в ход, чтобы ее смутить. Сплетни и анонимные письма – вещь обычная. Пытались подкупить вашу Лауру, чтобы она явилась к часу подписания брачного контракта и афишировала, во французском вкусе, ваше знакомство с ней. Но эта умная женщина была у меня и добилась более положительных обещаний.
– Хорошо, что так, – усмехнулся жених.
– Хорошо и дорого, дорого и утомительно, – продолжал губернатор. – Вам нет смысла напоминать ей об этом. Получив деньги, она уедет. Такое было условие. Теперь выслушайте о другом. Умерьте, сократите вашу неистовую жажду разгула! Какой-нибудь месяц приличной жизни – смотрите на эту необходимость, как на жертву, если хотите, – и у вас будут в руках неограниченные возможности. Дайте мне разделаться с правительственным контролем, разбросать взятки, основать собственную газету, и вы тогда свободны делать, что вам заблагорассудится. Но если ваша свадьба сорвется, – не миновать ни мне, ни вам горьких минут! Берегите свадьбу, Георг! Вы своим нетерпением жить напоминаете кошку в мясной лавке. Amen.
– Все ли улажено? – вставая, хмуро спросил Георг.
– Все. Я надеюсь, что до послезавтра вы не успеете получить еще одну пощечину, как по малому времени. так и ради своего будущего.
– Так вы не сердитесь больше?
– Нет. Но чувства мне не подвластны. Несколько дней вы будете мне противны, затем это пройдет.
Ван-Конет вышел от отца с окончательно дурным настроением и провел остальной день в обществе Лауры Мульдвей, на ее квартире, куда вскоре явился Сногден, а через день в одиннадцать утра подвел к двери торжественно убранной залы губернаторского дома молодую девушку, которой обещал всю жизнь быть другом и мужем. С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэло, улыбаясь всем взглядам и поздравлениям. Она была так спокойна, как отражение зеленой травы в тихой воде. И, искусно притворясь, что охвачен высоким чувством, серьезно, мягко смотрел на нее Ван-Конет, выглядевший еще красивее и благороднее от близости к нему великодушной девушки с белыми цветами на темной прическе.
Улыбка не покидала ее. Отвечая нотариусу, Консуэло произнесла «да» так важно и нежно, что, поддавшись очарованию ее существа, приглашенные гости и свидетели на несколько минут поверили в Георга Ван-Конета, хотя очень хорошо знали его.
Гражданский и церковный обряды прошли благополучно, без осложнений. Новобрачные провели три дня в имении Хуареца, отца Консуэло, а затем уехали в Покет, где Ван-Конету предстояли дела по назначению его директором сельскохозяйственной акционерной компании; он мог теперь приобрести необходимое количество акций.
Через неделю, по тайному уговору со своим любовником, туда же приехала Лаура Мульдвей, а затем явился и Сногден, без которого Ван-Конету было бы трудно продолжать жить согласно своим привычкам.
Глава VI
Захватом «Медведицы» таможня обязана была не Никльсу, как одно время думал Тергенс, имея на то свои соображения, а контрабандисту, чьи подкуп и имя стали скоро известны, так что он не успел выехать и был убит в одну из темных ночей под видимостью пьяной драки.
На первом допросе Давенант назвался «Гантрей», не желая интересовать кого-нибудь из старых знакомых ни именем «Тиррей Давенант», которое могло стать известно по газетной статье, ни именем «Гравелот», опасным благодаря Ван-Конету. Однако на «Медведице» Тергенс несколько раз случайно назвал его Гравелот, а потому в официальных бумагах он именовался двояко – Гантрей-Гравелот; так что по связи улик – бегства хозяина «Суши и моря», убийственной меткости человека, оказавшегося почему-то среди контрабандистов «Медведицы», его наружности и ясно начертанного, хотя и условного, имени Гравелот – Ван-Конет, зная от отца своего все, тотчас позаботился принять меры. Ему помогал губернатор, а потому дальнейший рассказ коснется этих предварительных замечаний подробнее – всем развитием действия.
Тюрьма Покета стояла на окраине города, где за последние годы возникло начало улицы, переходящее после нескольких зданий в холмистый пустырь с прилегающими к этому началу улицы началами двух переулков, заканчивающихся: один – оврагом, второй – шоссейной насыпью, так что на плане города все, взятое вместе, напоминало отдельно торчащую ветку с боковыми прутиками. Ворота и передний фасад тюрьмы были обращены к лежащему напротив нее длинному одноэтажному зданию, заселенному тюремными служащими и конвойными; через дом от казармы ряд зданий замыкала бакалейная лавка с двумя окнами и дверью меж ними, имевшая клиентурой почти единственно узников и тюремщиков. Утром сторожа по особым спискам закупали в лавке на деньги арестованных, хранящиеся в конторе тюрьмы, различные продукты, дозволяемые тюремной инструкцией. Случалось, что в булке оказывался пакетик кокаина, опия, в хлебе – колода карт, в дыне – флакон спирта, но сторожа, обдумывавшие доставку этих запрещенных вещей, действовали согласно, а потому никто не тянул в суд ни хозяина лавки, ни надзирателей. Две камеры, отведенные для контрабандистов, были всегда полны. Эта публика, располагавшая приличными средствами, не отказывала себе в удовольствиях. Кроме того, контрабандные главари, составляющие нечто вроде несменяемого министерства, всегда имели среди надзирателей преданного человека, педанта тюремного режима в отношении всех заключенных, кроме своих. Если человек этот попадался при выносе писем или устройстве побега, – его немедленно заменяли другим, действуя как подкупом, так и шантажом или протекцией различных знакомств. Такая тайная жизнь тюрьмы ничем на взгляд не отражалась на официальной стороне дела; смена дежурств, караулов, часы прогулок, канцелярская отчетность и связь следственных властей с тюремной администрацией текли с отчетливостью военной службы, и арестант, лишенный полезных связей в тюрьме или вне ее, даже не подозревал, какие дела может вести человек, сидящий с ним рядом, в соседней камере.
Вид на тюрьму сверху представлял квадрат стен, посредине которого стоял меньший квадрат. Он был вдвое выше стены. Этот четырехэтажный корпус охватывал внутренний двор, куда были обращены окна всех камер. Снаружи корпуса, кроме окон канцелярии в нижнем этаже, не было по стенам здания ни окон и никаких отверстий. Тюрьма напоминала более форт, чем дом. К наружной стороне, справа от ворот, примыкало изнутри ограды одноэтажное здание лазарета; налево от ворот находился дом начальника тюрьмы, окруженный газоном, клумбами и тенистыми деревьями; кроме того, живая изгородь вьющихся роз украшала дом, делая его особым миром тихой семейной жизни на территории ада.
За то время, что «Медведица» шла в Покет, нога Давенанта распухла, и его после несложных формальностей заперли в лазарет. Остальных увели в корпус. Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивнули ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить, – в их руках были возможности устроить ему если не побег, то связь с внешним миром. Было уже утро – десять часов. В амбулатории тюремный врач перевязал Давенанту ногу, простреленную насквозь, с контузией сухожилий, и он был помещен в одиночную камеру, где грубая больничная обстановка, бледно озаряемая закрашенным белой краской окном, пахла лекарствами. Решетка, толщиной годная для тигра, закрывала окно. Давенант, сбросив свою одежду, оделся в тюремный бушлат и лег; его мысли упали. Он был в самом сердце остановки движения жизни, в мертвой точке оси бешено вращающегося колеса бытия. Сторож принес молоко и хлеб. Курить было запрещено, однако на вопрос Давенанта о курении надзиратель сказал:
– Обождите немного, потом переговорим. От этих пустых слов, значащих, быть может, не больше, как разрешение курить, пуская дым в какую-нибудь отдушину, Давенант немного развеселился и при появлении военного следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на койке, готовый бороться ответами против вопросов.
Войдя в камеру, следователь с любопытством взглянул на Давенанта, ожидая, согласно предварительным сведениям, увидеть свирепого, каторжного типа бойца, и был озадачен наружностью заключенного. Этот светло, задумчиво смотрящий на него человек менее всего подходил к стенам печального места. Однако за его располагающей внешностью стояло ночное дело, еще небывалое по количеству жертв. И так как оставшиеся в живых солдаты были изумлены его меткостью, забыв, что стрелял не он один, то главным образом обвиняли его. Следователь положил портфель на больничный стол и, придвинув табурет, сел, приготовляя механическое перо. Это был плотный, коренастый человек с ускользающим взглядом серых глаз, иногда полуприкрытых, иногда раскрытых широко, ярко и устремленных с вызывающей силой, рассчитанной на смущение. Таким приемом следователь как бы хотел сказать: «Запирательство бесполезно. Смотреть так, прямо и строго, могу только я, прозревающий всякое движение мысли». Среди утех, доставляемых себе специалистами разного рода, немалую роль играет прием позы – забава, нужная им как в целях самоуважения, так и из эстетических побуждений; все это большей частью невинно, однако в обстановке допроса для умного заключенного путем токов, излучаемых мелочами, дает часто указание, как надо себя вести.
Напряженный разговор звучит естественнее всего, если испытуемое лицо занято чем-либо посторонним допросу. Давенант взял кружку с молоком, стал есть хлеб и пить молоко, в то же время отвечая чиновнику.
– Приступим к допросу, – начал следователь, занося перо над бумагой и смотря на руку с кружкой. – Отвечайте, ничего не скрывая, не старайтесь замять какое-нибудь обстоятельство. Если виновны, немедленно сознайтесь во всем, этим вы облегчите вашу участь. Как вас зовут?
– Джемс Гантрей.
– Возраст?
– Двадцать шесть лет.
– Ваша профессия? Контрабандист?
– Вы ошибаетесь. Я не контрабандист. Следователь значительно посмотрел на Тиррея, схватил пальцами подбородок, напрягся и, неожиданно встав, приблизился к двери на носках. Затем он кивнул сам себе, успокоенно двинул рукой и вернулся с улыбкой.
– Никто не подслушивает, – сказал следователь, усаживаясь и приветливо взглядывая на удивленного Давенанта. – Не бойтесь меня. Я – член вашей организации. Изложите самым подробным образом историю стычки, чтобы я имел возможность взвесить улики, выдвигаемые таможней, и, вместе с вами, обсудить характер защиты.
– Откровенность за откровенность, – сказал Давенант. – Вы – не следователь, а я – не контрабандист; кроме того, у меня в руках даже не было оружия, когда пограничники захватили «Медведицу».
– Вы не стреляли?
– Конечно. Я не умею стрелять.
– Странно, что вы не верите моим словам, – сказал следователь. – Время идет, и Тергенс прямо поручил мне помочь вам.
– Ладно, – печально рассмеялся Давенант, – забудем о плохой игре. Прошу вас, продолжайте допрос.
Следователь прищурился, усмехнувшись надменно и самолюбиво, как плохой артист, ставящий свое мнение о себе выше толпы, и переменил тон.
– Заключенный, именующий себя «Джемс Гантрей», вы обвиняетесь в вооруженном сопротивлении таможенному надзору, следствием чего было нанесение смертельных огнестрельных ранений следующим должностным лицам…
Он перечислил убитых, приводя имя каждого, затем продолжал:
– Кроме того, вы обвиняетесь в провозе контрабанды и в попытке реализовать груз на территории порта, состоящей под охраной и действием законов военного времени, что подлежит компетенции и разбирательству военного суда в городе Покете. Признаете ли вы себя виновным?
При упоминании о военном суде Давенант понял, что ему угрожает смертная казнь. Опасаясь Ван-Конета, он решил утаить истину и раскрыть ее только на суде, что, по его мнению, привело бы к пересмотру дела относительно него; теперь было преждевременно говорить о происшествиях в «Суше и море». Несколько подумав, Давенант ответил следователю так, чтобы заручиться расположением суда в свою пользу:
– Потребуется немного арифметики. Я не отрицаю, что стрелял, не отрицаю, что был на судне «Медведица», хотя по причинам, не относящимся к контрабанде. Я стрелял… У меня было семь патронов в револьвере и девять винтовочных патронов; я знаю это потому, что, взяв винтовку Утлендера, немедленно зарядил магазин, вмещающий, как вам известно, девять патронов, – их мне дал сосед по лодке. Итак, я помню, что бросил один оставшийся патрон в воду, – он мне мешал. Таким образом, девять и семь – ровно шестнадцать. Я могу взять на свою ответственность шестнадцать таможенников, но никак не двадцать четыре.
– По-видимому, вы хороший стрелок, – заметил следователь, оканчивая записывать показания. – Что было причиной вашего участия в вооруженном столкновении?
Давенант ничего не ответил.
– Теперь объясните, – сказал следователь, весьма довольный точностью ответа о стрельбе, – объясните, какие причины заставили вас присоединиться к контрабандистам?
– Об этом я скажу на суде.
Следователь попытался выведать причины отказа говорить, но Давенант решительно воспротивился и только прибавил:
– На суде станет известно, почему я не могу сказать ничего об этом теперь.
Чиновник окончил допрос. Давенант подписал свои признания, и следователь удалился, чрезвычайно заинтересованный личностью арестанта, так не похожего ни на контрабандиста, ни на преступника.
Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но через несколько минут опять вставил в замок ключ и, сунув Тиррею небольшой сверток, сказал:
– Курите в форточку.
Он поспешно вышел, отрицательно качая головой в знак, что некогда говорить. Тиррей увидел пять фунтов денег, трубку и горсть табаку. Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса: «Держитесь, начал осматриваться, сделаем, что будет возможно. Торг.»
Глава VII
С наступлением ночи лавочник закрыл дверь изнутри на болт, после чего вышел черным ходом через маленький двор, загроможденный пустыми ящиками и бочонками, и повесил на дверь снаружи замок, но не повернул ключа. К лавочнику подошел высокий человек в соломенной шляпе и накинутом на плечи коломянковом пиджаке. Из-за кожаного пояса этого человека торчала медная рукоятка ножа. Человек был худой, рябой, с суровым взглядом и в отличном расположении духа, так как выпил уже две бутылки местного желтого вина у инфернальной женщины по имени Катрин Рыжая, жившей неподалеку; теперь он хотел угостить Катрин на свой счет.
– Дядюшка Стомадор, – сказал контрабандист, нежно почесывая лавочника за ухом, а затем бесцеремонно кладя локоть ему на плечо и подбоченясь, как делал это в сценах с Катрин, – повремените считать кассу.
– От вас невыносимо пахнет луком, Ботредж. Отойдите без поцелуев.
– Что? А как мне быть, если я роковым образом люблю лук! – возразил Ботредж, однако освободил плечо Стомадора. – У вас найдется для меня лук и две бутылки перцовки? Луком я ее закусываю.
– А не пора ли спать? – в раздумье спросил лавочник. – Еще я думал переварить варенье, которое засахарилось.
– Нет, старый отравитель, спать вредно. Войдем, я выпью с вами. Клянусь этим зданием, что напротив вашей лавки, и душой бедняги Тергенса, – мне нравится ваше таинственное, широкое лицо.
Стомадор взглянул на Ботреджа, трогательно улыбнулся, как улыбаются люди, любящие выпить в компании, если подвернется случай, и решительно щелкнул ключом.
– Зайдем со двора, – сказал Стомадор. – Вас, верно, ждет Катрин?
– Подождет, – ответил Ботредж, следуя за Стомадором через проход среди ящиков к светящейся дверной щели. – У меня с Катрин прочные отношения. Приятно выпить с мужчиной, особенно с таким умным человеком, как вы.
Они вошли под низкий потолок задней комнаты лавки, где Стомадор жил. В ногах кровати стоял стол, накрытый клеенкой; несколько тяжелых стульев, ружье на стене, мешки в углах, ящики с конфетами и макаронами у стены и старинная картина, изображающая охоту на тигра, составляли обстановку этого полусарая, неровно мощенного плитами желтого кирпича.
– Но только, – предупредил Стомадор, – луком закусывать я запрещаю: очень воняет. Найдем что-нибудь получше.
Лавочник пошел в темную лавку и вернулся оттуда, ударившись головой о притолоку, с двумя бутылками красной перцовки, коробкой сушеной рыбы и тминным хлебцем; затем, сложив принесенное на стол, вынул из стенного шкафчика нож, два узких стакана с толстым дном и сел против Ботреджа, дымя первосортной сигарой, каких много покупал за небольшие деньги у своих приятелей контрабандистов.
Красный с голубыми кружочками платок, которым Стомадор имел привычку обвязывать дома голову, одним утлом свешивался на ухо, придавая широкому, бледному от духоты лицу старика розовый оттенок. Серые глаза, толстые, с лукавым выражением губы, круглый, двойной подбородок и тупой нос составляли, в общем, внешность дородного монаха, как на картинах, где монах сидит около бочки с кружкой пива. Передник, завязанный под мышками, засученные рукава серой блузы, короткие темные штаны и кожаные туфли – все было уместно на Стомадоре, все – кстати его лицу. Единственно огромные кулаки этого человека казались отдельными голыми существами, по причине своей величины. Стомадор говорил громко, чуть хрипловато, договаривая фразу до конца, как заклятие, и не путал слов.
Когда первые два стаканчика пролились в разинутые белозубые рты, Стомадор пожевал рыбку и заявил:
– Если бы вы знали, Ботредж, как я жалею, что не сделался контрабандистом! Такой промысел мне по душе, клянусь ростбифом и подливкой из шампиньонов!
– Да, у нас бывают удачные дни, – ответил, старательно очищая рыбку, Ботредж, – зато как пойдут несчастья, тогда дело дрянь. Вот хотя бы с «Медведицей». Семь человек убито, остальные сидят против вашей лавки и рассуждают сами с собой: родит в день суда жена военного прокурора или это дело затянется. Говорят, всякий такой счастливый отец ходит на цыпочках – добрый и всем шепчет: «Агу!» Я не знаю, я отцом не был.
– Действительно, с «Медведицей» у вас крах. Я слышал, что какой-то человек, который ехал на «Медведице» из Гертона, перестрелял чуть ли не всю таможню.
– Да, также и сам он ранен, но не опасно. Это – знаете кто? Чужой. Содержатель гостиницы на Тахенбакской дороге. Джемс Гравелот.
Стомадор от удивления повалился грудью на край стола. Стол двинулся и толкнул Ботреджа, который удивленно отставил свой стул.
– Как это вы красиво скакнули! – произнес Ботредж, придерживая закачавшуюся бутылку.
– Джемс Гравелот?! – вскричал Стомадор. – Бледный, лет семнадцати, похожий на серьезную девочку? Клянусь громом и ромом, ваш ответ нужен мне раньше, чем вы прожуете рыбку!
– Если бы я не знал Гравелота, – возразил опешивший Ботредж, – то я подумал бы, что у Гравелота есть сын. С какой стороны он похож на девочку? Можете вы мне сказать? Или не можете? Позвольте спросить: могут быть у девочки усы в четыре дюйма длины, цвета сырой пеньки?
– Вы правы! – закричал Стомадор. – Я забыл, что прошло девять лет. «Суша и море»?
– Да, ведь я в ней бывал.
– Ботредж, – сказал после напряженного раздумья взволнованный Стомадор, – хотя мы недавно знакомы, но если у вас есть память на кой-какие одолжения с моей стороны, вашей Катрин сегодня придется ждать вас дольше, чем всегда.
Он налил, в помощь соображению, по стакану перцовки себе и контрабандисту, который, отхлебнув, спросил:
– Вы тревожитесь?
– Я отдам лавку, отдам доход, какой получил с тюрьмы, сам, наконец, готов сесть в тюрьму, – сказал Стомадор, – если за эти мои жертвы Гравелот будет спасен. Как впутался он в ваши дела?
– Это мне неизвестно, а впрочем, можно узнать. Что вас подхлестнуло, отец?
– Я всегда ожидаю всяких таких вещей, – таинственно сказал Стомадор. – Я жду их. Я ждал их на Тахенбакской дороге и ждал здесь. Не думаете ли вы, что я купил эту лавчонку ради одной наживы?
– Как я могу думать что-нибудь, – дипломатично возразил заинтересованный Ботредж, – если всем давно известно, что вы Стомадор, – человек бывалый и, так сказать, высшего ума человек?!
– Вот это я и говорю. Есть высшие цели, – серьезно ответил Стомадор. – Я передал девять лет назад дрянную хижину юному бродяге. И он справился с этим делом. Вы думаете, я не знал, что в скором времени откроются рудники? Но я бросил гостиницу, так как имел другие планы.
Говоря так, Стомадор лгал: не только он, но и никто в окрестности не мог знать тогда, какое открытие будет сделано в горах случайной разведкой. Но, одолеваемый жаждой интриги, творящей чудаков и героев, лавочник часто обращался с фактами по-дружески.
– Этот мальчик, – продолжал Стомадор, – ужасно тронул меня. Итак, начнем действовать. Что вы предлагаете?
– В каком роде?
– В смысле установления связи.
– Это не трудно, – сказал, подумав, Ботредж. – Однако вы должны крепко молчать о том, что узнаете от меня.
– Наверное, я побегу в тюремную канцелярию с подробным докладом.
– Бросьте, – нахмурился Ботредж, – дело серьезное. В таком случае я должен немедленно отправиться к Катрин и…
На этом месте речь Ботреджа перебил тихий стук в дверь, закончившийся громким хлопком ладони о доску.
– Ясно, это – она, – сказал Ботредж без особого восторга.
Стомадор отодвинул засов и увидел рыжую молодую женщину, в распахнутой белой кофте, с яркими пятнами на щеках.
– Так что же это? Я все одна, – сказала Катрин, шагнув к Ботреджу длинной ногой в стоптанном башмаке, – а ты тут расселся?!
– Кэт, дорогая, – примирительно заявил Ботредж, – я только что хотел идти к тебе по важному делу. Надо передать записку в гостиницу. Факрегед… Он как?
Катрин взглянула на Стомадора тем диким взглядом, который считался неотразимым среди сторожей тюрьмы и контрабандистов, но не с целью завлечь, а лишь чтобы уразуметь: не вышучивают ли ее Стомадор и Ботредж.
Значительно посмотрев на нее в упор большими глазами, Стомадор прямо опустил ей в руку два золотых, и красные пятна щек Катрин всползли до висков.
– Ага! – сказала она тотчас, деловито нахмурясь и закурив папироску, которая до того торчала у нее за ухом. – Так вот что! Ну, что ж Факрегед! Он сегодня свободен. Это не пойдет.
– Так думай! – вскричал Ботредж.
– Который час? – спросила Стомадора Катрин, сильно затягиваясь и пуская дым через ноздри.
– Без десяти полночь, – ответил тот, вытащив из кармана большие золотые часы.
– В полночь у наружных ворот станет Кравар, – вслух размышляла Катрин, беря невыпитый стакан Ботреджа. – У внутренних ворот станет Хуртэй. – Она выпила стакан и села на стул к стене, кривя губы и кусая их, со всеми признаками напряженных соображений. – Пишите записку.
Тотчас отстегнув фартук, Стомадор сбросил его, вытащил из кармана блузы записную книжку, карандаш и, низко склонясь над столом, принялся строчить записку. Время от времени Ботредж замечал:
– Пишите печатными буквами. Подпись не ставьте. Кому пишете, – то имя также не ставьте. Чтобы было все понятно ему и никому другому.
– Да, остерегитесь, – подтвердила Катрин. – Адрес передадим на словах.
Совместное обсуждение записки, которую Стомадор читал вслух, удовлетворило всех. Скатав записку в трубку, Катрин затолкала ее в волосы и направилась к двери.
– В лазарет, – медленно повторила она урок, – Джемс Гравелот. Не перепутали?
– Достоверно, – успокоил ее Ботредж, – что знаю, то знаю.
– Ждите, – кинула она, стреляя белой кофтой в темную ночь.
– Извилистая женщина, – сказал Ботредж. – Если она не сделает, то никто сегодня не сделает. Прошло девять дней, как они арестованы, через шесть дней дежурить по лазарету будет тот самый Факрегед… так ему накануне мы… Поняли?
Катрин вышла на улицу и, все время осматриваясь, ходом заячьей петли приблизилась к железной двери в сквозных железных воротах, ярко озаренных электрическим фонарем. За ними стоял плотный, коренастый Кравар. Его багровое лицо с седыми бровями показалось между железных прутьев. Узнав Катрин, сторож легонько свистнул от удивления.
– Как вы поздно гуляете! – сказал Кравар нащупывающим тоном, а также в смутной надежде, что Катрин обратится к нему с какой-нибудь просьбой: никогда он не видел ее ночью перед тюрьмой.
Катрин остановилась в тени каменного столба тюремных ворот и приложила палец к губам.
– Что вы все вьетесь, что вьетесь? – нежно и глухо забормотал надзиратель, протягивая сквозь прутья руку, – схватить Катрин выше локтя. – Со мной не поговорили еще ни разу. Стар, да?
Кравар оглянулся на Хуртэя, стоявшего к нему спиной за внутренними воротами, и, дернув фуражку за козырек, поправил блестящий, лакированный ремень, туго охватывавший тучный живот.
– Не болтайте глупостей, – сказала Катрин, опираясь плечом о прут и улыбаясь разгоревшимся лицом так натурально, что Кравар начал сопеть. – Для меня, я вам скажу откровенно, все мужчины одинаковы.
– Будто бы? Так ли? – сказал Кравар, задумчиво прикладывая к губам бородку ключа. – Так вы идете со свидания с «одинаковым»? Или на свидание?
– Попробуйте угадать.
– Катрин, я пришел бы к тебе завтра? Честное слово. Вы знаете, что я положительный человек.
– А! Вы давно мне это говорите. Однако Римма уже получила от вас юбку и туфли, а для меня вам жалко пустого ореха.
– Кэт! – сказал надзиратель, схватив ее за обе руки выше локтей. – Так это потому, что вы меня презираете. Я дорого бы дал … да, но вы увлекаетесь именно преступным миром. Зачем пришли? Говорите!
Катрин высвободила руки и, отступив, достала из волос бумажную трубочку.
– Слушайте, Кравар, – шепнула искусительница, сжав горячей рукой потную кисть разволновавшегося сторожа, – если передадите записку, можете тогда мне тоже купить туфли.
– Так! Два удовольствия сразу: записку любовнику и еще туфли за это! Вы… хитрая гусыня, Кэт, ей-богу.
– Вот и видно, какой вы положительный человек. У меня нет любовника в тюрьме, клянусь чем хотите! Просто один старый приятель хочет известить своего знакомого.
– Ведь вы надуете, Кэт?
– В таких случаях не надувают. Кравар знал, что Катрин не врет. В подобных случаях правила игры соблюдаются очень строго.
– Боюсь я … – начал Кравар и умолк, всматриваясь в насторожившееся лицо женщины с ласковой подозрительностью. Он молчал, думал, наконец сказал: – Можно ли посмотреть, что написано?
– Конечно! Нате. Читайте, пожалуйста, ничего особенного там нет.
Кравар взял бумажку, оглянулся на внимательно смотрящего на него Хуртэя, кивнул ему и прочел следующее:
«Будь здоров, старина Джемс, помнишь нашу встречу девять лет тому назад на Тахенбакской дороге? Как здорово уничтожал ты пирог с репой и вино. Я слышал, что твои дела пошли хорошо. Сидел ты тогда с Том Адором. Да, было дело. Он кланяется тебе. Сообщи, не нужно ли тебе чего. Поправляйся. Твой Билль».
– Ну да, простая записка, – сказала Катрин, следя за выражением лица Кравара, который, понюхав, не пахнет ли бумага луковым соком, заменяющим симпатические чернила, еще, для верности, воспламенив спичку, погрел бумажку на огне, – там ничего нет. Я знаю.
Кравар выпятил нижнюю губу, решительно повернулся и подошел к Хуртэю. Они вдвоем долго рассматривали записку. Оставив ее у Хуртэя, Кравар повернулся к Катрин.
– Кому передать? – спросил Кравар.
– Джемсу Гравелоту, в лазарет. Пусть он сейчас пришлет мне ответ.
– Катрин, я тебя люблю, это верно, только сама понимаешь: если мы с Хуртэем… это одно, а в лазарете не то. Деньги необходимы.
– Так возьмите, – она подала Кравару один золотой. – Деньги не мои, ясно.
– Мы тут все мудрецы, – ответил Кравар. – Я за шесть лет видел и знаю немало. Жди. Лучше пройдись, только далеко не уходи. Я звякну ключом.
В это время Давенант спал и видел во сне темную воду, заливающую ночные поля. Его ноге было ни лучше, ни хуже, колено не сгибалось, а потому болезненно было подходить к форточке для курения, и он, сколько мог, воздерживался курить.
Надзиратель, дежурящий внутри лазарета при одиннадцати одиночных камерах, беззвучно открыл дверь и, войдя, резко тряхнул арестованного за плечо. Давенант перестал дышать и открыл глаза.
К его подбородку упала записка.
– Пишите ответ, – шепнул надзиратель, немедленно уходя и закрывая дверь с наружной стороны.
Замок тихо щелкнул.
Давенант оперся на локоть и прочел записку, мгновенно поняв странный текст по ассоциациям «девяти лет», «Том Адора» и «Тахенбакской дороги». Не зная, где Стомадор, Давенант видел, что ему пишет именно этот человек, все хорошо зная о нем.
Он испытал покорное чувство заботы, как будто грубая рука хмуро подоткнула вокруг него тюремное одеяло.
Ему стало жарко и весело. Утишив глубоким вздохом стук сердца, заливаемого надеждой, Давенант вытащил из тюфяка маленький карандаш, присланный на днях Тергенсом, и ответил Стомадору на обороте записки то существенное, о чем упорно размышлял эти дни:
«Мне нужен Орт Галеран. Если он жив, о нем может сказать содержатель кафе Адам Кишлот; я забыл номер дома, где жил Галеран. Кафе было тогда на углу Пыльной и Проточной улиц. Надобно сказать Галерану, что его извещает о себе мальчик, с которым он ездил на мыс Бай лет девять назад и который дал ему золотой для игры».
Давенант не подписался из осторожности, но и без того эти строки едва вместились на обороте записки. Не жалея, от возбуждения, больной ноги, он захромал к двери, прислушался и легонько стукнул. Надзиратель был тут. Открыв дверь, он быстро схватил записку и снова запер Давенанта, севшего на кровать думать. Через несколько минут Кравар звякнул ключом о ворота, и Катрин вышла из тени.
– Берите скорей и уходите, Кэт, – сказал Кравар. – Начальник тюрьмы отправился проверять посты. Ну и женщина… – прибавил он ей вслед. – Смотрите же, я завтра приду!
Не обернувшись, Катрин молча кивнула и была в лавке, когда Стомадор и Ботредж уже изныли от ожидания, начав тупо молчать.
– Читайте! – сказала, запыхавшись, Катрин. – Вся почта в Покете не стоит одной моей головы.
Она бросила записку на стол и, хвастливо подбоченясь, налила себе стакан перцовки, которую выпила с жадностью.
– Как достигла? – спросил восхищенный Ботредж, хватая ее за талию и подвигая к себе, пока Стомадор трудился над прочтением неразборчивого почерка Давенанта. – Как ты достигла, я спрашиваю?
– Женские дела хитрее твоих, молодчик, – ответила Катрин. – Я дала золотой. Это за вами долг, Стомадор.
Продолжая читать, Стомадор рассеянно взглянул на нее и так же рассеянно подал ей три золотых.
– Что делать? Такая наша жизнь, – вздохнул Ботредж, ухмыляясь своим мыслям об этом случае у ворот. – Так все удачно, дядюшка Стомадор?
– Ах, милая Кэт, – сказал Стомадор, – ты так услужила мне, что я открываю тебе кредит на целый месяц и ты можешь брать, что захочешь. Поручено мне, понимаете, найти одного человека, а так как вы теперь должны забрать еще две бутылки перцовки и идти спать, я тут один буду составлять планы.
Глава VIII
На другой день, упросив Ботреджа торговать вместо себя, Стомадор отправился искать Галерана по указаниям записки Тиррея и, надев городской костюм, явился прежде всего по адресу Кишлота, который давно уже закрыл свое «Отвращение». На людном месте Кишлот держал магазин готовой обуви. Дела его шли так успешно, что он собирался открыть еще два таких магазина. Не употребляя более ни противоестественной, ни сколько-нибудь оригинальной рекламы, Кишлот попал на «жилу», как обещал это в припадке зависти Давенанту; секрет обогащения Кишлота заключался в покупке больших партий бракованного товара за полцены и продаже его по стоимости нормальной обуви. Незначительный брак, очевидный специалисту, сходил у простого покупателя, если он замечал его, за случайность; при жалобах Кишлот охотно обменивал бракованное изделие на безупречное, но жалоб было мало, а товару много.
Кишлот располнел, выучился играть на механическом пианино и сватался к одной веселой вдове, имеющей собственный дом.
– Орт Галеран? – спросил Кишлот Стомадора, когда узнал о цели визита. – Его адрес известен в кафе «Понч». Там я встретился с ним, но ко мне он уж давненько не заходил.
– Главное было мне – найти вас, – сказал Стомадор. – Я провел на Пыльной улице часа два, расспрашивая в домах и на углах, я устал, сел в пивной и взял газету. Тут я увидел, как я глуп. Среди объявлений на видном месте означен ваш магазин: «Лучший магазин готовой обуви „Крылья Меркурия“ – Адам Кишлот». Итак, я пойду в «Понч».
– Мы помещаем объявления два раза в неделю, – добродушно сказал Кишлот. Он помолчал. – Вы знаете Галерана?
– Нет. Но один человек, мой друг, знает его и хочет разыскать.
Поблагодарив, Стомадор оставил Кишлота и приказал шоферу таксомотора ехать в кафе «Понч».
Вскоре вошел он в прохладное помещение со столиками из малахита, отделанное красным деревом. Среди газет и дамских шляп Стомадор пробрался к буфету, где первый же служащий на его вопрос о Галеране, лишь чуть поискав глазами, указал высокого человека с белой головой, который сидел около зеркала. Брови Галерана были еще черны, но шея сделалась жилистой, волосы на голове поседели, а в глазах и складках рта светилось терпеливое доживание жизни, свойственное одиноким под старость людям. Галеран пил черный кофе и читал книгу. Возле его столика был свободный стул.
Стомадор отвесил медленный поклон и попросил разрешения занять стул. Галеран молча кивнул ему. Стомадор сел и начал пристально смотреть на соседа по столику, который, пожав плечами, возобновил чтение. Чувствуя взгляд, он поднял голову и, заметив, что грузный незнакомец смотрит на него, таинственно и выжидательно улыбаясь, спросил:
– Вы что-нибудь мне сказали?
– Еще нет, но скажу, – тихо заговорил Стомадор. – Вы ли – Орт Галеран?
– Без сомнения.
– Так слушайте: в здешней тюрьме сидит Джемс Гравелот, которому, когда он был еще мальчиком, девять лет назад, я подарил гиблую, за худостью дел, гостиницу на Тахенбакской дороге, милях в сорока от Гертона. Правильнее говоря, я бросил ее. Гравелот удержался. Ему помогло открытие рудников. Не знаю, как и почему, только он недавно плыл в Покет на шхуне контрабандистов и был захвачен после драки со всеми, кто остался в живых. Сегодня ночью удалось достать от него записку, которую извольте прочесть.
Галеран с сомнением поднес бумажку к глазам, но лишь прочел о золотой монете, взятой на игру у Давенанта, как страшно оживился, даже покраснел от волнения.
– Боже мой! Да ведь это Тиррей! – сказал он самому себе. – Кто вы, дорогой друг?
– Том Стомадор, к вашим услугам. У меня лавка против тюрьмы.
– Черт возьми! Рассказывайте подробно! Когда-то я очень хорошо знал Дав … Гравелота.
Стомадор немного мог прибавить к первоначальному объяснению; он рассказал встречу с юношей, описал его отрепанный вид, наружность, но было видно, что он навсегда запомнил то соединение простоты, решительности и беззащитности, каким являлся Тиррей, также памятный Галерану, в особенности после его исчезновения, причины которого скоро выяснились, как только Франк Давенант явился к Кишлоту и стал ораторствовать в циническом духе, жалуясь, что сын бросил его. Пока Давенант мучился, пытаясь утолить жадность отца, Галеран в эти дни выиграл в Лиссе, при никогда не бывалом, исключительном везении, пятнадцать тысяч фунтов, и четвертая часть этой суммы приходилась на долю мальчика, ушедшего пешком от нечистоты, так неожиданно замаравшей светлую дверь, уже приоткрывшуюся его жадной душе.
Разъяснив Галерану, что подробные сведения о своих обстоятельствах Гравелот может дать лишь через несколько дней, когда надзиратель Факрегед примет суточное дежурство по лазарету, Стомадор отправился домой, записав адрес Галерана, который уже семь лет владел белым одноэтажным домом в десяти милях от Покета. Дом начинал собой ряд береговых дач, разбросанных по уступам скал среди пропастей и садов. Эти гнезда солнечно-морской тишины имели сообщение с городом посредством дорог – шоссейной и одноколейной железной. В доме Галерана жили, кроме него, шофер Груббе и девушка Тирса, сестра шофера, исполняющая обязанности прислуги и экономки.
Галеран жил в четырех комнатах, обставленных так просто, как это умеют делать любители отчетливой линии в рисунке и мелодии в музыке. Тонкое белье, электрические лампы с зелеными колпаками, фаянс с синим узором, гнутая мебель, прекрасное собрание цветных гравюр, а также обилие многолетних цветущих растений и, общий для всех комнат, тонкий французский ковер, голубой узор которого отражался в стеклах книжных шкафов, – вот все, что, озаренное солнцем через большие окна, тихо блестело в доме. Галерана никто не посещал. К пятидесяти годам его натура выработала своеобразный антитоксин, мешающий приближаться к нему иначе, как только в нейтральных местах, каковы – улица, кафе, клуб. Он не презирал, не ненавидел людей, но любил их как людей в книгах. Тиррей был исключением. Тревожно и горячо вспомнил о нем Галеран. В нем он узнавал свою молодость; но его спасал холодок, подобный холодку мятой лепешки, нагоняющий размышление.
Галеран неделями сидел дома, разводя пчел, читая или занимаясь рыбной ловлей с парусной лодки, и неделями жил в покетской гостинице «Роза и слива», играя поочередно то на бильярде, то в карты.
Выигрыш Тиррея – три с половиной тысячи фунтов, положенные на текущий счет, образовали сумму в шесть тысяч, и ни разу Галеран не коснулся этих денег.
Он ждал, что мальчик придет и поблагодарит его.
Тиррей пришел. Теперь следовало ему помочь.
Глава IX
Меж тем ноге Давенанта стало хуже; после временного облегчения коленный сустав распух, нога отяжелела, и больной мог только садиться, хотя ему это было запрещено. Если же он изредка вставал, чтобы курить, то сильно рискуя, против запрещений врача. Врач Добль, которому безотчетно нравился Давенант, никак не был склонен торопить суд и, устроив подходящий консилиум, дал условное заключение о возможности предстать раненому перед лицом суда лишь через две недели, то есть, считая день свидания Стомадора и Галерана отправным пунктом, – на одиннадцатый после того день.
За это время губернатору Гертона было уже все известно о Гравелоте. Сын и отец, чрезвычайно довольные оборотом дела, приняли путем старых связей нужные меры против оглашения позорной истории, почему заранее было решено в отношении Давенанта – вынести ему заочный приговор, в силу его прямого признания. Отсрочка судебного разбирательства из-за болезни главного преступника была, таким образом, лишь проявлением необходимой корректности. Если бы его ноге стало действительно лучше, председатель военного суда, майор Стегельсон, после совещания с прокурором решил в таком случае назначить суд, не ожидая выздоровления Гравелота. Эти внутренние отношения чиновников и военных, среди худшей их части, представляли закрытый ящик, хорошо знакомый каждому специалисту. При защите общего тайного интереса все это возмутительно только со стороны, внутри же – просто и почти мирно.
Со своей стороны, Давенант был совершенно уверен, что Георг Ван-Конет прекрасно осведомлен о последствиях его бегства и не упустит случая заранее исказить факты или замять их, если арестованный приступит к разоблачению. Не зная, что ожидать от столь решительного поведения властных лиц в том случае, если он отправит следователю письменное показание, в котором вдобавок было бы невозможно доказать связь поступка Готлиба Вагнера с участием в этом преступлении Ван-Конета, – Давенант ждал суда. Сомнения были и здесь, так как битва «Медведицы» с таможенной стражей никак не относилась к безобразиям Ван-Конета за столом «Суши и моря», но ничего другого Давенант придумать не мог, разве лишь Галеран, если он жив, способен был ему помочь. Положение молодого хозяина гостиницы ухудшалось еще страстным тоном местных газет, находивших случай с «Медведицей» исключительным по дерзости и свирепости сопротивления контрабандистов. Два репортера пытались выхлопотать интервью с Тергенсом и Гравелотом, но им было отказано.
Визит следователя повторился. На этот раз чиновник пришел за подтверждением добытых им сведений о настоящем, втором имени Давенанта и о бегстве его из своей гостиницы, когда таможенный отряд обнаружил два ящика дорогих сигар. Давенант не стал лгать: признавши, что все это так, он рассказал следователю о проделках Готлиба Вагнера, вперед зная, что следователь ему не поверит. Но ни слова о Ван-Конете, опасаясь неизвестных ходов злой силы, уже показавшей свое могущество, он не проронил и, стерпев насмешливую критику следователя в отношении таинственного Вагнера, подписал показание в том виде, в каком это оказание дал. Хотя теперь у суда были основания считать его контрабандистом и притонодержателем, он, как сказано, для всего главного решил ожидать суда.
Существование пленника омрачали жестокие боли, какие приходилось ему терпеть в часы перевязок. Хотя после перевязки Давенант чувствовал некоторое облегчение, но промывание раны и возня с ней были всегда очень мучительны. Врач появлялся в сопровождении надзирателя, следившего за соблюдением правил одиночного заключения. Морщась от болезненных ощущений, но и улыбаясь в то же время, Давенант обыкновенно принимался шутить или рассказывал те смешные истории, каких наслушался довольно за девять лет среди разных людей. Тюремные служащие отлично видели, что Гравелот не контрабандист. Через Тергенса уже шли по тюрьме слухи о ссоре Гравелота с каким-то очень важным лицом высшей администрации, причем, разумеется, играла роль светская дама, но слухи эти, не принимая ни окончательной, ни достоверной формы, породили к Гравелоту симпатию, и, лишь боясь потерять место, врач не делал узнику тех существенных одолжений, одно из которых пало на долю Катрин Рыжей.
Несколько раз в камеру Давенанта являлся начальник тюрьмы, мрачный седой человек с острым лицом. Тщательно осмотрев камеру, окно, нехотя пробормотав:
«Имеет ли заключенный претензии?» – начальник продолжительно взглядывал последний раз на замкнуто следящие за его движениями серые глаза Давенанта и уходил. Однажды, с целью испытать этого человека, Давенант сказал ему, что желает вызвать следователя для весьма существенных показаний. Беглое соображение, мелькнувшее в глазах начальника тюрьмы, выразилось вопросом:
– Какого рода сведения?
– Одно лицо, – сказал Давенант, – лицо очень известное, получило от меня удар в гостинице…
– Относительно всего, что прямо не относится к делу, – перебил, поворачиваясь, чтобы уйти, начальник, – вы должны подать письменное объяснение.
С этим он ушел, но Давенант догадался, что хитрый администратор действует заодно с судом и всякое письменное изложение причин мрачной истории отправит непосредственно губернатору или же уничтожит.
Жар и томление раны вынуждали Давенанта с нетерпением ожидать ночи, когда сон уводил его из тюрьмы в страну грез. Он старался спать днем, чтобы меньше хотелось курить, так как за стояние у форточки приходилось ему платить возобновлением острой боли в колене. Без других собеседников, кроме книг тюремной библиотеки, в отвратительно светлой пустоте камеры, где отсутствовало хотя бы что-нибудь лишнее, так необходимое зрению человека, Давенант отдавался воображению. Иногда он видел Кишлота и красные зонтики девочек, смеющихся так, что все смеялось вокруг. Он бродил с пьяным отцом, искал в темном саду ключ и шел по неизвестной дороге, стремясь обогнуть гору, закрывающую ярко озаренный театр. Но меньше всего он хотел, чтобы те девушки, от которых у него осталось странное впечатление – нежности и любви к жизни, – узнали, где он находится. Тогда они должны были вспомнить его отца. И в простоте сердечной Давенант надеялся, что они уже давно забыли о нем.
Через несколько дней после того, как записка Стомадора была получена Давенантом, начавшим с той ночи напряженно ожидать дальнейших событий, на исходе двенадцатого часа полудня произошла обычная смена дежурств. Новый надзиратель обошел по порядку все одиночные камеры лазарета и последней открыл дверь Тиррея. Это был Факрегед, молодой человек лет тридцати, с нездоровым цветом лица и черными усиками. Его черные небольшие глаза слегка улыбнулись и, тихо прикрыв дверь, чтобы надзиратель общего отделения лазарета случайно не подслушал беседу, он присел на кровать в ногах Давенанта, кивая ему в знак соблюдения спокойствия и доверия. Чувствуя начало событий, но из осторожности только молча и выжидательно улыбаясь, Давенант взял от Факрегеда записку Тергенса, почерк которого ему был уже известен.
Тергенс писал:
«Доверьтесь подателю безусловно. Он не сможет достать только птичьего молока. Т.»
– Давайте ее обратно, – шепнул Факрегед и спрятал записку за подкладку фуражки, – я ее потом уничтожу. Теперь слушайте: все, что нужно передать кому бы то ни было, можете мне сказать на словах, так безопаснее, но, если необходимо писать, тогда приготовьте письмо к вечеру и засуньте его в остаток хлеба, какой получаете на ужин, хлеб можно бросить в миску. Хотя мне и доверяют, но осторожность никогда не мешает. У вас карандаш есть? Так. Возьмите бумаги.
Факрегед вынул из своей записной книжки заранее приготовленные листки, а Давенант спрятал их в прореху матраца.
– Я уже писал, – сказал он, так же торопясь все узнать, как Факрегед, видимо, торопился выйти. – Дошло ли письмо? Где Том Стомадор?
– Уже разыскали Галерана, – поспешно ответил Факрегед, вставая, отходя к двери и стоя к ней спиной. Его рука тянулась взяться за ручку двери. – Действовать будут вовсю. Стомадор торгует напротив тюрьмы. У него лавка.
Вне себя от такого количества важных и поразительных сообщений, Давенант счастливо расхохотался. Крайнее возбуждение выразилось тем, что на его левой щеке проступило яркое красное пятно, захватившее угол глаза и висок; как бы мурашки бегали в щеке, и он бессознательно потер ее.
– Вся щека у вас стала красная, – сказал Факрегед. – Что это такое?
– Я не знаю, нервен я стал в последние дни, – ответил удивленный Давенант. – Что же еще? Как Тергенс?
Факрегед прислушался к неопределенному звуку в коридоре, махнул рукой и выскочил, тотчас щелкнув ключом.
Эти известия отозвались на Давенанте почти как чувство внезапного освобождения, – как если бы уже подан был к тюрьме экипаж увезти его прочь от мрачной игры стен и ключей. «Стомадор против тюрьмы, – повторял Давенант. – Галеран знает обо мне!»
Диковинность человеческих встреч веселила его. Он лежал, тихо смеялся и прислушивался к изредка раздающимся звукам тюрьмы, напоминающим металлические взрывы, голос железа, шаги каменных статуй. Немедленно захотелось ему писать Галерану обо всем, подробно и точно. Воспоминания оживили образ этого человека, к которому он чувствовал уважение и благодарность. Дыша всей силой легких, теснящих оглушенное надеждами сердце, Давенант, презирая боль в ноге, даже находя ее приятной, как незначительное обстоятельство, бессильное повредить другим, более важным обстоятельствам, встал и долго курил у форточки. Наконец нервы его утихли, он сел писать Галерану, стараясь поместить как можно более слов на тех трех листиках, которые дал ему Факрегед. Кое о чем он не писал. Так, он хотел на словах рассказать надзирателю о деньгах и серебряном олене, запрятанных в трещине камня, также на словах передать все имена – от Ван-Конета до Фирса.
Пока он писал, Факрегед методически ходил по коридору, иногда открывая железные форточки дверей и осматривая камеры пытливым взглядом. Открыв форточку Давенанта, Факрегед встретился с ним глазами и, не удержавшись, по-детски усмехнулся той игре в сторожа и заключенного, которую они вели между собой.
Зная, что такой случай представится вновь не очень скоро, Давенант передал сжатыми выражениями, сокращая слова и избегая прилагательных, все существенное своей истории за девять лет, умолчав лишь о том, с какой целью ушел из Покета в Лисе. Не назвав по имени ни одно действующее лицо истории, завязавшейся в «Суше и море», он вечером осторожно постучал в дверь и передал Факрегеду нужные имена, тщательно объяснив, какое отношение к нему имеет тот или другой человек, а также как найти оленя и деньги. Когда Факрегед затвердил урок, что было не трудно для его изощренной в этих делах памяти, они расстались и больше не говорили друг с другом. Вечером Давенант затолкал свое письмо в недоеденный хлеб, и дежурный по лазарету арестант, под наблюдением отдельно приставленного для этой цели надзирателя, а также и Факрегеда, обошел камеры и забрал посуду. Эти посещения происходили всегда быстро, в молчании, без лишних движений, но Факрегед легким наклонением головы дал знать узнику, чтобы он о дальнейшем не беспокоился. Действительно, на другой день письмо было у Стомадора, и он, прежде чем отнести его Галерану, ожидавшему соумышленника в назначенной для того пивной, недалеко от тюрьмы, старательно прочитал его, а затем на особой бумажке, чтобы не перепутать, записал все, что сказал ему Факрегед отдельно от письма Давенанта. Эти имена были: Георг Ван-Конет, Сногден, Вейс, Лаура Мульдвей, дочь и отец Баркеты, Петрония и Фирс.
Особенно интересовал Стомадора камень, в трещину которого Гравелот опустил деньги и серебряного оленя. Розыск этих вещей он брал на себя, зная. как много и без того предстоит Галерану различных хлопот. Кроме того, Стомадор не мог упустить редкий случай прямого участия, связанного воспоминанием о месте битвы с интимной стороной характера лавочника. Никогда и никому не говорил он о ней, мало думал о ней и сам, но эта сторона его характера единственно определяла поступки странного толстяка.
Есть род любителей живописного действия, интриги и волнующего секрета. Точно такой человек был Стомадор, неожиданный подарок которого Давенанту – в виде «Суши и моря» – вытекал лишь из того, что трактирщику надоело ждать в малопосещаемой местности появления кареты с персонажами пятого акта драмы: будь то похищение женщины или таинственное наследство – это было для него безразлично, но он тосковал о невозможности сражаться вместе с осаждаемым гостем против шпаг и револьверов, громящих дверь, заваленную изнутри мебелью. Стомадор дельно догадывался об особой роли в жизни людей таких осиных гнезд всяческих положений и встреч, каковы гостиницы малолюдных мест, но желал он всего такого поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками. И, как это всегда бывает с осуществлением представлений, мрачное несчастье Давенанта, вытекшее из естественной его склонности сопротивляться нечистоте, казалось Стомадору происшествием заурядным, а трещина в камне – осколком достодолжной интриги… Значит ли это, что представление сильнее события? Сказать трудно: видимо, как и с кем.
После многих блужданий и неудач Том Стомадор удовлетворял теперь свою жажду зрителя и участника живописного действия торговлей против тюрьмы, он вошел во вкус этого дела, так как постоянно был в курсе тюремных драм и тайных сношений с контрабандистами. Его увлекло ожидание редких или трагических случаев, а информаторов было достаточно, начиная родственниками заключенных и кончая теми же надзирателями, болтавшими иногда лишнее в задней комнате лавки, где, случалось, они играли и пили.
Накануне этого дня, еще с вечера получив тюремную ведомость относительно продуктов, какие надо было сегодня утром отпустить тюремным рассыльным, Стомадор приготовил товар заранее, работая часть ночи, – все развесил, завернул и уложил в корзины. Ботредж заменил его на остальную часть дня, а Катрин явилась помогать. На вопросы жен надзирателей, куда девался старик, контрабандисты отвечали, что Стомадор уехал проведать больную родственницу.
Накануне этого дня Галеран был у военного прокурора, полковника Херна, желая выяснить дело и добиться разрешения на свидание с заключенным. Рассматривая военное судопроизводство как лабораторную тайну, Херн весьма вежливо и выразительно дал понять Галерану, что он осуждает ходатайства посторонних лиц, хотя бы и симпатизирующих обвиняемому. Однако Херн не мог отказать себе в удовольствии привести статьи закона, по которым четыре человека – Гравелот, Тергенс и еще двое – должны были умереть на виселице. Поэтому разговор продолжался.
– Я не вижу причин, – сказал Херн, – почему обвинение должно быть сдержаннее в отношении Гравелота. Он защищал груз «Медведицы» с яростью собственника, его собственное признание говорит о шестнадцати жертвах, семьям которых таможенное управление должно теперь исхлопотать пенсию. Следствие установило, что мнимый Гантрей есть Джемс Гравелот, владелец гостиницы при одном из береговых пунктов, отчаянно зараженных контрабандой. Гравелот скрылся от обыска, давшего существенные доказательства его участия в контрабандных делах. Нет фактов более убедительных, как хотите.
– Вы правы, – согласился Галеран, не желая раздражать Херна сомнениями. – Мне остается узнать, не возник ли у следствия вопрос о душевной нормальности Гравелота? Характер его ожесточенного сопротивления позволяет задуматься. Хранение контрабанды, если даже это доказано, не есть повод к отчаянию. Или Гравелот болезненна возбудим, или был вынужден почему-то сопротивляться до последней возможности.
Сказав это, Галеран не подозревал, что он коснулся тайной стороны дела, и Херн внимательно посмотрел на него. Губернатор мог сильно повредить прокурору, если бы Херн отказался потворствовать просьбе отца оказать сыну дружескую услугу: выгородить из принявшего неожиданный оборот дела имя Георга Ван-Конета. Эти слова Галерана были причиной того, что Херн категорически отказал ему в свидании с Давенантом. После окончания следствия навещать заключенных могли только ближайшие родственники.
Человек, не имеющий положения в обществе, ничем и никому не известный, основательно утомил Херна. Он встал.
– Свидание невозможно, – повторил Херн. – Относительно предполагаемой сложности характера вашего протеже я должен заметить, что военный суд лишен права углубляться в миросозерцание контрабандистов, как ни любопытен этот вопрос сам по себе.
На том Галеран ушел. Письмо Тиррея просветило его. Но ясность, которой он ожидал, была так сложна по смыслу предстоящего ему действия, что он только махнул рукой, откидывая серьезное размышление на дорожные часы. Ехать прежде всего следовало в Гертон.
– Прочитав письмо, – важно заявил Стомадор, – я понял, что эта история охватывает три момента: семейный момент, личный момент и уголовный момент. Что касается спрятанных в камне денег и других вещей, то, я думаю, лучше будет этим заняться мне, я знаю окрестности. Остальное в ваших руках.
– Да, ступайте и разыщите деньги, – сказал Галеран, – мне же предстоит видеться со всеми людьми, имена которых вы записали. Гравелот нажил безобидных и ничтожных врагов: губернаторскую семью. Острота дела – в трудности доказать связь между таинственным поступком Вагнера и действиями Ван-Конета. Даже доказав это, мы создадим новое, отдельное дело, едва ли помогающее Гравелоту.
– Чрезвычайные затруднения! – озабоченно и торжественно провозгласил Стомадор. – Только ваша голова может одолеть возникающие препятствия, но не моя.
– Гравелот ударил Ван-Конета за оскорбление женщины, – продолжал Галеран, – и если я допускаю, что сигары были подброшены с намерением избегнуть компрометации, возможной после того, как побитый уклонился от дуэли, то любой юрист вправе толковать это как совпадение. Короче говоря, улик нет против Ван-Конета, и, повторяю, если бы они нашлись, – новое дело против Ван-Конета не оправдает Гравелота по делу «Медведицы». Однако ничего другого не остается, как пригрозить сыну губернатора оглаской скандала, чтобы тот пустил в ход все свое влияние ради смягчения участи Гравелота. А для этого я должен заручиться показаниями Баркета, его дочери и Петронии; быть может, нелишне потолковать со Сногденом и Лаурой Мульдвей. В отношении этих лиц нельзя заранее ничего сказать.
– Правильно! – вскричал Стомадор. – Вы рассуждаете, как министр.
– Увы! Как шантажист. Я предпринимаю шантаж, это вам скажет простой судейский рассыльный.
– Рискованная вещь бить сына губернатора по лицу, да еще при свидетелях! – заметил Стомадор, все еще озадаченный поступком Гравелота. – Никак не решусь сказать, мог ли бы я сделать то же на его месте. Вопрос, как хотите, щекотливый!
– Он хорошо поступил, – сказал Галеран. – Это был скромный и добрый юноша. Видимо, создалось положение, когда молчание равно пощечине самому себе.
До этой минуты Стомадор сомневался в разумности действий Гравелота, но искренний тон Галерана отогнал тень условности, мешавшей лавочнику оценить столкновение по существу.
– Действительно, – сказал Стомадор, – я с вами согласен. Это так, хотя и плохо, но так. Признаюсь, когда я читал письмо, то подумал, что малый рехнулся. Он вскипел, а мы вот сидим и ломаем головы, как его теперь выручить. Что заставляет о нем думать? – разрешите задачу. Ведь Гравелот мне даже не родственник. Я вижу его во сне каждую ночь.
– Значит, он нам нужен – мне и вам.
Подумав, Галеран решился добавить:
– Я был бы очень огорчен смертью Кунсгерри, хотя я никогда не видал его.
– Ого! Что же, вы хотите самостоятельно расправиться с ним?
– Пустое! – расхохотался Галеран. – Кунсгерри живет в Шотландии, где нам, верно, не придется бывать. Я прочел в газете, что артист одного театра, Кунсгерри, отказался играть главную роль в новой пьесе. Она ему не понравилась. Он ушел со сцены в конце первого акта. Другой актер, по ходу действия, обернулся к двери, воскликнув: «А! Вот, наконец, этот негодяй Гард! Он торопится! Я слышу его шаги!» Но дверь стояла пустая, и Гард, то есть Кунсгерри, не приходил. Актер повторил, что «Гард торопится». Никто не торопился. Представление оборвалось, и Кунсгерри уплатил крупную неустойку. Так вот, – сказал Галеран, вставая и тщательно пряча письмо Давенанта, – не знаю, понятно ли это вам, но Давенант – как Кунсгерри; он не может уступить в главном, и поэтому я должен его спасти.
– Рассчитывайте на меня, как хотите, – объявил Стомадор, восхищенный необычайным для него оттенком, какой придал всему делу его образованный соучастник, – я в вашем распоряжении. Возвратясь, зайдите ночью ко мне, буду я спать или нет, – тихий тройной стук известит меня о вашем прибытии.
На том они расстались. Лавочник уехал в трамвае к Старому Форту, откуда пешком должен был идти разыскивать камень, а Галеран на автомобиле, управляемом его шофером Груббе, отправился в Тахенбак, прежде всего стремясь расспросить слуг гостиницы, брошенной Давенантом. Кроме того, любопытно было ему увидеть, как жил Тиррей, наружность которого через девять лет он представлял смутно. Галеран все еще помнил его безусым. Эта внушительно и мрачно развивающаяся судьба щемила сердце Галерана, как вид заброшенного красивого дома.
Был пятый час дня. Дорога – та самая, по которой мчался Давенант в Лисе, – даже минуты не оставалось пустой; легкие и грузовые автомобили обгоняли путешественника, виднеясь потом из-за холмов, на отдаленных участках шоссе, подобно пылящим, черным шарам; лязгали, дребезжа, повозки, управляемые хмельными фермерами; фрукты, мешки с орехами и маисом, тюки табаку, мебель и утварь переезжающих из одного поселка в другой двигались все время навстречу Галерану. Знойное безветрие при чистом небе сообщало пейзажу законченную чистоту линий. Бурая трава, сожженная солнцем, переходила с холма на холм оттенками золы, усеянной пятнами камней, глины и колючих кустов. Иным людям движение помогает рассуждать; для Галерана движение было всегда рассеянным состоянием, подобием насыщенного раствора, прикосновение к которому внешней силы образует кристаллы самой разнообразной формы. Он увидел красивую птицу в голубых пятнах по белому оперению, медленно перелетевшую холм, заинтересовался ею и спросил Груббе – не знает ли он, как называется эта птица?
Груббе пожал плечами. Он никогда не думал о птицах.
Галеран видел оранжевые цветы на колючих стеблях, недоступных разящей силе лучей солнца. В мире было много птиц и растений, им никогда не виденных. «Как монотонно и как не любопытно я жил». – размышлял Галеран, испытывая беспокойство, зависть к неузнанному, что бы оно ни было, сожаление о пороге старости и несколько смешное желание жить вторую, ко всему жадную жизнь. Это был для его возраста краткий психоз, но ему вдруг безумно захотелось увидеть все вещи во всех домах мира и проплыть по всем рекам.
К закату солнца путешественники низверглись с плоскогорья, миновав тихие городки южного берега. Было восемь часов вечера, когда экипаж остановился у ресторана «Марк Татанер» в Лиссе. Наскоро пообедав здесь, Галеран продолжал путь.
С рассветом обозначился Тахенбак. Не останавливаясь более, Галеран проехал рудничный городок, прибыв к «Суше и морю» без десяти минут десять часов утра. Усталый, охрипший Груббе остановил машину у деревянной лестницы.
Отсидевший все члены тела за эти восемнадцать часов ускоренного движения, Галеран вышел и осмотрелся, думая, что кто-нибудь появится из гостиницы. Но только теперь заметил он, что на входной двери повешен замок, ставни закрыты изнутри, у правого крыла дома разбита палатка и там стоит человек, вглядываясь в приезжих с самонадеянностью торговца, лишенного конкуренции. Это был обросший черными волосами человек с желтым лицом – итальянец смешанной крови. В своей палатке он устроил прилавок, наставил табуреты, и дым от его жаровни, подрумянивающей ломти свинины, разносил запах еды. Прилавок был уставлен бутылками и сифонами.
– Есть ли кто-нибудь в гостинице? – спросил Галеран, поднимаясь на откос к палатке. – Я хочу видеть служащих Гравелота – Петронию и Фирса. Почему дверь на замке?
Торговец прищурился и вытер о передник сальные руки.
– Все местные жители знают эту историю, – сказал он, – но вы, должно быть, издалека?
– Хотя я издалека, – ответил Галеран, с удовольствием усаживаясь на табурет и знаком приглашая подошедшего Груббе сесть рядом с ним, чтобы восстановить силы вином и жареным мясом, – хотя я издалека, – я знаю, почему исчез хозяин. Тут должны оставаться два человека.
– Так вот…. подождите, – начал объяснять торговец, не любивший торопиться. – Хотите выпить виски? А! Хорошо, я вам все расскажу. Гравелот скрылся от обыска, оставив хозяйство Фирсу. Фирс держал гостиницу открытой четыре дня, после того он с женщиной тайно исчезли, да еще захватили белье, лошадь, повозку и много других вещей, а потому полиция заперла гостиницу. Я согласился ее сторожить. Место глухое.
Конечно, торговать я имею право. Ко мне заходят, потому что дело Гравелота погибло или замерло на время; неизвестно, что будет с гостиницей, но пища и напитки всегда найдутся в моей палатке. Меня зовут Арум Пакко – к вашим услугам. Котлеты, если хотите, придется подождать, есть горячая свинина, колбаса, консервы.
Действительно, так это и было, как рассказал Пакко: деньги, оставленные Давенантом Фирсу, и случайные деньги Петронии расположили этих людей друг к другу скорее, чем затяжное ухаживание. Тяготясь тем, что на руках у них осталось исправное заведение, по делам которого им, может быть, пришлось бы дать отчет Гравелоту, Петрония с Фирсом, забрав вещи поценнее, скрылись и уехали на пароходе в Лисе, намереваясь открыть там табачную лавку.
Груббе ничего не знал о планах Галерана, и это заурядное мошенничество рассмешило его, но, взглянув на озадаченного хозяина, он понял, что тот отнесся к делу серьезнее. Перестав смеяться, Груббе заметил:
– Экие прохвосты!
– Да, Груббе, это – прохвосты, но они были мне очень нужны, – сказал Галеран, – искать их, разумеется бесполезно.
Пакко, слыша этот разговор, начал стараться выведать цели путешественников, но Галеран уклонился от объяснений. Пока он с Груббе ел и пил, умолкший Пакко стоял к ним спиной у входа палатки и, засунув руки в карманы, насвистывал, разглядывая машину, как отвергнутый посторонний, имеющий право судить все, а о выводах умолчать. Эти выводы свелись, впрочем, к импровизированной надбавке платы за водку и кушанье.
Отдохнув, Галеран уехал, и Груббе через пятнадцать минут доставил его в Гертон, по адресу Баркета. Хозяина мастерской не было дома. Тогда Галеран попросил приказчика сообщить дочери Баркета, Марте, что приехавший из Покета Орт Галеран желает говорить с ней по делу ее отца.
– Если у вас неотложное дело, – сказала Марта, появляясь в мастерской и расположенная внешностью Галерана к обходительности, всегда руководящей промышленниками, когда, по их мнению, посещение обещает выгоду, – я проведу вас в нашу контору. Отец должен вернуться через двадцать минут, он отправился принимать заказы на электрическую рекламу.
Конторой Марта называла в известных случаях часть прохода из мастерской в квартиру, где находились телефон и письменный стол Баркета. Несколько медных, фаянсовых и эмалевых досок были прибиты к стене, привлекая внимание выразительной бессмыслицей случайного подбора этих образцов ремесла Баркета. Единственно удачно висели рядом: «Родовспомогательная лечебница Грандиссона» и «Бюро похоронных процессий Байера».
Оглушенный долгой ездой, не спав ночь, Галеран сел на предложенный ему стул и удержал Марту, хотевшую выйти.
– Пока ваш отец не вернулся, – сказал он, заключая по внешности девушки, что теперь будет положено начало борьбы за Давенанта, – мне хочется сказать о цели моего визита вам.
– Хорошо, – ответила Марта, поспешно садясь и что-то предчувствуя, отчего ей стало неловко дышать. Галеран назвал себя.
– Ваша помощь необходима, – заговорил он. – Я сразу объясню дело. Джемс Гравелот заключен в тюрьму по обвинению в хранении контрабанды и сопротивлении береговой охране. Нет сомнения, что ему был подкинут запрещенный товар – сообразите сами – как раз вечером того дня, когда вы и отец ваш были свидетелями скандала в гостинице Гравелота.
Марта вспыхнула, затем опустила голову. Ее руки дрожали. Подняв лицо, она глядела на Галерана так беспомощно, что он отнес эти знаки волнения на счет ее сочувствия пострадавшему.
– Я… – сказала Марта.
Галеран, помедлив и видя, что она умолкла, продолжал:
– Да, ваши чувства я понимаю. Размышляя так и этак, я вывел заключение, что спасти Гравелота можно лишь через Ван-Конетов, дав им выбирать или огласку пощечины, а также всех безобразных выходок Георга Ван-Конета, или же деятельное участие этих влиятельных лиц в спасении невинно запутавшегося Гравелота. Но, чтобы иметь успех, нужны свидетели. Я уверен, что вы не откажетесь свидетельствовать против негодяя. Гравелот, в сущности, заступался за вас. Я прошу о том вас и намерен просить вашего отца.
Марта успела подавить замешательство. Взяв со стола линейку, она притронулась ее концом к нижней губе и, не отнимая линейку, смотрела на Галерана круглыми, очень светлыми глазами.
– Вот что … – сказала она. – Вы меня страшно удивили. Ни о каком скандале мы ничего не знаем. Я, право, не знаю, что подумать. К тому же вы говорите, что Гравелот арестован. Вот ужас! Мы знаем Гравелота. Уверяю вас, все это – сплошное недоразумение.
Опустив взгляд, она прикусила конец линейки и с силой выдернула ее из зубов, затем, робко взглянув на Галерана, медленно положила линейку и выпрямилась.
– Вы испугали меня, – сказала Марта. – Как понять? Галеран откинулся, болезненно переведя замкнувшееся дыхание. Сердце его начало стучать и тяжело.
– Вы должны это сделать.
– Но я ничего не могу, я ничего, ничего не знаю! Вы, может быть, спутали! Идет отец! – облегченно воскликнула девушка, стремясь удалиться.
Толкнув стеклянную дверь, вошел раскрасневшийся от жары Баркет с готовой любезной улыбкой, обращенной к посетителю.
Вид дочери осадил его.
– Ты что? – быстро спросил он.
– Отец, вот.. – Марта взглянула на Галерана, – вот это к тебе, о Гравелоте, – добавила она, запоздало пожав плечом и тотчас уходя в комнаты.
Баркет медленно, думающим движением снял шляпу и посмотрел на Галерана светло раскрытым, напряженным взглядом лжеца.
– Да, да, – забормотал он, – как же! Я Гравелота знаю очень хорошо. Должно быть, месяц назад я заезжал к нему с Мартой последний раз.
Галеран вторично назвал себя и объяснил:
– Я – друг Гравелота. Баркет, вы были у него в тот день, когда он ударил Ван-Конета за издевательство над вашей дочерью.
Баркет увел голову в плечи и вытаращил глаза.
– Да что вы! – вскричал он. – О чем вы говорите? Объясните, ради бога, я страшно встревожился!
– Гравелот не будет лгать, – сказал Галеран. – Неужели это так трудно: сказать правду ради хотя бы спасения человека, которому вы прямо обязаны?
– Если вы объясните, в чем дело … Поймите, что я поражен! Не однажды я останавливался в «Суше и море», но я не могу понять, о чем речь!
В течение по крайней мере минуты оба они молчали. Баркет выдерживал красноречивый взгляд Галерана с трудом и наконец опустил глаза.
– Если вы засвидетельствуете столкновение. Граве-лот будет спасен. Он арестован. Подробности я уже рассказал вашей дочери. Она вам передаст их. Мне тяжко их повторять.
– Уверяю вас, что вы поддались какой-то сплетне., – заговорил Баркет, но Галеран его перебил:
– Так вы настойчиво отрицаете?
– Отрицаю. Это мое последнее слово. Но я бы хотел все-таки…
Галеран не дослушал его. Покачав головой, он взял шляпу и вышел, бросив на ходу:
– Стыдно, Баркет.
Он уселся в автомобиль, нисколько не упрекая себя за так кратко и решительно оборванный разговор. Бесполезно было далее убеждать этих что-то обдумавших и решивших людей в низости их молчания. Галеран еще не отчаивался. У него возникла мысль говорить с Лаурой Мульдвей и Сногденом. По характеру событий, как они были кратко выражены Тирреем в его письме, Галеран отчасти представлял этих людей, их роль около Ван-Конета; он знал, что даже человек резко порочный, если к нему обращаются в надежде на проявление его лучших чувств, скорее может проговориться или изменить себе, чем Баркеты. Однако точного плана не было. Только случайность или минутное настроение – род благородной слабости – могли помочь Галерану в его неблагодарном труде – вырвать из естественно развившегося заговора клок шерсти таинственного животного, именуемого уликой. Отбросив размышления относительно еще не создавшихся сцен, веря в наитие и надеясь лишь на не оставлявшую его силу надежды, Галеран поехал в гостиницу, где занял большой номер. Не зная, что будет дальше, он хотел иметь помещение для приема и сна.
– Будьте наготове, – сказал Галеран Груббе, – я должен говорить в телефон и, может быть, тотчас опять поеду. Если же этого не случится, вы займете номер 304-й, как я условился с управляющим гостиницей, а машину отведете в гараж. Я вас извещу.
Терпеливый, безмерно усталый, но преданный Гале-рану человек, видя, что его хозяин расстроен, молча кивнул и вытащил из ящика для инструментов бутылку виски. Выпив столько, чтобы согнать болезненное отупение бессонной ночи, Груббе облокотился на дверцу и стал рассматривать прохожих. Было жарко. Он ослабел, склонился и задремал.
Как сказано ранее, Лаура Мульдвей и Сногден отправились в Покет, продолжая давние отношения с Ван-Конетом, и скоро Галеран узнал, что его хлопоты безрезультатно оканчивались. По-видимому, ничего другого ему не оставалось, как возвратиться. Он был отчасти рад, что эти лица в Покете, на месте действия; не поздно было попытаться, так или этак, говорить с ними по возвращении. Внутренне остановясь, Галеран сел в кресло и принялся курить, задерживая трубку в зубах, если размышление бессодержательно повторялось, или вынимая ее, когда мелькали черты возможного действия. Хотя самые важные свидетели отошли, он пересматривал заново группу людей, чья память хранила драгоценные для него сведения, и ждал намека, могущего образовать трещину в сопротивляющемся материале несчастия. Решение задачи не приходило. Единственный человек, к которому мог еще обратиться Галеран, не покидая Гертона, был Август Ван-Ко-нет. Ничего не зная ни о нем, ни об отношении его к сыну, Галеран думал о его существовании как о факте, и только. Однако эта мысль возвращалась. При умении представить дело так, как если бы свидетели налицо и готовы развязать языки, попытка могла кое-что дать. Галеран выколотил из трубки пепел и вызвал телефонную станцию – соединить его с канцелярией Ван-Конета.
Должно быть, телефонные служащие работали усерднее, если им называли номера небольших цифр, но только утомленный глухой голос очень скоро произнес в ухо Галерана:
– Да. Кто?
Август Ван-Конет был один, измучен ночным припадком подагры, в одном из тех рассеянных и пустых состояний, когда старики чувствуют хрип тела, напоминающий о холоде склепа. Ван-Конет осматривал минувшие десятилетия, спрашивая себя: «Ради чего?» В таком состоянии упадка задумавшийся губернатор, не вызывая из соседней комнаты секретаря, сам взял трубку телефона. Эта краткая прихоть выражала смирение.
Разговор начался его словами: «Да. Кто?»
– За недостатком времени, – сказал Галеран, – имея на руках осень важное и грустное дело, прошу сообщить, может ли губернатор сегодня меня принять? Я – Элиас Фергюсон из Покета.
– Губернатор у телефона, – мягко сообщил Ван-Конет, все еще охваченный желанием простоты и доступности. – Не можете ли вы коротко передать суть вашего обращения?
– Милорд, – сказал Галеран, поддавшись смутному чувству, вызванному терпеливым рокотом печально звучащего голоса, – одному человеку в Покетской тюрьме угрожает военный суд и смертная казнь. Ваше милостивое вмешательство могло бы облегчить его участь.
– Кто он?
– Джемс Гравелот, хозяин гостиницы на Тахенбакской дороге.
Ван-Конет понял, что слух кинулся стороной, вызвав неожиданное вмешательство человека, говорящего теперь с губернатором тем бесстрастно почтительным голосом, какой подчеркивает боязнь случайных интонаций, могущих оскорбить слушающего. Но состояние прострации еще не покинуло Ван-Конета, и ехидный смешок при мысли о незавидной истории сына, вырвавшийся из желтых зубов старика, был в этот день последней данью его подагрической философии.
– Дело «Медведицы», – сказал Ван-Конет. – Я хорошо знаю это дело, и может быть…
«Не все ли равно?» – подумал он, одновременно решая, как закончить обнадеживающую фразу, и дополняя мысль о «все равно» равнодушием к судьбе всех людей. «Не все ли равно – умрет этот Гравелот теперь или лет через двадцать?» Легкая ненормальность минуты тянула губернатора сделать что-нибудь для Фергюсона. «Жизнь состоит из жилища, одежды, еды, женщин, лошадей и сигар. Это глупо».
Он повторил:
– Может быть, я… Но я хочу говорить с вами подробно. Итак…
Внезапно появившийся секретарь сказал:
– Извините мое проворство: акции Сахарной компании проданы по семьсот шесть и реализованная сумма – двадцать семь тысяч фунтов – переведена банкам Рамона Барроха.
Это означало, что Август Ван-Конет мог сделать теперь выбор среди трех молодых женщин, давно пленявших его, и дать годовой банкет без участия ростовщиков. Вискам Вач-Конета стало тепло, упадок прошел, осмеянная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами, дело Гравелота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном:
– Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме.
Секретарь сказал Галерану:
– За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию.
– Хорошо, – сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим проявлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Давенанта.
Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться.
Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль.
Груббе спал, потный и закостеневший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул Груббе, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покатил с быстротой ветра. Вдруг Груббе проснулся.
– Держи вора! – закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль.
– Груббе, очнитесь, – сказал Галеран, – и быстро следуйте по этой дороге: она ведет обратно, в Покет.
Глава X
Поздно вечером следующего дня Стомадор ждал Галерана, играя сам с собой в «палочки» – тюремную игру, род бирюлек.
Весь день Галеран спал. Очнувшись в тяжелом состоянии, он выпил несколько чашек крепкого кофе и отправился на окраину города. Около тюрьмы он задержался, всматриваясь в ее массив с сомнением и решимостью. Денег у него было довольно. Оставалось придумать, как дать им наиболее разумное употребление.
Спотыкаясь о ящики в маленьком дворе лавки, Галеран разыскал заднюю дверь, постучав именно три раза. Мелочам тайных дел он придавал значение дисциплины, отлично зная, что пустяковая неосторожность начала может увести далеко от благополучного конца, как расхождение линий угла.
Стомадор бросил игру и открыл дверь.
– Вернувшись на рассвете, – сказал Галеран, – я так устал, что сразу лег спать. Ничего дельного не дала эта поездка. Нет даже скважины, которую можно было бы расширить, все наглухо закрыто со всех сторон. Гостиница на замке, люди Гравелота обокрали его и исчезли. Баркет с дочерью отказались – они твердят, что не были в «Суше и море». Имеете ли вы сведения?
– Никаких, кроме того, что ноге Гравелота легче. Гравелот, Тергенс и другие ждут со дня на день обвинительного акта. Я вынул из камня деньги. Бедный Джемс! Даже слуги общипали его. Что касается меня, я обыскал все камни. Их было одиннадцать, таких, которые подходили к описанию. Уже смеркалось, зловеще шумел прибой… И вдруг моя рука нащупала в глубине боковой трещины самого большого камня нечто острое! Я вытащил серебряного оленя. Буря и выстрел! Остальное было там же. Вот оно, все тут, считайте.
Внимательно посмотрев на Стомадора, Галеран сдержал улыбку и рассмотрел находку лавочника. Пересчитав деньги, он отдал половину их Стомадору, говоря:
– В дальнейшем у вас будут расходы. Они могут быть значительными, а потому спрячьте деньги эти у себя.
Серебряный олень стоял возле руки Галерана. Взяв вещицу, Стомадор повертел ее:
– Да, это что такое, по вашему мнению? Я, признаюсь, долго ломал голову над вопросом – зачем Джемс таскал эту штуку с собой? Стоит она немного.
– Вероятно, память о чем-то или подарок, – ответил Галеран, рассматривая оленя. – Олень, видимо, дорог ему. Тогда сохраним его и мы. Спрячьте оленя, он, может быть, стоит дороже денег.
Лавочник убрал деньги и фигурку в стенной шкаф, откуда, кстати, вытащил бутылку портвейна.
– О нет! – сказал Галеран, видя его гостеприимные движения с стаканчиками и темной бутылкой.
Забрав счета Давенанта, квитанции и записную книжку в свой карман, Галеран продолжал:
– Я выпью с вами, но только по окончании важного разговора. Голова должна быть свежа.
– А! Хорошо… Но бутылка может стоять на столе, я думаю, – осведомился Стомадор. – Так как-то живописнее. Мы все-таки сидим «за бутылкой».
– Безусловно. Итак, сядьте, Стомадор. Может ли кто-нибудь нам помешать?
– Нет, я никого не жду и никому не назначил прийти в этот вечер. Я знаю, о чем хотите вы говорить.
– Если так, ваша проницательность окажется вообще полезной.
– Бегство?
– Да.
Достаточно помолчав, чтобы ожидаемое мнение прозвучало авторитетно, Стомадор пожал плечами и начал катать ладонью на столе круглые палочки.
– Это невозможно, – сказал он медленно и уныло, как человек вполне убежденный. – Два года назад бежали через стену, обращенную к пустырю, шесть воров. Они проломали стену нижнего этажа и вылезли из двора по веревочной лестнице, которую закинули им снаружи их доброхоты. После этого – а это был пятый случай в году, хотя все случаи разного рода, – гребень стены обведен тройным рядом проволоки электрической сигнализации; вокруг тюрьмы, с трех ее сторон, значит – по пустырю и двум переулкам, дежурит надзиратель, расхаживающий от конца до конца своего маршрута. Что касается четвертой стены – там наблюдает дежурный у ворот; ему хорошо видно влево и вправо. А так как стены освещены электричеством, как это вы видели, пробираясь ко мне, то побег возможен двумя способами: отбить арестанта у конвоиров автомобиля, когда увозят в суд, или научить арестанта перелетать стену наподобие петуха. Но и петуху не взлететь, потому что стена будет ему не по зубам: она шести метров высоты, как хотите, так и думайте. А от вооруженного нападения нам, я думаю лучше воздержаться.
– Да, я тоже так думаю. Однако ваши слова меня не обескуражили.
Стомадор, наморщив лоб и выпятив губы, размышлял. Ничего дельного он придумать не мог.
– Так близко от нас Гравелот, – сказал Галеран, указывая рукой к тюрьме, – что, если идти к нему по прямой линии, надо будет сделать не более тридцати шагов.
– Да. А между тем все равно, что от Земли до Луны.
– Так и не так, – ответил Галеран. – Скорее – не так, чем так. Вам очень дорога ваша лавка?
– Что вы задумали? Моя лавка … – Стомадор прикинул в уме. – За передачу ее мне я уплатил четыре месяца назад прежнему хозяину сто фунтов. Годовая прибыль составила бы триста фунтов, а наличный товар оцениваю в сто пятьдесят фунтов. Однако тюремная администрация хлопочет устроить собственную лавку, и, если это случится, я брошу дело. Прибыль дает одна тюрьма. Сторонних покупателей мало.
– Полторы тысячи фунтов, – сказал Галеран. – Они ваши, лавка моя. Хотите?
– Или я поглупел, или вы сказали неясно, понять не могу.
– Было бы несправедливо, – объяснил Галеран, – требовать от вас такой жертвы, как отдать лавку бесплатно для устройства подкопа. Подкоп – единственный путь спасения. Я покупаю лавку и устраиваю подкоп. Ту же ночь, как все будет сделано, вы уедете, чтобы не занять место Гравелота. Хотите ли вы поступить так? Мои соображения…
– Остановитесь, дайте подумать! – закричал Стомадор, ухватив Гравелота за пальцы лежащей на столе руки и крепко зажмуриваясь. – Не говорите ничего. Дайте сосредоточиться. Один момент. Я, должно быть, сам хочу чего-нибудь в этом роде. Лавка в вашем распоряжении. Берите ее. Также хороши полторы тысячи. Я говорю это не из корысти. О них сказано к месту, – Увы! – Я – необразованный человек, – заключил он, открывая глаза и колыхаясь на стуле от разгоревшейся в нем страсти к подкопу. – Я не могу выразить… но то, как мы сидим… и о чем говорим…, свет лампы, тени… и бутылка вина! Да, вы – министр! Министр заговора!
Уже рука лавочника тянулась к бутылке, чему Галеран теперь не препятствовал. Возбужденные замыслом, они должны были утишить его пленительный гул, обаяние первых его минут действием и вином. За первой бутылкой скоро последовала другая, но вино не опьянило ни Галерана, ни Стомадора, лишь увереннее стал их азарт, требующий начать.
– Вполне возможное дело, – сказал Галеран, кончая курить. – Теперь выйдем, осмотрим поле битвы; хотя вам давно известна топография этого участка города, я должен согласовать свои впечатления с вашими и кое о чем столковаться.
Они вышли, но не в калитку лавочного двора, а в узкий проход между лавкой от ворот тюрьмы стеной двора. Этот закоулок был почти доверху завален пустыми бочонками. Встав на них так, что видна была мостовая, Стомадор указал Галерану часть тюремной стены против себя.
– Там лазарет, – сказал Стомадор. – Однако его точное расположение мне неизвестно. Пока это и не требуется, я думаю. Но он тут, за стеной, я знаю, потому что однажды помогал надзирателю тащить корзины с провизией и видел внутри двора, направо от ворот, узкий одноэтажный корпус. Ботредж сидел в тюрьме, он знает, что это здание – лазарет. Теперь надо его расспросить подробно.
– Мы расспросим Ботреджа.
Галеран переводил взгляд от ограды лавки к противоположной стене тюрьмы, определяя на глаз длину подземного хода. Для этого он употребил прием некоторых охотников, когда им сомнительно, достигнет ли заряд дроби определенную цель. Он представил ширину улицы ощутительно большей действительности – двадцать метров, а затем также ощутительно меньшей – десять метров; двадцать плюс десять, деленные пополам, указали приблизительную длину подкопа от лавки до тюремной стены. Следовало установить толщину этой стены, прикинув треть метра для выходного отверстия, и толщину ограды лавки, за которой думал он начать рыть внутренний ход к Давенанту.
– Не лучше ли, – возразил на его объяснения Стомадор, – снять часть кирпичного пола в моей комнате и выйти к лазарету под лавкой?
– При такой нелегкой задаче четыре-пять лишних метров – страшное дело.
– Жаль, что вы правы моя комната – самое скрытое место для работы.
– Чем вы закроете вертикальную шахту? Не кирпичами, конечно, а деревянный щит может быть замечен нежелательным посетителем. Тогда будут ходить справляться из тюремной канцелярии, как двигается наша затея. Нет лучше этого закоулка. Ночью безлюдно. Когда мы пройдем метра полтора-два горизонтального направления на достаточной глубине, – сверху не будет ничего слышно. К утру над вертикальной шахтой невинно лежат ящики и солома. Землю будем убирать в сарай. Он пуст?
– Там есть товар, но его можно перетащить под брезент в угол двора. – Стомадор прыгнул с бочонка и поддержал Галерана, оставившего наблюдательный пункт. – Ну, я вам скажу, что если эта штука пройдет, начальник тюрьмы сядет в яму и, как Иов древний какой-нибудь, высыплет себе на голову тонну золы или песку, не знаю точно, что употребляется в таких случаях. Вы допустили ошибку на треть метра. Нет нужды проходить за тюремную стену даже на дюйм – рыть прямо под фундамент. Как упремся – чуть в строну, и ход сделан.
– Это верно, – согласился, подумав, Галеран. – И вот почему хорошо такие вещи обсуждать вместе. Верно; однако при условии, что не ошибемся расстоянием, когда начнем копать выход вверх.
– Место, где будем находиться, мы определим очень точно: просверлим свод катакомбы длинным сверлом. Вышедший наружу конец укажет, надо ли двигаться еще дальше или все уже сделано.
Так они совещались вполголоса перед дверью лавки и увидели длинную фигуру Ботреджа, спотыкающегося в темноте об ящики.
– Кстати, кстати, Ботредж. За перцовой? Вы не уйдете, так как обсудите с нами одно важное дело.
– Стоит сюда зайти, как задержишься, – сказал Ботредж простуженным голосом, стараясь рассмотреть Галерана.
– Надо вам познакомиться, – обратился Стомадор к Галерану, который, со своей стороны, наблюдал, – каков Ботредж и можно ли ему верить.
Из осторожности Галеран сказал вымышленное имя – Орт Сидней, – а Ботредж так и остался Ботреджем.
Заговорщики вошли в комнату. Недоумевая, о каком важном деле предстоит разговор, и жалуясь, что всю прошлую ночь дрожал от холода на шлюпке, далеко от берега, в ожидании судна с кокаином, не явившегося по неизвестной причине, а потому простудился, Ботредж сел против Галерана. Стомадор вытащил из шкафа литровую бутыль перцовки и банку с консервами. После того лавочник сел на свое место за середину стола.
– Не бойтесь, Ботредж, – сказал Стомадор. – Господин Сидней не наш, но свой… вот видите – вышел каламбур.
– Я не боюсь, – быстро ответил контрабандист, взглядывая на Галерана с вежливой улыбкой, при этом в его лице сверкнула бессознательная смелая черта, и Галеран поверил в него.
– Что же, будем пить? – осведомился Стомадор у Галерана, который утвердительно кивнул, пояснив:
– Теперь можно пить, главное решено.
– Ботредж, – начал Стомадор, – если я появлюсь за тюремной стеной как раз против моей лавки, что очутится передо мной? Какого рода картина?
– Так надо знать, куда вы гнете и к чему. Ясно, что можно попасть в несколько разных мест.
– Вы правы, – сказал Галеран. – Дело в том, что предстоит рыть подкоп из двора этой лавки к лазарету и освободить Гравелота. Иным образом ему спастись невозможно. Надо знать, в каком месте за стеной тюрьмы выгоднее рыть выходное отверстие.
Ботредж ничем не выдал своего изумления, но хитро поглядел на Стомадора.
– Вы уже пили перцовку? – спросил он, не зная – шутить или отвечать серьезно.
– Когда шутили в моем доме такими вещами?
– Ну, дядя Стомадор, это я так. Судите сами, а я расскажу устройство двора за той стеной, которая против нас, с воротами. Налево от прохода между воротами примыкают к нему квартиры начальника и его помощника, а направо, то есть в нашу сторону, к проходу примыкает цейхгауз. Его продолжение вдоль стены есть тот самый лазарет. На правом его крыле садик из кустов, куда днем водят больных, если разрешает доктор. Только в этот садик вы и можете попасть. Я выпью, – сказал Ботредж, помолчав, – и потом буду вместе с вами соображать. Дело дерзкое, что говорить, однако возможное.
– Почему же это ты выпьешь? Мы тоже выпьем. – Стомадор наполнил стаканчики и подвинул каждому вилку – брать из жестянки мясо. Сам он выпил последним и, голодный, начал основательно есть.
– Кто стряпает вам? – захотел узнать Галеран.
– Никто, представьте. Я питаюсь своими товарами, так привык, от горячего я сонлив.
– Вот только как выйти из лазарета? – сказал Ботредж. – Дверь хотя и с правого крыла на конце здания, но она расположена по фасаду, ее видит часовой внутренних ворот. Он сидит там на скамье, у своей будки, или ходит взад-вперед.
Все призадумались.
– Вот видите, – сказал Стомадор Галерану, – обстоятельство это не пустяковое.
– Эта дверь куда открывается? – Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе. – Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево, к воротам, или направо?
– На… лево, – сказал, подумав, с уверенностью Ботредж. – Да, налево, так как я работал в садике и видел ее. А мой глаз, как – положительно – фотография.
– Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового. – Галеран снова принялся думать. – Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?
– Пожалуйста, я могу.
– Он силен, – сказал Стомадор, – только на вид костляв.
Тогда Ботредж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения, какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы – о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из подкопа землю, – возникли сами собой. Без Факрегеда ночью в лазарете не обойтись – таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботреджу, при помощи Катрин Рыжей и Кравара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав:
– Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом.
Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботредж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботредж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон.
– Отец? – спросил он, давая знак начинать игру.
– Такой же, как я.
Стомадор низко нагнулся над столом, высматривая свободно лежавшую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была больная, воровская игра, требующая совершенного расчета движений.
Вначале Стомадор убрал из кучки, где откатывая, где нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой, пять штук, затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась.
– Играй ты. Слушай, нам нужен третий, двое не могут рыть и поднимать грунт вверх. Переговори с Даном Тергенсом.
– Лучшего работника не сыскать, – ответил, таща палочку, Ботредж. – Но только Дану будет обидно, что его брата повесят.
– Вы, Ботредж, должны знать, – возразил Стомадор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию, – что, если Гравелот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван-Конета, и тогда всех пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты.
– Я поговорю, – Ботредж снял восьмую палочку, а на девятой ошибся. – Но главное все-таки не в том, – вздохнул он. – Стоп, вы тронули!
– Ничего не двинулось, что ты врешь!
– Я не слепой.
– Играйте, если вы так упрямы, – сказал с досадой лавочник. – Это у вас глаза качаются. На что мы играем?
– На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факрегеде. Единственно, если он будет дежурным по лазарету.
– Придется подумать.
– Думать должен он, а вы хлопочите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется.
Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит двадцать кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной девятнадцать, даже двадцать метров, при высоте один с четвертью метр на один метр ширины, получалось около двадцати пяти кубических метров плотной массы; разрыхленная, она увеличивалась в объеме. Эти тридцать пять – сорок кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам.
Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботреджу одновременно пришла весьма существенная мысль – обстоятельство, о котором, странным образом, не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех: что представляет собою почва между тюрьмой и лавкой?
– Дядя Стомадор, – воскликнул Ботредж, – мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк.
– Быть не может! – сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботредж.
Стомадор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботредж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил.
Подрыв ножом небольшое углубление, Стомадор возвратился и бросил на стол беловато-желтый кусок.
– Рыхлый травертин, – облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб. – Можно резать ножом.
Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковинный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками «травертин», плотностью чуть крепче штукатурки.
Щели ставен начали бледнеть; приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Тиррея. Ботредж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику.
Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомадора передать на словах через Факрегеда, когда тому представится случай.
Глава XI
Никогда Давенант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений – лишением свободы. Он старался, как мог, твердо переносить тройное свое несчастье: заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства; тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Давенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон…» – и просыпался в тюрьме.
Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами, – звук голоса заставляет повиноваться. Давенант постучал в дверь. «Отоприте», – сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь. Давенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футроз. Вскоре Давенант увидел знакомый дом, и сердце его забилось. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Давенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Роэна и Элли сидели там нисколько не старше, чем девять лет назад, о чем-то советуясь между собой; они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки. «Это я, – сказал им Давенант, – будем стрелять в цель». – «Теперь нельзя», – сказала Рой, и Элли тоже сказала: «Нельзя, мы должны носить камни, и, пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры». – «Бросьте камни, – сказал Тиррей, – я – голос, и вы должны слушаться. Бросьте!» – крикнул он так громко, что проснулся, и, ломая, калеча видение, проникла в него тюрьма.
С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Давенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминание знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать.
Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями: один знает то, другой – это, взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению; критика и оптимизм создают иллюзию действия; но одиночный арестант всегда только сам с собой, его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное – легким. Его материал – лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном.
В мечтах о бегстве первым и далеко не всегда оправдывающим себя магнитом служит окно камеры – естественный, казалось бы, выход, хотя и загражденный решеткой. Квадратное окно камеры Давенанта, обращенное на двор, нижним краем приходилось ему по плечи, так что, пользуясь разрешением тайно курить, за что платил, он должен был приставлять к окну табурет и пускать дым в колпак форточки. Стекла, вымазанные белой краской, скрывали двор; окно никогда не открывалось, а двойная решетка требовала для побега стальной пилы; но, если бы Давенант даже имел пилу, отверстие в двери, через которое днем и ночью посматривал в камеру надзиратель, решительно отстраняло такой способ освобождения. Допуская, что окно раскрылось само, узник мог выйти на двор, в лапы надзирателя, караулящего внутренние ворота. По всему тому версии побега, измышляемые Тирреем, сводились к устранению надзора и изготовлению веревки с якорем на конце, зацепив который за гребень стены он мог бы подтянуться на руках и спрыгнуть на другую сторону. Забывая о больной ноге, он устранял надзирателя разными способами – от соглашения с ним до нападения на него, когда тот входил в камеру, осматривая помещение после проверки числа арестантов в девять часов вечера. Он размышлял о проломе той стены лазарета, которая была также частью наружной стены двора, о бегстве через окно и крышу, но в какие хитроумно-сказочные формы ни облекались эти витания среди материальных преград, неизменно его обессиленное воображение слышало при конце усилий своих окрик больной ноги. Иногда ему было хуже, иногда лучше; рана не закрывалась, и опухоль колена отзывалась болезненно при каждом серьезном усилии. Давенант старался лежать на спине. Когда же мечты об освобождении или живые чувства, непозволительные для арестанта, сильно волновали его, – потребность курить становилась нервной жаждой. Пренебрегая ногой, Давенант ковылял к окну и там курил трубку за трубкой. После таких движений его нога делалась тяжелой, как железо, она горела и ныла; утром при перевязке врач качал головой, твердя, что нужно не шевелиться, так как рана сустава требует неподвижности.
В шесть часов утра дверь камеры открывалась, дежурный арестант под наблюдением надзирателя ставил на стол у койки молоко, хлеб, яйцо всмятку или молочную рисовую кашу, затем, быстро подметя бетонный пол щеткой, сгребал сор в ящик и удалялся к другой камере, а дверь запиралась. Через день после того, как Галеран ночью советовался с Ботреджем и лавочником, дежурный арестант с проворством и точностью движений обезьяны бросил в кожаную туфлю Тиррея туго свернутую бумажку; надзиратель не заметил его проделки. Когда оба они ушли, Давенант раскрыл книгу, выданную из тюремной библиотеки, и под ее прикрытием стал читать записку Галерана, утешившую и обрадовавшую его, как свидание. Впервые писал ему Галеран, писал сжато и твердо. Самый тон записки должен был ободрить заключенного.
«Дорогой Тиррей, – писал Галеран, оставивший слово „ты“ как напоминание прошлого, – я принял меры к облегчению твоей участи. Гостиница закрыта и заперта местной полицией, твои работники исчезли, захватив деньги, данные тобой Фирсу. Моя поездка в Гертон оказалась безрезультатной. Баркеты изменили тебе. Их не было у тебя в тот день. Существенные меры, какие я имею ввиду, могут все изменить к лучшему. Будь спокоен и жди. Мне трудно представить тебя взрослым, а потому я как бы видел тебя только вчера. Г.»
Слезы потрясли Давенанта, когда он кончил чтение, – столь чудесной казалась ему эта верность отношения к нему чужого человека, различного с ним возрастом и опытом, который, может быть, ставил мысленно себя на место Тиррея по какому-то тайному сближению их судеб, по сочувствию к душевной линии, приведшей Тиррея в мир и стены страдания. Давенант не понимал, что означает выражение «существенные меры», но не стал размышлять о том до более спокойной минуты, хотя непроизвольно ему мерещились уже светлые, свободные улицы города.
В тот день он испытал еще одно потрясение, повод к которому был как бы глухим смехом в лицо смутных надежд: около десяти часов состоялось вручение обвинительного акта, переданного Давенанту под расписку в получении начальником тюрьмы. Это был лист отпечатанного на всех четырех страницах машинкой текста, сухо, но подробно излагающего существо дела с преданием обвиняемого военному суду, и означающий смерть.
Весь этот день Давенант курил, почти не отходя от окна, и разглядывал под уклоном железного колпака вентилятора слои облаков, перерезанные чертой телеграфного провода.
Глава XII
Не теряя времени, четыре заговорщика – Галеран, Ботредж, Стомадор и Дан Тергенс, черноволосый, с круглым лицом, спокойный, как сыр, человек, – взялись за трудную работу соединения двора лавки с двором тюрьмы узкой траншеей. Галеран оставил свое намерение – попытаться узнать что-нибудь от Сногдена и Лауры Мульдвей; наведя справки, он убедился, что люди этого сорта не могут ничем помочь спасти Давенанта.
Вечером следующего дня, когда погасли огни в домах окраины, Дан Тергенс с Ботреджем принесли на двор Стомадора кирку, лом, мотыгу, бурав, пилу, стальные клинья, два фонаря, четыре пары войлочных туфель, ленту-рулетку, четыре смены парусиновой рабочей одежды коричневого цвета и сверток веревок. Тергенс и Ботредж пришли теперь со стороны пустыря, где между сараем и стеной существовал заложенный досками проход, чтобы надзиратель у ворот тюрьмы не задумался над их грузом. Впоследствии работающие проникали на двор Стомадора тем же путем, так что надзиратель не видел их; так же они и уходили.
Вскоре пришел Галеран. Он увидел, что закоулок между лавкой и оградой уже очищен от бочек и другого хлама. Все собрались тут, разговаривая шепотом. Опаснейшей частью дела было пробитие начальной отвесной шахты, – шум движения и удары инструментов могли привлечь внимание случайного прохожего, и, вздумай тот поглядеть через забор, увидел бы он, что почему-то ночью роют колодец. Различные мнения относительно глубины этого колодца затянули начало действия, однако Галерану удалось доказать необходимость двух с четвертью метров глубины, считая метр на высоту горизонтального прохода, а остальное – на толщину свода во избежание обвала при движении на мостовой тяжелых грузовиков, а также чтобы заглушить опасные в тишине ночи звуки работы.
– Переднюю стенку колодца, обращенную к тюрьме, – сказал Дан Тергенс, уже не выпускающий из рук кирки, – надо ровнять по отвесу, левую – тоже, от них придется взять направление.
– В колодце должно быть просторно для начала рытья горизонтального хода, – прибавил Ботредж, – нельзя, чтобы локти и спина мешали размаху.
– Может ли залить водой? – спросил Галеран.
– Едва ли, – сказал Стомадор, – место возвышенное. Сырость, может быть, будет.
– Уйдите все, – решил Тергенс, – тут тесно. Я вас позову. Начинаю!
Он сгреб лопатой тонкий слой верхней земли и щебня, оставшегося от постройки, расчистив квадрат метр на метр. Край лопаты стал белым от травертина, лопата скребла его легко, как засохшую грязь, отскакивали даже небольшие куски. Но все взволнованно ждали решительного проникновения кирки, чтобы убедиться в исполнимости замысла. Ударив киркой раза три, Тергенс засунул в дыру лом и легко выворотил пласт мягкого известняка величиной фута в два.
– Пойдет, – сказал он, тотчас закуривая трубку и смотря в углубление. – Терпеть и долбить, более ничего. А теперь все уйдите. Стойте, – шепнул он, когда другие собрались уходите – вот для начала. Говорят, это хорошая примета.
Он показал обломок подковы и спрятал его в карман.
– Смотрите, не ускачите, – сказал Стомадор, – вы теперь так подкованы…
Оставив Тергенса за его делом, немного ему знакомым, так как этот человек работал несколько лет назад в угольной шахте, заговорщики уселись вокруг стола у Стомадора. Ботредж начал играть с лавочником в «палочки», а Галеран налил себе вина и погрузился в раздумье. Сегодня ему сказал Ботредж, что Факрегед будет дежурным по лазарету завтра, но не знает, на какой день попадет его следующее дежурство на том же посту. Кроме того, подкоп ничего не стоил, если второй надзиратель – дежурный общего отделения лазарета – окажется неподатливым к соблазну крупной суммы, которую решил дать, если она понадобится, Галеран. Кто будет этот второй? В тюрьме служило тридцать надзирателей, а расписание дежурств составляла канцелярия. Каждый из надзирателей мог заболеть, получить отпуск; их посты менялись периодически, но неравномерно. Почти не поддавалась расчету комбинация надзирателей, тем более важная, что оба они должны были бежать вместе с Гравелотом. Однако Факрегед сообщил, что он примет все меры быть дежурным по лазарету, если серьезные причины вынудят устроителей побега самим назначить ночь освобождения узника. От Ботреджа Галеран узнал, как ловко ведет свои дела Факрегед он считался одним из самых примерных служащих. Это обстоятельство давало Галерану надежду.
Прошел час, прошло еще полчаса, но не видно и не слышно было Тергенса; казалось, он ушел глубоко в землю и бродит там, рассматривая окаменелости. Вдруг дверь тихо открылась. Довольный собой, задыхающийся Тергенс явился перед сидящими за столом; его ноги были по колено в белой пыли, известью захватаны рукава рубашки, а шея почернела от пота; он взял лежащую в углу парусину и начал переодеваться.
– Идите смотреть, – сказал Тергенс, обхлопывая штаны. – Травертин – милый друг и более ничего.
Ободренные его тоном, заговорщики поспешили к закоулку. У стены зияла квадратная яма глубиной по грудь человеку. Высокая куча известняка громоздилась перед ней; грунт был сух на ощупь и ломался в руках, как сухой хлеб.
– Иди, я тебя буду учить, – сказал Ботреджу Тергенс. – Тут надо приноровиться. Если трудно брать киркой, действуй буравом, потом бурав выдерни, засунь лом и раскачивай, толкай в одну сторону. Тогда кусок отойдет.
Сказав так, он умолк, потому что не любил лишних слов. Наступило время работы для всех. Приспособив два ящика, заговорщики ссыпали в них лопатой куски известняка я уносили в сарай. Между тем Ботредж, оказавшийся значительно сильнее Тергенса, могуче хрустел в колодце вырываемой почвой. Заменив свою одежду купленной парусиновой, не отдыхая, лишь уходя изредка курить в комнату, четыре человека к пяти часам ночи убрали весь мусор, закончили вертикальный колодец и, завалив его бочками, разошлись, усталые до головокружения. Галерану не дали рыть. Зная сам, что не справится с этим, он не протестовал, но уносил грунт так же энергично и бодро, как все. Хуже других пришлось Стомадору, страдавшему короткорукостью и одышкой, но он не посрамил себя и только пыхтел.
Итак, они расстались, сойдясь снова вместе к полуночи. Работа была так тяжела, что Галеран, Ботредж и Тергенс спали весь день; лишенный отдыха Стомадор бродил по лавке, дремля на ходу, и его покупатели были довольны, так как он обвешивал и обмеривал себя чуть ли не при каждой покупке. В полдень явилась Рыжая Катрин и отчасти выручила его, взявшись торговать, а Стомадор проспал четыре часа. После тяжелого пробуждения ему пришлось лечиться перцовкой; тем же способом раскачались и остальные, каждый у себя дома. Галеран никуда не выходил; опустив занавеси окон, сидел он у себя в номере, а вечером принял теплую ванну.
Как наступила полночь, ночная прохлада восстановила энергию заговорщиков, и они приступили к пробиванию горизонтального хода, свод которого шел под углом, как односкатная крыша, во избежание обвала. Чтобы определить направление – поперек шахты, сверху, Галеран уложил деревянную рейку, направленную к тому месту тюремной стены, где оканчивалось здание лазарета. У стены была пометка в виде камня, оставленного там Ботреджем, причем он пользовался точными указаниями Факрегеда. Направление глубины Тергенс установил другой, короткой рейкой, забитой в дальнюю от тюрьмы стенку шахты на самом ее дне, и уровнял ватерпасом параллельно верхней рейке. Этот несовершенный по методу, но достаточный при небольшом расстоянии способ удовлетворил всех. Итак, убрав верхнюю направляющую рейку, оставили до конца работы нижнюю, чтобы, натягивая от нее привязанный шнур, уверенно копать дальше.
Таким образом, дело наладилось, причем главная работа досталась Тергенсу и Ботреджу. Сменяясь каждый час, они шаг за шагом углублялись к тюрьме. Работать им приходилось главным образом острым ломом, сидя на земле, по причине малой высоты этой траншеи, или стоя на коленях. Привязав веревку к небольшому ящику, Галеран и Стомадор вытаскивали его время от времени полный извести и относили в сарай. Натоптано и засорено по дворику было ужасно. Кончив работу, они прибирали двор, тщательно мыли руки, очищая пальцы от набивавшейся под ногти извести, чтобы не вызвать вопросов у покупателей о причине странного вида пальцев. Ботредж и Тергенс, вылезая наверх выпить стакан вина, вытряхивали из-за воротника известковый мусор. Волосы и лица их стали белыми от пыли; мелкие осколки часто попадали в глаза, и они мучительно возились с удалением из-под века раздражающих микроскопических кусочков, опустив лицо в таз с водой и мигая там со стиснутыми от рези глазного яблока зубами, пока не удаляли причину страдания. Даже плотная парусина пропускала едкую пыль, зудевшую тело. Однако увлечение работой и видимый уже ее успех держали работающих в состоянии чувства головокружительно опасной игры. Фонарь теперь горел внутри шахты, за спиной шахтера, освещая вертикальное поле борьбы, торчащее перед глазами неровным изломом. Тесно и глухо было внутри; духота, пот, усиленное дыхание заставляли часто пить воду; ведерко с водой было поставлено там, чтобы не выходить без нужды; Тергенсу пришла удачная мысль поливать грунт водой. Как только это начали делать, пыль исчезла и дышать стало легче. Галеран спустился заглянуть, как идет дело, и ощутил своеобразный уют дико озаренной низкой и узкой пещеры, где тень бутылки, стоявшей на земле, придавала всему видению характер плаката. К наступлению утра Тергенс и Ботредж работали полуголые, сбросив блузы, в одних штанах; их спины, скользкие от пота, блестели, распространяя запах горячего тела и винных паров. Оба обвязали платками головы.
Ничего не зная о почвах, Стомадор тем временем ожидал открытия клада; заблудившийся между романом и лавкой ум его созерцал железные сундуки, полные золотых монет старинной чеканки. На худой конец он был бы рад черепу или заржавленному кинжалу как доказательствам тайн, скрываемых недрами земли. Однако выносимая им известковая порода мало развлекала его, лишь окаменевшие сучки, раковины и небольшие булыжники попадались среди бело-желтой массы кусков. Все время чувствовал он себя на границе чрезвычайных событий, забывая, что они уже наступили. Такое скрытое возбуждение помогало ему бороться с одышкой и изнурением, но он заметно похудел к рассвету второго дня работы, и Ботредж ощупал его с сомнением, спрашивая, – хватит ли при такой быстрой утечке жира его жизни на шесть-семь дней.
– Теряя в весе, – ответил лавочник, – я молодею и легче бегаю по двору. А тебе что терять? Ты высох еще в чреве матери твоей, оттого что она мало пила.
На трех метрах работа была оставлена, двор прибран, и, съев окорок ветчины, залитый хорошим вином, заговорщики разошлись, едва не падая от усталости. Галеран высчитал, что через пять дней подкоп будет окончен, если не помешает какой-либо непредвиденный случай. В эту ночь Тергенс и Ботредж получили от него по десять фунтов. Умывшись, переодевшись, они несколько посвежели; тотчас отправясь играть в один из притонов, оба, разумеется, спустили все деньги и там же улеглись спать. Стомадор проспал три часа и проснулся от звона заведенного им будильника. Катрин больше не помогала ему, так как он, что называется, «обломался», вошел в темп. Следующей ночью заговорщики продвинулись вперед еще на три метра. Желая узнать, слышны ли наверху удары лома, Стомадор вышел на мостовую над тем местом, где внизу рыл Тергенс, но, как ни вслушивался, кроме слабых звуков, не имеющих направления и напоминающих падение меховой шапки, ничего не расслышал. Это очень важное обстоятельство позволило бы работать под землей даже днем, если бы не необходимость тотчас относить прочь вырытый известняк, который, в противном случае, забивал ход вертикальной шахты, таскать же землю можно было только ночью.
Работа шла как обычно и окончилась к пяти утра. Видя свои успехи, четыре человека так воодушевились, что смотрели на окончание затеи почти уверенно.
Два важных известия отметили наступающий день во двор пришел переодетый Факрегед, передав Галера-ну обвинительный акт, исписанный на полях карандашом и посланный Давенантом через арестанта-уборщика, сносяшегося со шкипером Тергенсом.
Было воскресенье. Прочтя сообщение Тиррея и документ, составленный сухо и беспощадно, Галеран по малому сроку, остающемуся до суда, который назначался на понедельник, увидел, что медлить нельзя. Тщательно измеренное пространство между тюрьмой и лавкой указывало солидный остаток толщины грунта десять с четвертью метров, не считая работы над выходом.
Состоялся род военного совещания, на котором решили назначить день бегства, повинуясь только необходимости. Чтобы Тергенс и Ботредж могли работать круглые сутки, Стомадор придумал дать им мешки, куда они должны были складывать известняк и приставлять их к выходу наверх, чтобы после закрытия лавки Галеран и лавочник снесли их в сарай.
– Если выдержим, – сказал Тергенс, – то утром в понедельник или же вечером в понедельник дело окончится. Придется пить. Трезвому ничего не сделать. Но раз нужно, мы сделаем.
Второе важное сообщение касалось дежурства по лазарету: расписание дежурств на следующую неделю ставило Факрегеда с двенадцати дня понедельника до двенадцати вторника на внутренний пост в здании тюрьмы; если бы Мутас, назначаемый одним из дежурных по лазарету, не вышел, заменить невышедшего, согласно очереди, должен был Факрегед. Он брался устроить так, чтобы Мутас не вышел. Что касается второго дежурного по общему отделению лазарета, Факрегед прямо сказал, что ему нужно триста пятьдесят фунтов, но не билетами, а золотом.
– Придется рисковать, – сказал Факрегед. – Или он возьмет золото тут же на месте, когда наступит момент, или я его оглушу.
После долгого разговора с Факрегедом Галеран убедился, что имеет дело с умным и решительным человеком, на которого можно положиться. У Галерана не было золота, и он дал надзирателю ассигнации, чтобы тот сам разменял их. Галеран отлично понимал, какой эффект придумал Факрегед. Кроме того, они условились, как действовать в решительную ночь с понедельника на вторник. Если все сложится успешно, Факрегед должен был уведомить об этом, бросив через стену палку с одной зарубкой, а при неудаче – с двумя зарубками. Сигнал одной зарубкой означал: «Входите и уведите». Как условились – в четверть первого ночи Факрегед откроет камеру Давенанта; уйдут также оба надзирателя; Груббе с автомобилем должен был стоять за двором Стомадора на пустыре.
Такой вид приняли все вопросы освобождения.
Глава XIII
На полях обвинительного акта Давенант писал Галерану о суде, болезни и адвокате.
«Суд состоится в понедельник, в десять часов утра. Волнения вчерашнего дня ухудшили мое положение. Я не могу спокойно лежать, неизвестность и предчувствие ужасного конца вызвали столько печальных мыслей и тяжелых чувств, что овладеть ими мне не дано. С трудом волочу ногу к окну и, поднявшись на табурет выкуриваю трубку за трубкой. Иногда меня лихорадит, чему я бываю рад; в эти часы мрачные обстоятельства моего положения приобретают некую переливающуюся, стеклянную прозрачность, фантазии и надежды светятся, как яркие комнаты, где слышен веселый смех, или я становлюсь равнодушен, получая возможность отдаться воспоминаниям. У меня их немного, и они очень отчетливы.
Военный адвокат, назначенный судом, был у меня в камере и после тщательного обсуждения происшествий заключил, что мой единственный шанс спастись от виселицы состоит в молчании о столкновении с Ван-Конетом. По некоторым его репликам я имею основание думать, что он мне не верит или же сам настолько хорошо знает об этом случае, что почему-то вынужден притворяться недоверчивым. Внутренним чувством я не ощутил с его стороны ко мне очень большой симпатии. Странно, что он рекомендовал мне взвалить на себя вину хранения контрабанды, мое же участие в вооруженной стычке – объяснить ранением ноги, вызвавшим гневное ослепление. На мой вопрос, буду ли я доставлен в суд, он вначале ответил уклончиво, а затем сказал, что это зависит от заключения тюремного врача. „Вы только выиграете, – прибавил он, – если ваше дело разберут заочно, – суд настроен сурово к вам, и потому лучше, если судьи не видят лица, не слышат голоса подсудимого, заранее раздражившего их. Кроме того, при вашем характере вы можете начать говорить о Ван-Конете и вызовете сомнение в вашей прямоте, так ясно обнаруженной при допросах“. Пообещав сделать все от него зависящее, он ушел, а я остался в еще большей тревоге. Я не понимаю защитника.
Дорогой Галеран, не знаю, чем вызвал я столько милости и заботы, но, раз они есть, исполните просьбу, которую, наверно, не удастся повторить. Если меня повесят или засадят на много лет, отдайте серебряного оленя детям Футроза, вероятно, очень взрослым теперь, и скажите им, что я помнил их очень хорошо и всегда. Чего я хотел? Вероятно, всего лучшего, что может пожелать человек. Я хотел так сильно, как, видимо, опасно желать. Так ли это? Девять лет я чувствовал оторопь и притворялся трактирщиком. Но я был спокоен. Однако чего-нибудь стою же я, если шестнадцати лет я начал и создал живое дело. О Галеран, я много мог бы сделать, но в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет!
Я и лихорадка исписали эти поля обвинительного акта. Все, что здесь лишнее, отнесите на лихорадку. Дописывая, я понял, что скоро увижу вас, но не моту объяснить, как это произойдет. Больше всего меня удивляет то, что вы не забыли обо мне.
Джемс – Тиррей».
Галеран очень устал, но усталость его прошла, когда он прочел этот призыв из-за тюремной стены. Он читал про себя, а затем вслух, но не все. Все поняли, что медлить нельзя.
– Гравелот поддержал наших, – сказал Ботредж, – а потому я буду рыть день и ночь.
– Работайте, – сказал Галеран контрабандистам, – я дам вам сотни фунтов.
– Заплатите, что следует, – ответил Тергенс, – тут дело не в одних деньгах. Смелому человеку всегда рады помочь.
– Когда я покину лавку, – заявил Стомадор, – берите весь мой товар и делите между собой. Двадцать лет я брожу по свету, принимаясь за одно, бросая другое, но никогда не находил такой дружной компании в необыкновенных обстоятельствах. Чем больше делаешь для человека, тем ближе он делается тебе. Итак, выпьем перцовки и съедим ветчину. Сегодня, как всегда по воскресеньям, лавка закрыта, спать можно здесь, а завтра вы все будете отдыхать под землей, туда же я подам вам завтрак, обед, ужин и то, что захотите съесть ночью, то есть «ночник».
Восстановив силы водкой, обильной едой, сигарами и трубкой, заговорщики спустились в подкоп. Они достигли такой степени азартного утомления, когда мысль о цели господствует над всеми остальными, создавая подвиг. Спирт действовал теперь только на мозг; сознание было освещено ярко, как светом магния. Засыпая, они видели во сне подкоп, просыпаясь – стремились немедленно продолжать работу. Пока не взошло солнце, дышать было легко, но после девяти утра духота стала так сильна, что Тергенс обливался потом, а чем дальше углублялся он к тюремной стене, тем труднее было дышать. Чтобы не путаться во время коротких передышек, заговорщики начали работать попарно: Галеран с Тергенсом, а Ботредж со Стомадором. Не имея возможности выпрямиться, все время согнувшись, сидя на коленях или в неудобном положении, они вынуждены были иногда ложиться на спину, чтобы, насильственно распрямляясь, утишить ломящую боль суставов. Трудно сказать, кому приходилось хуже – тому ли, кто оттаскивал тяжелые мешки к одной стороне прохода, лучше и сильнее зато дыша, так как был ближе к выходному отверстию, или тому, кто рыл, – то сидя боком, то полулежа или стоя согнувшись.
Работать приходилось всем, что было под рукой. Иногда Тергенс или Ботредж ввинчивали бурав, делая ряд скважин, и, расшатывая известняк ломом, вырывали его затем ударами кирки. Случалось, что их ободряли легко обламывающиеся пустоты, куда лом проваливался, как сквозь скорлупу, но попадались и упорные места, которые надо было долбить. Когда углубились уже за середину улицы, известняк начал отсыревать, что указывало близость источника, и до позднего вечера работа протекала под страхом воды, могущей залить ход. Но этого не случилось. До тюремной стены известняк оставался влажным – слева сильнее, чем справа, однако не в такой степени, чтобы образовалась жидкая грязь. Подкоп выдержал до конца. Когда набитые руками мешки вытянулись у стены хода, Стомадор и Ботредж подняли их наверх и высыпали в сарай, где уже возвышалась гора известняка. Товар был удален: в сарае едва хватало пространства, чтобы поместить остальной грунт. Утреннее движение началось, а потому стало опасно носить мешки через двор, так как возникло бы подозрение. Тогда решили рассыпать известняк вдоль всего хода, пробитого к одиннадцати часам еще на два метра, а ночью заняться уборкой грунта в сарай. К этому времени Стомадор едва держался на ногах. Тергенс сел у выхода и заснул, держа кирку в руках; Ботредж жадно пил воду. Никто не мог и не хотел есть. Прибегли к перцовке, единственно возвращающей осмысленный вид дергающимся небритым лицам с красными от пыли глазами. Разбудив Тергенса, Ботредж увел его в лавку, где все разделись, обмылись холодной водой и легли голые, лицом вверх, на разостланные по полу одеяла. Повесив у задней двери замок, Стомадор залез в лавку через дворовое окно и закрыл ставни. Он лег рядом с Ботреджем.
Распростертые тела четырех человек лежали, как трупы. Лишь пристально вглядываясь, можно было заметить, что они слабо дышат, а на шеях их вздуваются и опадают вены. Этот болезненный сон длился до пяти часов вечера. Воздушная ванна сделала свое дело – дыхание стало ровнее. Тергенс стонал во сне, Стомадор мудро и мирно храпел. Первым проснулся Галеран, все вспомнил и разбудил остальных, лишь мгновение лежавших с дико раскрытыми глазами. Они встали; одевшись – поели, чувствуя себя, как после долгого гула над головой. Теперь условились так: чтобы не показалось странным долгое отсутствие Стомадора, лавочник остается дома на случай появления клиентов или Факрегеда с известиями; остальные уходят под землю и пробудут там до наступления полуночи, после чего предполагалось вновь отдохнуть. Когда они спустились, лавочник закрыл выход ящиками, но так, чтобы не затруднить доступ воздуха.
За этот вечер были к нему три посещения обычного рода: жена надзирателя, купившая пачку табаку и колоду карт, пьяный разносчик газет, никак не рассчитывавший, что Стомадор охотно даст ему в долг вина, а потому хотевший излить свои чувства, но прогнанный очень решительно, и сосед-огородник, забывший, за чем пришел. Однако на этот раз Стомадор не угостил его, сказав, что «болит голова». Как стемнело, явилась Рыжая Катрин, закурила и села.
– Дядя Стомадор, Факрегед передает вам новости: его смена наладилась. Без бабы вам, видно, никак не обойтись.
– Говори скорей. Вот выпей, выкладывай и уходи; лучше, чтобы никто не видел тебя здесь. Мы теперь всего боимся.
– Значит, работа у вас налажена? Я думала, что стучат. Ничего не слыхать.
– Стучит у меня в голове. Будешь ты говорить наконец?
– Факрегед дал мне обработать Мутаса, чтобы тот валялся больной завтра, к двенадцати дня, когда сменяются. Я это дело наладила. Мутаса подпоил Бархатный Ус и передал его мне. Он у меня. Вы видите, я подвыпивши. Мы нашли одного человека, который будто бы хлопочет поступить в надзиратели. Мутас расхвастался, а тот его поит, даже денег ему дал. И будет поить целые сутки. Утром я Мутасу дам порошок, чтобы проспал лишнее. Все в порядке, дядя Стомадор, а потому угостите меня.
– Ты не рыжая, ты – золотая, – объявил Стомадор, наливая ей коньяку. – Выпей и уходи. Ну, как твой Кравар?
– Так что же Кравар? Он ничего. Стал ходить и даже не совсем скуп. Нельзя сказать, что он скуп. Я удивилась. Теперь хочет жениться. Только он страшно ревнив.
– Возьми его, – сказал лавочник, – потом будешь жалеть.
– Видите ли, дядя Том, я – честная девушка. Какая я жена?
Катрин ушла, а Стомадор вышел к подкопу и, отвалив бочки, увидел Галерана, стоявшего в колодце, уронив голову на руки, прижатые к отвесной стене. Он глубоко вздыхал. Ботредж валялся у его ног с мокрой тряпкой на голове. Тихо раздавались удары Тергенса, крошившего известняк.
– Очнитесь, – сказал лавочник Галерану, – выйдите все, надо пить кофе. Иначе вы умрете.
– Никогда! – Галеран бессмысленно посмотрел на него. – Что нового?
– Факрегед будет дежурить.
– Да? – отозвался Ботредж, приподнимаясь. – Сердце начинает работать.
Согнувшись, выглянул снизу Тергенс.
– Все выйдем, – заявил он. – Силы кончаются. Завалили весь ход. Отдохнув, начнем убирать.
Он сел рядом с Ботреджем, свесив голову и машинально отирая лоб тылом руки.
Стомадор расставил ноги пошире, нагнулся и начал помогать обессилевшим труженикам выходить на двор.
Глава XIV
В понедельник весь день дул холодный ветер, и это обстоятельство значительно облегчило работу, превратившуюся в страдание. Ночь, вся потраченная на уборку лома из подкопа, так вымотала работающих, что их мысли временами мешались. Чем длиннее становился проход, тем мучительнее было сновать взад и вперед, сгибаясь и волоча мешки с кусками известняка. Ободранные колени, руки, черные от грязи и засыхающей крови, распухшие шеи и боль в крестце заставляли иногда то одного, то другого падать в полусознательном состоянии. Оставалось им пробить два с небольшим метра, но, выкопав целый коридор для карликов, они чувствовали эти два метра, как пытку. В противовес оглушенному сознанию и сплошь больному телу, их дух не уступал никаким препятствиям, напоминая таран. Иногда, оглядываясь при свете фонаря вперед и назад, Галеран испытывал восхищение: эти четырнадцать метров тоннеля, совершенно прямого, вызывали в нем гордость оправдывавшей себя настойчивости. Тергенс заметно сдавал. Он почти не говорил; глаза его обессиленно закрывались, и он, словно умирая, на мгновение делался неподвижен; Ботредж поддерживал силы яростной бранью против, тюрьмы, суда и известняка, а также вином. Вино и табак были теперь единственной пищей всех четверых.
В понедельник от часа дня и до шести вечера Тергенс, Галеран и Ботредж забылись тяжелым сном, сидя у выходного отверстия, и, как стемнело, проснулись, тотчас приложившись к бутылкам. Их разбудил Стомадор, который вынужден был весь день торговать, засыпая на ходу и отвечая покупателям не всегда вразумительно. Катрин посетила его, купив для вида жестянку кофе.
– Присуждены все к повешению, – сказала женщина, – Факрегед в лазарете. Ночью в пять часов приговоренных увезут в крепостную тюрьму, где есть такие же трое по другим делам, там будут казнить.
Ужас, понятый всякому, кто полюбил человека за то, что делает для него, отозвался в ногах лавочника дрожью отчаяния. Он пошел и разбудил Галерана, сказав о приговоре. Хотя надо было ожидать только такого приговора, известие это превзошло все искусственные способы подкрепления нервной системы. В молчании началась работа.
В десять часов вечера палка с одной зарубкой ударилась о мостовую и легла неподалеку от лавки. Стомадор поднял ее.
Было бы бесцельной жестокостью описывать эти последние часы, представляющие ни бред, ни жизнь, полуобморочные усилия и страх умереть, если не хватит пульса. Единственно спирт спасал всех. К половине двенадцатого было вырвано у земли все определенное расчетами расстояние – и снизу вверх образовалась шахта, закупоренная над головой слоем в полтора фута. Груббе, получивший через Катрин известие, приехал окольной дорогой и стал на некотором отдалении на пустыре за сараем Стомадора. Наспех переодевшись в темные, простые костюмы, заменив туфли башмаками, взяв деньги, револьверы, заперев лавку и очистив проход от инструментов, так что отчетливость во всем была до конца, заговорщики приступили к освобождению Давенанта.
Оставив Тергенса у фонаря, среди прохода, Ботредж, Стомадор и Галеран подошли к последнему препятствию, висевшему над головой потолком из земли и корней. Стомадор держал лесенку наготове. Неимоверные усилия последних часов ошеломили всех. Дышать было почти нечем. Тергенс, рухнув у фонаря, сидел, опираясь стеной о стенку, и, протянув ноги, хрипло дышал, свесив голову. Ботредж тронул его за плечо, но тот только махнул рукой, сказав: «Водки!» Вынув из кармана бутылку, контрабандист сунул ее в колени приятеля и присоединился к Галерану.
Галеран и Стомадор, сжимаясь в тесноте, пропустили Ботреджа, самого высокого из них, нанести своду последние удары. Ботредж не мог действовать киркой вверх, он взял лом и ровно в пятнадцать минут первого, по часам Галерана, вонзил лом. Обрушился град земляных комьев. Шепнув: «Берегитесь», хотя стоявшим нагнувшись в горизонтальном проходе Галерану и лавочнику не угрожало ничто, Ботредж пошатал лом, еще глубже просунул его наверх и, действуя как рычагом, едва успел сам закрыться рукой: земля провалилась и засыпала его до колен. В дыру хлынул сквозняк; лунное небо, разделенное веткой куста, открылось высоко над запорошенным лицом контрабандиста. Торопливо подставив лесенку, Ботредж руками обвалил неровность краев, расширил отверстие и хлопнул себя по бокам.
– Ворвались! – шепнул Ботредж. – Ждите теперь! Отверстие пришлось на расстоянии двух шагов от стены. Торжество людей, хрипло дышавших воздухом тюремного двора, было высшей наградой за изнурение последнего ужасного дня. Даже обессилевший Тергенс тихо отозвался издали: «Пью. Слышу… Превосходное дело!» Все трое толкались и теснились у отверстия, как рыбы у проруби, ожидая, что вот-вот затемнит свет луны тень Давенанта, выпущенного Факрегедом из камеры.
Ничто не прошумело, не стукнуло; ни шагов, ни шороха наверху, и вдруг Галеран увидел Факрегеда, опустившегося над ямой на четвереньки. Их взгляды сцепились. Растерянное лицо Факрегеда поразило Галерана.
– Где он? – шепнул Галеран. – Давайте его. Прыгайте сами. Экипаж готов.
– Сорвалось, – сказал Факрегед, ломая ветку куста, царапающую лицо.
– Что случилось?
– Ему не выйти. Не сделать ни одного шага. Он в жару и в бреду, иногда только лепечет разумное. Сил у него нет. Я его хотел посадить, он обессилел и свалился. Весь день курил и ходил. К вечеру – как огонь, но доктора решили не звать, на что надеемся – сами не знаем. Бросив вам палку, я видел, что он плох, но думал – дойдет, а там его унесут. За последние два часа как громом поразило его.
Устранив Мутаса, Факрегед все же сильно боялся, что его дежурство окажется внутри тюрьмы, как назначалось по расписанию, а в лазарет отправится кто-нибудь другой. Факрегеда выручила его репутация неумолимого и зоркого стража, которую он поддерживал сознательно. Обстоятельства предстоящей трагедии склонили помощника начальника тюрьмы на сторону Факрегеда. Друг контрабандистов подкупил второго надзирателя по лазарету, Лекана, прямо и грубо раскрыв перед ним руки, полные золота. Прием оказался верен: никогда не видавший столько денег и узнав, что бегство обеспечено, Лекан поддался очарованию и согласился участвовать в освобождении приговоренного.
Пятьдесят фунтов Факрегед взял себе.
Так нестерпимо, так ужасно прозвучало мрачное известие, что Галеран немедленно взобрался вверх и, задыхаясь от скорби, очутился в саду лазарета. Он оглянулся. За ним стоял Ботредж; Факрегед поддерживал вылезающего Стомадора.
– А вы куда? – спросил Галеран.
– Все вместе, – сказал Ботредж. – Ночь лунная, будем гулять.
В его глазах блестел редко появляющийся у людей свет полного отречения.
– Для чего же я жил? – сказал Стомадор. – Теперь ничто не страшно.
Факрегед скользнул к углу здания, где открытая дверь заслоняла собой вид на ворота. Оттуда доносился негромкий разговор надзирателей.
– На волоске так на волоске, – прошептал он. – Идите тихо за мной.
Один за другим они проникли в ярко освещенный коридор общего отделения. Галеран увидел бледного, трясущегося Лекана, который, беспомощно взглянув на Факрегеда, получил в ответ:
– Готовьтесь ко всему, отступление обеспечено. Слыша тревожное движение в коридоре, некоторые арестанты общей палаты проснулись и лежали прислушиваясь, с возбуждением зрителей, толпящихся у дверей театра. «Что там?» – сказал один. «Увозят казнить», – ответил второй. «Кто-нибудь умер», – догадывался третий. Из одиннадцати бывших там больных только один почувствовал, в чем дело, и так как он был осужден на двадцать лет, то закрыл уши подушкой, чтобы не слышать растравляющих звуков безумно-смелого действия.
Лекан остался, чтобы лгать арестантам, если бы они вздумали вызвать его, из любопытства, звонком, а остальные углубились в коридор одиночных камер и подошли к двери Тиррея. Услышав шаги, он отрешился от неясных фигур бреда, стиснул сознание и направил его к звукам ночи. «Идут за мной; как поздно и ненужно теперь, – думал он, – но как хорошо, что они пришли. Или мне все это кажется? Ведь все время казалось что-то, оно отлетает и забывается. Недолго мне осталось жить. Когда смерть близко, все не совсем верно. Но я не знаю». Я хочу, – вслух продолжал он, радостно и дико смотря на появившегося перед ним Галерана, – чтобы вы подошли ближе. Вы – Галеран. Орт Галеран, мой друг…
Увидев воспаленное лицо Давенанта, Галеран стремительно подошел к нему.
– Неужели прокопали улицу поперек?
– Да, Тиррей, сделано, и мы пришли, – сказал Галеран, еще надеясь, что очевидность наступившего освобождения поднимет это исхудавшее тело. Он с трудом узнал того юношу, каким был Давенант. Странно и тягостно было такое свидание, когда сказать хочется много, но нельзя терять ни минуты.
Галеран сел в ногах Тиррея. Стомадор и Ботредж встали у столика.
– Джемс, я тут, – шепнул лавочник, – мы не оставим тебя.
– А это кто? Это Стомадор, – продолжал Давенант, которому в его состоянии ничуть не казалась удивительной сцена, представляющая сплошной риск. – Репный пирог, Стомадор, навеки соединил нас. Орт Галеран, мой друг. Вы совсем белый, да и я такой же – внутри.
– Мужайся, тебя спасут. Все готово. Встань, мы поедем ко мне, в загородный мой дом. Автомобиль ждет. Ты уедешь на пароходе в Сан-Риоль или Гель-Гью.
– Немыслимо, Галеран. Должно быть, вы самый милый человек из всех, кого я знал, а я, кажется, знал кого-то..
– Да встань же, глупый!
– Прикован. Окончился как ходок.
– Три раза я помещал в газетах объявление о тебе.
– Я не читал газет… Я долго не читал их, – сказал Давенант.
– Я вернулся через два дня после твоего исчезновения. У меня было много денег. Твоя доля – несколько тысяч. Она цела.
– Мне тогда нужно было только сто фунтов. Ах, как я искал вас!
Давенант любовно смотрел на него, желая одним взглядом передать все, о чем трудно было говорить. Наморщась, он приподнял руку и, вздохнув, уронил ее.
– Вот так и я, – сказал он, – еще меньше силы во мне.
Галеран откинул одеяло и тихо опустил его. Нога, надувшись, красновато блестела; Ступня, слившись с икрой, потеряла форму.
– Не берегся? – сказал ужаснувшийся Галеран. – Что же теперь?
– Как я мог беречься? – ясно, но с трудом говорил больной. – Беречься, тихо лежать с могильным песком на зубах! Да. – я не мог. Со мной поступили гнусно, мне обещали, что меня привезут в суд, однако все было решено без меня.
Факрегед заглянул в камеру. Бледный, весь сдвинутый на одну мысль, с искусанными от волнения губами, он осмотрел всех и подошел к койке, скребя лоб.
– Как пласт! – сказал Факрегед. – Что решаете? Не мучьте его.
– Все труды, все пропало, – сказал Стомадор. – Усилься, Гравелот. Только выйти и спуститься! Там мы тебя унесем!
– Много ли осталось безопасного времени? – спросил Галеран.
– Что – время? – ответил Факрегед. – В нашем распоряжении верных два часа, пока там зашевелятся, но, будь хоть десять, его все равно не вынести.
Действительно, унести Тиррея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Тиррея и увидел, что, если больной даже не вскрикнет, – все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора. Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Тиррея.
– Ну как-нибудь, Давенант!
Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Давенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. Две-три секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях и рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу.
– Неужели не пощадят? – сказал Галеран. – Ведь он не может даже стоять.
– Повесят в лучшем виде, – отозвался Ботредж. – Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания, так он и не узнал, что случилось.
Глотая слезы, Стомадор схватил Галерана за плечо, твердя:
– Довольно… Хватит. Я больше не могу Я буду стрелять. Мне теперь все равно.
– Уходите, – тихо произнес Давенант, – не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода, она набегает на мои мысли, но я все понимаю.
– Напасть на ворота? – сказал Ботредж. Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как Стомадор и Галеран. Их состояние напоминало перекрученные ключом замки.
Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться.
– Думай, что я слегка опоздал, – шепнул он. Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?
– Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться! Ну, как вы жили?
Ботредж начал громко дышать и ушел к окну; его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Давенанту револьвер.
– Не промахнетесь даже с закрытыми глазами, – сказал Ботредж, – вы – человек твердый.
Давенант признательно взглянул на него, понимая смысл движений Ботреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял и уронил его рядом с собой.
– Устроюсь, – сказал Давенант. – Я понимаю. Что же это? Стомадор! Не плачьте, большой такой, грузный!
– Что передать? – вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова. – Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?
– Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете.
– Тиррей, – заговорил Галеран, – эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем. Исполним любое твое желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня.
– И меня, – заявил Стомадор. – Я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!
В этот момент полупомешанный от страха Лекан ворвался в камеру и, прошипев: «Уходите! Перестреляю!» – был обезоружен Факрегедом, подскочившим к Лекану сзади.
Факрегед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове.
– Уже пропал! – сказал он ему. – Опомнись! Смирись! На, выпей воды. Застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!
– Лекан, кажется, прав, – отозвался Тиррей. Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел, бормоча:
– Мне показалось… на дворе… Скоро ли, наконец?
– Положись на меня, – сказал Факрегед, – не то еще бывало со мной.
– Решайте, – обратился Ботредж к Давенанту. – Все будет сделано на разрыв сердца!
– Не думайте, – вздохнул Давенант, – не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть.
Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда.
– Должна прийти, – сказал он с глубоким убеждением, – одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали. Неужели не лучшее из сердец способно решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущенной на горячую голову. Как мало! Как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но, когда вы уйдете, я увижу его. В этом – все. Проклят тот, кто не испытал такого привета.
– Мы увидим ее, милый Тиррей, – сказал Галеран, внимательно слушая речь, навеянную бредом и одиночеством. – Кто ей сказал?
– Как будто кто-то из вас, – встрепенулся Давенант, осматриваясь с усилием, – недавно выходил отсюда.
– Вышли и вернулись, – неожиданно произнес Стомадор, отвечая взглядом пристальному взгляду Галерана.
Ботредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Давенант. Ночь смертного приговора уравняла всех. На многое довольно было намека.
– Стомадор, – шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну, – ведь вы готовы на все…
– Он готов, я с ним, – сказал Ботредж, – но… вы?
– Нет, я не гожусь, – грустно ответил Галеран. – Я – порченый. Вы сделаете лучше меня, если сделаете.
Слушавший у двери Факрегед мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его.
– Да, – сказал Факрегед, – все мы решились на все, по крайней мере о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго, через час станет опасно.
– О чем вы говорите? – спросил Давенант. – Как длинна эта ночь! Но я не жалуюсь, я никогда не жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний.
Между тем Ботредж и Стомадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу; он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стомадор сделал знак не мешать.
– Вы слушайте, – говорил Ботредж, тряся плечи лавочника, – я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю, что делать.
– При чем проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь! – возражал Стомадор, сам не выпуская плеча Ботреджа. – За тобой прибежит толпа…
– Не упрямьтесь, времени у нас мало, – перебил Ботредж, – ведь это не то, что привести священника. Душа его мучится. Понимаешь ли ты?
– Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить, как нужно, от тебя разбегутся все. У меня есть опыт на эти вещи! Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза! Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!
– Бросьте. Я сбегаю за угол к одной вдове, она добрая душа и не труслива. Она сразу пойдет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь.
– Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью? – зашипел Стомадор. – Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь! Он хочет вздохнуть – слышишь? – вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи! Молчи! Это я приведу последнего, неизвестного друга, такого же, как его светлый бред! – в исступлении шептал Стомадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город. – О ночь, – сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств, – создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых! Что мы будем болтать. Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!
Ботредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор.
– Сидите, – сказал Тергенс, – лавочник говорит дело. Перескочив из двора на пустырь сзади сарая где сильно волнующийся Груббе сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак стоять и ждать, сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на Тюремный переулок ниже тюрьмы.
Сухой, знойный ветер обвевал его задыхающуюся фигуру. С обнаженной головой, чувствуя все время безмолвный призыв сзади себя, Стомадор оглядывался в ночной пустоте. Он то шел, то бежал.
Луна таилась за облаками, обнажив светящееся плечо. Бесстрастный ночной свет охватывал тени домов. Не добегая моста в низине, соединяющего предместья с городом, Стомадор увидел двух девушек, торопливо возвращающихся домой. Он кинулся к ним с глубокой верой в одушевляющую его силу, но, замерев от неожиданности, эти девушки при первом его слове: «Помогите умирающему..» – разделились и бросились бежать, испуганные диким видом растрепанного грузного человека. Не останавливаясь, не смущаясь, Стомадор пробежал короткий квартал, соединяющий мост со ступенями северного выхода Центрального бульвара, почти пересекающего город прямой линией.
Густая листва низких пальм шумела и колыхалась от горячего ветра, далеко играл оркестр мавританской ротонды; его звуки отдалялись ветром, иногда лишь звуча явственно и тревожно, как слова, бросаемые в дверь человеком, уходящим навсегда, далеко. Почти не было прохожих в этот час ночи; на конце бульвара одна явственная женская фигура в черной мантилье приближалась к ступеням; как звезды, блеснули ее глаза.
– Жизнь, остановись ради смерти! – крикнул Стомадор, бросаясь к ней. – Кто бы вы ни были, выслушайте голос самого отчаяния! Дело идет о приговоренном к смерти. Я не пьян, не безумен, и я сразу поверил в вас. Не обманите меня!
Глава XV
Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманных действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван-Конет был внимателен к своей жене; с переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэло была грубо оскорблена Ван-Конетом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжко не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил Стомадор.
Мельком взглянув на него, Консуэло проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но Стомадор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться.
– Не уходите, не выслушав, – говорил Стомадор, растопырив руки, как будто ловил ее. – Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас! Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его! Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить!
Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженная неистовым волнением старого человека, Консуэло произнесла:
– Да простит бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?
– В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван-Конет, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Месть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказывать все. Я вижу. вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание, и судите, может ли так сказать черная душа: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода, – станет сестрой, если ребенок, – станет моей дочерью». Судите же, чего не получил умирающий и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть!
Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэло. Она решилась.
– Я не откажу вам, – сказала Консуэло. – Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтоб я пыталась ее объяснить. Идемте. Ведите меня. Как мы пройдем?
– О, извините! Только через подкоп. Бегство не удалось, – ответил ликующий Стомадор, готовый из благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности. – Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, двадцать обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею, – прибавил он, – так как мне суждено было… Вы понимаете, что это правда, сеньора.
Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Давенанта, Консуэло не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил Стомадор, пока минут через пятнадцать они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность Стомадора была теперь вполне ясна Консуэло, поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав:
– Я вся перемажусь. Дайте мне завернуться во что-нибудь.
За то время, что они шли, из разговора со Стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь.
Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, Стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэло увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию.
– Еще все тихо, – с облегчением прошептал Стомадор. – Ночь милостива к Джемсу… Но обдумано же все действительно блестяще!
Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась Стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске.
– Клянусь терновым венцом! Вы – настоящие мужчины! – произнесла Консуэло, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. Действительно, можно было восхититься этой работой. – Хоть это утешение мне, – добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания.
Между тем само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэло считала прямой обязанностью своей загладить чем-нибудь зло, нанесенное ее мужем; она торопилась и пробиралась согнувшись. Ботредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэло и лавочник перешагнули через его ноги с большим удобством, чем минуя длинное туловище Ботреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэло выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за Стомадором те десять шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода к двери и обратно эти два шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный Стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэло прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Факрегеда, и если принять во внимание, что за время действия было всего тринадцать следовании разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы.
К моменту ее появления Давенант уже забыл, кто может придти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван-Конета, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его, как мог, соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски Стомадора и сознавая, что опасность растет, как Давенант сказал:
– Отдайте серебряного оленя Роэне и Элли Футроз. Не знаю, когда это было – сейчас или в прошлую ночь, казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врывался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча…
Факрегед открыл дверь, пропустив Стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое, далекое всему, выражение. Лекан, которого Стомадор огорошил при входе заявлением: «Это племянница начальника тюрьмы!» – силой тащил теперь за рукав Факрегеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились.
– Это я… это я, – твердил Стомадор. – Я нашел эту фею, а не Ботредж… это божество… это утешение, этого рыцаря-девочку. Она девочка. Я, может быть, раз тридцать останавливал всяких подходящих особ!
Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним и невозможное становилось простым.
– Вы подвергаетесь величайшей опасности, – сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее. – Если нас всех накроют, не миновать боя, и, хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен.
– Для меня это не так страшно, – ответила Консуэло, с гордым видом человека, знающего себя. – Могут быть только неприятности, но я на это пошла.
«Кто же она?» – думали все, чувствуя, что Консуэло не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Давенант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и, безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился.
– Сознание мое прояснилось, – заговорил Давенант. – Мой бред привел вас сюда; это был не совсем бред, – прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса, такое настоящее – то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его. – О, – сказал Давенант, – я спокоен, я равен теперь самым живым среди живых. Уходите! Простите и уходите.
– Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек?
– Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни. Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэло заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тиррея.
– В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван-Конетом?
– Да – сказал Давенант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом. – Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее, тут же за столом этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви.
Консуэло всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок.
– Не сожалейте, не страдайте так сильно! – сказал Давенант. – Зачем я рассказал вам все это?
– Так было необходимо, – вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Давенант начал с ней говорить. – Но я ничего не знала! Я – Консуэло Ван-Конет, жена Георга Ван-Конета, которая вас спасет. Я ухожу. Верьте мне. Скорее проводите меня.
От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой возможность немедленно отозваться на него разумным словом. Давенант громко сказал:
– Я спасен. А вы? Чем я вас утешу? Не проклинайте меня!
Все неясное, вызванное поведением Консуэло, стало на свое место, и Стомадор испугался.
– Простите … – бормотал он, – умоляю вас, не раскрывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех!
Консуэло только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо вышла, провожаемая Стомадором и паническим взглядом Лекана. Давенант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжко подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув:
– Жди, а через полчаса потребуй врача.
Камера опустела.
Донельзя обрадованный Лекан бормотал:
– Скорей, скорей!
И, как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стомадору:
– Ящик… Два ящика, подставить к этой дыре, мы засыплем ее.
Слова Лекана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрыла снизу отверстие.
– Что же это такое? – сказал Ботредж Тергенсу.
– Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется.
– Ты бредишь? – сказал Ботредж понурясь.
– Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке.
С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Факрегед и Лекан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид.
Обессилевший Факрегед вошел в камеру Давенанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся.
– Я спасен, – тихо произнес он.
– Что? Эта женщина спасет вас?
– Нет. Не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать.
Он затих и начал бредить. Факрегед вымыл руки, запер Тиррея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали четверть третьего.
– Как будто вся жизнь прошла, – пробормотал Факрегед.
Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Гале-ран, Консуэло и Стомадор сошлись в задней комнате лавки.
– Спасите его, – сказал Галеран заплаканной молодой женщине. – Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль.
– Поймите, что я чувствую, сеньора! – проговорил Стомадор. – Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас.
Молча пожав ему руку, Консуэло записала адрес Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца.
– Груббе, – сказал Галеран, – опасность для меня миновала, но не миновала для Давенанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение.
– Кто он? – спросила Консуэло, усаживаясь в автомобиль.
– Все будет вам известно, – сказал Галеран, – пока я только назову вам его имя Тиррей Давенант. Один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня.
Консуэло мгновенно подумала.
– Все решится до рассвета, – сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес.
Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привезти ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стомадора.
– Так вот что произошло, – сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы. – Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так.
Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стомадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горла бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания.
– Вставайте, – сказал Ботредж. – Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется, – убежим.
Глава XVI
Дом, купленный Ван-Конетом в Покете, еще заканчивался отделкой и меблировкой Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом.
Георг Ван-Конет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем Акционерного общества должно было состояться на днях.
Слуги сказали ему, что Консуэло еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая и бормоча:
«Ей пора завести любовника и объявить о том мне», – Ван-Конет уселся в гостиной, очень довольный движением дела с председательским веслом, стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью пять тысяч фунтов у ювелира Гаррика нравится ей «до сумасшествия».
Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван-Конета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности.
Ван-Конет был стеснен в деньгах. Приданое Консуэло почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Сногдену; солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения.
Он задумался, задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его.
«Исчезла жена», – подумал, усмехаясь, Ван-Конет, когда часы пробили два часа ночи.
В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые, – такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэло вошла как была – в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное, осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар.
– Что с вами? – сказал Ван-Конет невольно значительнее, чем хотел.
Он встал. Еще яснее почувствовал он беду.
– Георг, – тихо ответила Консуэло, смотря на него со страхом, подавляя вздох приложенной к сердцу рукой и вся трепеща от боли, – идите, спасите человека, в этом и ваше спасение.
– Что произошло? Откуда вы? Где вы были?
– Каждая минута дорога. Ответьте: месяц назад гостиница «Суша и море» ничем не врезалась в вашу память?
Ван-Конет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные к глазам концы пальцев.
– Я не посещаю трактиров, – сказал он. – Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом.
– Не браните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте, чтобы развеселиться. И вот что ждало меня: произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами. Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джемс Гравелот… Что же… Ведь я вижу ваше лицо. Так это все – правда?
– Что правда? – крикнул обозлившийся Ван-Конет. – Дал ли я зуботычину трактирщику? Да, я дал ее. Еще что принесли вы с концерта?
– Ну, вот как я скажу, – ответила Консуэло, у которой уже не осталось ни малейших сомнений. – Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела, вы оказались подлецом и преступником. Я не жена вам теперь.
– Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили! Как вы узнали?
– Никогда не скажу. Я ставлю условие: если немедленно вы не отправитесь к генералу Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде, – завтра весь Покет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо.
Ван-Конет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха.
– Не позже четырех часов, – сказала Консуэло, улыбаясь ему с мертвым лицом.
Ван-Конет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи Консуэло с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван-Конет придумать не мог, и его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий.
– Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде, – сказал Ван-Конет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась. – Я все время ждал.
– Почему?
– В вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода.
– Низким происхождением?! Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не равняет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением, я – человек, женщина, я могу любить и умереть от любви. Но вы – ничтожны. Вы – корыстный трус, мучитель и убийца. Вы – первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас!
Ван-Конет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он стал перед ней и схватил ее руки.
– Консуэло! Опомнитесь! Ведь вы любили меня!
– Да, я вас любила, – сказала молодая женщина, отнимая руки. – Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот! Я не люблю покровительства. Знайте: просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно.
Она, мертвая, в крови и грязи у ног ваших. Мне было двадцать лет, стало тридцать. Сознайтесь во всем. Имейте мужество сказать правду.
– Если хотите, – да, это все правда.
– Ну, вот… Не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами.
– Так как мы расходимся, – продолжал Ван-Конет, ослепляемый жаждой мести за оскорбления и желавший кончить все сразу, – я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?
– Довольна?.. О, довольно! Ни слова больше об этом!
– Я могу также…
– Нет, прошу вас! Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так ступайте. Я не пощажу вас.
– Да. Я вынужден, – сказал Ван-Конет. – Я буду спасать себя. Ждите меня.
– Торопитесь, этот человек опасно болен.
О! Мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая.
Несмотря на охвативший его страх, Ван-Конет очень хорошо знал, что делать. Спастись он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, сосредоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав: «Ждите. Я начинаю действовать», – сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой.
Уже осветились окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии.
– Это вы, Топпер? – крикнул Ван-Конет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна. – Ван-Конет, бодрствующий по неопределенной причине. Сегодня у вас большой день?!
– Да, – сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров. – Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?
– Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки – Гравелот. Он тоже назначен на сегодня?
– Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания, врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут в четыре часа.
«Положительно, мне везет», – размышлял Ван-Конет, возвращаясь к жене, с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил.
– Консуэлита, – сказал Ван-Конет женщине, ставшей его жертвой, – я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне пятнадцать тысяч фунтов?
– Чек будет готов, как только вы известите меня, – ответила Консуэло без колебания, уже не мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел.
– Боже мой! Я совсем без денег, – сказал Ван-Конет. – Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застану?
– Нет.
– Куда же вы отправляетесь?
– Это – мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия.
– Болтайте, что хотите, – сказал, уходя, Ван-Конет, – это наш последний разговор.
Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван-Конет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон еще не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван-Конета. Фельтону редко удавалось лечь раньше пяти утра, по множеству важных военных дел.
Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальт-Гаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении.
– Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра? – сказал Фельтон адъютанту.
Адъютант вышел и скоро вернулся.
– Ван-Конет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно.
– Что делать! Пригласите его.
Когда появился Ван-Конет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул ему руку, но, отчаянно тряхнув сложенными руками, Ван-Конет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул:
– Спасите! Спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках!
– Встаньте, черт возьми! – процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать. – Что вы наделали?
– Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной, – заговорил Ван-Конет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности очертя голову, под наитием расчета и страха. – Утром будет повешен Джемс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой страже. Он не контрабандист. Я приказал подбросить ему, в его гостиницу на Тахенбакском шоссе, мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину.
– Недурно! – сказал Фельтон, смешавшись и краснея от такого признания.
Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван-Конета, закрывшего руками лицо.
– Что же… Все это правда?
– Да, позорная правда.
– Как вы могли так низко пасть?
– Не знаю… я пил… пил сильно… я погряз в разврате, в игре… Моя воля исчезла. Я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я…
– Да, такой выход был бы неизбежен, – перебил Фельтон. – Ну, расскажите подробно.
Находя неописуемое удовольствие в самооплевывании, Ван-Конет, хорошо помнивший проповеди Сногдена о сверхчеловеческой яркости «душевных обнажений», так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален.
– Откровенно скажу вам, – произнес Фельтон, – что мне вас ничуть не жаль. Другое дело – этот Гравелот. Вот что: если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасения невинного, даете ли вы мне слово бросить тот образ жизни, какой привел вас к преступлению?
– Да, – сказал Ван-Конет, поднимая голову. – Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех. О генерал, если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему!
– Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут очень искать.
– Генерал! – вскричал Ван-Конет. – Какими хотите муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать!
– Ах, – сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон. – Все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзостей. Держите руки чистыми, милый мой.
Затем он выпроводил посетителя и, просмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму, Херну и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван-Конетом: участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать.
Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Давенанта, Ван-Конет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван-Конет увидел чек.
Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей, Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора.
– Что до того? – возразил Ван-Конет. – Изумрудный браслет – ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэло больше нет здесь. Она уехала навсегда.
– О! Важные новости. Отчего же вы раньше не разбудили меня?
– Не существенно. Но браслет?!
– Браслет прелестен. Я жду.
– Спокойной ночи, утром я буду у вас. Ван-Конет оставил ее и позвонил Консуэло. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер.
– Где вы находитесь? – насмешливо спросил Ван-Конет, услышав ее тревожный голос. – Не есть ли это телефон рая?
– Говорите же, говорите скорей! – воскликнула Консуэло. – Вам удалось?
– Конечно. Генерал был очень любезен.
– Тогда мне больше ничего не нужно от вас.
– Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего.
– Прощай, жестокий человек! – сказала Консуэло. – Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя.
– Благодарю за чек, – грубо сказал Ван-Конет. – У вас еще остались деньги. Муж будет.
С этим он отошел от телефона, а Консуэло, сев в автомобиль Груббе, ждавшего ее решений, отправилась к Стомадору. Только один Галеран ждал ее возле лавки. Стомадор и контрабандисты сидели на пустыре, за двором.
– Спасен! – сказал им Галеран. – Я увезу его. Дело пересмотрится. Гравелот сегодня будет на свободе, под поручительством своего врага, Ван-Конета.
– Так не напрасно работали, – сказал потрясенный Ботредж. – Тергенс, ведь ваш брат тоже спасется. Одно из другого вытекает. Это уж так.
– Понятно, – ответил Тергенс. – Вот всем стало хорошо.
– Вам нечего бежать, – заметил Стомадор, – а я готов, я уже собрался. Никак не выходит мне сидеть на одном месте. Передайте Гравелоту, что я согрел свою старую кровь вокруг его несчастья. А где же та, золотая … чудесная, которую я поймал?
– Вот она, – сказал Галеран, увидев силуэт Консуэло, идущей от автомобиля.
– Благодарим вас, – произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине, – узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь!
– Прощайте, мужественные люди, – сказала всем Консуэло, – я не забуду вас.
Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал полторы тысячи фунтов Стомадору и по двести – контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Ботреджу триста фунтов: двести Факрегеду и сто Лекану.
Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра, на произвол судьбы. Галеран и Консуэло уехали ждать наступления дня, чтобы часов около восьми утра вызвать санитарную карету Французской больницы, а с ней – лучшего хирурга Покета, врача Кресса.
Глава XVII
Ввиду тяжелого положения Давенанта, решительно взятого под свою защиту всемогущим генералом Фельтоном, судейские и тюремные власти так сократили процедуру освобождения заключенного, что, начав хлопоты около девяти часов утра, Галеран уже в половине одиннадцатого с врачом Крессом и санитарным автомобилем был у ворот тюрьмы, въехав на ее территорию с законными основаниями.
Давенант находился в таком беспомощном состоянии, что жили только его глаза, бессмысленные, как блеск чайных ложек. Он говорил несуразные вещи и не понимал, что делают с ним. На счастье Галерана, а также обоих надзирателей, переживших за эту ночь столько волнений, сколько не испытали за всю жизнь, Давенант бредил лишь об утешении («Консуэло» – значит «утешение»). По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало.
Свежий воздух подействовал так, что помещенный в больницу Давенант временно очнулся от забытья. Теперь он все помнил. Он спросил, где Галеран, Консуэло, Стомадор.
Начался ветреный, пасмурный день. К ожидающим Консуэло и Галерану вышел Кресс и пригласил идти в помещение Давенанта.
– Какое его положение? – спросил Галеран доктора.
– Скоро начнется агония, – ответил Кресс, – пока он все сознает и хочет вас видеть.
Последние гости приблизились к кровати умирающего – одинокий старик и женщина, едва начавшая жить, со смертью в душе.
– Теперь я скоро поправлюсь, – прошептал Тиррей, полуоткрывая глаза и с нежным страхом смотря на Консуэло, севшую у изголовья. – Я был причиной вашего горя, – продолжал он, – но я не знал, что так выйдет. Но вы не печальтесь. Что-то в этом роде было со мной. Надо пересилить горе. Вы молоды, перед вами вся жизнь. Ведь это вы спасли меня из тюрьмы?
– Я исполнила мой долг, – сказала Консуэло, – и я не хочу больше говорить об этом. Ваше дело будет пересмотрено и, конечно, разрешится благополучно.
– Мое. А тех?
– Они спасены, – сказал Галеран. – Отмена приговора указывает, что дело ограничится несколькими годами тюрьмы.
– Я рад, – быстро сказал больной, – потому что бой был прекрасен. Суд должен был понять это. Об одном я жалею, что меня не было с вами, Галеран, когда вы рыли подкоп. А где Стомадор?
– Должно быть, уже бежал. Его положение стало очень опасным.
– Конечно. Так я не в тюрьме… Вы не поверите, – обратился Тиррей к Консуэло, смотревшей на него с глубоким состраданием, – как хорошо спастись! Мне хочется встать, идти, побывать на старых местах.
Давенант беспокойно двинулся и, утомленный, закрыл глаза. Сознание боролось с темной водой. Он шарил руками на груди и у горла, отгоняя незримую тесноту тела, сжигаемого смертельным огнем. Лицо его было в поту, губы непроизвольно вздрагивали, и, нагнувшись, Галеран расслышал последние слова: «Сверкающая… неясная…»
Видя его положение, Кресс отошел от окна, взял руку Давенанта и, нахмурясь, отпустил ее.
– Избавьте себя от тяжелого впечатления, – тихо сказал Кресс Консуэло, которая, все поняв, вышла, сопровождаемая Галераном. В приемной Консуэло дала волю слезам, рыдая громко и безутешно, как ребенок.
– Это – сразу обо всем, – объяснила она. – Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал.
Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб.
– Что, милая? – сказал он. – Беззащитно сердце человеческое?! А защищенное – оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки. Укрепитесь, уезжайте в Гертон и ждите. Тишина опять явится к вам.
Консуэло закрыла лицо и вышла. Галеран вернулся в палату. Он подождал, когда тело перестало подергиваться, закрыл глаза Давенанта рукой с обломанными ногтями, пострадавшими на подземной работе, и отправился вручить серебряного оленя по назначению.
Его приняла Роэна Лесфильд, молодая женщина в расцвете жизни, жена директора консерватории.
Гостиная, где Тиррей девять лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир.
– Я исполняю поручение, – сказал Галеран вопросительно улыбающейся молодой женщине, – и если вы меня помните, то догадаетесь, о ком идет речь.
– Действительно, ваше имя и лицо как будто знакомы… – сказала Роэна. – Позвольте, помогите вспомнить… Ну, конечно. Кафе «Отвращение»?
– Да. Вот олень. Тиррей просил передать его вам. Галеран протянул ей вещицу, и Роэна узнала ее. В это время появилась скучающая, бледная Элеонора, девушка с капризным и легким лицом. Жизнь сердца уже неласково коснулась ее.
– Элли! Какая древняя пыль! – сказала Роэна. – Смотри, мальчик, который был у нас лет девять назад, возвращает свой приз оленя. Да ты все помнишь?
– О, как же! – засмеялась девушка. – Вы – друг Тиррея? Я сразу узнала вас. Где этот человек? Тогда он так странно пропал.
– Он умер в далекой стране, – ответил Галеран, поднимаясь, чтобы откланяться, – и я получил от него письмо с просьбой вернуть вам этот шутливый приз.
Настало молчание. Никто не поддержал мрачного разговора, пришедшегося не совсем кстати: у Роэны хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического.
– Благодарим вас, – любезно сказала Роэна после приличествующего молчания. Так он умер? Как жаль!
Слегка пошутив еще на тему об «Отвращении», Галеран простился и уехал домой.
– Ведь что-то было, Элли? – сказала Роэна, когда Галеран ушел. – Что-то было… Ты не помнишь?
– Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому – прости, не сумею сказать.
Феодосия, 28 марта 1929 г.
Автобиографическая повесть*
Бегство в Америку
Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.
Я читал бессистемно, безудержно, запоем.
В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» – я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.
После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского – моего дяди по отцу – в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.
Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.
Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием.
Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению Средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.
Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.
В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жакольо были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.
Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.
По истории, закону божию и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, – двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похождений капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» – «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», – я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элефант. С французским языком дело было еще хуже.
Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.
Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.
Учителя говорили:
– Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он… озорник, сорванец, шалун.
Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.
Одетый, с ранцем за спиною, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.
Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.
Дома меня ставили в угол, иногда били.
Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку – то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!»
Немец, высокий, элегантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский! Выйдите и станьте к доске».
Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон» – эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.
Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника: опять кара.
Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделывался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.
Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась какгодоваяотметка поведения. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время, не очень скучая о классе.
Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.
Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.
На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами – и издали поражал их каменьями, – в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были – американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.
Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью.
Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.
Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня – никогда.
На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.
Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».
Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.
Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.
Кроме того, я был запойным удильщиком – исключительно по шеклее[1], вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.
По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.
Меня погубили: сочинительство и донос.
Еще в приготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.
Это были мои стихи:
Когда я вдруг проголодаюсь, Бегу к Ивану раньше всех: Ватрушки там я покупаю, Как они сладки – эх!В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».
Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки – эх?!!»
В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи – глупости, вероятно, необычайной – и всем показывал.
Отец, тайно от меня, снес журнал директору – полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:
– Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.
Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения.
Меня дразнили двумя кличками: Грин-блин и Колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.
В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.
В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать.
Вышло так (я помню не все):
Инспектор, жирный муравей, Гордится толщиной своей… . . . . . . . . . . Капустин, тощая козявка, Засохшая былинка, травка, Которую могу я смять, Но не желаю рук марать. . . . . . . . . . . Вот немец, рыжая оса, Конечно, – перец, колбаса… . . . . . . . . . . Вот Решетов, могильщик-жук…Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.
Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.
Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.
Каждый день повторялось одно и то же:
– Гриневский, я сейчас покажу…
При этом он делал вид, что хочет поднять руку.
Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня – что со мной.
Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.
Была зима, февраль.
Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:
– Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.
Учитель разрешил.
Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» – но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.
Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.
– Гриневский!
Я встал.
– Это вы писали? Вы пишете пасквили?
– Я… Это не пасквиль.
От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».
– Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.
Я вышел плача, не понимая, что происходит.
Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.
Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату – в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.
За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.
– Гриневский, – сказал, волнуясь, директор, – вот вы написали пасквиль… Ваше поведение всегда… подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только добра…
Он говорил, а я ревел и повторял:
– Больше не буду!
При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных – он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.
Только инспектор – мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник – не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.
Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.
Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду – так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.
Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.
Голод взял свое – я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке!
Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег… Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела – теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.
Когда я пришел домой, было уже темно. Оxo-xo! Даже теперь жутко все это вспоминать.
Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец (он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиней тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» – вот так, в этом роде, шло несколько дней.
Наконец буря утихла.
Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.
Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.
Меня исключили.
В гимназию меня отказались принять. Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписаный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.
Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.
Охотник и матрос
Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александрова. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.
Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, – крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:
– Саша, давай читать. Это какая буква?
– М.
– А эта?
– О.
– Верно. Как же сказать их сразу?
В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».
Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, – и так начал читать.
Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.
Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.
Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.
Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.
Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.
По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.
Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.
В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.
Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.
Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».
Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами… Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.
– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища… Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.
Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!» (А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.
Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.
С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.
Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.
Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.
Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.
Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.
Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:
Ветерком пальто подбито, И в кармане – ни гроша, И в неволе – Поневоле – Затанцуешь антраша! Вот он, маменькин сыночек, Шалопай – зовут его; Словно комнатный щеночек, – Вот занятье для него! Философствуй тут как знаешь, Иль, как хочешь, рассуждай, – А в неволе – Поневоле – Как собака, прозябай!Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):
И хвостом она махнула И сказала: не забудь!Я ничего не понимал, но ревел.
Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.
Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже… Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня – 29 июня, – начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.
К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.
Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.
Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь – босиком.
По-прежнему добычей моей были кулики разных пород: черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка – водяные курочки, утки.
Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье – одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самим способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.
Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.
Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.
Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.
В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытуемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром, чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.
У первого моего ружьеца был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.
Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняясь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.
Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать – стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.
Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при заряжании – на глаз, без мерки; дробь лежала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь – например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробьиной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.
Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.
Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.
Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.
Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.
Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках, а пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне – как охотником.
Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушины. Уже темной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, покрякивая, свистнула крыльями утка и, плеснув по воде, села на небольшое озерко, шагах в тридцати.
Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забилась в камышах: я попал.
Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и, по горло в воде, разыскал убитую птицу по смутно чернеющему на воде ее телу.
Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями… Отец устроил этот заказ мне, я ходил по участку с рулеткой, потом чертил, испортил несколько чертежей, наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно, и получил за это десять рублей.
Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа, на этом деле я тоже заработал несколько рублей.
Двенадцати лет я пристрастился к переплетному мастерству, сам сделал станок для сшивания; роль пресса играли кирпичи и доска, кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, сафьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого (сусального) золота для тиснения букв на корешках – все это я приобретал постепенно, частью на деньги отца, частью на свои заработанные.
Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, но старая привычка к небрежности, поспешности сказалась и здесь, – месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около ста книг – в том числе тома нот одному старому учителю музыки. Мои переплеты были неровны, обрез неправилен, вся книга вихлялась, а если не вихлялась по сшитву, то отставал корешок или коробился самый переплет.
Ко дню коронации Николая II в больнице готовили иллюминацию, и мне, через отца, сделан был заказ на двести бумажных фонарей из цветной бумаги по четыре копейки за штуку, с готовым материалом.
Усерднейшим образом я работал две недели, изготовив, по обычаю своему, не очень важные изделия, за что получил восемь рублей.
Ранее, когда мне случалось заработать рубль-два, я тратил деньги на порох, дробь, зимой – на табак и гильзы. Мне разрешено было курить с четырнадцати лет, а тайно я курил с двенадцати, хотя еще не «затягивался»! Затягиваться я начал в Одессе.
Получение этих восьми рублей совпало с лотереей-аллегри, устроенной в городском театре. В оркестре были расставлены пирамиды вещей, как дорогих, так и дешевых. Главный выигрыш, по странному направлению провинциальных умов, был, как водится, корова, наравне с коровой шли мелкие драгоценности, самовары и пр.
Я пошел играть, вскоре туда же явился подвыпивший отец. Я проставил на билеты пять рублей, беря все пустые трубочки. Капитал мой таял, я загрустил, но вдруг выиграл диванную бархатную подушку, расшитую золотом.
Отцу повезло: проставив сначала половину жалованья, он выиграл две брошки, рублей, скажем, на пятьдесят.
До сих пор не забыть мне, как к колесу подошла дурная, как грех, девица, взяла два билета, и оба они оказались выигрышными: самовар и часы.
Я забежал вперед, но надо было сказать все о моих заработках. Поэтому я добавлю, что в последние две зимы жизни дома я подрабатывал еще перепиской ролей для театральной труппы – сначала малороссийской, затем драматической. За это платили пять копеек с листа, записанного кругом, и я писал не убористо, а возможно разгонистее. Кроме того, я пользовался правом бесплатного посещения всех представлений, входа за кулисы и игры на выходных ролях, где надо, например, сказать: «Он пришел!» или «Хотим Бориса Годунова!»
Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве – точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет.
Для своего возраста я начал недурно рисовать с семи лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4–5. Я хорошо копировал рисунки и сам научился писать акварелью, но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы, всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок – водяную лилию – я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга…
В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подсказывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон божий и писание сочинений. Наш класс вел добрейший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл; впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища.
Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте, – остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя.
Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: «Кто знает?» – я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал, что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком (я никогда не начинал первый).
Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учитель читал вслух всему классу как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема: «О пользе собак». Я написал «о вреде собак» (хотя думал иначе), доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертал единицу, приписав: «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было «опубликовано», и я видел, что учитель втайне гордится этой моей эскападой.
В пятом отделении, по странной прихоти, я написал для себя статью: «Вред Майн Рида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о гибельности указанных писателей для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется дом, участь бедняка.
Собрав после классов несколько человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, – я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях.
В четвертом отделении случился выстрел: я имел глупость принести с собою в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью и воспламеняемый бумажным пистоном; я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок, – как вдруг курок сорвался, гром выстрела едва не сбросил учителя со стула; пошел дым столбом – и все повскакали.
За это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой.
Я ревел, просил прощения, отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте.
В шестом отделении произошел случай посерьезнее. Хороший учитель уехал в Глазов, а его место занял новый, ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами.
Чем-то я провинился во время урока – кажется, разговаривал.
– Гриневский! – крикнул мне Терпугов. – Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!
Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол.
Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что и я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон.
Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немедленно направился домой и рассказал отцу, что случилось.
Первый раз произошло, что отец меня не бранил (меня как большого он теперь не бил). Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник было вопрос о моем исключении, но все же инспектор Деренков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова.
Дело, после двух недель моего домашнего пребывания, кончилось формальным извинением с моей стороны.
После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат (средняя отметка – 3, по поведению – 5, ради того, чтобы не портить мне жизнь), я начал собираться в Одессу.
Теперь я расскажу, с чего это началось.
Отчасти очень дальними родственниками по матери – а больше просто знакомыми – приходились нам Чернышевы. Отец Чернышев был протоиерей кафедрального собора. У него был сын – Сережа, двумя или тремя годами старше меня, тихий, малоспособный мальчик; исключили его за неуспешность или же сами родители взяли из семинарии – точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в Херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие.
Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса; на ленте бескозырной фуражки можно было прочесть: «Императрица Мария». Ленты падали от затылка через плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки с синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя; я все решал – есть ли это часть рубашки или же это надевается особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые, при открытой шее и бескозырьковой фуражке, придавали открытому, мужественному лицу Сережи особый поэтический оттенок. Но, главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем Чернышев еще получал жалованье!
Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в Мореходные классы без всякого экзамена.
Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них все, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл (вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег), когда мать Сережи сказала, что сыну они дали сто пятьдесят рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице, и что продолжали посылать ежемесячно по двадцать пять рублей, пока Сережа не начал получать жалованье рулевого матроса – двадцать два рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в Добровольном флоте на «Саратове», был в Японии, Китае, Сингапуре… Сингапуре!..
Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор только мечтал, тогда как Чернышев с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска сделался моряком дальнего плавания.
Чернышевы, между прочим, говорили, что Сережа «лазил на мачты». Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам всползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу.
Относительно мачт меня через некоторое время просветил другой Чернышев, брат моего одноклассника Чернышева, тоже выставленного из реального училища мальчика (за неуспешность); он одно время учился в Астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах; я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышев не был для меня настоящим моряком: он плавал в закрытом море, был неуклюж, неприятно широкоплеч, черен, болезненно красив и туп; в довершение всего поступил на службу в акциз.
Я старался, где мог, узнать о море, о морской службе. Одно время к деревенской девице, нашей прислуге, ходил на кухню ее брат; он же колол нам дрова. Этот парень был матросом в Одессе. О Мореходных классах он ничего не знал, и я разочаровался, потому что этот человек не понимал меня. Меня интересовали впечатления далеких стран, бурь, битв с пиратами, а он говорил о пайке, жалованье и дешевизне арбузов.
Весной 1895 года я увидел в жаркий день на пристани извозчичью «долгушу»; на ней, небрежно развалясь, сидели, обложенные чемоданами, два штурманских ученика в белой матросской форме. На ленте одного написано было «Очаков», на другой – «Севастополь». Загорелые, беспечные лица юношей, грызших семечки, привлекали внимание прохожих. Я остановился, смотрел как зачарованный на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира.
Я не завидовал. Я испытывал восхищение и тоску. Так я и не узнал, приезжали ли эти молодые люди в гости к кому-нибудь или домой, – я больше их не видел.
Немного погодя прошел слух еще об одном моряке, явившемся домой на время; это был молодой, коротко остриженный, белесый человек серьезного типа: он одевался в штатское (особый английский шик, как я узнал позже) и курил трубку.
Отец узнал его адрес, и, страшно стесняясь, я посетил моряка; когда я пришел, он стоял у калитки; тут же мы и поговорили. Его фамилии я не помню. Ничего особенно нового я не узнал. Моряк считал парусные суда лучшей школой, был в каботаже (то есть плавал внутри Черного моря) и рассказывал, сколько для практики надо выплавать за время учения – что-то года полтора, кажется.
Я видел, что он смотрел на море как на работу, а не как на героическую поэзию, и отвернулся от него сердцем своим.
Весной 1896 года приехал в гости домой Сережа Чернышев.
Мачеха, ставшая добрее, так как предвиделся мой скорый отъезд, и отец не раз уговаривали меня сходить к Чернышевым, чтобы поговорить с Сережей, но я ни за что не хотел – и не мог. Сам себе казался я таким ординарным, жалким, в своей серой блузе с ремнем, длинными, зачесанными назад волосами и узкими плечами, что не мог предстать перед блистательным существом в фуражке с лентой, да еще проделавшим кругосветное путешествие.
Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке.
Под разными предлогами я отказался идти.
Чернышев приехал с товарищем, земляком; я очень удивлялся, когда младший из братьев Колгушиных, воспитанник сиротского земского дома, слесарь и силач, говорил мне: «Вот, приехали эти жулики-флотчики!..» Конечно, это была зависть, но я не понимал, как можно, даже из зависти, так говорить о прекрасных детях моря.
Потом я слышал, что «флотчики», напившись в загородном саду, с кем-то жестоко дрались у городской черты, но это лишь прибавило мне восхищения: морякидолжны быть непобедимы.
21 июня отец, получив жалованье, дал мне двадцать пять рублей на дорогу. Больше он дать не мог. От умершей матери остался маленький Борис; прибавились: Павел, мачехин сын, и, от нее же, новый ребенок, мальчик.
Из этих денег я купил за шестьдесят копеек ивовую корзинку, на сорок копеек табаку и гильз. В корзинку мне положили немного белья, мыло, серые ученические брюки из полубумажной материи, такую же курточку, а на мне были парусиновые блуза и брюки. В соломенной дешевой шляпе и тяжелых, до колен высотой, охотничьих сапогах, я собрался ехать в Одессу. Я был в чрезвычайном волнении. До сих пор, если не считать Слободского, я не покидал Вятки, а тут предстояло уехать за две тысячи верст. Множество раз в день я доставал из кармана свой старый кошелек и пересчитывал синие ассигнации с мелочью; я казался себе миллионером.
Двадцать третьего отходил пароход в Казань в двенадцать часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, маленькие брат и Павел. Настроение было торжественное. Отец сказал:
– Надо присесть…
Присели в молчании. Потом отец встал, сказав:
– Ну, вот и вылетела птичка из гнезда.
Я видел, что он скрывает слезы.
– Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы, помни, что я тебе уделить ничего не могу. Пиши обо всем.
– Да, завидная участь, – сказала мачеха, – увидеть чужие страны, увидеть… много чего такого. – Она простилась со мной довольно тепло.
Девочки ревели. Младший брат, Борис, тоже начал голосить.
Я с отцом сели на извозчика и через полчаса были на пристани. На дорогу мне дали разной провизии, чаю, сахару, стакан и жестяной чайник. Снеся на нижнюю палубу корзинку и одеяло с подушкой (ехал я третьим классом), я взял в кассе билет, а через минуту уже начали убирать сходни.
Я пошел наверх, стал у поручня. Пароход заворачивал на середину течения. Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы.
Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз.
Был я и смятен и ликовал. Грезилось мне море, покрытое парусами…
Одесса
I
До 16 лет я никогда не покидал Вятку. Мое первое самостоятельное путешествие было рядом мелких колумбиад, открытий и наблюдений. Три дня пути до Казани я рассматривал как неопределенно долгий срок, в течение которого я успею вдоволь насладиться движением по реке, сменой берегов и пристаней, мерным содроганием парохода, шумом колес. Я был счастлив уже тем, что еду.
Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движения блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу, у катка, замасленных кочегаров; иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красные лопасти колеса, бьющего воду на отгоняемый им пенистый бугор; я всходил на верхнюю палубу, интересуясь действиями рулевого и лоцмана, любовался бегом дыма пароходной трубы и фонтаном пара, вырывающегося из свистка. Когда на пристанях грузили кладь, я любил стоять у трюма, смотря, как летят вниз, по катку, рогожные тюки и деревянные ящики. Однако все эти явления интересовали меня, по преимуществу, зрительно, и я не помню случая, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе.
Я только смотрел и запоминал.
Когда мы проехали двести верст, пароход остановился у так называемого «переката» (песчаный нанос), потому что сел на мель. Команда работала целый день, заводя якорь и крутя ворот, но стащить пароход не удавалось. Я видел песчаное дно не глубже чем на три четверти аршина. Наконец снизу показался пароход из Казани, и оба парохода обменялись пассажирами, а также грузом, – тот, на котором я ехал из Вятки, пошел обратно, в Вятку, а пароход из Казани повернул в Казань. Пройти перекат не удалось ни тому, ни другому. С большими усилиями наш пароход приблизился к берегу; положили сходни, и пассажиры перетащили свой груз на себе; многим помогали матросы – вятские бородатые мужички в синих матросках и кожаных картузах.
Я помещался на нижней палубе, между кормой и машиной, на люке трюма, где было свалено много багажа; в гнездах этого багажа ютились третьеклассные пассажиры, мест не хватало на всех. Несколько раз в день я брал чай – в фаянсовом чайнике, с лимоном и мелко наколотым сахаром; чашка была синяя с золотым краем. Чаепитие стоило семь копеек. Чай заменял мне обед и ужин, потому что почти на каждой пристани я покупал снедь. Первый раз в жизни я тратил деньги самостоятельно и свободно. Я покупал так называемые «ярушники» – плоские овсяные хлебцы, «сушку» (сухие баранки), землянику, горячие пельмени, белый хлеб с изюмом, верхняя корка которого, смазанная яичным белком, блестела, как масляная, куски печенки, колбасу, берестяные бурачки с густыми сливками, молоко, пряники, жареную рыбу и некоторое время страдал расстройством желудка.
Утром, на пятый день плавания, я приехал в Казань. Город отстоит от Волги в пяти верстах, поэтому я не отправился осматривать город, а немедленно купил билет на пароход компании «Кавказ и Меркурий» до Нижнего Новгорода; перенес свою поклажу на пристань, сдав ее хранить сторожу, а сам отправился бродить вдоль пристаней и встретил несколько молодых жуликов, один из которых, заступив мне дорогу, начал кричать: «Ваня, дорогой! Как ты сюда попал?» Я был все же не настолько глуп, чтоб поддаться такой общительности, и послал мошенников к черту. Испив в береговом трактире чаю, я купил удочку, сел с ней на берег грязной речки Казанки и пытался удить рыбу, но ничего не поймал.
Я засунул удочку в штабель бревен и, захватив вещи, поехал с ними на извозчике на вокзал.
Я заплатил за билет до Одессы двенадцать рублей восемьдесят копеек и перешел несколько путей, чтобы сесть в поезд. Когда извозчик подъезжал к вокзалу, я увидел низко над землей два огненных глаза, силуэт трубы, услышал пыхтение, стук и догадался, что это есть тот самый паровоз, о котором я до сих пор лишь слышал и читал в книгах. Паровоз показался мне маленьким, невзрачным, я представлял его с колокольню высотой. Так же впоследствии был я удивлен разрешением долго мучившей меня загадки вагонных ступенек. В одном из еженедельников я увидел как-то иллюстрацию – рисунок зимнего поезда; по тому, что рельсы были закрыты ступеньками и выступами вагонов, я решил, что ступеньки – это полозья для скольжения поезда зимой по снегу.
Поезд отошел в одиннадцать вечера, народу было мало. Момент отхода сильно взволновал меня. Все было ново: не то все кружилось вокруг, не то мчалось вперед; частый стук рельсов, новая обстановка, воображаемая неимоверная быстрота и боязнь крушения долго не давали мне спать. В эту ночь я еще не открывал дверь вагона, чтобы смотреть, – не решался; но в дальнейшем я, главным образом, сидел на площадке, свесив наружу ноги. Удивительно, как не украли мою корзину и одеяло!
О Москве я слышал, что это город тупиков и зевак. Пока стоял поезд, я немного ходил по прилегающим к вокзалу улицам, удивляясь величине домов, выложенных цветными изразцами, шуму и движению. Действительно, я зашел в какой-то тупик, чем был очень доволен, но зевак, собирающихся будто бы толпами глазеть на крышу, если хотя один человек начнет смотреть вверх, не видел. В сравнении с тихой, мнительной и тщеславной Вяткой («выйти в люди», «быть как все», «построить пальто, костюм») мир шумных, энергичных, развязных и торопливых людей нагонял на меня робость; почти в каждом человеке я видел жулика.
Побродив около часа, я возвратился в вагон.
Теперь мне предстояло проехать до Одессы два дня и две ночи.
II
Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.
В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесучовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.
По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.
Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать, в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудами багажа, и шепотом сообщил ей, что с ними едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.
Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив из кармана карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р.О.П. и Т.
– Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами, он может тебя устроить, – сказал мазурик. – Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.
Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако, письмо взял. Кроме недоверия мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым.
Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыл его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма, на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов – лет девятнадцать, он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или учеником. Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как ученик плавал без жалования, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.
Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул, – но страшно вспыльчив и нетерпелив.
Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, – чёрный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу, взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника «нет ли вакансий», а если этот спросит – «где раньше плавал?» – сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.
Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – всё было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут моё зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал, я думал, что морская даль тянется значительно дальше.
Было так знойно, так утомительно вокруг, так всё ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, причем выходил пять или шесть часов.
Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти, видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению строну, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем цело, не послышался, естественно, эффект был плачевный. Затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.
Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла, подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида – модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар… словом, я пересмотрел всё, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.
Как был я легкомыслен, вернее – беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешёвого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом, еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.
Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в лёгкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но всё окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим.
У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом – эти высшие существа, свои пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» – выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, – кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то и этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бёдер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно – в ученической курточке, надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», – слышал я уже на другой день ответы, равные откачу, потому что у меня не было денег.
Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать, спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого – одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.
Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу – неясно я знал это.
Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.
При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.
Единственный для меня способ достать денег был таков, продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за всё двенадцать – пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать – пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».
На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной на кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.
Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.
Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.
Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.
Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет», другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу.
Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо безвкусной окраски голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались и их очертаниях. Под бушпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.
Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и тёмного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил, мне было, должно быть, совестно, объяснить знаками голод.
Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и токарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом душные фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков. «Вира! Майна! Хабарда (берегись!)», полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками».
Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь, прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечитом – резко возбуждали меня.
Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.
С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население – грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов, таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.
Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.
По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими массивами – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.
Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов, едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед.
Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни, был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.
Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошёл вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны, моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.
Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступнёй и коленом, две небольшие язвочки, такая же такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться, соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише. Я сходил на больничный прием, там я получил бинты и йодоформ.
Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таком, что жильцы и хозяева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю во дворе перевязку, прочёл мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идёт по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть, он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошёл через двор и упал в обморок.
Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может, – у ней дети, жильцы в претензии и т. д.
Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел – эти люди мне не поверили бы – и тут же решил воспользоваться наконец письмом неизвестного пассажира.
III
Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию.
Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами навыкате, Хохлов осыпал меня вопросами: «Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств?»
– Я хотел сам, – твердил я. – Я хотел устроиться сам.
Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный, болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал шестьдесят копеек, и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение; я уже думал, что на днях буду служить матросом.
– Поди купи себе табаку! – сказали бухгалтеры, провожая меня.
Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе. Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся, пожилой хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в бордингаузе агентства, в так называемой «береговой команде». Матроса звали Кулиш, прозвище было «Дядька».
Короче говоря, Хохлов поселил меня в бордингаузе, на полном, кроме одежды, содержании (лишь выдали башмаки), без всяких обязанностей с моей стороны, впредь до получения службы, о чем обещал хлопотать среди знакомых капитанов.
Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к Карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли койки и столы-шкапчики Рядом с домом было здание кухни.
Когда я потом присмотрелся, то увидел, что, кроме старожила Кулиша, жильцы были не вечные: заболевшие, отставшие от рейса, вернувшиеся из побывки дома, в деревне; были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, ждал вакансии. Всего жило здесь человек двадцать, и их места занимали новые.
Ящик, обитый цинком, полным белого хлеба, стоял у стены, каждый брал себе сколько хотел. Мне выдали общий месячный паек: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку. Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка, я застлал кровать и устроился.
Всем, кто меня расспрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром, он был тих, но опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть ею дела я знал, да забыл.
В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как «паныч». Иногда мне обиняком давали понять, что считают меня поселенным здесь затем, чтобы доносить в агентство о жизни призреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались, верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братии. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез.
Среди матросов было несколько военных; их желто-чёрная лента на фуражке не нравилась мне; я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти макросы ожидали назначения на пароходы Русского общества. Они плавали за жалованье, как и частные люди, а начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала, в двенадцать часов дня приносились жестяные баки с чудным борщом, только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое тоже мясо или баранина – заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот. Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши.
Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаясь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ, наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно: «Еще ничего нет, потерпи».
Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь – сорок – шестьдесят копеек на табак, но я всего прокурить не мог (я курил тогда еще не затягиваясь дымом как следует), а потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм.
Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» (Р.О.П. и Т), делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плавал на «Марии» учеником, на своих «харчах» (как-то так выходило по штату продовольствия) и, заведя меня в свое крохотное помещение – род косой каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, вея ленточками, суетился у сходни, таща канат Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, но воспоминание о вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому.
Был случай, когда я «чуть-чуть» не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург «Блеск» погиб в Ла-Манше, – от шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за границу. Однако механик обещал дело устроить, и на другой день – к отплытию – я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час: только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых.
Другой случай подобен этому в Практической гавани долго стояла замечательной красоты яхта «Вега» – большое океанское судно, с отделкой красным и ореховым деревом, с снежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом, – хотя бы сначала без жалованья, но, походив на «Вегу» дня три, я узнал в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я спокойный, скучный, серый; рабочий, но не моряк душой, – не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько.
День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская даль, – всё гнело меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать; сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение – нотариальное – на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Силантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать – катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль двадцать копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтании о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал, а я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив заряды.
Самыми любимыми витринами на больших улицах били для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные, подвесные, для простенков акварели, изображавшие зеленоватую солнечную рябь моря, с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Ещё я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и т. п. Но в те времена для меня зрелищем было всё.
Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки; карманные платки были большею частью цветные, живую домашнюю птицу таскали связанной за ноги, головой вниз, но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные «халы», не столь, по-моему, вкусные, как пятачковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлев пёкся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне не любезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свёртывать папиросы. В большой моде были дешёвые лакированные табакерки, чёрные, из папье-маше, с цветной картинкой на крышке. Генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что называлось «Скандебобр, или переход через Черное море». На площадках большой лестницы из двухсот десяти широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюка, то есть герцога Ришелье, продавались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и т. п. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк – за Карантином, бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо.
Городом для меня был порт.
Жизнь мою отравляли всё увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругло выгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил, вместо йодоформа, цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац.
В конце августа мне наконец повезло. Старший помощник «Платона», парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие.
Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я наконец моряк. Пока «Платон» грузился, я выпросил письмом у отца десять рублей, присланных телеграфом, и заплатил восемь с полтиной.
«Платон» стоял и грузился дней восемь.
IV
Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов – Враневского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.
Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навыкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.
Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто» «Если красавица в страсти клянется…». Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица…». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объясняя сущность ведения корабля по компасу.
Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морском болезнью, но их не рассчитывали.
Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы – в насмешку, надо полагать, – советовали мне есть грязь с якоря, – будто бы помогает.
Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, – сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни, – той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить, тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.
Иногда, хлебнув чаю, я плевался там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара. Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика она летела в угол неправильно класть шапку на стол. Я относился серьёзно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей. Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.
Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна поручни, решётки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», – говорил боцман. «Как костью?» – глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло». При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.
Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).
Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, – боцман твердил. «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»
Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето, – я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.
Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским – соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.
По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых, он продолжался с двенадцати до часу дня, этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.
Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом, – единственно хотел бы я управлять лебедкой. День проходил знойно, шумно. В восемь часов утра баковый колокол звонил к завтраку[2] (он продолжался полчаса), в двенадцать – к обеду, в один час – на работу. В шесть часов вечера колокол звонил – конец рабочего дня – двумя ударами.
Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие.
Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой.
Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город, среди них Врановский; я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерибасовской улице; там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня на спине лежат концы лент, а лоб открыт.
В другой раз я был днем свободен (по праздникам не работали) и зашел в Публичную библиотеку. Смотрю пошел также Козицкий. Я взял «Неистового Роланда» Ариосто; Козицкий взял что-то ученое. «Что читаешь?» – спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты всё глупости да сказки читаешь, – пренебрежительно заявил он. – Вот что читай, это лучше», – и он покачал какое-то сочинение по политической экономии, но, важно поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел; а я стал также зевать над Ариосто и тоже ушел.
Наконец погрузка была закончена, утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе (в 1896 г), когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек.
До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания. Гудки проревели, сходни на талях лебедки были спущены, и пароход отвалил. Сердце мое трепетало и плыло вдаль. Я пошел на бак, к бушприту, чтобы смотреть вперед без помех. Когда прошли маяк, волнение начало качать пароход килевой качкой. Первый момент было странное ощущение под ложечкой, однако я оказался не подвержен морской болезни, что с торжеством сообщил всем матросам.
Трудных работ в плавании не было. Палубу, загруженную товаром и пассажирами, мыть было нельзя, чистить медь тоже. Все держали вахту по очереди – по четыре часа смена рулевой на мостике, один матрос на палубе, на корме, другой вахтил при вахтенном помощнике, стоявшем наверху; матрос бегал туда по свистку за распоряжениями. На приказания надо было отвечать: «Есть!» – и это мне нравилось.
С вечера, как темнело, на бак, к колоколу, ставился еще вахтенный. Этот следил огни в море и должен был звонить, слева огонь – один раз, справа – два раза, впереди – три удара.
Переход к Севастополю в открытом, без берегов, море, при сильном волнении; вид стай дельфинов, несущихся быстрей парохода, их брызгающие фонтанчики, белые брюха, темные спины, их тяжелые выскакивания – всё действовало упоительно. Ночью при качке было приятно спать, приятно было ходить, покачиваясь, смеяться над тем, как тошнит слабых пассажиров. Нечто настоящее начало совершаться вокруг; всё начало отвечать своему назначению – плыть.
Понемногу я знакомился с интересами и рассказами матросов. Они, то есть интересы, сосредоточивались на доступных женщинах, пересудах о начальстве, на выпивке, портовых сплетнях. Некоторые песенки я запомнил; например, первую строфу модной тогда:
Крутится, вертится Шар голубой. Крутится, вертится Над головой. Крутится, вертится, Хочет упасть, На барышни на голову Хочет попасть…Потом такая песня.
Вот вхожу я в Дюковку, Сяду я за стол; Скидываю шапку, Кидаю под стол; И в тебе я спрашиваю: И что ты будешь пить? А она мне отвечает Галава балыть! Я ж в тебе не спрашиваю, Що в тебе балыть, А я в тебе спрашиваю: Що ты будешь пить? Альбо же пиво, альбо ж вино, Альбо же «Фиялку», альбо нычево!В прошлом году итальянский пароход «Колумбия» столкнулся с пароходом «Владимир» Р.О.П. и Т. «Колумбия» потопила «Владимир» и ушла, не приняв на борт гибнущих. Погибло триста человек.
Долго в Одессе пели:
Та-а-ра-ра-бумбия! «Владимир» и «Колумбия» – а-а! «Владимир» погибает, «Колумбия» ти-к-а-а-ет.Я помню начало такой песни:
Адес, Адес! страна родная!Из матросских росказней я помню хорошо три о греке-поваре на одном пароходе Добровольного флота, который умел гадать. У одного матроса пропал кошелёк с деньгами. По просьбе жертвы кражи повар взял сито, нацепил его висеть на ручку уполовника, отметил край сита чертой и заголосил басом «Сито, а сито, скажи хто узял гроши?» Присутствовала вся команда. Сито само повернулось и уставилось чертой против вора.
Сенсация!
Про того же повара говорили, что он разговаривал со своимими кушаньями, например: «Соуси, соуси, не чопуритессь, соуси!» (то есть не сопротивляйтесь). Или «Та це вы, баклажаны, дурни, аж не видите, що я горилку дую?!»
Один преподаватель Анапских мореходный классов так матерился, что и весь класс начинал его материть, а дело кончалось дракой.
У боцмана Хоменко, на пароходе «Херсон», была складная металлическая стопка, стоило предложить ему выпить, как он растягивал свою стопку трубкой и опивал таким образом угощающего.
Еще на стоянке и Одессе к нам в обед приходил безработный матрос, молодой, стройный, сильно загорелый и изрытый оспой человек. Он ел с нами дня три. Впоследствии я встречал его на купанье за волнорезом и узнал, что его расчетная книжка замарана, то есть в ней отметка за воровство. Поэтому он не мог никуда поступить. Это был лучший пловец в Одессе. Он нырял с камня саженей на пятьдесят вперед, оставаясь под водой более двух минут.
Его бронзовое угреватое тело было почти сплошь покрыто чудно сделанной красной, черной и синей татуировкой, большей частью непристойного содержания.
Говорили, что он сутенер. Но он был всегда деликатен, сдержан и держался с достоинством.
V
«Платон» шел круговым рейсом, то есть заходя во все порты, даже такие, где не было пристани, там выгрузка производилась на фелюки, пассажиры уезжали на лодках. Принимая участие в выгрузке и погрузке, матросы получали пять рублей с тысячи пудов груза. Я не мог работать, – был малосилен таскать пятипудовые мешки, хотя бы в трюм, чтобы положить их на строп лебедки. В таких случаях меня посылали в трюм только присматривать за береговыми грузчиками.
Я успевал сходить на берег, делая это по разрешению или без разрешения. В Севастополе заинтересовали меня больше, чем броненосцы, так называемые «поповки» – желтые, круглые плавучие батареи с широким низом, мне сказали, что «поповки» строил инженер Попов в 1853–1855 годах.
Я поднялся прямо вверх по крутому склону, недалеко от вокзала, устал, немного походил в этой части города и, не зная, что делать дальше, вернулся на пароход.
Огни вечерней Ялты поразили меня. Весь береговой пейзаж Кавказа и Крыма дал мне сильнейшее впечатление по рассыпанным блистательным созвездиям, – огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невидимого города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетел запах цветов, теплые порывы ветра, слышались далеко голоса и смех.
Я без разрешения ушел в город, но проходил недолго, – боялся брани. Передо мной шла вверх узкая полуосвещенная улица, по ней спускалась кавалькада: дамы в амазонках, мужчины в цилиндрах, смуглые татары. Пронесся запах духов, молодые, возбужденные экскурсией женщины громко говорили со спутниками по-французски. Я чувствовал себя стесненно, чужим здесь, как везде, но еще сильнее, – чуть ли не столбом тротуара. Мне было немного грустно, и я вернулся на пароход. Долго я слышал памятью «члок-члок» копыт и видел красные лица дам, небрежно прильнувших, сбоку коня, к седлу.
Остальная часть рейса – вид портов и характер остановок – мною забыта, кроме не исчезающего днем с горизонта шествия снежных гор, – их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров, цепь высоко вознесённых стран сверкающего льдами молчания. Лишь, в Батуме я помню одну мелочь, боцман говорил, что тамошние хозяева винных погребов, грузины, держат вино и мехах и дают пробовать его бесплатно.
Еще по иллюстрациям к «Дон-Кихоту» я пленился живописным видом бурдюков (мехов), а потому сходил в Батуме к грузину-духанщику, где, точно, на камнях и подставках, как толстые туши, лежали эти меха с вином. Но духанщик налил мне на пробу только треть стакана красным вином, и оно мне так не понравилось, что я больше «пробовать» не ходил.
По возвращении в Одессу «Платон» стоял там неделю, и, как уже подошел срок моим восьми с полтиной, то старший помощник начал требовать с меня деньги. Я отговаривался тем, что дважды писал отцу и на днях получу деньги, но был страшно встревожен: по возвращении в Одессу я, точно, получил письмо отца, но такое, что надежд на деньги у меня не было. Правда, в письме лежала трёхрублёвая бумажка. Отец писал, что денег он посылать больше не может, – «старайся сам». Он жаловался на дороговизну, многосемейность, нужду, и я знал, что всё это правда.
Мне нечего было продать, чтобы набрать восемь рублей пятьдесят копеек, к Хохлову обращаться я стыдился. Я очень жалел, что перед первым отплытием продал одному матросу свое полосатое байковое одеяло за четыре рубля (оно стоило десять рублей) только для того, чтобы купить одну из прекрасных фарфоровых китайских чашек. За нее я заплатил два рубля пятьдесят копеек.
Надо мной смеялись. «Ну, зачем тебе чашка?» – спрашивали Врановский и другие. Но я не мог объяснить им то, что плохо понимал в себе сам. Жажду красивых вещей. Еще очень нравились мне узкие ножи в ножнах, небольшие, с прямой ручкой из отшлифованного пестрого камня, вывозимые из Греции. Такой ножик я купил у Козицкого за полтора рубля, а он платил за него восемьдесят копеек.
Подступил срок отплытия, и старший помощник, накануне отхода, еще раз сказал – «Надо платить вперед или уходить». Я обещал всякую нелепицу, втайне надеясь, что обо мне забудут. Действительно, разговор не поднимался больше об уплате; забыл помощник или решил ждать – я сказать не могу; второй рейс, так или иначе, я совершил.
Рейс оказался трудным. Ранние холода этого года, резкий северный ветер и штормы, при отсутствии теплого платья, так выстудили меня, что, бывало, ночью на вахте я весь трясся, то и дело бегая в кубрик греться, хотя рисковал подвергнуться наказанию. Матросы, зная, что я не уплатил и плыву в некотором роде зайцем, пугали меня «Гриневского ссадят в Севастополе; помощник сказал…», «Гриневского ссадят в Керчи», «Ссадят в Батуме», «ссадят… ссадят… ссадят…» – скребло у меня на сердце весь путь до Батума, пока мы не пошли обратно.
Желая смягчить начальство (которое оставалось равнодушным), я бросался везде, где работали, где был нужен и не нужен, ворочал брашпиль, тащил канаты, «койлал» (свертывал) их на юте и баке, замерзал, нес вахты. Кто-то дал рваный овечий полушубок, скорее пиджак из одних сырых кож, скорее напоминающий собрание пластырей, чем одежду, но мне стало легче. Иногда утром (на обратном пути) скользко было ходить по обледеневшей палубе, приходилось хвататься за промерзшие снасти.
На этом обратном пути я ради какой-то надобности прицепил к шкерту дубовое ведро с медными обручами и пустил в волны; узел развязался, ведро осталось дельфинам. Тогда боцман приказал мне достать ведро, где хочу, – купить или украсть – мое дело, но иначе заберут остаток моих вещей (ведро стоило три рубля). Ведро я достал в Одессе, но об этом потом.
Самой тяжелой историей, разыгравшейся на «Платоне» в тот рейс, была история пьянства и трюмной кражи, произведенной Врановским и Козицким.
Произошло это так.
В Феодосии палуба парохода была нагружена большими бочками вина и стадом овец – штук двести. Чтобы овцы не бегали и не сбивались в кучу, между ними по палубе устроили перегородки из досок; бочки стояли вдоль бортов, а также в проходе между лебедкой кормового трюма и стеной входа в машинное отделение.
Часов около десяти вечера, при сильной качке, я, Врановский, братья-нижегородцы и еще два матроса рассматривали медную трубку, которую показал нам боцман. Известно, что к таких случаях (а что-то было уже решено без меня) люди, особенно бывалые, объясняются наподобие муравьев более трением незримыми «усиками», чем точно сказанными словами. Особо прямого ничего сказано не было, только боцман предупредил, чтобы сделали дело осторожно; сам он пить не пошел.
Свистал адски холодный ветер, темно было, как в животе – черной кошки. Вахтенный помощник ни видеть нас, ни слышать не мог. Мы пробрались за машинное отделение. Один матрос просверлил буравом бочку, вставил в отверстие медную трубку и дело пошло. В бочке был крепкий портвейн. Кто прикладывался сосать, тот отходил не скоро. Слезы от крепкого винного духа, тепло и головокружение напали на меня, когда я по очереди раза три приложился к этой материнской груди.
Не столько от количества выпитого вина, сколько от дыхания спиртом из бочки, мы все скоро охмелели до чрезвычайности. Сели, стали закусывать. Начался хохот, шутки и очень громкие уговаривания вести себя тише. Вахтенным на палубе был я. Мне пришла удачная мысль доить овец – попить, парного молока. Все под держали меня. Начали ловить во тьме лохматых животных и щупать, где у них вымя. Доить решили в фуражку Перепуганные овцы сломали перегородки и начали скакать, дико блея, по спавшим над трюмами палубным пассажирам. С мостика раздался свисток. Я стал ввинчивать по трапу наверх и предстал перед старшим помощником, ухмыляясь вполне бессмысленно.
– Что за шум? Что такое?
– Это овцы, – сказал я, – овцы, и больше ничего.
– Гриневский, ты пьян?
– Зачем же пьян? Я не пьян.
– Ну, дохни. Дохнул.
– Так. Кто там с тобой? Я сказал.
– Что вы делаете?
– Да ничего. Сидели, курили.
Вахтенный помощник приказал позвать боцмана, старшего матроса и Врановского. Пришлось нам признаться, что перепились из бочки (которой жулик боцман сосредоточенно заколотил свежую рану клепкой), а на другой день в кубрике был произведен обыск, – оказалось, что из нескольких ящиков в трюме, которыми ведал Врановский, пропало пять штук сукна.
Незадолго перед этим Врановский дал мне и Козицкому много дешевых конфет и папирос. Они лежали в наших ящиках. Материй не нашли, но нашли эти папиросы и конфеты, – их Врановский тоже украл. Его допросили, он признался и вернул сукно, зашитое им в свой матрац, а также спрятанное частью под кубриком, среди хлама. По отношению к пившим вино командир ограничился строгим выговором, а Врановского и Козицкого (тот тоже участвовал в похищении товара), из сожаления к ним, не предали суду, но уволили по приходе в Одессу.
– Никак не ожидал от Врановского, – слышал я разговор старшего помощника с механиком. – Хороший матрос, держал себя всегда с гонором. Предложено было уйти и мне, как не имеющему чем платить. Но я уже приготовился к этому.
Боцман со старшим матросом требовали восстановить ведро – «иначе изобьем насмерть». Что делать? К «Платону» пристал борт о борт пароход «Петр». И вот, обуреваемый смелостью отчаяния, днем, наученный так поступать тем же боцманом, я – среди толкотни публики и грузчиков – на глазах у всех, взошел на мостик «Петра», вынул из гнезда дубовое ведро с литерой «П» и вручил оное боцману ведро, конечно, покрасили и присвоили, но, как улик не было, напрасно матросы «Петра» попрекали нас кражей, – боцман меня не выдал.
VI
Мне ничего не оставалось, как идти снова к Хохлову Так я и сделал, и, сжалясь надо мной, бухгалтеры опять поселили меня и здании береговой команды, хотя, не стесняясь, высказывали удивление – почему мой отец не поддерживает меня, раз я уже начал плавать? Но всегда трудно правильно оценить чужие отношения. Для этого надо было знать моего отца, прошедшего юношей тяжелую школу трехлетней тюрьмы после восстания шестьдесят третьего года, его сибирскую ссылку, его манию самостоятельности сына и его идеалы «труда, пользы обществу, помощи старику отцу». Во многом отец был наивен, как и я, должно быть, он думал, что мне найти работу и работать довольно легко. Главное – малое жалованье (шестьдесят рублей), вечные долги и пятеро детей. На этот раз я прожил в бордингаузе целый месяц и по очереди ходил сторожить на мол склады, но только ночью.
На молу было светло как днем, часто хотелось спать, однако тому мешали контрольные часы, которые надо было заводить через каждые пять минут. Ноги тяжело мучили меня – раны увеличивались, икры опухли. Не падая духом, я по-прежнему обходил, день за днем, гавань, пытаясь найти место матроса или кочегара.
В бордингаузе жил тогда временно кочегар Иванов. Это был тихий молодой человек с чистым белым лицом и близоруко щурящимися глазами, русый; причесывался он гладко назад, к затылку; одевался в синее, как вообще кочегары глухой синий пиджак (китель) из синей дабы и такие же брюки. Ему пришлось быть, послушником на старом Афоне, к монастырю его вообще тянуло. Я с ним сошелся; он и Василий Иванович были единственные, кто меня не травил.
К тому времени мои отношения с Кулишом, всегда подзадоривавшим и дразнившим меня, стали враждебными. Без пикировки не обходилось ни одного дня. Он звал меня «паныч» – в насмешку, конечно; твердил при других, что Хохлов – мой «дядька», то есть дядя, создавая тем ложное положение. Он твердил, что отец от меня отказался, что я «малахольный» (то есть «меланхолик» – ненормальный), «псих», что я «лодырь» и т. п. Вспылив, я бранил его самыми непотребными словами.
Этот Кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны, – оттого-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по тому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас «старшим» и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне неинтересна(6).
Многого не помню, приведу лишь пример пикировки (скорее перебранки):
– Ты что, скаженный (проклятый), опять мою ложку взял?
– Та они же одинаковы.
– Одинаковы… одинаковы! Мать твоя одинакова.
– Заткни фонтан, огибалка, босяк!
– Ах ты… в гроб печенку… (и так далее, по всем частям организма, включая религиозные и моральные категории). Кнек проклятый («кнек» – чугунный постав, вокруг которого обматывают канат) Кнек! Кранец! Банберка (большой поплавок).
– Матрос с погоревшего корабля!
– Малахольпый!
– Тебе гальюны (сортиры) чистить, а не борщ жрать!
– Ты голодный, на тебе кусок, подавись.
– Одинаковы!.. Та у моей ложки конец зарублен, на вот, чи бачишь?
Бывало сильнее, бывало слабее. Но пикировка обязательно кончалась отвратительной руганью.
Не знаю, что выдумывал обо мне Кулиш за моей спиной, но дело кончилось плохо: однажды Кулиш загадочно сообщил, что Хохлов требует меня к себе. Он и Силантьев сидели в отдельной комнате конторы. По лицу Хохлова я сразу увидел, что он разозлен.
– Вот я пришел, – сказал я.
– Скажи, пожалуйста, – грубо сорвался Хохлов, – какой это я тебе «дядя»?
– Вы мне не дядя. Я не понимаю…
Ты нагло врешь Ты всем говоришь, что я твой «дядька» и что я сделаю тебе всё, что ты только захочешь.
– Кто вам сказал такую чепуху?
– Кулиш. И я верю ему.
Разыгралась безобразная сцена. Мои объяснения, что Кулиш сам называл Хохлова «дядькой», что он клевещет, – ничему не помогли. Хохлов кричал, что я испорченный человек, я плакал и кричал, что «вы с Кулишом оба сумасшедшие, если так», что Кулиш негодяй, Хохлов кричал, что Кулиш – честнейший человек, а я на него клевещу. Силантьев хотя поддерживал Хохлова, но очень сдержанно, – видимо, сочувствовал мне.
Как я узнал потом от Иванова, разросшаяся сплетня о родстве с Хохловым обратила меня в незаконного сына бухгалтера, и это взбесило взбалмошного, но, по существу, доброго человека. Еще обиднее, быть может, казалось ему, что (по словам Кулиша) я называю его «рыжий дядька».
Я настаивал, и Кулиш был вызван. Произошла очная ставка. Кулиш нагло утверждал, что автор сплетни – я. Задыхаясь от негодования, я осыпал его справедливыми упреками и видел, что поколебал мнение Хохлова о себе, – однако, по предложению Хохлова, из бордингауза мне пришлось уйти. Я получил лишь разрешение хранить временно свои вещи в команде.
Переночевав в порту под балками эстакады, я утром пошел в больницу, где, осмотрев мои ноги, фельдшер положил меня в хирургическую палату. Здесь было немного больных – среди них несколько матросов, – кто без руки, кто без ноги, были также страдальцы с вырезанной челюстью и больные раком. Несколько почти здоровых парней бродило по палате, гогоча, задирая друг друга и флиртуя с сиделками. Один из них, помягче и деликатнее прочих, оказался мой земляк, вятский крестьянин, он плавал матросом на «Петербурге» Добровольного флота, а теперь ожидал операции надо было вырезать под мышкой жировой нарост Его звали Фёдор. Широкое, курносое и рябое лицо Федора располагало к нему Он относился ко мне хорошо и старательно защищал меня от больных, которые меня, как новичка в больнице, приняли было на штыки разных проделок. Из них одну я запомнил: ночью меня разбудил торжественно и грустно один такой «больной» и сказал шепотом, чтобы страшнее было:
– Подвинься, Гриневский, надо положить мертвого; сейчас принесут.
Я не был труслив, а мертвецов вообще не почитал причиной паники; кроме того, заподозрил мистификацию.
– Пусть несут, – заявил я – Кладите, места хватит.
Раздалось тихое пение «Со святыми упокой, господеви», и из дверей показалась процессия несколько человек несло завернутый в простыню «труп». Впереди, со свечкой в руке, шел, тщательно закрывая лицо, какой то тип. «Труп» торжественно положили рядом со мной, и я почувствовал, что мертвец теплый, даже чуть шевелится.
– Вставай, довольно дурака валять! – закричал я.
Тогда мертвец воспрял и начал скакать козлом, а за тем вместе с другими он кинулся на меня, озорники перекатывали и щекотали меня, а я так рассердился, что стал бить кого и как попало, и Федор наконец прекратил это ночное безобразие, разбудившее труднобольных; «пикировка» долго звучала под потолком палаты. В более ужасной больнице мне не приходилось лежать.
Порядки городской одесской больницы были известны всем в городе. Больные сами мели, сами натирали пол, халаты – короткорукие, рваные и нечистые; колпаки не по головам, жесткие постели и лепешки-подушки, набитые слежавшейся соломой; грубые простыни и редкие изношенные одеяла, нечистоплотные, грубые служащие, хулиганство больных и произвол старшего врача, кричавшего на больных, выгонявшего, если не ели скверную пищу, – всё это действовало угнетающе, особенно при воспоминании о прекрасной земской больнице в Вятке.
Лекарства не стояли на столиках у кроватей, а просто в определенные часы коновал-фельдшер обходил палату со склянками в руках и каждого заставлял глотать, что полагалось по его списку. Явное воровство правило этим домом. Кто же поверит, что, собирая с пятисоттысячного населения – ну, допустим, хотя двести тысяч рублей больничного сбора (шестьдесят копеек в год с человека – обязательное постановление), нельзя было бы нас кормить иначе, чем арестантским супом и слегка тронутым постным маслом, вдобавок пересушенным при «жаренье», картофелем. Кто там у них получал молоко, яйца, кисель, манную кашу, – я не знаю, может быть, и получал, как чудо, но мы были всегда голодны и всегда неспокойны.
Предположение операции, пугавшей меня, – отпало; как-никак перевязки, мытье ног, малое движение и лекарственные мази заживили дней через пятнадцать мои ноги; опухоль рассосалась, раны сузились и затянулись струпом, тогда я попросился на выписку, с облегчением покинув эту больницу.
VII
По выходе из больницы мне ничего другого не оставалось, как влачить голодное существование, подобно прочим париям порта, ночующим в ночлежных домах, где я теперь ютился и сам. Ночлежных домов было в Карантине два или три – не помню. Не разрешалось остаться в ночлежке дольше восьми часов утра, поэтому приходилось идти мерзнуть на улицу. Наступила холодная солнечная осень, и, лишенный теплого платья, я часто заходил греться в «обжорку», в трактиры. Работать на выгрузке я не мог – не хватало силы, а грузить уголь, то есть катать его в тачках, меня не брали, хотя я и выходил несколько раз к босяцкому наряду возле угольных складов.
Совершенно не могу припомнить, как я питался тогда, едва ли я даже «питался», я систематически голодал, изредка выпрашивая на пароходах кусок хлеба, изредка обедая с матросами. Для этого надо было в двенадцать часов дня стоять возле борта парохода, у бака, почти всегда, видя маячащего, вздыхая, бродягу, матросы кричали: «Иди, бери ложку!» – или отдавали остатки обеда. Раз я так обедал на «Платоне» среди старых знакомых, однажды латыш с парохода из Либавы позвал меня в кубрик, дал кофе с молоком, хлеба и сала, и я наелся досыта. Свои башмаки я променял на опорки, брался за собирание старого железа, продавая его по одной копейке за фунт, пытался «стрелять» у прохожих с весьма плачевными результатами, потому что, стыдясь, не был никогда убедителен в своих обращениях.
Так промучился я недели две, не оставляя, однако, попыток получить место, обходя всякие суда, даже презренные «дубки». Сидел я как-то на набережной в конце гавани, где стояло много этих «дубков», и смотрел, как грузят на «дубки» черепицу, соль, арбузы. Тут подошел ко мне старик шкипер, украинец, и спросил, не хочу ли я поступить на его судно «Святой Николай», которое послезавтра, если будет ветер, пойдет в Херсон. Конечно, я с радостью согласился. Жалованья на готовой пище дали мне – увы! – шесть рублей. Спорить не приходилось.
Я сбегал в бордингауз, притащил свою полупустую корзину с вещами и сунул ее в кубрик под треугольник нар. Кубрик – вернее, сырое, полутемное гнездо – отсек бака, с малой дырой под бушпритом, пропускавшей свет сквозь стекло, как в подвал.
Весь день я помогал шкиперу и его сыну, молодому хохлу с черной бородкой, грузить черепицу, а вечером был приглашен хозяевами пить чай. Мы отправились в ближайший трактир с органом. Старик купил баранок, сала, забрал мой паспорт и выдал мне один рубль задатка. Теперь я назвал бы это авансом, но остерегусь, – чтобы не получить случайно где-нибудь этот рубль – только один рубль.
Старик и его сын были одеты тепло – в новые овчинные бушлаты сырой кожи, высокие сапоги, смушковые шапки, простеганные ватные жилеты и бумазейные рубахи.
На другой день снова грузили черепицу. Промерзнув ночью в кубрике, – хотя свалил на себя все, какие нашел, обрывки брезента и мешки, – я бегал проворно, что ящерица, день был теплый, я даже вспотел. Мы (я и два грузчика) загрузили до верха трюм и уложили остаток черепицы на палубе так высоко и универсально, что она (черепица) загромождала палубу до края бортов, и негде было ступать, кроме как ходя по черепице.
Хозяева жили на корме в каюте с плоской крышей, где было тесно и грязно. Румпель ходил над крышей, где, то есть ходя по крыше и ворочая румпель, по очереди вахтили отец и сын. Середину палубы занимала маленькая кухня с железной печкой. Бочка с пресной водой стояла у каюты; в каюте хранилась провизия – бочонок солонины, крепкие, с дырочками, галеты, сало и хлеб. Чай пили кирпичный, из большого чайника.
Я исполнял обязанности матроса и повара. Хорошо еще, что украинцы на завтрак не ели горячего. Они ели много; я готовил им с утра на весь день (топил дровами) котел борща с серыми макаронами, с салом, иногда жарил солонину. Лук и картофель были. Затем я на ужин разогревал эту гастрономию.
Я зажигал фонари зеленый – с правого борта, красный – с левого; зажигал мачтовым фонарь, стряпал, кипятил чай, колол дрова, вахтил на баке и почти не спал, а когда спал, то дрожал от стужи. Хозяева помыкали мной как собакой; ругали, издевались над неповоротливостью. Естественно, что, шагая но черепице, иногда раздавишь одну-две, – но нег, сын кричал. «Босявка, це будут твои ридные», то есть он вычтет двенадцать копеек за каждую черепицу из жалованья.
На завтрак, обед и ужин (хозяева стояли у руля поочередно, по четыре часа каждый) мне говорили, какой части, какого румба держаться по компасу, и я минут пятнадцать – тридцать заменял рулевого.
Сын был хуже – ехиднее, жесточе отца.
Я почти не спал. Ночью выдавалось несколько часов сна, однако спать на голой доске с черепицей под головой, укрываясь брезентом, – дело плохое. Подозреваю, что был простужен несколько дней. Резкая полуштормовая погода, очень холодная, развела такие валы, что «Святой Николай» не раз касался бушпритом волн. Поплескивало и на палубу. Всё же рейс прошел благополучно, и на рассвете шестого дня плавания «Святой Николай» плыл уже в низовьях Днепра – в днепровских гирлах. Это был мир камышовых островов с лазурно-стального цвета протоками, вскоре залившимися алым светом низкого солнца.
Всё стало розовым – заря, камыши, вода, нигде я не видел берега, а если видел, то не узнавал его, принимая за острова. В этом дремуче-зеленом, ярко пылающем зарей мире зелёные отражения под водой, отражения встречных парусов, золото с вином солнца и торжественная бели. им питающихся из туманов озаренных облаков сверкали, как изображение полного счастья рукой природы, и теми средствами, какие даны ей.
По гирлам мы плыли долго, при слабом ветре, и после двенадцати дня бросили якорь у Херсона, у набережной.
Я заявил «сыну», что служить такую собачью службу за шесть рублей больше не буду, и потребовал расчет Хозяева с руганью подсчитали «мои ридные» черепицы, – по их счету получилось, что я раздавил товару на рубль двадцать копеек; один рубль взял задатка, служил десять дней; выходит, что не они мне, а я должен им двадцать копеек.
Забрав свою корзинку, я пошел в рыночную чайную, вблизи берега, напился за последний гривенник чаю, отправился к портовому городовому и заявил ему, что хозяин не хочет уплатить деньги.
Совет городового, а также слушавших это объяснение бывалых людей был таков, надо идти в «Водяную муникацию» (коммуникацию?) С помощью прохожих я разыскал требуемое учреждение; там меня выслушали и велели прийти со шкипером, чтобы разобрать это дело, я возразил, что шкипер, конечно, не пойдет добровольно. Чины развели руками, пожали плечами. Возвратясь к «дубку», я начал звать идти со мной и «сына» и «отца», в ответ, естественно, выслушал одну брань, а городовой, к которому я обратился за помощью, ограничился новым советом подать в суд.
Дело кончилось ничем, я устал, плюнул и засел в чайной, где было тепло. Стоял мороз, градуса четыре-пять, без снега, при ярком солнце. За длинными столами чайной бабы и мужики аппетитно пожирали накрошенные в большие белые чашки (полоскательные) помидоры с луком, облитые постным маслом, уксусом, посыпанные перцем.
Было шумно, тесно. Иногда оставались недоеденные куски хлеба, и я подбирал их. Однажды, видя это, сердобольные женщины наспех состряпали мне такой же «рататуй» из помидоров, отрезали полхлеба и надавали копеек пятнадцать медью. Смысл их восклицаний сводился к скорби о том, что такой молоденький, жалостный матросик клацает зубами от стужи и голода.
Буфетчик согласился хранить мою корзинку, и под вечер я отправился в ночлежный дом, а утром сел без билета на небольшой колесный пароход «Одесса», шедший в Одессу. Буквально замерзая в полотняной блузе своей с синим воротником, весь путь я простоял сунув плечи и голову в окно кухни, дыша банным теплом и съестными запахами. Никто не бранил меня за безбилетность, наоборот, я встретил даже сочувствие, а повар, который, как мне казалось, с раздражением относился к моему торчанию в окне, наподобие поясного портрета, – после захода солнца влил в жестяной бак полведра борща, бросил туда фунта три вареного мяса, дал целую булку, ложку, и я, скромно выражаясь на деликатном наречии южан, – «покушал». Я всё съел; меня от еды ударило в пот.
Пароход пришел к молу поздно вечером. Не зная, куда девать корзинку, я упросил стрелочника поставить ее в его будку и переночевал в соломе за конторкой Российского общества транспортов, между ящиками и досками. Мне удалось не замеченным сторожами вползти под край брезента, покрывающего товар, так что я защитился от ветра, но почти не спал, всё тело ныло и стонало от холода.
Утром я был близок к отчаянию. Я отправился, забыв о всяком самолюбии, в контору к Силантьеву, и тот отнесся ко мне очень тепло, при хмуром ворчанье – может быть, тоже тронутого моим положением – Хохлова, который сказал «Я умываю руки, возитесь с ним, если нам нравится».
Силантьев дал мне свой адрес и, наказав прийти в шесть часов вечера, ничего больше не объяснил и сунул полтинник.
VIII
Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненной улице. Меня встретила худенькая приветливая женщина лет тридцати пяти, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом, – жена бухгалтера; провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, бельё и поношенный, но приличный костюм (темный), рубашка (синяя) была с мягким отложным воротничком, а к ней модный тогда галстук – шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки.
Волнуясь, радуясь и стыдясь, я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету. Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел, – устал от сытости, тепла и внимания.
Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, – видимо, тронутый сам событием, которого был он автор. Хотя разговор не клеился, но был тепл, полон моих благодарностей и наставлений мне – беречь вещи, для чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире. Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих, снял с вешалки шелковое кашне и надел мне на шею. Я вышел; дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на Карантине. Как жена Силантьева подарила мне двадцать копеек, то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав.
Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг, – скорее портовых рабочих; затем один ушел; из оставшихся трех – двое играли особенно азартно. Проиграв последний гривенник, «Л» срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол; «Б» поспешно оценивал ее, выигрывал и тем же путем отнимал у «А» брюки, подштанники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев телосложение «А», фортуна свидетельствовала «Б», «А» постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а «Б» постепенно раздевался, горестно рыча «в гробовое рыдание» и «могильную плиту». Выигранные вещи они прятали под себя – садились на них.
За этими наблюдениями кое-как прошла ночь, а на рассвете я отправился искать угловую квартиру. На углу Почтовой и Карантинной я заметил объявление: «Сдаеца койка» и зашел в третий, во дворе, этаж. К моему удовольствию, я встретил там своего будущего сожителя – кочегара Иванова, недавно покинув бордингауз, он работал теперь в литографии, получал двадцать рублей помесячно. Квартира состояла из двух комнат и кухни; наша комната была проходной. У стен стояли – одна напротив другой – две койки; вторая пустовала, а стоила она два рубля в месяц. У хозяйки – прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинами вокруг носа – был одиннадцатилетний сын. К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра.
Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке, – Мисенко; тот сказал «Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня, после обеда». Так я начал работать в складах, получая рубль десять копеек в день, а если работы не было на полдня или меньше – то шестьдесят копеек.
Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности – китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана, но отрицать вину мог только такой прохвост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке.
Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зимой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего Например, коринка – мешки с коринкой приходили без «марки». «Марка» есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза – мешки, ящики, тюки – складывалась в пакгауз отдельно, чтобы не спутались товары.
Я стоял у входа в пакгауз и смотрел марки на ноше, тащимой грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки, я кричал рабочим «Прямо к стене! К стене налево! В угол направо! Посредине!» и т д. Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через три – пять секунд и марки иногда были похожи.
Здесь я также подвергался насмешкам босяков вначале за свой вид «интеллигента», затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили «попович», «поповская шляпа», «фараон», «фискал», хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а, наоборот, видя, что таскают все – и грузчики, и бондари, и таможенные, – сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, коринку; однажды унес даже кусок краски – индиго, фунта два.
Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и т п., часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых передников горсть миндаля, или точенных из черного дерева четок, или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали: «Ребята, осторожнее»; выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства.
Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный у ворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или полами их «польт» (как иначе назвать верхнее тряпье босяков?). Грузчик, уличенный в краже, изгонялся Мисенко, и его больше на работу не брали, – по крайней мере, пока не забывалось это деяние.
Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Всё пахло: ваниль, финики, кофе, чай, в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце.
Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду (хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой… м-м-м… ну, апельсины, случалось), а большей частью проводил это время в бордингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало, и крайне редко – водку. К вечеру, совсем закоченев (зима стояла холодная), я становился в ряд с грузчиками, а Мисенко, проходя наш строй, вручал из мешка – рубль и гривенник.
Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию на пароходе Р.О.П. и Т. матросом, но по недостатку времени я должен отложить эту в своем роде интересную историю до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле; этому бессмысленному занятию предал нас капитан «Цесаревича», пленившийся артистической работой веслами английских моряков.
Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая. На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две «фланельки», двое брюк – белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей, потом работал на погрузке угля, часто, не имея пристанища, ночевал в порту. Всё было уже продано мной – даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей. Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми Сукнами «Цесаревич».
В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем «за работу» до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону; из Калача проехал шестьдесят перст по железной дороге в Царицын, а из Царицына плыл в Казань то «зайцем», то с разрешения, в общем, пересаживался раза три. В Казани молодой капитан вятского парохода «Булычов» взял меня проехать бесплатно до Вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами.
Из-за перекатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу, – двести вёрст от Вятки. Эти двести вёрст я шёл неделю пешком по жидкой грязи: лил беспрерывный дождь, подсекаемый студёным ветром. Утром, на восьмой день этого шествия, засияло солнце, и стало почт жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих.
– Где же твой багаж? – спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи. Как я уже солгал ему, что проехал двести верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул и еще:
– Мой багаж остался на почтовой станции… Знаешь… Понимаешь… Не было извозчика.
Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал, а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):
– Зачем ты врёшь? Ты шёл пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!
Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство.
Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости – показывать сына моряка. Тогда я еще не считал конченой свою морскую жизнь, а потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под Порт-Саидом и тому подобное, тщательно обходя всё унизительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.
Баку
I
По возвращении из Одессы я прожил дома до июля 1898 года. За это время я всячески пытался найти занятие: служил писцом в одной из местных канцелярий, переписывал роли (для театра), некоторое время посещал железнодорожные курсы, был банщиком на станции Мураши (шестьдесят верст от Вятки), переписывал, по заказу отца, ведомости годового отчета земства – относительно земских благотворительных заведений… Но не было в жизни мне ни места, ни занятия. И я решил искать счастья на стороне – подальше от унылой, чопорной Вятки, с ее догматом: «быть как все».
Теперь невозможно припомнить, почему меня тянуло в Баку. По-видимому, я рассчитывал снова плавать на пароходах. Насколько я сравнительно хорошо помню, что было в Одессе, настолько не всё ясно относительно Баку; хотя главное – холод и мрак этого отчаянно тяжелого года – удержаны памятью. Итак, я отправился в Баку близко к концу июля. Весь мой капитал составляли данные отцом пять рублей, плетеная корзинка с необходимым бельем, подушка и старое одеяло.
Еще по пути из Вятки в Казань приметил я подвижного человека с бритым, мятым лицом, окруженного дрессированными собачками, – то ехал клоун Горлинов, а ехал он в Саратов, кажется, по вызову антрепренера Саламонского. Я узнал Горлинова потому, что видел, как на арене вятского цирка он изображал сцену «Отелло и Дездемона», – очень потешно и, по-своему, талантливо. Клоун ехал в третьем классе, с ним три дрессированные собачки. Как он занимал скамейку у стены кают первого класса, то публика, а особенно дамы губернаторского семейства, ехавшего в Казань, восхищались фокусами собачек и заигрывали с ними. На этом основании Горлинов составил подписной лист, всучил его одной из дам и с довольным видом пересчитывал часа через два около пятидесяти рублей.
– Я бедный артист, – говорил он мне, – остался без денег – антрепренер был жулик.
Горлинов вел компанию с одним чиновником, ехавшим в Саратов искать службу; они вместе пили пиво и водку. В Казани я имел неосторожность пойти с ними в трактир. Там, по расчету, вышло с меня два рубля. У них были деньги, а я скрепя сердце отдал последние (оставил на билет до Астрахани рубль сорок копеек – не хватило, а потому наспех продал матросу рубашку за шесть гривен да полтинник призанял у клоуна). Дальше охать мне было тревожно и скучно: я жевал сухой хлеб с чаем, а Горлинов, накупив колбасы, водки, копченых стерлядей, пиршествовал, угощал иногда меня и говорил.
– Эх, господа, господа! На пустяки (то есть на трактир) денег им не жалеете, а на жратву жалеете.
По-видимому, он не верил, что я остался без денег. Некоторое время я приставал к нему, чтобы он устроил мне службу в цирке, но из этого ничего не вышло; но словам клоуна, труппа и штат служащих были уже наняты. Но он просто не хотел возиться со мной.
Он остался в Саратове, а я, продав еще что-то из белья, доехал до Астрахани, где начал хлопотать в каком-то (не помню уже) учреждении о бесплатном билете в Баку, но такового не получил и воспользовался советом одного босяка доехать до так называемого Двенадцатифутового рейда на маленьком, только туда ходящем, пароходе, а там попроситься на морской пароход за работу. Дело это мне было знакомо, я так и сделал.
Двенадцатифутовый рейд оказался улицей на воде; я прибыл туда поздно вечером, и у меня осталось впечатление иллюминации в море: огни пристаней, барж, пароходов сияли вверху и – отражениями – внизу. Без особого сопротивления старший помощник парохода, отходящего в Баку, взял меня ехать «за работу». Я работал и ел с матросами. Палуба была полна туземцев, персов, шемахинских татар, армян и грузин. Меня поразили их огромные, прекрасного каракуля шапки – черные, белые, серые и золотисто-рыжие. А между тем стояла изнуряющая жара. Один матрос рассказал мне, как воруют эти шапки. «Привяжем мы, – говорит, – к нитке рыболовный крючок и ночью, когда татарин спит, вцепим крючок в мех, а сами отойдем с другим концом нитки подальше, начнем тихонько тянуть – глядишь, шапка как бы сама к тебе пришла».
II
В Баку я сошел на пристань, не зная, что делать.
В ночлежный дом мне идти не хотелось, и, продав кое-что из одежды на так называемом Солдатском базаре, я поселился за рубль пятьдесят копеек в месяц у одного старика грузчика. Он жил с женой и маленьким, месяцев десяти, сыном. Жена его была молодая женщина, а старику насчитывался восьмой десяток лет, но он был жив, проворен и каждый день работал по выгрузке леса со шкун, приходящих из Астрахани.
Одноэтажный дом, где я жил, находившийся вблизи Черного города, был построен большим квадратом и обнесен, по стороне двора, навесом на столбах. Тут было до тридцати квартир из одной-двух комнат, занимаемых рабочими, мастеровыми, проститутками и старьевщиками.
Каждый день в каком нибудь углу двора стоял круг игроков в «орлянку». Эта игра была сильно развита среди рабочего населения, и потому о ней следует рассказать. Самые серьезные игры происходили накануне праздников, по субботам, воскресениям и понедельникам. Полиция преследовала «орлянку», вследствие чего игроки сходились на дворах или в пустынном месте – где-нибудь за углом глухого переулка. Случалось, что полицейский забегал во двор, тогда орлянщики улепетывали со всех ног, бросая поставленные на «кон», то есть в круг, деньги, бывало, что полиция захватывала часть игроков. Крупнее всего играли котельщики, получавшие по три копейки с заклепки (две, две с половиной и три копейки, смотря по тому, где и как происходила работа), токари, слесаря и мастера цехов. Так же крупно играли шулера и профессиональные игроки – хорошо одетая публика, в дорогих костюмах, блестящих ботинках, цветных поясах, в каракулевых шапочках или синих картузах.
Игра сопровождалась таким отборным букетом матерной брани, при выигрыше и при проигрыше – безразлично, что я, как ни любил смотреть на игру, не выдерживал игрецкого красноречия и уходил, чтобы очистить уши от мерзостей блудословия. Мне приходилось видеть круг, уставленный столбиками золотых монет, кучками серебра и внушительными сопками кредитных билетов. Ставили по пятьдесят, сто и более рублей «на удар». Ритуал «удара», то есть метания высоко вверх медного пятака (или серебряного рубля) состоял в том, чтобы сей пятак вертелся вокруг оси (отнюдь не «бабочкой» – лишь трепеща, но не переворачиваясь), чтобы не крутился «винтом» (тоже уловка для того, чтобы монета упала «орлом» вверх), чтобы летел как можно выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».
Для проверки, для «счастья», наконец, просто по суеверию, каждый играющий мог поймать падающий пятак, удостовериться, что он «без фальши» – не «двухорловый», не выбит выпукло, и вернуть его метчику с тем, чтобы тот метал заново. Один игрок держал «банк», другие ставили; выпал «орел» – метчик брал всё; выпала «решка» – всем платил, а если у него не было, то бежал прочь, преследуемый до изнеможения. Его, поймав, избивали, но в тот же день, можно было видеть избитого вновь у круга, он, где-то раздобыв денег, играл, клялся, ругался и потирал свои синяки. Кроме двухорловых пятаков пускались в ход шулерами шпаки, которые были просверлены по плоскости и залиты ртутью ближе к «решке», такой пятак на ровном песчаном месте ложился большей частью «орлом» вверх. Иногда мальчишки, прицепив к пруту шлепок вара или смолы, просовывали удочку между ног игроков, шлепнув смолой по монете, жулик умыкал добычу бегом. Я отвлекся…
Прожив дня три грошами, вырученными за продажу своей скудной одежды, я уже имел вид настоящего босяка ситцевая рубашка, старый картуз, бумажные коричневые брюки, опорки на ногах – вот всё, во что стал я одет.
Я ходил на биржу поденщиков, где иногда получал работу От этих случайных заработков память сохранила мне очень немногое. Так, помню работу (два дня) на одном заводском дворе, в сараях; я с другим босяком прибрали их, вымели, таскали какие-то трубы, перевешивали с места на место весы, блоки – за шестьдесят копеек в день. Другой раз я работал недели две на забивании свай для вдающейся в море пристани; я очень жалел, что эта работа кончилась.
На настиле, проложенном по концам уже вбитых в дно моря свай, стояло сооружение из двух вертикально поставленных бревен; между ними на канате поднимался ручным воротом массивный кусок чугуна. Когда этот груз поднимали к самому верху бревен, он срывался и бил тяжестью сорока пудов по концу вбиваемой сваи, отчего та сразу понижалась на вершок и более.
Я вместе с другими крутил ворот. Плата была восемьдесят копеек в день, расчет по субботам. Подрядчик приносил деньги и четверть водки, мы выпивали по стакану водки и расходились. Работать у воды было очень приятно, не так жарко, и, главное, работа была тихая, механическая и однообразная. День проходил незаметно. Случалось мне также попадать на работу в док, где я соскребывал краску с пароходов или таскал тяжести около стапеля. Мои усилия восстановить подробности этого года в Баку сходны с усилиями припомнить ускользающий сон.
Уже через несколько дней, как я поселился на квартире старика грузчика, второй его жилец (мы спали с ним на полу), тоже грузчик, повел меня выгружать лес с большой шкуны. В длину трюма были нагружены толстые бревна; их вытаскивали через квадратный люк кормы, устроенный возле руля. На этой страшно тяжелой работе я пробыл только четыре дня, после чего еле двигался от ломоты в крестце, ногах и плечах, – а платили неплохо: рубль двадцать копеек в день. Вскоре мне пришлось оставить квартиру Сожитель мой, грузчик Василий, был тяжелый, неразговорчивый человек, с темным лицом и ненормальными глазами; он был скуп, копил деньги и разговаривал мало, с трудом, слегка заикаясь.
Как-то в субботу Василий пришел вечером подвыпивший, чего с ним никогда не было; принес четверть водки, закуску и начал угощать хозяина. Они пили, пели, кричали, а вскоре Василий пригласил и меня; хозяйка тоже осушила стакан водки, после чего легла спать. Старик так напился, что падал на стол. Наконец, уже после двенадцати, оп свалился спать в угол, без подстилки, а я лёг на свое место; Василий тоже улегся, и лампа была притушена. Мне не спалось. Я боролся с клопами и подремывал. Начав забываться, я очнулся Василий лег на кровать к хозяйке, она, тихо голося, гнала его прочь. Эта милая сцена продолжалась несколько минут, после чего, утомясь уговаривать пьяного, бабенка повернулась лицом к стере, а Василий вполз на край кровати, лег и притаился. Должно быть, он пытался каким-то образом декларировать свою неутоленную страсть младенцу, спавшему между ним и женой старика, потому что вдруг раздался отчаянный визг малютки и вопль разъяренной матери.
– Да ты что делаешь, подлец, мерзавец этакий?! Столкнутый женщиной, Василий упал на пол.
Старик проснулся, видя, что все вскочили, что-то смутно чувствуя, он впал в бешенство, схватил табуретку и кинулся на меня.
– Стой, стой! – закричал я. – Не там ищешь! Старик бросился к Василию. Но тут сбежались жильцы, грузчика выволокли за ворота, выбросили ему его сундучок и начали бить, бить зверски – ногами, кулаками, камнями. И, когда он поднялся, на нем висели одни лохмотья, и глаз не было видно. Пошатываясь, Василий ушел, грозя кулаком, а дня через три хозяйка, в отсутствие мужа, сказала мне: «Знаешь, Лександра, съезжай ты с квартиры, муж меня бьет – и то на Василия думает, то на тебя». Вечером я толково поговорил со стариком, убедил его в своей непричастности к мрачной истории, но из квартиры ушел, чтобы не тревожить ни себя, ни хозяев.
Пока было тепло, я ночевал где придется в пустых котлах, лежавших возле заводов, на лесной пристани, под опрокинутыми лодками или просто где-нибудь под забором. С наступлением холодных ночей я отправился, как ни противно мне это было, в ночлежный, благотворительного общества, дом. Плата взималась троякая пять копеек в общей комнате, десять копеек в комнате тоже общей, но почище, и двадцать копеек в так называемой «дворянской», где были отдельные комнатки с бельем и одеялом.
Но я ночевал за пятачок. В длинном помещении стояли ряды деревянных коек, накрытых камышовыми циновками («чакошками»). Ни «чакошки», ни койки, конечно, не мылись, а поэтому грязи и клопов было довольно. Двор неимоверно вонял, посреди него без всякого прикрытия устроены были над залитой асфальтом ямой цементные дыры для нечистот. Запах карболки, хлорной извести и мочи резал, как нож.
Ночлежники входили через каменную постройку, где была чайная и хранение вещей. Чайной заведовал странный тип, по-видимому не совсем нормальный, – из «административно высланных», русый, с бородкой и мерзко-хитрым лицом, человек этот рылся в моем мешке, который лежал у него на «хранении» в ящике. Продав корзинку, я завел мешок, куда прятал остатки своих тряпок и тетрадь. В ней пытался вести дневник.
Единственно помню, что я записал, между прочим, впечатление от одной фотографии, выставленной в витрине, фотография была снята с очень милой, серьезного типа девушки, и, кажется, я трактовал положение, что видеть такие лица – «облагораживает» человека. Так вот, этот заведывающий чайной начал в обычной площадной манере издеваться над моими размышлениями. «Неземная красота, – говорил он, нагло смеясь, – ангельская наружность! Влюбился в фотографию!». И тому подобное.
Как, взбешенный, ни ругал я его за то, что он лазил в чужой мешок, как ни стыдил его, говоря, что нельзя, позорно читать чужое, интимное, – он не смутился нисколько. Проходимец этот впоследствии уверял меня, что он обладает секретом сразу и страшно разбогатеть.
– Для этого, – говорил он, – стоит мне только выйти на площадь и сказать народу одно слово, – и я буду миллионер. Он уверял всех, не только меня, что знает такое «петушиное слово». А какое это слово – не говорил.
За три копейки в ночлежной чайной давались фунт белого хлеба, чай и три куска сахара. Иногда, после голодного дня, это было моей единственной пищей плюс оставляемые на цинковых столах куски хлеба. Среди босяков я помню еще Алексея. Голубоглазый, русый, очень приятной наружности, Алексей (раньше он служил где-то городовым) никогда не ругался, ни с кем не ссорился. У него было зеркальце, гребешок, мыло и бритва. Встав, Алексей умывался, причесывался, часто стирал на дворе свои рубашку и штаны, чистил слюной сапоги. Я никогда не видел его пьяным и не мог понять, как он попал в босую команду. Однажды Алексей рассказал мне свою историю несчастная любовь и несправедливость по службе. Хотя на слово босякам верить было нельзя, всё же я Алексею почему-то верил.
Второй запомнившийся мне человек был Егор, бродяга, неизвестного звания и темной профессии, горбоносый, смуглый, лет тридцати, «стрелок». По его словам, он знал коновальное ремесло, умел гадать на воде, наводить «порчу» и знал, как получить «неразменный рубль». Всё-таки рубля этого у него не было. Он рассказывал, как делаются фальшивые двугривенные: надо взять пару липовых дощечек, положить между ними новую монету и надавить их так, чтобы поверхности дощечек сошлись; затем в полученную таким образом форму вливалось растопленное олово, монета грязнилась, чтобы казаться старой, затем шла в ход.
В Баку часто попадались, как мне говорили, фальшивые серебряные рубли из посеребренного чугуна или стекла, поэтому я, подражая другим, всегда бросал полученный рубль на каменный тротуар с такой силой, чтобы хрупкий чугун или стекло раздробились, но фальшивого рубли не получал никогда.
Однажды я и Егор насобирали у прохожих около рубля, после чего нам захотелось попытать счастья в «орлянку». На окраине за Солдатским базаром увидели мы большой круг орлянщиков и подступили к нему.
– Так вот что, – Сказал мне Егор, – ты и я как будто пришли каждый по себе, не знаем друг друга.
– Зачем это нужно? – спросил я.
– А так… Примета такая есть.
Когда пришла очередь Егора метать, он, сообразно нашим средствам, отчеркнул палочкой несколько мелких ставок на пятьдесят – шестьдесят копеек и выиграл. Все, кто «придерживал» за него остальные ставки (были и крупные), тоже, естественно, выиграли. Наставили в круг еще больше. Егор отделил себе ставок на рубль, метнул и выиграл. Раздались проклятия, ставки утроились. Егор метнул на три рубля, но кто-то подхватил на лету его пятак, взвизгнул и бросился на Егора, который, видя, что попался со своим «двухорловым» пятаком, уже удирал со всех ног. Игроки отвели душу известного рода красноречием, забросили пятак за стену дома, вдруг один человек сказал, указывая на меня:
– И вот этот с ним был!
Я хладнокровно отрекся. Ко мне больше не приставали, а вечером в ночлежном доме я спросил Егора, почему он не хотел, чтобы я гласно был с ним в компании.
– Потому что ты дурак, – отрезал он. – Я взял на себя, тебе говорить не хотел… Ну, а за что тебе морду исполосуют?
Совершенно правильно и по-своему вполне нравственно…
Еще Егор рассказывал, как он умеет ходить колесом, держа в зубах горящую головню, отчего мужикам страшно. Он верил в домовых, леших и уверял меня, что однажды видел огненного змея, залетевшего ночью по крыше в трубу какой-то бобылки. А теперь я думаю, что это горела сажа в трубе.
Как я подметил, босячество делилось на четыре разряда: административно высланные по проходному свидетельству, запойные пьяницы, бродяги по натуре и просто чернорабочие. «Административные» редко работали, они больше занимались «стрельбой». Для «стрельбы» на улицах «стрелок» почти всегда заряжался водкой, и это понятно: пьяный он действовал смелее, теряя конфузливость, выдумывал и говорил связно, интересно врал, а то просто терпеливо и нагло преследовал жертву, пока она не совала ему мелочь. У «стрелков» имелись адреса состоятельных сердобольных людей; по этим адресам писались трогательные письма, почти всегда со ссылкой на «пострадал за убежденья». Также ходили по рукам образцы писем Они переписывались за плату владельцу их. Вот начало одного письма, которое я случайно запомнил.
«Милостивый благодетель, господин Иван Петрович! В тяжелой жизни моей, благодаря преследованию врагов за гонимую правду…» и т д. В конце неизменно приписывалось. «Заранее благодарный» (имярек).
Я сознательно описываю все встречи и типы, наиболее памятные мне, чтобы затем, без отступлений и вводных эпизодов, передать, что было со мной. Поэтому докончим начатую галерею. Как-то встретил я в духане покойно сидевшего за столом и набивавшего машинкой папиросы рыжеватого тихого человека лет тридцати, он был одет, по-босяцки считая, весьма сносно – в серый костюм и грязный воротничок.
Я вступил с ним в разговор. Он рассказал свою историю служил директором чайных плантаций в Закаспийском крае, но лишился места будто бы за то, что крупно повздорил с хозяином Он уверял, что ему нетрудно будет найти и в Баку хорошее место. Багажа у него никакого не было. Так или иначе, я попросил его не забыть меня, когда он возвеличится, на что будущий МОЙ патрон дал охотно согласие.
Однако есть, пить надо, а потому директор плантаций начал на другой день писать «стрелковые» письма, я же относил их указанным лицам директорам, каким-то чиновникам, одной женщине (бывшей жене директора) и нескольким интеллигентам разного звания. Кажется, всё то были знакомые директора или знавшие о нем. В нескольких случаях я получал по рублю, который обычно приносила прислуга, иногда – отказ, а одна женщина дала сразу пять рублей и потребовала видеть своего бродягу. У них состоялось свидание на улице, причем той женщины я не видел, не знаю, кто такая она была. За мои услуги «хозяин» давал мне мелочь, кормил и поил, но делиться поровну не хотел и вскоре куда-то исчез.
Теперь остается мне рассказать о купеческом сыне, Рваном Рте, Ваське Несчастном и Гришке Бабочке. Последний был мальчиком лет восемнадцати, довольно миловидным, с синевой под глазами, появился он в Сорока Духанах после субботы. На нем был новый дешевый костюм, шелковая рубашка и соломенная круглая шляпа Гришка пил, зря швырял деньги, пропивал всё, проигрывал в «орлянку» и исчезал снова, пропив даже костюм, – до следующего воскресенья. Его сексуальным покровителем называли одного миллионера-нефтепромышленника, из татар. Гришке он платил (по его же словам, то есть словам Гришки) двадцать пять рублей.
Кстати, водой прибило к берегу труп парня лет двадцати, неизвестной национальности. Руки и ноги его были крепко связаны веревками, к ногам привязан груз кирпичей. Напротив того места гавани, где обнаружили труп, на рейде всегда стояло много персидских шкун… Темное и мрачное дело. Другое преступление, от которого содрогнулись даже портовые волки, был найден в заколоченном доме труп девочки лет десяти, с пробитым кинжалом боком и оскверненной раной.
Сорок Духанов получили свое название в старину, когда (так я слышал) духанов было в том квартале около сорока. Но я насчитал по квадрату квартала только семь или восемь духанов. Это были харчевни-трактиры обычного типа, грязные и мерзкие до последней степени.
Уже несколько раз я встречал босяка – пьяницу высокого роста, с потертым оспой лицом, полуинтеллигентного типа, похожего на актера. Обычно он обходил столики пьющих и выпрашивал рюмку. Он принадлежал к той категории, для которой – не знаю, верно это или нет – не опохмелиться до полудня значит умереть.
Раз я зашел в духан в середине знойного до слепоты дня и увидел такую картину за каждым столиком сидел оборванный люд с бессмысленными глазами. Духанщик был пьян так, что спал, свалясь головой на стойку. «Шестерки», как их звали, то есть «официанты», на самом же деле просто чернявые типы в грязных передниках, ходили, качаясь и мыча непонятное. Словом, выдался особо пьяный день – «день белой горячки». За одним столиком сидело четверо. К ним приставал, ругал их, тоже еле держась на ногах, тот человек (прозвище Рваный Рот он получил впоследствии), прося водки, но его гнали прочь. Тогда он взял толстый стеклянный стаканчик, разбил его о камень у входа и, возвратясь, подкрался к столу, где, без слов, тихо и страшно хватил острым стеклом одного пьяницу по лицу; прижав к лицу стекло, он вдавливал и вертел его. Тот залился кровью.
Все вскочили – нет, с трудом поднялись – и так же молча, едва бормоча что-то, повалили ударившего на пол. Он не бежал, – едва ли он да и все сознавали, что делают. Началась возня побоев, которые могли кончиться убийством Человека били бутылками, ногами, табуретом, кололи вилкой, грызли ему ухо, вырывали волосы, прыгали на нем. Он не кричал, только пьяно бубнил матерное. Наконец один босяк всунул ему в рот руку и разорвал рот до уха, которое уже чуть болталось на красном мясе. Явилась полиция, и избитого увезли на извозчике.
Должно быть, избитый Рваный Рот лечился долго в больнице, месяца три не видно было его по кабакам. Наконец я встретил Рваный Рот в духане; выглядел он бодро, был почти трезв, довольно сносно одет, в кожане и высоких рыбацких сапогах. Он работал на рыбном промысле. От левого угла губ до уха тянулся рубец, но вместо опухшего, дикого и грязного лица я видел осмысленное человеческое и даже приятное лицо. По-видимому, он опомнился и победил свою слабость; не знаю – на долго ли.
Весной 1902 года к Сураханах, далеко за городом, случился пожар фонтана. Нефтяные сбиры быстро набрали команду босяков для работы там, плата была один рубль и день. Тронулось нас человек триста Впереди, присвистывая, приплясывая, лихо ломая драную соломенную шляпу, шел босяк лет двадцати пяти, в синей кочегарской «пижаме», с голой грудью. Темная бородка, испитое лицо гуляки, «забубённой головушки». Это был сын миллионера-купца из Астрахани, прогнанный из семьи за «художества» – для испытания жизни и вразумления. Получал он двести рублей в месяц, с перспективой полного прощения, когда «ндрав» папаши сего захочет.
Он запевал песни, выкрикивал «Золотая рота, стройся!.. Смирно!.. Вперёд, босячьё!» и т. п., – но была фальшь в его ажитации, ему это не шло. На работе (мы стаскали доски, тёс) он суетился, играл роль, попрекал леностью, сам, припотев до нитки, усердно работал, присвистывая и кривлялся. Мы проработали дна дня. Фонтан бил высоко, кропя брызгами далеко вокруг. Ночью его заткнули так называемой «пробкой», но этим я не интересовался и смотреть пробку не ходил, так что не знаю, как это делается. Расчет производился под открытым небом. Деньги прямо вручал артельщик каждому из нас по очереди, так что некоторые ловкачи становились в очередь по два, даже по пяти раз.
Недели через две, зайдя в духан, я увидел блудного сына сидящим за столом в компании тех босяков, которые на работе подлизывались к нему. Он был одет заново, в дорогом синем костюме, в панаме и угощал налево-направо белым вином. Он сказал, что получил пятьсот рублей и едет домой. На мой вопрос, почему он босячил, блудное дитя призналось, что «сызмальства» тоскует его душа и тянет на бродяжную жизнь. Дней через десять прощеный «купсын» вошел в тот же духан; был он босиком, прикрыт тряпочками, один глаз кровоточил. Выпив у стойки сотку водки, вернувшийся «домой» высморкался приложением к ноздре пальца и, хлопая босыми пятками, скакнул прочь за дверь. Его ожидало наследство в три миллиона рублей.
Теперь скажу о Ваське. Несчастном, окончательно потерянной личности. Это был кругломордый босяк, всегда трясущийся с похмелья, никогда не работающий и единственно «стреляющий» водку и на водку. Он был всегда пьян, лицо имел почти черного цвета, вернее – темно-лилового, ободран до последней степени и бос, конечно. Он терся по кабакам, выклянчивал рюмку у пьющих, «стрелял» также у прохожих. За бутылку водки он давал бить себя по голому пузу палкой – изо всей силы три раза. За ту же бутылку охотники могли разбить о его голову горшок. Ваське редко кто отказывал в рюмке, но однажды ночью, как ни просил он дать ему хоть «глоточек», оного не получил и, выйдя на улицу, хватил со зла камнем по стеклам двери… Его страшно избили.
III
Хроническое голодание вело к тому, что, заработав где-нибудь семьдесят – восемьдесят копеек, я не удерживался и проедал их. Благие намерения ограничиться «кишечным» рестораном у татарина, жарящего на огромной сковороде где-нибудь в нише стены рубленные на куски бараньи, очень жирные, кишки, – оканчивались победой соблазнов, а между тем кишечник давал на две копейки целую тарелку плохо промытых, припахивающих калом, но горяче-румяно поджаренных кусков, залитых жиром. Какие же это были соблазны? (Водки я почти не пил.) Рыночный пирог с ливером, колбаса, окрашенная фуксином, виноград, арбуз, дыня, чурек, лаваш (тонкие, пресные и очень большие лепешки без соли, белые), баранье рагу, борщ, чай, трехкопеечные папиросы – вот и все, кажется. Однажды на Солдатском базаре санитары сбросили с лотка и облили керосином пуда четыре колбасы за то, что она была очень водянистой, хотя вполне свежей. Нашлись охотники пожирать эту колбасу; я попробовал, но не мог, – запах и вкус керосина душили меня. Итак, соблазны разоряли, пятак – гривенник оставался на утро, не больше.
Иногда хотелось есть просто от скуки, от тоски шляться по порту, от бесцельного сидения на бревнах, на тротуарах. Та же скука заставляла проигрывать гроши в «орлянку» или базарную рулетку, где номера заменялись цветами секторов вертящегося кружка, или в лото – на оладьи, у платив копейку, играющий вместе с другими игроками тянул из мешочка номер лото; чей номер был больше, тот получал десяток оладий.
Попытки найти место матроса оканчивались неудачно; уж очень я был оборван и грязен. Раза два или три я нашел в пустых котлах, служивших мне иногда домом, большие куски брошенного черного хлеба и, понятно, съел их. Мое несчастье было то, что я не умел «стрелять» – просить на улицах. Мои обращения к прохожим были неубедительны, так как мой язык, связанный стыдом, выговаривал самое трафаретное, например «три дня не ел» или «только что вышел из больницы». Очень часто я слышал возмущавший меня ответ: «Такой молодой, здоровый. Тебе стыдно просить, надо работать!»
– Так дайте мне ее, эту работу, – поспешно и искренне отвечал я – Я возьмусь за какую хотите работу – Нескладно проворчав «Надо искать, ищи!», моралист спешил тогда удалиться.
Однажды серьезный молодой матрос, у которого я «стрелял», дал мне три копейки, а затем вдруг позвал меня в харчевню, заказав мне столько пищи, сколько я мог съесть, смотрел, как ем, затем ушел, а на мои благодарности ответил: «Сам знаю, всякое бывает».
К зиме я совсем отупел, продрог, потерял всякую охоту спастись. Я подолгу сидел в харчевнях, ожидая, не оставит ли кто объедки, и, заметив добычу, подсаживался к тому столу, собирал куски хлеба, смазывал ими остатки соуса или борща. Также, купив сам хлеба, я входил в харчевню и, намазав хлеб горчицей, притом посолив, съедал свой, как это называлось «пашкет» (то есть паштет) Так поступали многие.
Зимой, осенью я ночевал в ночлежном доме или в ночлежке при одном духане, где, конечно, не топилось. Это было узкое помещение – род коридора со скользким от грязи и сырости асфальтовым полом, на нем спало без подстилки, как и я, человек пятнадцать – двадцать. Скорчась, засунув пальцы под мышки, а под головой держа камень, прикрытый шапкой, я лежал и дрожал, пока эта дрожь не навевала своеобразного нервного тепла – быть может, бесчувственности, – и засыпал, часто просыпаясь от стужи. Иногда этот притон ночью неожиданно навещала полиция, просматривала паспорта и кое-кого уводила.
Зимой, в ноябре, я заболел малярией в перемежающейся форме. Лихорадка мучила меня через день, ровно с двенадцати часов дня до двенадцати часов следующего дня. Температура резко падала, и я сутки ходил здоровым, но ослабевшим до головокружения. Жар в сорок градусов согревал меня в ночлегах моих. Иногда болезнь прерывалась, а затем снова нападала внезапно, так что иногда, всё же работая в порту, я после двенадцати часов, то есть после обеда, должен был уходить с работы и, сидя в духане, трястись, стуча зубами. При лихорадке есть не хотелось, но я пил беспрерывно то чай, то воду.
Но и на такой ночлег часто не бывало денег. С ночлежным домом я поссорился, изругав заведующего чайной за пропажу моего мешка, и чуть не поколотил его; тот пожаловался городскому врачу – старику черствому, тощему, предубежденному против бездомной братии, врач свыше заведовал ночлежным домом, и он распорядился не пускать меня спать. Часто я ночевал в недостроенном пустом доме, среди стружек и кирпичей. Зарывшись в стружки, я кое-как достигал бесчувствия, хотя надо мной свистел норд, а на полуголом теле таял падавший в беспотолочное пространство снег. Заколев к утру так, что ноги отказывались повиноваться, я ковылял в ближайший духан согреться.
И вот около рождества во мне принял трогательное участие такой же босяк, как и я, молодой веснушчатый рыжий парень лет восемнадцати. Он ночевал со мной у духанщика, и мы подружились. Если он, работая либо другим путем, раздобывал денег, то тотчас же кормил меня, поил чаем и платил за ночлег; если удавалось «настрелять» мне – я так же поступал с ним, но, к сожалению, он делал для меня больше, чем я для него. Не помню, как я потерял его из виду Кажется, он поступил матросом на какое-то судно.
Надо сказать еще (чтобы не забыть), что минувшим летом, кроме поденщины, я пытался найти и другие способы добывания заработка. Два дня я торговал на Солдатском базаре старыми вещами; купив рубашку, жилетку или штаны, пытался я перепродать их с прибылью, но, от природы лишенный коммерческих способностей, спускал, когда надоедало шататься, свой товар за меньшее, чем купил. И бросил я это дело, не без малой дозы зависти к тем из бродяг, которые умели купить и умели продать.
При ночлежном доме существовали мастерские, где можно было бесплатно пользоваться инструментами и даже некоторым материалом, например фанерой ящиков для выпиливания лобзиком. Эту работу я делал еще мальчиком для себя. Некоторые босяки делали рамки, покрывали их лаком и продавали. Соблазнясь, я тоже начал было выпиливать рамки; это-то шло не хуже, чем у других, но торговал скверно; когда мне надоедало стоять «без почину», я отдавал свои рамки (мысля по двадцати копеек) за пятнадцать, десять и даже пять копеек, а потому признал сие дело никудышным. За вычетом расходов на материал (пилки, лак, лакированная бумага) оставалось, мне не более четвертака в день.
Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом… А его письма из письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других детей.
В конце зимы мне удалось найти работу я стал раздувальщиком мехов в небольшой кузнице. У хозяина-армянина работали кузнец-отец с двумя сыновьями. За плату в пятьдесят копеек в день, уплачиваемую очень неаккуратно, иногда в понедельник вместо субботы, я недели три был подлинным рабом кузнецкой семьи, не только я раздувал мех, но и таскал котельные трубы, подметал, убирал, ходил за водкой и терпел издевательства сыновей кузнеца, презиравших меня за недогадливость, босячество, за то, что я в разговорах выказывал знания вещей и явлений, им неведомых.
Во всяком случае, в кузнице было тепло. Не помню, что работали там, в глазах стоят теперь лишь брызги огня, разлетавшегося искрами при ковке металла, да старые котлы и узкие котельные трубы. Ничтожная моя плата – три рубля в неделю – выдавалась так грубо, нехотя, как подачка, что однажды, вынужденный даже отправиться за ней к армянину в дом, я получил деньги и бросил ходить в кузницу.
Но наконец установилась теплая погода. На пасхе с одним босяком-«стрелком», пожилым, опытным бродягой, совершили мы очередное нищенское хождение из дома в дом и набрали целый мешок разной вкусной снеди да еще денег рубля полтора. Естественно, купили мы водки и начали пиршествовать, после чего я проснулся на пустыре, ничего не помня, со страшной головной болью и кое-как разыскал своего компаньона, который меня и опохмелил.
Лихорадка то появлялась, то исчезала. С теплом она не так свирепствовала во мне, и я начал работать опять поденно то тут, то там, но больше ходил в док. Случился даже маленький подряд, который взяла компания четырех босяков – и я в том числе – у одного мелкого подрядчика, еврея. Надо было выкрасить черной краской крышу пятиэтажной паровой мельницы.
Двадцать рублей обещано было нам за работу, а также готовые краски, ведра, кисти и веревки. Мы провели три дня на раскаленной солнцем крыше и выкрасили ее, привязывая себя веревками к трубам, чтобы не соскользнуть с крутой крыши, но как дошло дело до получения денег – подрядчик исчез. Его адрес мы узнали, и, когда пришли к нему на квартиру, его жена повела нас в одну кофейню, где действительно мы обрели подрядчика, скромно закрывшегося газетой. На наше требование уплаты подрядчик говорил, что будто бы еще не получил денег сам от хозяина мельницы. Но мы так прижали его, что он куда-то побежал и деньги принес.
– Вот вам троим, – отнесся он к моим компаньонам, – а тебе (то есть мне), тебе ничего не будет, ничего не дам.
Ничего не понимая, так как не более, чем другие, напирал на подрядчика, я стал требовать, чтобы мои «товарищи» принудили подрядчика уплатить всё.
– Мы получили, – ответили мне они, – а на тебя нам плевать. Получай сам как хочешь.
При таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, как наброситься на подрядчика и компаньонов с пеной у рта. Подрядчика к тому же начали стыдить, уговаривать другие посетители кофейной, но он, заметив, что я чужой, безразличный для своей же компании человек, усердно стоял на своем.
– В таком случае, – вскричал я, – я заявлю в полицию.
Это подействовало, и подрядчик уплатил недостающие пять рублей, но отдал их не мне, а одному босяку, и, выйдя на улицу, мы поделились, причем мне дали только три рубля.
– Довольно с тебя, уйди, а то изобьём. Ты не вровне с нами работал, мы тебя наняли.
Парни были все молодые, здоровенные, и спорить не приходилось. Я взял деньги, плюнул и ушел, потеряв, таким образом, дна рубля.
Три рубля… Я сделал попытку приодеться хоть немного: купил хорошую, правда, с крахмальным гарнитуром, сорочку, почти новую, за двадцать копеек; поношенную жилетку персидскую с вышитыми шелком цветами и стоячим глухим воротником за пятьдесят копеек, брюки бумажные, коричневые, за восемьдесят копеек. Еще купил я стираный синий китель за сорок копеек и за тридцать копеек перелицованную из старой синюю фуражку. На ногах были старые чувяки. Отпоров крахмальные части сорочки, я надел ее, сходил в баню, постригся и, приняв приличный вид, по моему мнению, начал искать места, бродя по Белому и Чёрному городам, заходил на заводы, в конторы, магазины, мастерские и куда попало, по места так и не нашел.
Здесь кстати скачать несколько слов о нефти. Баку – центр нефтяной промышленности. У меня есть энциклопедия, если бы я хотел, то, открыв статью «Баку», без труда мог бы сообщить технически и исторически точные сведения о нефти, тем более что словарь этот – современник моих скитаний Однако я пишу не популярное исследование, а лишь вспоминаю, причем пишу так, как вижу запомненное теперь.
Я был один раз в Балаханах, – ходил туда с двумя босяками искать работы, и ушел с чувством облегчения страшны и мрачны, как дурной сон, показались мне черные острия вышек, пустота проулков, пропитанная нефтью земля, на которой нет ни зелени, ни деревьев. Узкие, пирамидальной формы «вышки» так многочисленны, что издали маячат, как лес, обвитый дымом. Всё черно, закопчено, покрыто налетом пыли и нефти, как в Черном городе. Людей почти не видно, – они в мастерских или внутри вышек, где длинной «желонкой» с клапанами «тартают» из глубоко уходящей внутрь земли буровой скважины «мазут».
От Баку до Балахан верст двенадцать безрадостной, залитой зноем дороги, преследующей ухо перебивающимся, монотонно-звонким щелканьем подземных нефтепроводных труб. Этот звук преследует везде, где расположены керосиновые заводы или цистерны, – особенно в Черном городе. Трубы там плетутся по краям улиц, как жилы вспухшей руки, они и в канавах, и под землей, и над землей, – то выползают из нее, переплетаясь подобно лесным корням, то стекают под мостовую и беспрерывно стучат. Глухое, резкое, тихое, звонкое щелканье раздается со всех сторон. Что щелкает – воздух или мазут, – я не знаю.
Звук этот полон дикого напряжения и таинственности, в нем чудятся удары молотов по железу, громыхание стального листа, трели цикад, удары пуль в жесть. Вы идете; внезапно щелканье достигает тягостной частоты и силы, и, завернув в переулок, думаете, что звуки остались позади вас, но навстречу приближается новый хор спрятанной неизвестно где металлической трескотни. Прибавьте к этому запах керосиновой лавки, неприятный вкус во рту, геометрический пейзаж бесчисленных нефтяных резервуаров и выступающую из земли под давлением ног нефть.
Попав в Балаханы, я даже не стал искать там работы, а, переночевав на кухне какой-то казармы, где клопы сделали меня почти ажурным, – так много их было, – я утром потек обратно в Баку. Слышал я, между прочим, что бывали такие обильные фонтаны, когда нефть, давая десятки миллионов пудов в день, переполняла самые большие земляные резервуары, и наступало золотое время для босяков, наспех рылись канавы, чтобы дать нефти направление к нужным оврагам и ямам, рабочие, стоя по живот в этих нефтяных речках, метлами и лопатами прогребали завалы наносимого течением мусора, за дневную работу на таких подземных бешенствах платили по пяти рублей в день и восемь – десять рублем за ночь. Но – говорят – нечем было дышать. Еще – говорят– от такой работы тело покрывается язвами.
Анекдот или правда – такой рассказ? В одном месте стали бурить скважину, вдруг ударила желтая жидкость. Но запах почему-то приятен. Попробовали – ан это темное баварское пиво; оказалось, что пробурили какой-то обширный пивной погреб, попав в очень большую бочку.
Нефть заставила меня помнить о ней еще страшным пожаром летом 1899 года, когда одновременно горели лесные склады порта и резервуары, заводы Черного города. Пожар продолжался дней семь. Баку стоял в дыму, все дышали дымом, иногда таким густым, что днем было темно, как ночью. Только издали можно было смотреть на пожар, являвшим, почти без видимого огня, движение дымовых гор и вращающихся черных занес. Я видел всё же проблеск огня – в Черном городе, где горела группа резервуаров. При диаметре их в десять– пятнадцать сажен можно представить, какого размера дымные извержения плотной массой клубились над ними. Рядом стоял еще целый резервуар. Вдруг с него с грохотом, напоминающим взрыв, слетел плоский конус крыши и, затрепетав, спланировал прочь; в ту же секунду рванул огонь и скрылся в поднявшихся столбах дыма. На лесной пристани по воздуху летали горящие куски дерева.
IV
В начале мая пришел на биржу босяков человек с бородкой и спросил, не желает ли кто работать на рыбном промысле. Восемнадцать рублей в месяц, харчи готовые, чай, сахар и табак свой. Никто из бакинских лаццарони, слонявшихся по бирже, не пожелал принять такое предложение. Босяки боялись постоянных мест, так как, видимо, предпочитали не знать, что с ними будет, более или менее равномерному существованию. Впрочем, работа на рыбных промыслах нелегка, и я, вызвавшись стать рыбаком, скоро в том убедился.
Человек с бородкой – старшой промысла – привел меня к парусной лодке – карбасу или баркасу, как он там называется. В лодке был второй рыбак Ежов, смирный молодой парень. Мне понравились очень высокие рыбацкие сапоги с ремнями под коленом и толстыми, набитыми гвоздями подошвами. Брюки рыбаков были из парусины, блузы цветные, бумазейные, фуражки кожаные. Мы снялись, уплыли далеко за пределы порта в сторону Петровска, то есть к Астрахани, и пристали у большого плоского острова, отделенного от материка высохшей мелью. Здесь у самой воды были здания промысла жилой дом из камня с земляной крышей, сарай для снастей, лавка и жилье приказчика.
Жилье рыбаков состояло из двух помещений: одно с четырьмя топчанами для сна, другое, рядом, – зимняя кухонная комната, где ели, варили, пили чай. Пол был земляной, окна малы. Стоял также стол в сарае. Как день был воскресный, время – четыре часа – позднее для работы, то я провел время до утра, ничего не делая, кроме лишь того, что получил от приказчика книжку, на которую взял пять фунтов сахару, четверть фунта чаю, пачку табаку и спичек. Ели мы хорошо: вареную и жареную белугу, икру; утром чай был с белым хлебом и балыком или с чашкой икры, которую ели ложками. Известно, что рыбная пища способствует малярии, а у меня к этому времени вновь началась сменная температура, пока еще не особой, правда, силы, и я боялся сказать об этом рыбакам, чтобы меня не уволили.
Всего было нас четверо; старшой, коренастый мужичок с бородкой, лет сорока, Ежов, я и высокий, толстый краснощекий Буранов. Надо отдать должное справедливости и вниманию людей – они меня учили на каждом шагу, как и что делать, а Ежов, догадавшись, что ночью меня трясет лихорадка, дал мне свое хорошее байковое одеяло; оно завшивело у меня. И вот, недели через две, когда я, уходя с промысла, вернул Ежову одеяло, то случайно заглянул из кухни в дверь, Ежов в тот же миг покраснел и быстро спрятал под собой это одеяло, а я уже заметил, что он, что-то ворча под нос, выбирает из одеяла насекомых. Меня очень тронула деликатность человека, испугавшегося моего конфуза.
Так. Но обратимся к работе. Приказчик отказал выдать мне сапоги, боясь, может быть, что еще ничего не заработавший босяк сбежит с ними, сапоги стоили двенадцать рублей. К тому времени я уже продал и обменял свои обновы на тряпки, а потому мне выдали всё же бумазейную рубаху и старые парусинные брюки да еще старую же кожаную фуражку. Был я почти бос, так как опорки мои развалились.
Пока не было подходящего ветра и снасти не были готовы, мы точили крюки. Снасть («порядок» так называемый) состоит из длинной, в версту и более, веревки, к которой через каждые три четверти аршина привязаны тонкие бечевки, длиной аршина полтора. На концах этих бечевок ввязаны большие, остро наточенные крючки, без бородки. «Порядок» расстилался далеко в море прямой линией, к концам его на вертикально падающих и глубину канатах привязаны якоря – большие камни. Камни эти удерживают снасть под водой, горизонтально. Красная рыба белуга, севрюга и осетер, – ходя под водой, задевает своей цепкой щитковидной чешуей за острия крючков и, пытаясь освободиться, еще больше прокалывается со всех сторон, так как путает снасть вокруг себя.
Сети, расставленные в воде у берега, неподалеку от деревянных, на сваях, мостов, ловили сазанов и другую рыбу. Сазанов мы съедали всех. Это очень вкусная, но дешевая рыба, а наш хозяин-грузин, владелец рыбного магазина в Баку, интересовался только красной рыбой.
Старшой утром показал мне, как точить крючки. Я уселся на скамью перед воткнутой в песок деревянной установкой с навешанной на ней снастью, постепенно снимал висящие в порядке, аккуратно крючки, точил их, при помощи особой дощечки с отверстием – треугольным напильником и вешал опять.
Так мы работали (в то время старшой и Ежов делали другую работу чинили сети, паруса и т. п.) дня три, а затем отправились на баркасе в море при попутном ветре. Уехав так далеко, что берег скрылся из вида, мы разыскали по приметным буям свои «порядки» и проверили их. Лодка с опущенными парусами стояла, вернее – она передвигалась очень тихо, по мере того, как, перебирая руками подтащенную вверх из глубины, снасть, рыбак тем самым передвигал баркас.
Добычи было мало: один «порядок» оказался совсем нетронутым, другой дал уже мертвого маленького тюленя, которого мы бросили, а на третьем полузаснула белужка весом пуда три да осетер длиной меньше сажени. Этот сильно спутанный «порядок» пришлось вытащить, складывая его кругами на дно лодки. На этой работе я исколол руки до крови, устал безумно, и еще больше пришлось мне устать, когда после ночи, проведенной в море, довелось грести тяжелыми веслами, потому что ветер около полудня вдруг упал. Мои руки были натерты жесткими мокрыми веревками до мозолей и крови, соленая вода жгла ладони, а волнение, хотя и без ветра, делало греблю так неровно-тяжелой, что, сжалясь, рыбаки устранили меня от весел.
В море мы ничего не ели, кроме сухарей, воды и копченой рыбы, получили еще от старшого по стаканчику водки. У меня долго кружилась после этого плавания голова, дрожало и ныло всё тело. Дня четыре провели мы в береговых работах. Стало холодно, так как подул «норд», этот бич Апшеронского полуострова.
Здесь чуть не случилось несчастье, и виноват оказался я. Я и старшой, когда ветер со страшной силой дул от берега в море, затеяли перевести одну шлюпку, привязанную к колу, по левую сторону мостков, чтобы там вытащить ее на берег. Пройдя по колено в воде, мы заскочили в шлюпку; я взял весло и, толкая им в дно, начал двигать шлюпку к мосткам, а старшой правил. Уже мостки были близко – вдруг страшным ударом ветра лодку повалило на упертое мною в дно весло и выбило весло из рук; в ту же минуту оказались мы в стороне от мостков, и нас стало уносить в море; а кроме нас, никого не было: остальные ушли к татарам за бараниной.
Мы спаслись только благодаря тому, что старшой не потерялся, неистово крича, браня меня, себя и всех и всё, он схватил лежавшую на дне шлюпки толстую палку и начал стоя грести ею так, что вода свистела, палка рвала воду с быстротой швейной машины. Я, вытянувшись на носу и вытянув руку, готовился ухватиться за сваю мостков. Расстояние не более пяти сажен мы проходили, может быть, не меньше как пятнадцать минут, и я натерпелся страха. Наконец я вцепился в сваю и привязал шлюпку. Старшой, когда шлюпка была затащена на песок, шатаясь, пошел прочь, как пьяный, потом упал ничком и долго, так лежа, хрипел, встав, он сказал.
– Ну, смотри, Лександра, чуть не пропали мы…
Действительно, в открытом, штормовом море нас ждал верный конец. Я слышал рассказ о четырех рыбаках, которые, вцепясь в киль перевернутого бурен баркаса, трое суток носились по волнам Каспии. Прибило их в Персии, возле Ленкорани, один умер, остальные выжили.
Еще раз мне пришлось съездить в море; в тот раз мы поймали белугу около сорока пудов, так что, когда погрузили ее в двухколесную арбу, то хвост ее волочился по земле. Она так спутала весь порядок, что мы ее даже не разматывали, а, оглушив по темени каким-то рыбацким специальным железом, тащили к острову на буксире со всей ее одеждой, продев под жабры канат. Очень жаль, что я не помню подробностей возни с этим чудовищем, но (мелькнуло сейчас воспоминание, почти обрисовалось и отлетело) оно едва не перевернуло баркас, когда стояло у нашего борта. Белуга заняла целый день с раннего утра до вечера, лишь ночью на парусах доставили мы её к острову. Из белуги вылилось несколько ведер икры (два дня мы ели икру). Утром приехал татарин с арбой и увез рыбу лавочнику-хозяину, а также бочонки с икрой.
После второго плавания лихорадка бурно повалила меня, я горел и трясся. Есть я не мог, только пил воду. А между тем наши рыбаки украли заблудившуюся татарскую козу и жарили ее, угощая меня печенкой, почками; я завидовал им, но есть не мог. Ночью (ели козу ночью) раздался стук; я слышал тревожный голое татарина, ищущего свою козу.
– Нет, не видели, сказали ему рыбаки и, после препирательств, вновь вытащили из-под стола свое жаркое, спрятанное там, едва раздался стук в дверь.
Между прочим плита топилась нефтью, а нефть мы собирали, черпая ее тонкий слой жестянкой с выступающих из-под земли луж. Видя, что я серьезно болен и прошу меня отпустить, старшой дал мне записку к хозяину; кое-как добрел я до Баку, получил от хозяина свой расчет (рубля четыре), и доктор ночлежного дома направил меня в больницу, где после адских приемов хины я дней через пять временно освободился от малярии. Затем встретил я того пожилого босяка, с которым мы нищенствовали на пасхе; он соблазнил меня идти бродяжить на Северный Кавказ, уверяя, что казаки щедрый народ; я согласился, и пошли мы в сторону Петровска-Дербента, – то берегом, то по тропинкам холмов.
V
Таланты моего спутника обнаружились очень скоро: когда мы прошли через Черный город, у него было уже «настреляно» от прохожих больше рубля. Мы переночевали в духане на горе, у дороги, обставленной скалами, при живописной луне, а ночью выпили бутылку красного вина и съели шашлык. Следующий день был жаркий. Путь наш теперь лежал по линии строящейся Баку – Петровск железной дороги, и около двух часов увидели мы, что за столом в одном деревянном открытом бараке сидит большеносый человек в папахе и синем костюме, пожирая жареную курицу. Рядом с курицей пламенела четверть ведра вина. Соревнуясь в подвигах с попутчиком своим, я тотчас вознамерился «стрелять» человека в папахе, но мудрый учитель мне сказал:
– Это не дело. Садись на траву, будем есть свой сухой хлеб, и… вот увидишь, что будет.
При этом он тридцать раз помянул родительницу человека в папахе и брякнулся на траву Смотря прямо в лицо обедающему, стали мы, сидя уныло, жевать хлеб и дожевались до того, что курица, видимо, стала у человека поперек горла, он подозвал нас, отдал всю оставшуюся половину курицы и налил нам по стакану вина.
Я удивился, как верно рассчитал всё мой психолог-босяк, и был восхищен. Не помню из-за чего, но мы весь день с ним пикировались и ругались, так что к вечеру мой спутник смертельно мне надоел, а как ночевать мы остановились в рабочей пекарне, в степи, то пекаря начали уговаривать меня остаться работать у них, и я согласился сорок копеек в день на готовой пище. Утром тщетно уговаривал меня компаньон идти с ним, я наотрез отказался Уже по некоторым намекам его я догадывался, что у него есть на меня какие-то планы, может быть – уголовного порядка, хотя не помню разговоров, но впечатление это определенное, твердое. Два раза он мнимо уходил, возвращался и звал. Я послал его далеко… далеко!
– Ну, так пропадай тут – лезь в хомут, если так тебе нравится… Дураков работа ищет! – закричал он и скрылся в степи.
А я стал работать в пекарне. Вначале носил муку, воду, колол дрова, таскал из печей горячий хлеб, а затем мне дали телегу и лошадь; я стал развозить мясо и хлеб в казармы землекопов строящейся железной дороги. Эта вполне самостоятельная работа мне понравилась. я утром водил лошадь к источнику, где поил ее, встречаясь там с погонщиками верблюдов, купал лошадь в море и сам купался, запрягал свою кобылу, грузил телегу хлебом, говядиной (коров резали при пекарне) и развозил эту пищу по своему участку, сдавая ее на вес. Конечно, я мог есть хлеба сколько хотел, но обедать – щи, кашу – мог только к вечеру, когда возвращался. Я мало тогда беспокоился о чае – не то, что теперь; по вечерам с удовольствием пил кирпичный чай и курил махорку.
Так я жил недели дне, затем пекарня прикрылась (не помню уже почему) Я пешком направился в Баку, по по дороге припал к одной артели землекопов, рывшей насыпь, и, соблазненный рассказом о хорошем заработке, остался у них. Сколько тогда платили за куб земли? Дна с четвертаком, два с полтиной – так, кажется. Но землекопная работа, одна из самых тяжелых, сразу подрезала меня, тем более что она производилась группами и надо было не отстать от других рабочих, я спасовал. После двух дней такой работы на зное я слёг, снова заболев лихорадкой. Затем пытался я еще возить землю на насыпь, но и тут не выдержал, не говоря уже о том, что тачки с землей, кои пробовал я таскать, весом до двадцати пяти пудов груза – вываливались у меня из рук.
Рабочие всё пришлые крестьяне из России – жили в длинной землянке с такой низкой дверью, что входить надо было согнувшись, эта землянка, крытая дерном, не давала спать – так было ночью в ней душно, так была сильна вонь натруженных тел крестьянских, – и вшей было довольно. А спали на нарах вповалку, толкая во сне друг друга коленями и локтями.
Измученный, я бежал, оставшись должен подрядчику восемьдесят копеек за чай и сахар. Когда я жил в землянке, мне пришлось видеть артель землекопов-мордвинов. Они «обедали». В чашку с водой с солью был покрошен черный хлеб – всё! Поев, они с довольным видом закурили из трубок махорку. Но эти крайне выносливые мужики вырабатывали по кубу и больше на человека в день, значит, могли есть сытно?! Да, но я слышал, что они крайне скупы, и сам знал в Баку таких, которые работали, например, котельщиками или слесарями, а жены их всё-таки ходили побираться, продавая хлеб для коров и лошадей но копейке за фунт.
Так же, но уже не скаредно, а скверно, питались персы-грузчики, получавшие плату ниже, чем русские рабочие (кажется, пятьдесят копеек поденно). Но этим ничего другого, конечно, не оставалось. Они ели покрошенный в большую чашку лаваш, сдабривая его водой, подцвеченной молоком.
От землекопства мне захотелось идти опять на рыбные промыслы, и, узнав, что верстах в сорока такой промысел есть, я легкомысленно двинулся к берегу моря, у самой воды. А надо было идти проезжими дорогами, где есть источники, караван-сараи; и я чуть не умер от жажды. Солнце палило неумолимо; кричали тарбаганы (суслики), звенели кузнечики, не было ни ветра, ни волнения в море. Вначале я шел бодро, потом захотел пить. Поглядывая на морскую воду, я стал прибавлять шаг, так как надеялся встретить речку, ручей или жилье, но холм за холмом проходили слева, впереди тянулись плоские изгибы берега один за другим, а признаков воды не было. Уже солнце перешло зенит; жар был такой, что ядовитый озноб пробегал по телу, и красные круги шли передо мной на белом песке. Жажда стала мученьем. Глотая слюну, схватывая и жуя стебелек, примачивая голову морской водой, я то шел, спотыкаясь, то бежал.
Остального не помню. Я был в полубессознательном состоянии от страшных мучений, передать которые словами нельзя. Они сосредоточены в горле и пищеводе, где как бы движутся потоки горячей соли, приводя в слезы и бешенство. Рыдая, громко призывая на помощь, я бежал стремглав всё дальше и дальше, не присаживаясь, не останавливаясь, с безумной болью внутри. Помню одну заботу тех адских часов: как бы не упасть. Упав, я не смог бы встать. Но у меня хватило силы избежать для питья морской воды и не хватило соображения выкупаться, – купанье облегчило бы мои неимоверные страдания.
На закате солнца я увидел за срывом берега примкнувшую к нему дерновую крышу промысла, пробежал мимо двух пытавшихся меня остановить рыбаков, исступленно закричал: «Где вода?» – и, сам увидев под навесом сарая бочку, полную воды, припал к ней ртом… Меня вырвало. Я снова припал – и тот же результат от слабости я сел. Тогда один рыбак стал поить меня из кружки. Мои зубы стучали. Я глотал, чувствуя боль при каждом глотке, проливал воду на грудь и не мог удержать рыданий. Наконец второй рыбак вылил мне на голову ведро воды; дрожь усилилась, но нервы стихли и, уже спокойнее, я напился досыта. И течение вечера я принимался пить несколько раз – и чаи и воду. В таком утолении жажды нет радости, – оно мрачно, тягостно, почти преступно.
Как наступила прохлада, я отошел уже, вместе с рыбаками шутил и смеялся над своим приключением. Молодой рыбак, оказавшийся читавшим кое-что из моих любимых авторов – Эмара, Жюль Верна и других, – пел «Баламуты», потом меня накормили вареной рыбой, и я крепко уснул, а утром направился обратно в Баку, но уже по линии строящейся железной дороги, для чего мне пришлось отшагать несколько верст в глубину равнины. С одного места двигался в Баку состав пустых вагонов, я забрался в вагон и на следующий день приехал в город.
Снова трясла меня лихорадка, и, хотя я не спал всю ночь, я отчётливо видел во тьме странные жуткие галлюцинации. Если я закрывал глаза, я продолжал видеть вагон, но полный не тьмы, а подобия сумерек; в углах против меня сидели, опираясь руками о пол, жуткие волосатые существа с огненными глазами; их толстые длинные хвосты шевелились, как у крыс. И лица их были отвратительны. Тогда я открывал глаза, – всё пропадало. Я курил и старался не смежать глаз. Несколько дней спустя, без денег, рваный и больной, я сидел в духане. Пришел человек и стал звать желающих поступить матросом на пароход «Атрек» компании «Надежда». Это был товаро-пассажирский пароход, делавший круговые рейсы.
Я вызвался и отправился на пароход. Так с начала до конца всё было неинтересно, бесцветно на этом пароходе, так были серы и не по-матросски одеты матросы, пароход так грязен, кубрик – нечист и неудобен, что рейс на «Атреке» – в противность Черному морю – совершенно забыт мной как действие; я помню его только как факт, как ряд фактов. Даже пищу мы варили сами, по очереди: борщ и кашу – из своего жалованья в двадцать один рубль. Матросы подрабатывали тем, что грузили товар вместе с грузчиками, но мне непосильно было это, и я отказался. Беспрерывно больной лихорадкой, я с трудом нес вахты.
Не помню ни пассажиров, ни капитана, ни гаваней, ни лиц матросов. Знаю только, что на «Атреке» я доплыл до астраханских «Двенадцать фут», то есть до рейда, и попросил за две недели расчет. За вычетом стоимости продовольствия, выдано мне было около шести рублей, на которые я, задумав теперь вернуться домой, немного приоделся, купил бумажный пиджак и брюки, рубашку с чесучовой грудью (косоворотку), кальсоны, фуражку. Не хватило на башмаки. Осталась мелочь, которую я быстро «проел», и, когда упросился на пароход плыть до Казани, денег у меня не было.
Неподалеку от Черного Яра (или Красного?) контроль ссадил меня на берег, потому что разрешил ехать помощник, а контроль делал капитан и не захотел, чтобы я ехал. Я напрасно просил его. Меня ссадили и таком месте, где пароходы приставали только случайно, – если был адресован туда груз.
И вот, до следующего Яра, где находились все пристани, прошел я пешком сорок пять верст за два дня. Пришел я в большое село, и меня пригласили в волостное правление – проверить паспорт. Я рассказал волостному старшине о своих горемычных странствиях; этот добрый мужик привел меня к себе в хороший зажиточный дом, напоил чаем, накормил ужином, уложил спать, а утром, прощаясь, как-то очень хорошо, человечески всучил мне серебряный рубль, и когда я, со стыдом в душе, благодарил его, то он сказал. «Ладно, ладно, берите, у меня самого вот так-то сын мучается, – отбился совсем, и уж три месяца писем от него нет».
А хозяйка дала мне пирогов, хлеба и яиц.
Придя в Яр (кажется, Красный, а может быть – Черный), я решительно сел на пароход «зайцем». Ночью было холодно, меня знобило, и я лег за дрова, на железный кожух машинного отделения Этой же ночью стали проверять билеты, и мне приказали слезть на первой же пристани. Я придумал следующее: когда пароход давал свисток – в знак приближения к пристани, – я шел на корму и опускался за нее на идущий вокруг судна «планшир», род карниза, на котором и сидел, держась за свесившийся канат; и был я людям, ищущим меня, невидим с палубы. Когда пароход отваливал, я вылезал на палубу «Где ты был? – сердито спрашивали меня матросы и помощник капитана. – Ведь мы тебя ищем». Но я своего секрета, конечно, не открывал и проехал таким образом три остановки. Наконец ко мне приставили матроса, чтобы он не упускал меня из вида, тогда, делать нечего, пришлось уйти, но, слезая на забытой уже пристани, я сообщил всё же администрации парохода свою выдумку.
Удивлялись, смеялись, но ехать дальше всё же не дали.
Подождав третьего парохода, я опять резво взошел «зайцем», но тут мне повезло – я встретил вдребезги пьяного незнакомого мне котельщика из Баку; он ехал домой в Симбирск. Узнав, что я тоже из Баку, котельщик возлюбил меня страшно: никуда не отпускал от себя, покупал водку, пиво, заказывал кушанья и потом бегал на пристань за воблой, каковая стоила тогда двугривенный десяток. То жался, то разбрасывался. Он купил мне билет до Казани – за рубль двадцать копеек, кажется, купил мне по пути – уже не помню где – новые «баретки» (летние коричневые башмаки из материи) за рубль пятьдесят копеек и всё говорил:
– Помни Тимофея Пришлёпкина. Я такой-то! У меня денег много, есть золотые, есть серебряные.
Как я уяснил, он целый год копил деньги и накопил, если ему верить, рублей четыреста.
Он пил беспрерывно, ко всем приставал, торчал у буфета часами, заснуй немного, просыпался и пил пиво. В конце концов, как ни был я благодарен ему, он мне изрядно надоел, и я был рад, когда Пришлепкин слез в Симбирске с парохода. От Казани мне удалось бесплатно приехать в Вятку на пароходе вятского пароходства «Тырышкин – Булычов», потому что я встретил однокашника по городскому училищу, служившего на том пароходе помощником капитана.
Я никогда не писал отцу, что я возвращаюсь, а потому неожиданно для него приехал домой. Надо сказать, как только я покинул Астрахань, малярия внезапно оставила меня. Она сказывается иногда теперь в скрытой форме. Отец встретил меня радостно, слегка растерянно; характерная улыбка шевелила его усы, уже седеющие. Наша семья жила в маленькой тесной квартире деревянного дома.
– Ну, вот… был в Баку, лежал на боку, – бесхитростно острил отец, когда я, стараясь говорить небрежно и бодро, кое-что рассказывал ему о пережитом. И так как стыдно было мне являться без гроша, снова пользуясь поддержкой отца, то я вновь солгал, проронив между прочим:
– Деньги? Деньги есть, есть всякие: и золотые и серебряные.
Мне понравилась эта фраза пьяного Тимофея. Отец внимательно посмотрел на меня, а вечером, сильно нетрезвый и по-видимому наученный мачехой, подошел ко мне, сел и, не то стесняясь, не то приказывая, сказал:
– А ну, Александр, давай-ка деньги! давай, давай! Ты всё зря истратишь… то – вот… Так давай!., то – вот.
Это была его привычка почти через слово прибавлять «то – вот». Тогда мне пришлось сознаться в выдумке – и странно– даже уверять отца, что я солгал.
– Так зачем же ты лжешь? – спросил он, взволновавшись и рассердясь.
Но я и теперь не знаю зачем?
Урал
I
В феврале 1900 года я решил отправиться на уральские золотые прииски. Всю эту зиму я прожил бедствуя изо дня в день. Мне удавалось иногда заработать рубль-два перепиской ролей для труппы городского театра, причем, чтобы получить даже эти гроши, приходилось иногда часами ловить за кулисами антрепренера, а то даже ожидать конца спектакля, когда антрепренер залезал в кассу сверять билеты.
Около месяца я прослужил у одного частного поверенного, бойкого крючка, платившего мне двадцать копеек в день за довольно трудную работу писание под диктовку исковых прошений и апелляционных жалоб. Эти двадцать копеек я тратил так: на две копейки покупал я в трактире чашку вареного гороха с постным маслом, на три копейки хлеба, на две копейки жареного картофеля, четыре копейки стоила рюмка водки. Остальные деньги – в разном сложении остатков – шли на покупку чая и табаку.
Я жил в крошечной каморке деревянного старого дома. Рядом, в другой каморке, жили слесарь с женой, а примыкающее помещение, побольше, занимала плотничья артель. За комнату дна рубля пятьдесят копеек платил мой отец. Однажды, сильно устав и не дождавшись частного поверенного, который выдавал мне мой двугривенный, я пошел искать его в театральный буфет, куда он часто ходил.
Действительно, мой мучитель сидел там, пьяный, в хорьковой шубе, каракулевой шапке, с каким-то дельцом; они ели уху и пили водку. Я попросил свой двугривенный. Адвокат прикинулся хмельным и бедным. Он начал толковать о своих благодеяниях мне, о том, что его никто не понимает, что двадцать копеек – деньги, что их нужно достать, а у него нет. Компаньон адвоката, слушая этот разговор, возмутился, пристыдил приятеля и вручил мне – за него – двадцать копеек, сказав, что вычтет с адвоката по счету. С того дня я перестал ходить к моему бывшему хозяину.
Немного понаторев в писании исковых прошений, я начал писать их, сидя в одном трактире, за столиком. Плата была обычная для сделок такого рода и при такой обстановке: полтинник и полбутылка водки. Но мне не везло в том, что у меня был прескверный почерк, без завитушек; прошения я составлял сухо и кратко, по существу, без того, чтобы вышло «жалостливо» – «доходило до сердца», то есть трогало самого просителя. Поэтому таких работ у меня было немного. Мое сидение в трактире окончилось, когда появился «дока» – человек с красным носом, в опорках и сюртуке. Он брал просителя тем, что сразу говорил, «ставь». Мужик зубами развязывал узелок платка, оба они – я видел – понимали друг друга и по словам, и по рюмкам.
В писании ролей для театра вытеснили меня конкуренты с красивым почерком, рабски лепившие строчку на строчку за тот же пятак с листа, тогда как я мужественно разгонял текст, чтобы нагнать из пьесы больше листов. Мне случалось, просидев день и всю ночь, переписать пьесу по четыре-пять печатных листов, – со своей бумагой.
Но я отвлекся, а, впрочем, важно указать, из какой обстановки я двинулся на Урал. Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора, – одним словом, я всё еще был под влиянием Райдера Хаггарда и Густава Эмара.
Отец дал мне три рубля. На мне были старые валенки, подшитые кожей, черные ластиковые штаны, старая бумазейная рубашка, красная, с черными крапинками, теплый пиджак из верблюжьей шерсти, подбитый беличьим мехом, и шапка из бараньего меха. Я ничего не нес и ни на что не надеялся. Правда, отец сказал мне, что в Перми живет его прежний знакомый, ссыльный поляк Ржевский, хозяин большого колбасного заведения, и дал к нему письмо, в котором просил помочь мне найти работу, но я не верил в силу письма. Связь отца с ссыльным была давно порвана, а в таких случаях неожиданное явление бродяги, даже с письмом от полузабытого знакомого, – впечатление не очень внушительное.
Числа, кажется, 23 февраля, в снежный, мягкий день, я перешел реку Вятку и остановился у кабака села Дымкова, на другом берегу, памятуя, что каждый путешественник, отправляясь в далекий путь, выпивает в трактире за чертой города стакан виски. И я выпил «сотку», закусив ее горячей бараниной.
Весь остаток рано темнеющего дня я шел по тракту на уездный город Слободской, до которого было тридцать верст. Когда я прошел верст пятнадцать, было уже темно, как ночью Встретив огни деревни, я постучался в одну избу, в другую, но везде слышал один ответ: «Ступай, много вас таких шляется». Не зная, что делать, я постучался в один дом не совсем крестьянского типа и попал к молодому дьякону, жившему с такой же молоденькой женой во втором этаже. Дьякон оказался человеком простым и, как я, – поклонником Густава Эмара, у него я и переночевал на полу, подостлав половик. Его жена накормила меня лапшой с грибами и попоила чаем с сушкой.
Утром я отправился дальше, иногда проезжая некоторое расстояние на крестьянских санях. Попутные мужики охотно подсаживали меня, однако ударил мороз, отчего выгоднее было идти, чем сидеть, движение согревало. К тому же, мне торопиться было некуда. Дорога была – широкий почтовый тракт, обсаженный столетними снежно-кружевными березами. Изредка попадались деревни, куда я заходил погреться в избе, купить хлеба и молока. В те времена я еще пил молоко.
Около двух часов дня показались крыши уездного города Слободского. Придя в город, я сделал попытку разыскать семью ссыльного поляка Тецкого, который был моим крестным отцом, так как я появился на свет в Слободском, когда мой отец служил там в конторе пивоваренного завода. Однако Тецкий с семьей уехал в Сибирь. Выпив в придорожном трактире стакан водки, а также пообедав, я тронулся в дальнейшее странствие, которое продолжалось восемь дней; я прошел от Слободского до Глазова сто восемьдесят верст, ночуя по деревням. Редкая семья соглашалась взять с меня деньги за ужин или ночлег. Я предпочитал останавливаться в бедных избах, так как хозяева таких жилищ гораздо радушнее и приветливее, чем зажиточные крестьяне.
Обыкновенно семья садилась ужинать – вся – за большой стол, в известном порядке старшинства и зависимости. Молодка или старуха бабка подавала еду Эта садилась последней. Перед каждым трапезником лежал большой ломоть хлеба, которым, кстати сказать, нигде не умеют так печь, как в Вятской губернии. Едой управлял очень очень строгий этикет, нарушить который считалось верхом невежества.
Прежде всего каждый крестился на иконы и, облизав деревянную лакированную ложку, ждал своей очереди зачерпнуть ею из большой общей чашки щей или молока. Вначале ставилось толокно, разведенное квасом и сдобренное постным маслом, затем квашенная в печи простокваша. В самых бедных семьях ели только вареный картофель и квас с накрошенным луком.
Черпать ложкой надо было по очереди, кругом, в сторону движения солнца. Во время ужина господствовало чинное, сосредоточенное молчание, даже дети вели себя, как взрослые. Труженик земли уважает свою пищу, которая добывается тяжелым трудом. Он уважает час насыщения – награды за труд. Если странник, зайдя в избу во время общей еды, скажет – «хлеб да соль», ответ бывает такой – или «садись с нами», то есть садись и ешь (отказаться – значит обидеть), или «благодарим!», то есть приглашать есть не хотят.
Там, где на стол подавались мясные щи, этикет требовал, чтобы, зачерпнув ложкой горячей жижи с накрошенным в неё мясом, очередник оставил себе на ложке каждый раз один кусочек мяса, лишнее мясо стыдливо стряхивалось обратно. Со мной был чай, и я видел, с каким худо скрываемым удовольствием ставился самовар, причем чаепитие происходило так же чинно, молчаливо, как ужин. Я заметил, что женщины более радовались чаю, чем мужчины, и пили его с жадностью, потея от удовольствия. Напившись, каждый перевертывал свою чашку дном вверх, кладя сверху на дно оставшийся недогрызок сахару.
Я спал на печке или полатях, на печке сушились мои валенки и портянки. Однажды я пил чай из сухих стеблей малины – ужасное потогонное питье, хотя довольно приятное. Утром, еще в темноте, при свете лучины, хозяйка пекла ржаные лепешки, ставила молоко или чай; наевшись, я затемно выходил на дорогу и в глубокой тишине медленного зимнего рассвета скрипел своими просохшими валенками на восток, к городу Глазову.
II
Инспектором Глазовского городского училища был Дмитрий Васильевич Петров, мой бывший учитель по Вятскому городскому училищу. Я знал, что он здесь, от бывших учеников, моих одноклассников, и решил зайти к нему в гости. Петров жил в казенной квартире. Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязаные салфетки – словом, будничный ординарный комфорт интеллигентного труженика. Я снова увидел его доброе усталое лицо, редкие темные баки, всклокоченный хохолок на лбу, синий вицмундир с золотыми пуговицами и почувствовал себя школьником, когда он сказал:
– А, Гриневский. Здравствуй, какими судьбами? Входи, входи.
В квартире Петрова я ночевал. Его жена, Евгения Ивановна, на которой он женился, когда еще был учителем в Вятке, показывалась редко; то одевалась и уходила по своим делам, то возилась с детьми. Я пришел рано утром, поэтому с Петровым разговорился, когда он пришел со службы, в четыре часа, а до того я сидел за книгой и бесконечно курил папиросы Петрова, отдыхая после трудовой зимней ходьбы в тихой, чистой квартире.
Мне была приготовлена ванна, я вымылся, переменил свое белье на чистое, поношенное белье Петрова и пожалел, что завтра опять надо идти. За обедом, затем за вечерним чаем мы много и горячо говорили о жизни, о литературе. Я прочел Петрову свои стихи, после чего он сказал: «да, что-то есть». Затем спросил, нравятся ли мне рассказы Горького. Мне они нравились, и я воодушевленно отстаивал любимого тогда автора.
– Значит, одобряешь? – спросил Петров.
Как я понял, это грустное замечание относилось не только к литературной стороне произведений Горького, – оно имело в виду образ жизни его героев. Я ответил утвердительно. Петров не спорил, а когда стали расходиться спать, сказал:
– Ну, что же, Гриневский, я думаю, надо тебе немного помочь. Много я не могу.
Он дал мне серебряный рубль, пачку папирос, и, наскоро выпив, рано утром, чая, я отправился на вокзал, где уговорился с кондуктором товаро-пассажирского поезда. Я дал ему сорок копеек; он посадил меня в пустой товарный вагон и запер его. У меня были хлеб, колбаса, полбутылки водки. Пока тянулся день, я расхаживал по вагону, мечтал, ел, курил и не зяб, но вечером ударил крепчайший мороз, градусов двадцать. Всю ночь я провел в борьбе с одолевающим меня сном и морозным окоченением если бы я уснул, в Перми был бы обнаружен только мой труп. Эту долгую ночь мучений, страха и холода в темном вагоне мне не забыть никогда.
Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил: «А я думал, что ты уж помер», – но, радуясь спасению, я только плюнул в ответ на его слова и, с трудом разминая закоченевшие ноги, побежал на рынок, в чайную.
Здесь было жарко, тесно, множество мужиков и рабочих, следующих, как и я, на заработки, пили чай, курили, кричали, пили водку; под столами были свалены мешки, котомки; махорочный дым знаменитой дунаевской махорки «Три звездочки» заскакивал в дыхательное горло удушьем. Как у меня не было денег, то я обменял свою баранью шапку на старую из поддельной мерлушки, получив двадцать копеек придачи, и напился чаю с баранками, а затем, около девяти часов, пошел с письмом отца к Ржевскому, магазин которого находился на главной улице города. Это был большой магазин с зеркальными стеклами и американской кассой, с мраморными прилавками.
Прочтя письмо отца, Ржевский, замкнутый, спокойный поляк лет сорока, пошептался с женой, и она передала меня какому-то старичку, – может быть, ее отцу или отцу Ржевского. Старичок повел меня по лестнице в глубине магазина наверх, и я очутился в очень просторной, очень светлой, большой квартире. Пол был паркетный, обои светлые, мебель в чехлах; картины и огромные тропические растения поразили меня. Еще никогда я не был в такой квартире, а о паркетах только читал.
В тот день была оттепель, отчего мои валенки просырели, и я с ужасом видел, что на каждом шагу оставляю жирные, грязные пятна сырости. Заколебавшись, я остановился, между тем старичок, со всей возможной деликатностью, а может быть, с тайным ехидством ласковыми движениями рук приглашал меня идти всё дальше за ним, через гостиные, залы, – в столовую. Я думаю теперь, что меня могли бы избавить от такого унижения, проведя в столовую более кратким путем, хотя бы через кухню. Я оглянулся: по светлой реке паркета, через всю анфиладу тянулись черные пятна сырости. Я останавливался раз пять; уши мои горели.
Наконец, я был в столовой, где кипел серебряный самовар, и тот час сел за стол, поглубже упрятав ноги. Кроме старичка была здесь старушка, девочка, а вскоре пришли хозяева, Ржевские. От смущения я лепетал не помню что; говорил о приисках, золоте; рассказывал свои морские похождения, рассказал об отце, нашей семье. Старичок угощал меня превосходными папиросами, насыпанными в ящичек карельской березы. Я сказал «Как у вас хорошо», – чем, видимо, польстил хозяевам, но в ответ получил, кажется, рассуждение о том, что такой комфорт достигается упорным трудом. Я выпил стакан чая с молоком в серебряном подстаканнике, съел колбасы, сыру и когда, куда-то уйдя, Ржевский вернулся с запиской, – это была записка вагонному мастеру железнодорожного депо с просьбой дать мне работу. Затем, узнав, что я без денег, Ржевский дал мне рубль и велел приказчику завернуть для меня три фунта разной колбасы, я попрощался и ушел тем же путем, провожаемый внимательными взглядами служащих.
Кажется, я не понравился, – я был дик. На улице я вздохнул с облегчением и немедленно отправился в депо, где и был принят чернорабочим с платой пятьдесят копеек в день, и десять копеек в час за сверхурочные. После того я нашёл маленькую комнату, с матрацем, но без подушки, за четыре рубля в месяц и, прописав свой паспорт, на следующее же утро к шести часам утра был в депо.
Хотя позапрошлую зиму я работал в вагонных мастерских в Вятке, однако разница была велика. Там я, главным образом, имел дело с деревообделочными станками, стругавшими обшивные, половые доски и вырезывающими колодки, материал – дерево – был не тяжел; здесь же мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами, толкание паровозов на поворотный круг, – словом, металл, металл и металл. Кроме того, почти каждый день я оставался на сверхурочные, приходя домой часов в девять вечера до того усталый, что не мог ни есть, ни читать.
За две недели моей работы в депо я раза четыре заходил в магазин Ржевского. Я покупал там колбасные обрезки, одиннадцать копеек фунт, и Ржевский два раза посылал меня с запиской на фабрику, во дворе, где аппетитные колбасные ребята наваливали мне множество этих обрезков даром.
Я видел, что, оставшись в депо, – останусь в депо и ничего больше. Между тем стало сильно таять и сильно греть солнце, началась северная весна. Взяв расчет, я получил около четырех рублей и, как уже по разговорам знал о ближайших, графа Шувалова, приисках, – что там можно всегда найти работу, то в один прекрасный день сел в поезд «зайцем», после двух высадок за безбилетность, почти к вечеру я доехал до станции, откуда надо было идти пешком на прииски. Как я видел, к такому способу передвижения прибегает множество шатающегося по Уралу народа, а потому не обращал внимания на желчные припадки кондукторов, привыкших ссаживать «зайцев» почти на каждой станции.
От станции шла дорога через рудники, заводы, на прииски. Вокруг стояли круглые горы, заросшие синим лесом, и, хоть стыдно сознаться, но, когда я прошел верст пять, – дикий мрачный вид этой страны золота посеял во мне наивные надежды. Как местами дорога уже протаяла, я время от времени поднимал разные камни, осматривая их с целью найти хотя бы небольшой самородок.
Было темно, когда показались огни казарм железных рудников. (Забыл название.) Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в прорывах нар стояли простые столы. С потолка освещала это жилье сильная керосиновая лампа. Железная печь посреди казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару, на ее длинной трубе, обходящей чуть не все помещения, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко-желтый цвет всего: пола, стен, столов, портянок, рубах, людей и, кажется, самого воздуха, как если смотреть через желтое стекло. Это была рудная пыль – пыль железной руды, скопившаяся годами, приносимая на ногах и в одежде.
Рабочие – все пришлые мужики – частью спали, частью пили чай из почерневших жестяных чайников; кое-кто играл в шашки или читал двухкопеечные лубочные издания Сытина. Хотя я притворился опытным, разбитным бродягой, однако, по расспросам и разговорам моим, мужички скоро меня поняли и отнеслись добродушно; пил я с ними кирпичный чай, ел их пшеничный хлеб, слушал, присматривался. Они предлагали мне остаться работать, но обстановка прииска, еще неведомая, тянула меня. Утром я пошел дальше, горя нетерпением и отвагой. Я уже слышал о «хищниках». Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные притоны скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы… Заметив, что докатился до индейцев, я оглянулся, по никто не слышал меня на дикой дороге.
III
Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая «старателей».
Порядок приема на работу был очень прост каждый, кто хотел, приходил в контору, сдавал свой паспорт, получая взамен расчетную книжку и рубль задатка, а затем мог идти и селиться где и у кого хочет; благодаря этому был постоянный резерв свободной рабочей силы. Хотя все, кто выходил утром к наряду, получали работу (я не говорю о шахтерах, забойщиках и крепильщиках-плотниках – эти были как бы штатные, хотя тоже поденщики), в казармах постоянно валялись, дымя махоркой, лодыри, эти день-два работали, а день-два отдыхали, так как, закупив хлеба, мяса и табаку, они ели эти запасы, пока голод не заставлял их снова идти на наряд. Десятник механически отмечал в своей таблице рабочие дни каждого, за отработанное платилось, а прогульные дни абсолютно никого не интересовали. Наверное, были среди постоянно сменяющейся массы рабочих воры, беглые каторжане, беглые солдаты, но их никто не тревожил. Фальшивый или чужой, краденый, паспорт покрывал всё.
Бессемейных, пьяниц, босяков звали обидной кличкой «галах», сибиряков – «чалдон», пермяков – «пермяк – соленые уши», вятских – «водохлебы», «толоконники», волжских – «кацапы», мордвинов – «лягушатники» («Лягва, а лягва Постой, я тебя съем»). О них рассказывали, как один мордвин ищет другого:
– Васька. Молчание.
– Василий. Молчание.
– Василий Иванович. Молчание.
– Василий Иванович, милый дружка, золотой яблочка, – где ты?
– Под кустом сижу; чилиль (трубку) курю.
Предпочтительной уральской одеждой, предметом мечты, были татарская шапка из завитого барашка с четырехугольным, черного бархата, верхом, высокие «приисковые» сапоги, выше колен, с ремешками под коленом и серебряными подковами; бумазейная рубашка с высоким воротником, застегивающаяся на синие стеклянные пуговицы, и шаровары из черного бумажного бархата (плис). Щегольской верхней одеждой считался «азям» – род халата из верблюжьей шерсти, с широким отложным бархатным воротником. Однако большей частью можно было встретить желтые полушубки да матерчатые пиджаки на вате, а то и на кудели. Кроме лаптей, валенок и сапог в ходу были, зимой, «бахилы» – мягкая высокая обувь из коровьей или лошадиной шкуры, шерстью внутрь, а также «поршни» – кожаные лапти.
Контора – большое здание из двухсотлетних бревен – была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку. Кассир отсчитал ему две тысячи рублей золотыми пятирублевками. Старатель завязал полную золотом тарелку в ситцевый платок и понес домой – как носят суп, спокойно и независимо. После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там. Вверху было жарко от железной печки, а в ноги тянуло холодом; между тем, за отсутствием места на нарах, мне пришлось бы спать на земле.
Один рабочий направил меня к местному жителю-рабочему, в его избу, и я поселился там в углу, за рубль в месяц. Кроме меня был еще жилец – рыжий мужик, горький пьяница, вечером он с хозяином напивался, и они пели, сидя за бутылкой:
Скажи мне, звездочка златая, Зачем печально гак горишь? Король, король, о чем вздыхаешь, Со страхом речи говоришь?Хозяйка, пожилая беременная женщина, молча работала по хозяйству, ни во что не вмешиваясь. Я спал в углу, на соломе. Она никогда не убиралась, лишь сметалась на день в кучу. Таяло, снег сошел по прииску, лежал он еще только в лесу. От сырой грязи мои валенки развалились, сапожник отказался чинить их, – я надел лапти. Как было не вспомнить ехидную поговорку, которой дразнили меня мои родители за проказы и леность к ученью:
«Гули да гули… Ан в лапти и обули».
Однако уметь надеть лапти не так просто. Мои сожители учили меня обвертывать ногу портянкой, чтобы было везде туго, ловко, не давило подошву, и я кое-чего достиг в этом искусстве.
На другой же день, едва в темноте порозовело небо, сквозь лес я вышел к наряду. Нарядчики послали меня качать из шурфов воду. Из бараков вышел народ, бабы и мужики, прибавилось к нему нас, новичков, человек двадцать, и, пройдя с полверсты лесом, мы очутились в лесной долине.
Здесь, на расстоянии пятидесяти сажен один от другого, были «шурфы» – неглубокие шахты для разведки золотоносного слоя, состоящего из песку и гравия. Эти шахты – три – пять саженей глубины – обслуживались ручным воротом с бадьей и обыкновенным насосом, рукав которого, касаясь дна, выбирал воду. Внизу работали двое: забойщик, то есть шахтер, рывший породу мотыгой, и плотник, ставивший деревянную клеть для избежания обвала стен шурфа.
Время от времени бадья вывертывалась воротом вверх, порода высыпалась, а штейгер, обходя шурфы, делал пробу ковшом набросав в ковш песку, прополаскивал его водой и смотрел, остаются ли после удаления песка крупицы золота. Однажды он, найдя такие крупицы, стал показывать их мне, я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел. что-то узкой полоской блестело на дне ковша, верно; хотя, был то блеск оловянной полуды или воды, я не разобрал.
Я слышал впоследствии, что золото на Урале есть везде, по руслам речек и в старых песчаных слоях долин, но очень различен процент его содержания, – не везде выгодно его добывать.
Я работал с зари до зари. На обед давался нам час, на завтрак полчаса. В полдень штейгер отмечал в таблице крестиком рабочий день каждого; вечером еще раз проверял, кто работает вторую половину дня. Плата была шестьдесят копеек поденно. На заборную книжку можно было брать в лавке предметы первой необходимости: табак, мыло, спички, белый хлеб, сушку, колбасу, пряники, орехи и т. п. Расчет происходил по субботам в конторе, с вычетом забора в лавке.
Время от времени старший рабочий командовал. «Закури!» – и мы, старательно, медленно свертывая «козью ножку» – покрупнее, чтобы дольше курилась, так же старательно, медленно досасывали ее и тем нагоняли минут пять-шесть отдыха. Я работал то на откачке воды, то крутил ворот.
Неподалеку были старатели, и я один раз ходил смотреть, как они там живут. Старатели жили с семьями, в лесу, по берегу речки, в больших избах; кое у кого из них было хозяйство: птица, корова, лошадь. Тут же возле избы стоял вашгерт, промывательный станок, род ступенчатого корыта с задерживающими золотой песок планками. Насыпав в вашгерт породу, старатель прибавлял туда ртути, платина или золото амальгамировались ртутью. Эта смесь оставалась на дне вашгерта, а песок относило прочь водой, качаемой обыкновенным насосом. Впоследствии ртуть удалялась нагреванием. За платину контора платила три рубля пятьдесят копеек за золотник, за золото пять рублей. Мне рассказывали о селениях, где сплошь живут скупщики контрабандного золота, платящие по шесть и семь рублей за золотник.
Вначале я работал каждый день, но, когда хозяйка моего угла родила ребенка, скандалы, пьянство, рев и писк стали неимоверны; я часто не мог заснуть, а потом перебрался в барак. Сознаюсь, здесь было тесно, но веселее, чем слушать каждую ночь – «Король, о чем вздыхаешь?». Однако атмосфера лодырничества, картежа, работы через день-два и бесконечных рассказов, историй о самородках, кладах подействовала на меня – я стал тоже работать на хлеб, чай и табак – не больше, – мои потребности в то время были очень скромны.
Я получил место на нарах по странной оказии, накануне моего появления в бараке два парня шутя возились, боролись, гоготали. Один – тоже шутя – хлопнул приятеля ладонью по спине, тот упал и больше не встал. Таким образом, принимая во внимание полицию и следствие, освободилось два места.
Набрав, у кого мог, лубочных и старых, без корок, книг, я погрузился в чтение, иногда выходя искать среди леса и по берегам еще закрытой льдами речки – самородков. Однако, когда мне переставали давать в лавке провизию, я ходил на работу; между прочим три дня работал ночной сменой в настоящей шахте, где было очень сыро и куда спускались в бадье, стоя в ней и держась за канат.
Отверстие шахты выходило из невысокого холма, со свалкой вокруг него добываемой изнутри породы. Неподалеку была бутора – закрытый деревянный цилиндр, вращаемый в горизонтальном положении, внутри буторы песок обрабатывался ртутью, как в вашгерте. Нет ничего удивительного, что при такой технически несовершенной добыче золота и платины некоторые старатели брали от конторы разрешение снова промывать отработанные кучи песку и, как говорили на прииске, добывали прилично.
Я стоял в паре с другим рабочим на вороте, выкручивая с десятисаженной глубины тяжелую бадью, полную золотоносной породы, вторая бадья за это время шла пустая вниз, там ее насыпали. Три ночи я проработал под землей, где забойщик бил киркой впереди себя, я лопатой наваливал породу в тачку и катил ее к бадье, под вертикальный колодезь. Работать надо было всё время согнувшись; забойщик, работающий сдельно, с куба, гнал во всю мочь, и это было мне непосильно. Хотя ночная смена оплачивалась рублем, я больше работать по захотел.
Мой интерес к приискам начал проходить. Между тем в бараке появился хищник – настоящий хищник уральской тайги, молодой человек, туалет которого был выдержан по всем правилам описанного мной местного щегольства; у него, видимо, были деньги, потому что он совсем не работал, только жил в бараке – может быть, с какими-нибудь конспиративными целями. При всеобщем жадном внимании хищник рассказывал о жизни себе подобных.
– Есть, – говорил он, – такие золотые места, о которых знаем только мы, хищники. Есть верховое золото: сорвешь пласт дерна и с корешков травы стряхиваешь, как крупу, чистое золото. Есть речки, ручейки в горах, где на пуд песка – золотник платины. Есть самородное золото, содержат его так называемые «карманы» – гнезда мелких самородков и крупного золотого песка, попади на такой карман, будешь всю жизнь богат.
От этого хищника я узнал, что тайные золотоискатели ходят по три-четыре человека и нападают на жилу по известным только им приметам, больше же делают пробу бьют шурфы, моют песок речек и ям в ковше. У них всегда с собой ружья, насос из жести, ртуть, толокно и сухари. Восхищенный романтизмом такой жизни, я предложил хищнику работать вместе, на что он согласился, но просил подождать дней десять, когда придет какой-то его знакомый.
Между прочим, он рассказывал, что управляющий одних приисков, известный своей жестокостью, был пойман хищниками в лесу и проработал у них три дня, качая воду. Кончив работу, хищники уплатили ему по одному рублю двадцать копеек за день, а с собой унесли на пять тысяч рублей платины.
Однажды ночью хищник исчез, как пришел, – сразу; кое-кто видел его вечером за бараком в таинственной беседе с двумя бородачами; еще говорили, что его ищет полиция Незадолго до его исчезновения один старик, серьезный и хворый, часто беседовавший со мной о жизни и людях, сказал мне, что ему один хищник, умерший год назад в больнице, сделал признание о зарытых хищниками двух голенищах, полных золотого песка, под старой березой, в таком-то селе. Название этого села я забыл. Я рассказал историю о голенище мужику с рыжей бородой, Матвею, с которым я сблизился, так как, по словам Матвея, он был, где и я, – на Волге, на Каспийском море, в Баку.
Мы уговорились идти искать клад, взаимно заражая яруг друга картиной благоденствия в случае успеха. Однако, после того как я получил расчет (рубля два) и вышел с Матвеем на лесную дорогу, спутник сообщил мне, он бежал с каторги за – будто бы – клевету на него о поджоге трех домов в Костромской губернии. Затем на первом же ночлеге (дом стоял на краю деревни) у одинокой женщины с тремя детьми этот благодушный, благообразный старичок, лежа со мной вечером на полатях, предложил мне убить хозяйку, детей и ограбить избу. В избе было чисто, хозяйственно, была хорошая одежда, полотенца, с вышивкой, стенные часы и два сундука. Бандит, видимо, думал, что у хозяйки есть деньги. Но он предложил сделать это дня через два, вернувшись к деревне окольным путем, ночью, теперь же прожить здесь еще завтрашний день, чтобы высмотреть, где деньги.
Он говорил так страшно просто и деловито, что я испугался Видимо, он нуждался в товарище для ряда преступлений и тщательно вербовал меня. Из опасения быть ночью убитым, я поступил так: притворно то соглашаясь, то сомневаясь, отложил полное решение до завтра и всю ночь не спал, карауля Матвея, который спал крепко, храпя. За всю ночь золотой дым вылетел из моей головы. Утром, взяв котомки, мы вышли от ничего не подозревающей женщины, которая дала нам на дорогу яиц и хлеба. Отойдя немного от деревни, я в упор заявил Матвею, что никуда с ним не пойду, так как быть в компании с негодяем и убийцей мне отвратно.
Мужик опешил, он пытался уверить меня, что пошутил, соглашаясь идти только добывать золото, но в его голубых глазах лежала подозрительная муть, может быть, прямо угрожающая, поэтому, наматерившись взаимно, мы расстались. Он побрел вперед, а я вернулся и предостерег женщину, чтобы она не пускала снова этого Матвея ночевать, вкратце рассказав суть дела. Слушая меня, она была бела, как ее полотенца, и заголосила, что тотчас побежит к уряднику. Я пошел обратной дорогой и застрял на несколько дней на чугуноплавильном доменном заводе, где мне дали работу.
IV
Теперь мне интересно вспоминать свои работы, потому что прошло много лет, стерших ощущение грязи, вшей, изнеможения и одиночества, но тогда это было не так интересно, – было разнообразно и трудно.
Сдав паспорт, получив традиционный рубль задатка и сунув свою котомку на нары в рабочей казарме, я был послан в сарай просеивать древесный уголь на поставленном наклонно большом прямом решете из проволоки. Кроме меня тут работал еще один человек, дюжий мужик. Плата была семьдесят пять копеек поденно. Мы бросали деревянными лопатками уголь на решето, крупные куски отскакивали, а мелочь просыпалась сквозь петли решета.
Я возвращался вечером в барак более черный, чем трубочист или негр. Кроме того, было тяжело дышать сумерками, составленными из угольной пыли и весенней сырости. Кое-как отмывшись, я ставил на общую плиту свой жестяной чайник, пил кирпичный чай с молоком и белым хлебом из сибирской муки, иногда жарил свинину Обычная пища рабочих была – чай, картошка и хлеб; по праздникам они варили мясо, в особенности семейные; здесь было много татар, у которых всегда пахло кониной. По глупости я тогда еще не ел конины, а впоследствии на Благодати, около села Кутвы, не только привык, но полюбил конское мясо. Казарма была разделена коридором, – направо шли помещения для семейных, налево – для холостых и одиноких.
Мне приходилось часто писать письма неграмотным, и меня всегда трогала вечная забота рабочих послать домой деньги, хотя бы пять – три рубля. Письма надо было писать чувствительно, длинно, перечислять поклоны каждому в отдельности, родственнику и знакомому («Еще кланяюсь Тимофею Ивановичу» и т д.). Ритуал требовал стереотипного начала или «Во первых строках моего письма», или «Лети мое письмо туда, где примут без труда»… Написав, я читал вслух, а отправитель слушал меня с растроганным лицом и, случалось, говорил «Тебе бы, Лександра, в конторе гумаги писать, а не в галахах ходить».
Однажды несколько человек из нашего помещения чем-то кровно обидели во время стряпни у плиты молоденькую татарку, жену рослого и очень сильного молодого татарина. Этот красавец татарин, на стороне которого я всецело был, бледный от ярости ворвался к нам, когда все сидели за общим столом, за чаем, и завертел тяжелом табуреткой над головой, держа табурет за ножку, с такой силой, что поднялся ветер. Он кричал только одно: «Убью! Убью! Убью!» Хотя было тут человек пятнадцать здоровых мужиков, сразу стало ясно, что сопротивление этому одному – невозможно. Все побледнели, пригнулись.
В таких случаях мне делается весело. Как все молчали, а табуретка почти касалась голов, я встал и, взяв татарина за руки, сказал – «Брось, Абдул, ты видишь, что они дураки». Он посмотрел на меня столь жутким взглядом, что я мысленно попрощался с жизнью, но, глубоко вздохнув, бросил табурет в угол и орудие разлетелось на куски, после того татарин ушел, хлопнув дверью так сильно, что зазвенело в ушах.
У меня тоже было столкновение: второй просевальщик угля, здоровенный мужик, забрал мою хорошую лопатку, подсунув плохую свою. После спора я схватил его за горло, и так как я решился бить, то этот впятеро сильнейший меня человек тотчас бросил лопату, а через день мы опять мирно беседовали.
Вскоре меня назначили в ночную смену возить на домну руду. Рабочие наваливали подводу рудой, я шёл рядом с подводой по отлогому, идущему вверх деревянному настилу к отверстию домны, где, вместе с другими рабочими, опрокидывал подводу и съезжал вниз, за новой порцией.
Из домны вырывался озаряющий всё вокруг блеск пожара, сеявший бессонное настроение, возбуждение; подмерзший снег и лед луж пахли весной. Я погонял лошадь и мечтал о тепле казармы, потому что мой беличий пиджак давно был сменен на серый матерчатый, подбитый куделью. После возки руды я работал дней пять внутри завода, таская и укладывая в штабеля отлитые чугунные болванки.
На земле, перед отверстием домны, были вырыты, расходясь во все стороны и соединяясь желобками, плоские формы болванок. Рабочий пробивал пробку внизу домны, и из отверстия брызгал белый блеск, ослепительный, как блеск магния. Белые брызги молнии разлетались снопами, когда лилась струя чугуна. Она медленно растекалась по формам, становилось жарко; чугун подергивался красной пленкой, мерцал, вспыхивал, принимал устойчивый красный цвет и медленно гас, делаясь черным. Когда он остывал, мы таскали эти болванки наружу и складывали их, как дрова.
Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.
Таяние то усиливалось, то останавливалось благодаря заморозкам. В середине апреля, взяв расчет (рубля три), я отправился в Пашийский завод вместе с двумя рабочими. Шел слух, что на лесных заводских рубках можно хорошо заработать, если же дождаться так называемой «скидки дров» в горную речку (за что платилось от пятнадцати до сорока копеек с погонной сажени, при длине полена в полтора аршина), то, если не жалеть себя, можно – говорили – в три-четыре дня заработать двадцать-тридцать и больше рублей.
Я забыл сказать, что, как началась весна, очень много крестьян отправилось с приисков и заводов в свои губернии на полевые работы. Все они за зиму скопили десятки, а то и двести-триста рублей денег, хотя таких «богачей» было, конечно, мало; шли они к железной дороге группами, потому что бродяги подстерегали и убивали одиноко идущих.
Мне очень неприятно теперь, что моя память, сравнительно легко удержавшая моменты деятельности, обстановки и сцен, почти бессильна установить картину дорог, направлений и числа дней, а также множества ночлегов в пути. Рассеянный по природе, я был глубоко рассеян во время пути; рассеян я и теперь; когда я иду, я только смотрю, почти без мыслей о том, что вижу. Мое внимание скользит, бесцельно перебегая от внешнего к внутреннему, такому же случайному, как мелькающая обстановка дорог.
Способность к ориентации – самое слабое мое место. Поэтому когда я был дроворубом, то, отправляясь всего за три версты из леса к зданию лавки, на берегу речки, почти всегда сбивался с дороги – как вперед, так и назад, хотя по тропинкам и обугленному пожаром в одном месте пространству отлогих гор был путь очень простой. Вероятно, этой бездарности я обязан одной встрече с медведем, от сопения которого за моей спиной избавился только тем, что последовал совету дроворуба Ильи – притвориться работающим около дерева и не обращать на Михаила никакого внимания. Сбившись, я попал в чащу, а за мной, слабо взревнув, побежал этот самый Михаил.
Стерпев естественную панику, я встал около толстого кедра и начал обтесывать его топором. Медведь долго стоял сзади меня, сопя и фыркая, но не тронул, затем медленно обошел дерево и, видя, что я точно работаю, сшиб лапой тонкий гнилой пень. Вдруг, к облегчению моему, послышались голоса рубщиков с соседнего участка, и медведь убежал, а я долго затем сидел, откуриваясь махоркой и не смея двинуться с места, потом рубщики проводили меня до тропы.
В Пашинском заводе, вокруг которого расположилось большое село, мои спутники отделились, один встретил земляка и пошел с ним работать на домну, второй спутник, получив в конторе задаток, запьянствовал, а я был послан рубить дрова. Проехав сколько-то верст железной дорогой, я пешком прибыл на берег лесной речки, где стоял деревянный дом – лавка и жилье табельщика с его семьей. Отдохнув, выпив чаю, я получил топор, двухручную пилу, четыре железных клина, фунт кирпичного чая, три фунта сахара, двадцать фунтов пшеничного и десять черного хлеба, новый жестяной чайник, фаянсовую кружку, напильник для точки пилы и полфунта «легкого» асмолонского табаку, фунт соли и десять фунтов солонины, еще – мешок тащить поклажу. Всё это, кроме инструментов, было мне записано в кредит, в счет работы.
Табельщик рассказал, как найти назначенное мне в лесу жилье дровосеков, и, порядочно поплутав, уже к сумеркам, то есть часа через три, я увидел стоящее перед тысячелетним кедром, разветвления которого сами по себе достигали толщины старых деревьев, а ствол был 22/3 сажени в поперечнике, очаровательное глухое бревенчатое жилье, с низкой дверью и железной трубой.
Измученный тяжестью поклажи, я толкнул ногой дверь. Она была не заперта, в бревенчатой хижине никого не было, но на столе, поставленном перед железной печкой, в проходе меж узких нар возле стен покоились следы жизни: недопитая бутылка водки, кружка, хлеб И пачка махорки. Разное тряпье – онучи и прочее – валялось на одной наре. В углу стояло шомпольное ружье. Как мне объяснил табельщик, что в этой избе живет только один дроворуб Илья, то я решил, что попал куда надо; действительно, скоро ввалился в избу огромный рыжий мужик, добродушный Геркулес с рыжей бородой, толстыми губами и глазками-щелками, слегка заикавшийся, его звали Ильей, а потому я успокоился; мы развели огонь, стали варить мясо, пить чай, водку и разговорились.
Узнав, что я впервые в лесу, Илья многое рассказал мне о том, как надо работать.
Во-первых, чтобы пилить двухручной пилой одному, надо снять вторую деревянную ручку, а зубья пилы развести с такой правильностью, чтобы левая и правая сторона их была пряма, как струна. Илья тут же осмотрел мою пилу и наточил ее напильником.
Во-вторых, приступив к дереву, надо смотреть, на какую сторону оно имеет хотя бы малейший наклон. Тогда делается с другой стороны глубокий надрез пилой по направлению желательной линии падения дерева, пила вынимается, и рубщик загоняет в щель клин, колотя по нему, пока дерево, накренясь, не начнет падать. При толстом стволе, когда почти нет места двигать пилу, пропиливают, сколько можно, но пропиливают также с противоположной стороны, ниже первого надреза. Затем действуют клином. Тонкие деревья подпиливаются с одной стороны и подсекаются топором с другой, ниже пильной щели. Впрочем, на другой день, когда пришел табельщик и отвел мне участок, Илья на деле показал все приемы рубки.
Стояло морозное утро. Оставшийся местами на четверть аршина толщины снег покрылся налетом, в который ноги мои проваливались; лапти были набиты снегом Выйдя рано утром, я дрожал; через час от меня валил пар, и рубаха стала мокрой. Я не сразу научился владеть пилой. Она заскакивала, упиралась, сгибалась, лишь опыт нескольких часов заставил слушаться пилу, ходить ровно и легко. Она была так остра, что разрез ствола толщиной в две четверти занимал не больше двух минут.
Свалив дерево, я отрубал сучья, отмеривал по стволу полуторааршинное расстояние и распиливал ствол на части, начиная с толстого конца. Затем колол эти круглыши, вгоняя в сделанную на конце обрубка топором трещину клинья, один за другим, пока круглыш не распадался. Для очень толстых деревьев я вытесывал добавочные сосновые клинья.
За куб дров завод платил шесть рублей сорок копеек. Только очень опытные дроворубы могли делать полкуба в день, и то в том случае, если попадался хороший участок: сплошь сосновый, толстоствольный и без поросли, очень затрудняющей возню с ноской и складыванием дров.
Работа оказалась неимоверно тяжела, так что я много раз бегал в хижину – то переобуться, то отдохнуть и пить чай. Мои ноги были всегда мокры к вечеру, лапти поэтому сушились над печкой.
А гигант Илья, выйдя до рассвета, возвращался в потемках, сделав свои полкуба, как детскую игру; он еще был в состоянии печь, – как он это называл, – «пельмени», но на деле просто плоские пироги из пресного теста с сырым мясом. От этих плохо пропеченных пирогов у меня происходило расстройство желудка, но Илья, напившись (именно напившись, как воды) водки, пожирал свою стряпню в огромном количестве и, заблагодушествовав, усердно просил:
– Александра, расскажи сказку!
Илья был моей постоянной аудиторией. Неграмотный, он очень любил слушать, а я, рассказывая, увлекался его восхищением. За дне недели я передал ему весь мой богатый запас Перро, бр. Гримм, Афанасьева, Андерсена, когда же запас кончился, я начал варьировать и импровизировать сам по способу Шахерезады. Если Илья видел, что я устал или не в настроении, он заботливо поил меня водкой (всегда четверть стояла у него под нарами) и кормил своими дымно пахнувшими «пельменями». Стоило посмотреть, как он, торопливо жуя и понукая – «Ну, ну… а царь что сказал?» – ревет, как бык, над «Снежной королевой» Андерсена, дико, до слез, хохочет над приключениями Иванушки-дурачка и задумывается, распустив толстые губы, над «Аленьким цветочком».
Иногда, уже улегшись и потушив лампу, я слышал его хриплый, заикающийся бас:
– Угробила она его, ведьма…
День шел за днем, а работа моя двигалась плохо. Мне попался скверный участок, ель и сосна, а ель, как известно, часто завита внутри штопором, так что раскалывать ее очень хлопотливо. Однако за две недели я нарубил куб и три четверти куба.
Иногда я тосковал и не мог работать. Снег везде сошел; запахи и сырость весны были тревожны; дремучий, молчаливый лес окружал меня, раздавались здесь только отдаленный звук топора Ильи и – изредка – треск в чаще неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дятла, скачок белки, хвост убегающей лисицы – всё это в течение дня, как события. Мальчиком я стремился к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не понимая, чувствовал, как такая жизнь, в сущности, мне чужда. Кроме того, у меня не было будущего. Босяк – лесной бродяга… чужой здесь и чужой там.
Речка, бывшая неподалеку, еще не вскрылась, однако сквозь лед начала проступать вода… Я ходил смотреть заготовленные для скидки дрова. По обоим берегам, составленные в три-четыре яруса[3], тянулись на несколько верст высокие поленницы, навезенные сюда еще прошлым летом. Они подступали к самому обрыву берега. Сброшенные в полую воду, дрова приплывали в заводскую запруду. За ближайший к воде ряд платили десять копеек за погонную сажень, второй стоил пятнадцать копеек, третий – двадцать пять копеек и четвертый сорок копеек. Впоследствии, хлынув сюда толпами из окрестных селений – даже и из дальних – мужики с бабами первый ряд сбрасывали почти мгновенно с помощью рычагов, сунутых под поленницу, но с другими приходилось трудно, а насколько труднее – расскажу дальше.
Время от времени я ходил за провизией, а Илья ездил в село за водкой и мукой.
Когда сошел весь снег, а лед начал постреливать, в нашу тесную хижину прибыло человек тридцать – мужики, бабы, парни и девушки – на скидку, которая ожидалась со дня на день. Все почти крестьяне приходили семьями.
Было уже так тепло днем и не совсем холодно ночью, что часть народа жила и спала у костров. Чтобы не терять времени, мужики, имевшие пилы, занялись рубкой, свалив для начала тот тысячелетний кедр, под шатром которого стояла наша хижина. Я не мог понять, зачем они взялись за это трудное и маловыгодное дело, так как лесу кругом было более чем довольно, а кедр мог дать самое большее полтора куба при затрате времени целой толпой всего дня. Хотя, действительно, кедр особо выделялся, своей громадой среди других пород он обращал внимание, весь его вид будто говорил «Я не для дров».
Дерево было окружено толпой, и его начали пилить со всех сторон в четыре пилы. Я ушел утром за провиантом и вернулся часа через три. Весь ствол кедра у корней был истерзан, испилен и изрублен. За толстые ответвления вверху были накинуты веревки, – валить кедр скопом, когда ствол прорубят достаточно. Я ушел работать, после чего, возвратясь к заходу солнца, увидел падение дерева. Его сердцевину не смогли дорубить, но собственная тяжесть кедра, покоившаяся теперь на слабом основании, в связи с тягой веревками, обрушила великана. Казалось, что упала целая роща. На другой день началась скидка, а дерево так и осталось лежать до неизвестных времен.
Между тем эти пятнадцать – двадцать человек, занявшись подлинной рубкой дров, легко могли бы поставить за день пять-шесть кубов и заработать рубля по два.
Лед шел с утра, за ночь он поредел, река поднялась до краев обрыва, и рабочие кинулись занимать участки. Десятник отводил столько, сколько просила каждая группа или семья. Мне дали, в общей сложности, сажен пятьдесят дальних и ближних дров. На другом берегу засуетились тоже артели, и река в лесу приняла вид битвы, куда ни взгляни, летели, кувыркаясь над ревущим течением, стаи черных поленьев, и гул ударов их по воде гремел, как пальба. Я никогда не видел такой исступленной, такой бешеной работы. Первые передние поленницы были сброшены быстро; началась мука над третьим, над четвертым рядом. Потому что теперь каждый бросок требовал меткости и основательного размаха.
Часть народа бегала по берегу, подбирая и сбрасывая в воду недоброшенное. Работающие оставались у реки до конца скидки ночью и лесу пылали сотни костров, возле которых отдыхали и ели, по спать никто не ложился три дня, разве самые немощные. Я работал день, ночь и утро следующего дня, сделав всего двадцать две сажени, больше не мог. Я был полумертв от изнурения.
Сильное эхо окрестностей сообщало ночью картине скидки характер дьявольской оргии, особенно когда на красном блеске костров, обвеянные дымом и речным паром, мелькали всклокоченные черные фигуры. Удесятеряя крики, гул ударов о льдины и воду бревен, тысячами летевших сверху в стремительный поток, полный водоворотов, эхо неистовствовало дико и оглушительно. Вверх и вниз по течению работали тысячи людей.
На четвертый день скидки утром я вышел из хижины. В лесу было тихо. Скидка окончилась. Я два дня просидел безвыходно дома, оправляясь после непосильного потрясения – зверски тяжелой работы.
Пройдя немного к реке, я услышал странные звуки – вздохи, стоны, шепот и причитания. Местами кусты шевелились. Это возвращалась наша партия, человек сто. Мужики шли с трудом, еле волоча ноги, опираясь на палки. Некоторые карабкались на четвереньках. Несколько баб сидело под кустами, они маялись, качая головой из стороны в сторону, или, наваливаясь животом на сложенные руки, тихо ревели. Лица всех были черны и истощены. Один парень лежал на спине, навзничь, с открытым ртом, быстро, часто дыша. Весь этот день и следующий вокруг нашей хижины был сплошной лазарет. Илья сильно исхудал, лицо у него почернело, опухло, но он был доволен, потому что выгнал тридцать рублей.
После скидки я работал три дня с одной партией по сплавке. Рабочие идут с острыми баграми по обоим берегам речки, сталкивая в воду застрявшие в траве и выплеснутые водой на берег поленья Иногда возле кустов образуются настоящие заторы. Их расталкивают. Так партия действует до самого завода – до огромной запруды, где плотно сбившиеся дрова буквально вытесняют воду, и по этому настилу может свободно пройти рота солдат.
С рассвета до вечерней зари я шагал по колено в ледяной воде и не схватил даже насморка, тогда как два раза лежал в вятской больнице больной суставным острым ревматизмом после пустяковой простуды. Я хорошо помню, что ноги мерзли только в начале дня, потом им становилось горячо. Ночью, ночуя в попутной хижине дроворубов, я, конечно, сушил портянки и лапти – как будто утром снова не предстояло проваливаться по колено в трясину и набухший по берегам рыхлый лед. Плата была один рубль в день.
Утром четвертого дня я остался там, где провел ночь, в доме-лавке, с квартирой табельщика, подобном первому, куда мной были уже сданы инструменты. Отсюда на легком самодельном плоте отправился в завод старик дроворуб, худой и егозливый человек; он взял меня на плот. Мы проскочили невредимо через десятки кипящих пеной порогов. Старик имел задачу сталкивать застрявшие на порогах дрова – целые поляны дров, и эта задача была благополучно выполнена.
Выехав в восемь часов утра, к закату солнца мы были уже на заводе. До сих пор я с удивлением и страхом вспоминаю быстроту плота, его утлость, мое тогдашнее бесстрашие и рассеянные по руслу зубы порогов, среди которых наш плот вертелся, как балерина. Но старик был хладнокровен, быстр и опытен. Он успевал отталкиваться от камней, сбивать дрова, зацепляться багром за камень и держаться так, покуда расталкивал дровяной затор, – закуривать, балагурить и править. Про этого-то самого старика, семидесятилетнего, хилого на вид, я потом слышал, что он работает исключительно одним топором и может выставить в день куб дров.
Получив расчет и прожив в заводском селе два дня, в избе старика плотовщика, поев хорошо пельменей, угостясь водкой, я получил расчет (рублей семь) и направился дальше.
Севастополь
I
Я приехал в Севастополь на пароходе из Одессы, где имел почти деловое свидание с Геккером, сотрудником «Одесских новостей». Я получил в Киеве явочный пароль: «Петр Иванович кланяется», кроме того, у Геккера мне советовали получить «литературу» для Севастополя. Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся».
Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета партии с.-р. Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры – предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея длинновязого» (кличка, которой окрестил меня Валериан – Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики.
Я провел ночь в дорогой гостинице, ожидая ежеминутно ареста, мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте. В каждом встречном я видел шпиона. Утром я сел на пароход в третий класс и через ночь был в Севастополе; по дороге у меня украли пальто.
Неподалеку от тюрьмы стояла городская больница. В ней был смотрителем один старик, бывший ссыльный, к нему я пришел со своим паролем, и он отвел меня к фельдшерице Марье Ивановне, а та отвела меня к Киске, жившей на Нахимовском проспекте. Киска была центром севастопольской организации. Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя, административно-ссыльного.
Учитель был краснобай, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возглашал – «Надо бросить бомбу!», или: «Когда же мы перевешаем всех этих мерзавцев!»
Киска выдала мне двадцать рублей, смотритель больницы пожертвовал свое старое ватное пальто с кучерявым сине-фиолетово-коричневым верхом, и я поселился на отдаленной улице, недалеко от тюрьмы, в подвальном этаже. Комната была пуста; ни одного предмета из мебели, там лежал один матрац. Я спал, ел и писал на полу. Утром меня будила игра часов за стеной, они вызванивали мелодию:
Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно. В роковом его просторе Много бед погребено.Впоследствии мне часто вспоминался перебегающий напев мелких колокольчиков, спокойный и безнадежный. Хозяйка, жена матроса, сказала мне, что этот будильник привезен из Болгарии. Несколько дней я ничего не делал, кроме того, что знакомился с Севастополем и участвовал в некоторых прогулках, так, однажды мы, то есть Марья Ивановна, Киска и я, ходили в Херсонес, смотрели на окрестности сквозь цветные стекла херсонесского монастыря и посетили небольшой археологический музей при раскопках древнего Херсонеса. Я спросил старика сторожа, увешанного медалями:
– А можете ли вы показать мне пуговицу от штанов Александра Македонского?
Сторож разгорячился:
– Тут много бывает публики, – сердито отчитал он меня. – Сколько народу ходило, а никто таких глупостей спрашивать не позволяет!
Всю дорогу обратно я слушал брюзжание надувшейся Киски, оскорбленной моей некультурностью и презрением к археологии. Действительно, мне было скучно в музее, среди мертвых вещей. Однако мне понравились вкопанные на перекрестках миниатюрных улиц Херсонеса огромные глиняные амфоры, жители собирали в них дождевую воду.
Киска имела связи среди рядовых крепостной артиллерии и матросов флотских казарм. Сама она была выслана из Петербурга в Севастополь на три года под надзор полиции. Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел.
Дело происходило в октябре 1903 года, после многих забастовок и демонстраций по таким крупным городам, как Одесса, Екатеринослав, Киев и другие. Однажды ночью на Артиллерийской слободке состоялось первое мое свидание с рядовым Палицыным, невзрачным рябоватым солдатиком. Через Киску он распространял в казармах революционную литературу Киска, бывшая тут же, убедила Палицына созвать собрание рядовых, на котором я должен был с ними говорить.
На другой день поздно вечером я встретил Палицына, как мы условились заранее, в одном закоулке, и он провел меня тайным путем в казарму, вернее – в небольшое строение около береговых укреплений. Из предосторожности огонь не был зажжен; собрание произошло в полной тьме, где блестели только искры махорочных папирос. По-видимому, народу было много, так как дышалось и ступалось с трудом. Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лестную для меня вещь, оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и воскликнул:
– Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!
Такие собрания повторялись несколько раз, но они происходили, ввиду осведомленности начальства о первом собрании, на пустырях, за первым от Севастополя железнодорожным туннелем.
Среди матросов особенно выделялся своей популярностью, конспирацией и энтузиазмом один ефрейтор машинной команды, сормовский рабочий. Его прозвище было Спартак. Это был худощавый человек лет тридцати, со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый. Моя задача, как внушила мне Киска (ее прозвище для кружков было Зоя, Киской ее звали городские знакомые), состояла в том, чтобы привлечь Спартака на сторону социально-революционной партии. Спартак симпатизировал эсерам, однако его отталкивал от их программы так называемый «индивидуальный террор»; этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой с.-д. Я несколько раз встречался с ним на квартире у Киски и за двором флотских казарм, однако вполне его переубедить не мог. Иногда, казалось, он соглашался, а затем, встретясь другой раз, довольно стройно и доказательно спорил.
Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор. А так как в Севастополе был комитет с.-д. партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартака с той стороны было сильнее нашего. Между тем залучить этого человека было бы крайне выгодно: матросы слепо доверяли ему; на какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы. Раздумывая и колеблясь, Спартак поступал мудро, как Соломон он устраивал собрания равно для с.-р. и с.-д., а сам, присутствуя на них, слушал, сравнивал и решал. Впоследствии он окончательно примкнул к с.-д. партии.
II
Стояла прекрасная, задумчиво-яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня.
Между тем я побывал на Историческом бульваре, Малаховском кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские паруса, и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зелёной травой. Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города: Лисе, Зурбагап, Гель-Гью и Гертон.
От Графской пристани на Северную и Южную стороны, через бухту, ходили пассажирские катеры, на них я ездил к собиравшимся среди пустырей матросам Спартак встречал меня в условленном месте и приводил в пункт, где, казалось, никого нет. Спартак условно свистел, тогда из-за кустов, бугорков, камней вдруг поднимались десятки матросов; они сходились, и начиналась беседа. Матросы, на всякий случай, брали с собой водку, гармонии и балалайки, чтобы внушить полиции, если она появится, невинную мысль о безобидной пирушке.
Если Спартак видел, что матросы слушают меня вполне одобрительно, он исправлял впечатление, наводя «критику» и ставя вопросы в духе с.-д.; но однажды я его побил в споре.
– Конечно, – сказал он, – я меньше вашего учился и не могу хорошо говорить, а чувствую, что прав – я.
Через несколько дней возник вопрос: съездить в Саратов за революционной литературой. Почти немедленно за этим стало известно, что Спартак уезжает в отпуск, что искуснейшие эсдеки едут с ним, желая окончательно вырвать его из рук еретиков эсеров, и Киска потребовала, чтобы я разыскал в поезде, полном матросов, Спартака. Я должен был уговорить его остаться на несколько дней и употребить все усилия, чтобы склонить его на спою сторону.
Поезд отходил через час. Киска ждала меня на Историческом бульваре. Я обошел все вагоны, вглядываясь во все лица, даже решался опрашивать матросов, но нигде не нашел Спартака. Совершенно измученный, я выскочил из поезда после второго звонка и пришел к взбешенной Киске также в состоянии крайнего раздражения подобное соперничество из-за одного человека, хотя бы и нужного, казалось мне унизительным. Киска сказала:
– Я вам говорила, что его прячут! Прячут от нас. Вы должны были сделать это во что бы то ни стало.
Таким способом от меня трудно добиться чего-нибудь. Мы расстались не попрощавшись. На другой день я поехал в Саратов, взял там кипу революционной литературы и захватил случайно оказавшегося в городе эсера, семинариста Пятакова из Пензы. В 1902 году Пятаков вместе с другими комитетчиками организовал мой побег из Оровайского батальона (я был рядовым).
– Поехал бурсак по свету, – сказал Пятаков, вваливаясь в вагон.
Это был покладистый молодой человек с вполне бурсацким аппетитом и большой, большей, чем у меня, эрудицией. В Севастополе он вел пропаганду среди солдат. На обратном пути в третьем классе Харьковского вокзала за стол против меня сел молодой человек в форме Гензарского батальона из Пензы. Он приглядывался ко мне. Я думал, что меня арестуют. Но офицер сказал:
– Не бойтесь. Я вас знаю вы – Гриневский? Вы бежали в прошлом году, предварительно разбросав прокламации? (Точно: я разбросал их.)
Что-то мне подсказывало признаться.
– Ничего. Я вам сочувствую! – сказал офицер, протянул мне руку и ушел.
Покачиваясь от не прошедшего вполне страха, я разыскал Пятакова, евшего колбасу с булкой, сидя на верхней полке вагона, вскоре затем раздался успокоительный звонок. Следовательно, офицер не солгал.
III
Вернувшись, в Севастополь, я застал у Киски ее младшую сестру, жену художника Теренина, сына сибирского миллионера. Теренин жил в Швейцарии, оттуда и приехала сестра Киски. Вскоре приехал из Петербурга брат сестер, Леонид, студент, со своим приятелем Ровногубом. Через несколько дней все они поселились на Артиллерийской улице: Киска в комнате небольшого дома, а студенты в доме напротив, в одной из очень хороших квартир. Я продолжал жить на своем матраце, слушая по утрам «Нелюдимо наше море», и у меня никогда никто не бывал. Литературу я хранил у себя. Пятаков поселился неподалеку от Артиллерийской, почти в центре города. Как он, так и я, жили на деньги комитета.
К тому времени в Севастополь приехал Быховский (Валерьян) – живой чёрненький человек, любивший, если его сравнивали с Оводом, героем известного романа, и пытался взять в свои руки бразды правления. Однако с Киской он сладить не мог, да и я уже пользовался известным авторитетом. Валерьян очень меня любил, – думаю, любит и сейчас. Однако это не помешает мне сказать, как он с Марьей Ивановной отправились по делам в Ялту (за сбором денег), а оттуда бежали от полиции через горы пешком в Севастополь. Чрезвычайно гордые своими приключениями, сидели они в гостиной квартиры Леонида и Ровногуба. Леонид играл вальс Разаса «Над волнами», и весь этот маленький мир безыскусственно смелых людей как бы отдыхал перед грозой…
Гроза разразилась через несколько дней…
Для меня было устроено на Южной стороне смешанное собрание солдат и матросов. Странное, никогда не испытанное и ничем решительно не оправдываемое чувство удерживало меня от поездки. Это было тягостное предчувствие. Я пришел к Киске и сказал, что ехать не могу. Как я ни объяснял, в чем дело, Киска требовала, чтобы я ехал, в конце концов назвала меня «трусом».
При таких обстоятельствах мне ничего больше не оставалось, как пойти на Графскую пристань, к катеру. Не успел я спуститься на площадку, как подошли ко мне два солдата Палицын и его приятель. Я знал и того. Едва успел я спросить о чем-то по делу, как из-за спины моей вырос, покручивая усы, городовой.
– Разговариваете? – мирно, словно вскользь, спросил он.
– Да, – ответил я, и вдруг мои ноги начали ныть.
Сердце упало.
– А не прогуляться ли нам в участок? – так же спокойно продолжал городовой.
Я посмотрел на солдат:
– За этим мы и пришли… – был тихий ответ.
Городовой свистнул. Подошли еще двое полицейских. Солдаты исчезли (как я узнал впоследствии, они были уже арестованы и, не зная ни моего имени, ни адреса, ходили при полицейских по городу, чтобы опознать меня). Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили Грина в тюрьму. Никогда мне не забыть режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника «Нелюдимо наше море».
IV
Я был арестован 11 ноября 1903 года. Вышел из тюрьмы по амнистии 20 октября 1905 года.
Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей и четырех коридоров-галерей с панелями по обе стороны, сверху донизу сквозь все этажи видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лесенки, соединяющие этажи. В каждом коридоре-галерее дежурит суточно надзиратель. Меня поместили в камеру четвертого этажа и через час вызвали на допрос.
Когда я вошел в канцелярию тюрьмы, там были уже прокурор, жандармским полковник и еще какие-то чины, человек пять. Я отказался давать показания, единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я – беглый солдат. О всем прочем из меня не могли добыть ничего, хотя усердно грозили каторгой и даже виселицей.
Вновь отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег. На другой день вечером окошечко камеры откинулось, упала свернутая записка, окошечко быстро захлопнулось. Записку бросил уголовный арестант-уборщик, уборщики свободно разгуливали по коридорам и оказывали политическим важные услуги. Записка была от с.-д. Канторовича, провизора местной аптеки. Канторович был арестован уже две недели; я однажды встретился с ним у Киски. Канторович писал, что я могу давать уборщику записки для города, арестант будет передавать их ему, а он, через одного надзирателя, наладит сношения с «волей». В записке были указания, как писать шифром – цифрами и посредством книги.
В течение следующих десяти дней завязалось дело с побегом, едва не стоившее мне жизни. Я сносился с Киской записками через одного молодого, уже спропагандированного Канторовичем надзирателя, надзиратель стал скоро сам приходить ко мне, исполняя мои поручения. Кроме того, Киска, а затем ее брат несколько раз являлись на улицу, против тюрьмы, выговаривая маханием платка (по известной азбуке) нужные фразы; я через окно отвечал им такой же сигнализацией.
Пока шли эти переговоры, из Петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью – объявить Севастополь на военном положении, хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд, но этот номер почему-то не прошел. Вызванный предстать перед ней в канцелярию, я увидел четырех генералов с весьма опасными лицами, но отвечать отказался. Тогдашний контр-адмирал поклялся, что «сгноит меня в тюрьме».
Между тем Киска добыла на побег тысячу рублей. Было куплено парусное судно, чтобы отвезти меня на нем в Болгарию; за сто рублей был подкуплен извозчик, на котором должен был я, перебравшись через стену тюрьмы, скакать к отдаленной бухте, где ожидало судно.
В назначенный день в точно высчитанный час моей прогулки по двору тюрьмы (после обеда, около двух часов) на соседний двор, где помещалась баня и прачечная, около здания бани перекинулась завязанная узлами веревка. Случилось непредвиденное: неожиданно в этот самый день, на дворе прачечной-бани арестантки развешивали белье; его ряды висели на многих веревках, мешая быстро пробежать через открытую калитку к высокой тюремной стене…
По случаю холодного дня я был в пальто, но пальто накинул на плечи, чтобы удобнее было его сбросить, а в кармане я держал пачку нюхательного табаку, чтобы засыпать им глаза надзирателя, тем предупреждая его погоню за мной в соседний двор. Багроволицый усач, помощник смотрителя, вышел на крыльцо тюрьмы, увидел, как я нервно верчусь взад и вперед, и, должно быть, что-то заподозрил, так как проворчал весьма недвусмысленные слова. К огорчению моему, веревка, перекинутая через стену, оказалась тонким шпагатом, я же просил толстую веревку; узлы на ней были завязаны не менее как на три фута один от другого… Я убедительно просил завязать узлы не более как на футовом расстоянии.
Время шло. Уже прошло минут пять, что перебросилась через стену веревка, ее видели не только я, но и арестантки на соседнем дворе. Помощник не уходил с крыльца. Я дошел до калитки, сбросил пальто и, путаясь под хлещущим по лицу мокрым бельем, пробежал к стене. Я схватил веревку, уже слыша сзади крики: «Держи, держи! Стреляй!» – и потянул, но, к ужасу моему, веревка свободно валилась вниз… Вдруг она натянулась.
Попытка взлезть на полуторасаженную стену по новой, очень тонкой, веревке кончилась неудачей хотя оставалось мне взобраться лишь на аршин, чтобы протянуть руку к гребню стены (причем я здорово ободрал ладони!), как за самой спиной щелкнул курок, и помощник крикнул.
«Стреляй его! Стреляй, сукин сын!»
Я спасся тем, что, выпустив веревку, упал в траву. Меня с ругательствами отвели в карцер, где, впрочем, я пробыл всего два часа, так как очень быстро явились прокурор и жандармский полковник – допрашивать о побеге. Надо кстати сказать, что Леонид и Ровногуб благополучно удрали, перебравшись через Болгарию на «моем судне» во Францию, об их жизни там в «Русском богатстве» за 1910 (кажется) год есть ряд очень интересных очерков Евг. Синегуба.
Раздавленный и уязвленный неудачей, я чуть-чуть не попался на удочку прокурора, когда тот довольно мягко спросил:
– Нет ли у вас знакомых, которые могли бы ходить к вам на свидание?
Уж я открыл рот, но… – о чудо! – старый, изъеденный сифилисом и водкой щучелицый жандарм чуть слышно кашлянул, – и я увидел по его взгляду, что попадусь.
– Нет! – сказал я. – У меня нет никого – ни родных, ни знакомых.
Загадка человеческого сердца! Что подвинуло жандармского полковника предостеречь меня, своего врага? Я никогда этого не узнал и даже до сих пор не могу догадаться, в чем дело; разве лишь то, что прокурора он ненавидел более, чем меня, и не хотел, чтобы тот получил хотя бы какой-нибудь триумф посредством допроса? О побеге я сказал, что показаний об этом давать не буду.
Меня, в виде наказания, сунули в нижнюю камеру. Там решетка была на уровне с землей. Затем в течение месяца я переходил всё выше и выше, пока снова не достиг четвертого этажа, следствие было кончено, режим тюрьмы был свободным, и я сидел одно время с Крюковым, четырехлетним мучеником. Это был студент, осужденный на поселение за хранение нелегальной литературы. Так как его подозревали в пропаганде среди войск, то и проморили в тюрьме целых четыре года. Скоро он отправился в ссылку.
V
По просьбе заключенных начальство охотно сажало их вдвоем, так, например, я одно время сидел с Канторовичем.
Около декабря Киску, по подозрению в участии в моем деле[4], выслали этапом в Архангельскую губернию. Оттуда она перебралась в Швейцарию.
Совместное сидение хуже, чем одиночное; измученные люди вскоре начинают раздражаться, ссориться, и начальство вновь разделяет их. Но сидеть одному очень тоскливо, а потому вновь возникают просьбы о помещении с кем-нибудь вдвоем.
Наши камеры были неравной величины: угловые – побольше, неугловые – темные каморки с выкрашенными до половины в серый цвет стенами, представляющими смесь грязных белил с карандашными и высеченными надписями прежних жильцов. На асфальтовом полу, у стены, помещалась железная койка с соломенным матрацем, соломенной подушкой и одеялом серого грубого сукна. Постельное белье было из холста. У дверей помещалась параша, ведро с крышкой, вделанное в серый табурет. У окна ставилась на полочку жестяная керосиновая лампа, горевшая всю ночь.
Понятно, какой воздух был в камере зимой: тут смешивались запахи керосиновой гари, параши и табаку Политические пользовались разрешением носить свою одежду и белье. Кто сидел и третьем и четвертом этажах по переднему фасаду, тот обыкновенно целые дни торчал на табурете перед окном, рассматривая протекающую на улице свободную жизнь: пешеходов, извозчиков, посетителей, идущих по двору на свидание или для «передачи». У меня не было ни свидании, ни передач; но я несколько раз получал по почте от друзей небольшие деньги, раз получил две смены белья и носки.
На собственные деньги заключённых, хранившиеся в конторе, мы каждый день, вечером составляли список покупок, – их утром приносил и раздавал надзиратель. Против тюрьмы, на углу, была бакалейная торговля, где можно было купить томаты, брынзу, колбасу, чай, сахар, табак и белый хлеб. Но я редко мог баловать себя такими вещами, а тюремная пища была всегда одна и та же: кислый борщ с мелко нарезанными кусочками коровьих голов да пшенная каша с бараньим салом. При полуторе фунта в день черного хлеба, при ужине из чашки жидкой пшенной кашицы я часто бывал впроголодь. Утром в шесть часов давали кипяток, слегка подкрашенный чаем, и два куска пиленого сахара.
После чая дежурный уголовный арестант вносил мокрую швабру, которой я протирал пол, потом выносил парашу в уборную. В девять часов происходила «поверка», обход камер начальником или старшим надзирателем, то же повторялось после семи часов вечера. Два раза в день в неопределенно изменяющиеся часы мы должны были «гулять», то есть ходить взад-вперед по двору перед тюрьмой.
Итак, это была так называемая «открытая» тюрьма. Иногда надзиратели после вечерней поверки (случалось, даже днем) впускали нас друг к другу в камеры или открывали откидные форточки дверей, просунув наружу голову, мы могли видеть сидящих на противоположной стороне коридора знакомых. Завязывались разговоры, дискуссии, наконец – просто болтовня.
Наиболее свободный режим был месяца два при новом начальнике, частном приставе (старый чахоточный начальник умер). Этот апоплексический солдафон тоже умер – от «кондрашки». Он обыкновенно почти не выходил из лазарета, где пил с фельдшерицей водку и вызывал туда более покладистых политических для разговоров о «высоких материях». Он умер, должно быть, потому, что круто переменился образ его жизни: двадцать лет пристав кричал в своем участке, распекал, бил, грозил, а тут сразу попал в сонную тишину канцелярии[5].
Так или иначе, при этом странном либерале двери наших камер даже не запирались; мы разгуливали в гости друг к другу с утра до вечера.
VI
Прошел год.
Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое горе при пробуждении! Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму «Подай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так. На свои прошения я не получал ответа, а прокурор, когда бывал в тюрьме, говорил, что следствие не закончено.
Я не оставлял мысли о побеге, придумывал планы, один другого сложнее и запутаннее.
Сидя в четвертом этаже, я мечтал пробить потолок, чтобы вылезть на чердак; я сидел тогда вместе с учеником Мореходных классов, эсдеком, я всячески подбивал как его, так и других, но встретил довольно вялое отношение. Сидя с Канторовичем, я почти увлек его планом размягчения известково-ноздреватого камня стены сверлением скважин и вливанием туда серной кислоты, но эта затея рассеялась – кто же мог доставить нам кислоту? Напасть на надзирателя, заткнуть ему рот, надеть его форму, отобрать ключи, взорвать стену во время прогулки динамитом, устроить подкоп, рискнуть пробежать в открытую калитку (когда впускали кого-нибудь) – всё были передумано; всё было – и осталось – в мечтах.
Между тем более практичные уголовные бегали, не мудрствуя лукаво, несколько раз. Всего, за два года, было шесть побегов. Один бежал, разогнув ночью поленом прутья решетки; другой, когда мылся в бане, надел вольную одежду, оглушил надзирателя кулаком, выскочил, влез по сточной трубе на крышу – и был таков; я видел сверху, как он перебегал площадь, четыре человека бежали днем во время прогулки очень просто: их товарищи кинулись к стене, составили телами живую лестницу, по которой беглецы вскочили на гребень в один момент.
Каждый раз колокол бил набат, надзиратели выбегали из ворот, ловить арестантов, но сделать это сразу не удавалось никогда, кое-кто из беглецов был задержан уже впоследствии, через несколько дней.
Хорошо бежал с.-д. Фельдман, впоследствии бывший на «Потемкине». Он просидел ровно три дня. На третий день приехали жандармы и увезли его на допрос. Фельдман, естественно, не вернулся, а жандармы, естественно, были неестественные.
VII
Я сказал, что никто не приходил ко мне в тюрьму. Это не совсем верно. Вскоре после моего ареста политических заключенных вздумал посетить архиерей из Симферополя. Это был дородный высокий человек с зычным голосом. На свою беду, он зашел ко мне первому. После неудачного побега я был в мрачном отчаянии. Архиерей вошел, сопровождаемый тюремным начальством, и с места в карьер сказал что-то высокомерное.
– Вам незачем приходить сюда, – сказал я. – Мы не дикие звери, чтобы смотреть нас из пустого любопытства.
Архиерей отступил и укоризненно покачал головой.
– Нет! Вы и есть дикие звери – заявил он, поворачиваясь уходить. – Я думал, что вы – люди, а теперь вижу, что точно – вы есть звери!
Он ушел, ни к кому больше не заходил, а через час меня вызвали в канцелярию.
– Зачем вы обидели батюшку? – строго спросил начальник.
Я только махнул рукой.
На втором году моего сидения в тюрьму пришел другой архиерей – старенький, сгорбленный, лукавый; он долго бранил меня за то, что я много курю (в камере стоял дым, как в кочегарке), и, уходя, стянул с полки мою четвертку табаку; я видел, как он ловко стянул ее, спрятав в рукав, по ничего не сказал. Еще как-то раз меня посетила, проезжая из Анапы, сводная моя сестра, оставила мне рубль, просидела с час и ушла.
Летом 1905 года состоялся первый суд – военно-морской. Судились – я и шесть солдат – артиллеристов. Защитником приехал А. С. Зарудный; он был у меня в камере, без свидетелей, три раза и посоветовал, если я хочу хоть сколько-нибудь «благополучного» исхода дела, не говорить суду ничего, совершенно ничего, кроме ответов на вопросы об имени и гражданском состоянии.
Заседание в здании военно-морского суда началось с утра и продолжалось до шести часов вечера, с двумя перерывами. Как рядовой, я должен был стоять не присаживаясь, не имел права курить, отвечать должен был «так точно» и «никак нет!». Я устал как собака.
Прокурор требовал для меня двадцати лет каторжных работ Зарудный произнес блестящую речь. Но обстоятельства дела были слишком очевидно против меня. После заседания некоторые офицеры-судьи благодарили его за то, что своей речью он многое объяснил им в отношении целей революционной работы.
Прокурор проиграл меня приговорили к бессрочной ссылке на поселение и отдаленнейшие места Сибири. Как ни странно, я был рад и этому. Из ссылки я надеялся убежать. Солдаты были приговорены частью в дисциплинарный батальон, частью – в каторжные работы на срок до шести лет.
Но мне предстоял еще один суд. Гражданское следствие объединило общим процессом меня с эсдеками, составив дело о революционной агитации среди рабочих. У меня нашли несколько таких же брошюр, какие были арестованы среди с.-д., и этого оказалось достаточным, чтобы судить меня вместе с Канторовичем и другими свезенными в Феодосию из разных городов Крыма эсдеками.
Заседание Судебной палаты было назначено в Феодосии, где я теперь живу с 1924 года и где тщетно искать хотя каких-нибудь следы старой тюрьмы; вся она растащена по частям, и на площади, где она когда-то была, появились небольшие домики, составленные из ее погибшего корпуса.
Меня с Канторовичем привезли на пароходе под конвоем в Феодосию, в большой нижней камере, куда мы были помещены, сидело уже человек восемь. Вскоре приехали из Петербурга защитники; среди них помню Грузенберга. Как бы в предчувствии осенних событий 1905 года, режим тюрьмы был в высшей степени свободный: камеры не запирались, политические ходили по коридорам и по двору, когда хотели.
Рассчитывая бежать, я склонил четырех человек устроить подкоп из камеры через узкое расстояние (не более сажени) между стеной корпуса и наружной стеной, но как быстро охладели мои соучастники! Правда, они достали с «воли» пилу-ножовку, саперную лопатку и пилку от лобзика, однако, когда дошло до дела, работать пришлось одному мне. Я выпилил кусок доски деревянного пола и хотел начать рыть, как другие заключенные стали просить оставить эту затею многим из них предстояло выйти на поруки и под залог; иные полагались на искусство адвокатов. Они боялись, что возни с подкопом, если она откроется, может им повредить.
Я вставил выпиленный кусок доски на прежнее место и придумал другое: пилкой лобзика я перепилил прут решетки. Теперь никто не соглашался бежать со мной: все ждали суда. Я не хотел идти против скрытого неодобрения своих сокамерников. Должно быть, среди нас был осведомитель, так как неожиданно днем в камеру явился надзиратель и начал стучать по решетке. Однако пропиленное место прута так было незаметно замазано мною варом, что надзиратель ушел ни с чем.
Каждый день происходили беседы с защитниками; каждый день толпа знакомых, родственников и подставных «невест» приходила на свидания, которые давались в конторе тюрьмы всем сразу; тут можно было, на глазах надзирателя, вручить записку, посекретничать, уговориться о чем угодно. Всего сидело тогда человек пятнадцать.
Мне тоже устроили «невесту», и раза три в тюрьму приходила совершенно мне незнакомая, страшно смущавшаяся, простенькая девица, а я смущался еще больше, чем она, так что разговор не клеился. Она добросовестно являлась в зал судебного заседания, при выходе из суда дала мне букетик цветов, и больше я ее не видел.
Благодаря усилиям адвокатов на первом же заседании палаты слушание этого общего дела было отложено. Канторович и многие другие выпущены на поруки или под залог, а я дня через три судился отдельно и по доказанности обвинения получил год тюрьмы. Это наказание покрывалось, конечно, бессрочной ссылкой.
В тюрьме остался один я. Меня посадили в камеру второго этажа. Она не запиралась. Я целые дни бродил по двору, подружился с маленькой девочкой, дочерью начальника, и собакой-овчаркой. Канторович некоторое время оставался в Феодосии. По моей просьбе он принес мне съестную передачу, табак и пять штук огромных машинных гвоздей. Будка, у которой дежурил часовой-солдат с винтовкой, помещалась рядом с деревянным сортиром, между будкой и оградой было узкое расстояние.
Я сделал из гвоздей «кошку», из казённых простынь и своего белья скрутил толстую верёвку, завязав на ней частые, большие узлы, приладил к одному концу этого каната свой якорёк, спрятал орудие бегства под полу пиджака и вышел во двор гулять. Походив некоторое время, я сделал вид, что захожу в сортир, а сам шмыгнул за будку и перекинул через железный кровельный гребень стены «кошку». Она зацепилась прочно. Тотчас я полез в стену, и уже схватился за гребень, как верёвка лопнула и я свалился вниз. Обрывок болтался вверху, на гребне. Солдат выглянул из-за будки и растерялся. Он стоял, тупо смотря, как я, смотав оставшийся у меня обрывок, перекидывал его.
– Не смотри! Не смотри! Отвернись, такой-сякой! – кричали солдату уголовные с верхнего этажа, видевшие мою горькую попытку бежать.
– Беги в камеру! – сказал солдат. Он подошёл к стене и штыком скинул висящий обрывок на сторону пустыря. Весь дрожа от отчаяния, я ушёл, лёг на койку и заревел.
Дело это не открылось бы, если бы начальник, возвращаясь из города, не заметил валяющуюся у стены «кошку». Он прибежал ко мне, долго бушевал и грозил карцером, упрекал меня в «неблагодарности» и потрясал перед моим лицом «кошкой». Вначале я отпирался от всего, но потом, разозлясь, заявил:
– Вы принимаете все меры, чтобы не выпустить нас отсюда. Почему мы, в таком случае, не можем принимать все меры, чтобы бежать? Ваша задача – одна, наша – другая.
С этого дня я был заперт на ключ, лишён прогулок и книг, а через три дня, как «опасный», я был увезён снова в надёжную севастопольскую тюрьму.
Я вышел лишь 20 октября, после исторического расстрела демонстрации у ворот тюрьмы. Адмирал согласился освободить всех, кроме меня. Тогда четыреста рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрашивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму. Через двадцать четыре часа после такого своеобразного бунта всех нас вызвали в канцелярию, и я получил наконец свободу.
Каждый день я проводил в квартире того ссыльного учителя, который пугал людей на улице страшными возгласами. К нему приходили как в штаб-квартиру. Однажды десятилетняя девочка, дочь учителя, взяла лежавшую среди другого оружия заряженную двустволку. Я мирно разговаривал со Спартаком. У самого моего уха грянул выстрел, заряд картечи ушел глубоко в стену, а девочка, испугавшись, бросила ружье и заплакала. Она призналась, что уже прицелилась в меня (это в двух-то шагах!). Но, неизвестно почему передумав, прицелилась мимо моей головы; однако мне обожгло ухо. Она думала, что ружье не заряжено.
Общее волнение очевидцев ничем не отразилось на мне. Я остался спокоен и вял, что объясняю сильной психической реакцией после освобождения. Действительно – свобода, которой я хотел так страстно, несколько дней держала меня в угнетенном состоянии. Всё вокруг было как бы неполной, ненастоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума.
Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой….
Рассказы 1929-1930
Комендант порта*
I
Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали, подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.
Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.
– Том Ластон! – воскликнул Комендант веселым, дрожащим голосом. – Я так и знал, что опять увижу рас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там… далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?
– Кутгей! – крикнул Ластон в пространство. – Пришел Комендант. Что?
– Гони в шею! – прилетел твердый ответ.
Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.
– Ну вот, сразу в шею! – отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел, как складной. – Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.
– Чего шутить! – сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий. – Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.
– Я только что с «Абрагами Репп», – залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара. – Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?
– Кури, – сказал Кутгей, суя старику черную сигарету. – Держи крепче своей лапкой – уронишь.
– Ах, вот и господин капитан! – вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр. – Добрый вечер, господин капитан! Добрый вечер, бесконечно уважаемая и… гм… Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье… в наилучшем состоянии?
– А… это вы, Тильс! – сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом. – Еще держитесь… Очень хорошо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню, к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.
– Так это вы и есть? – улыбнулась молодая женщина. – «Комендант порта»? Я о вас слышала.
– Меня все узнают! – старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой – доллар и тросточку. – Моряки великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу… как… как… как…
Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им вслед фуражку, докончил, обращаясь к Ластону:
– Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.
Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был, наконец, уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовая сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.
Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.
Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигарету, Комендант правильными мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.
– Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! – сказал он, наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе. – Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.
– Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер, – ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости. – Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм… Я уже был на «Стелле». Тогда там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне… ну да… недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что… Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему… к бравым морякам… к палубе… Но это у меня всегда, и вы знаете…
Тильс, загрустив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.
– Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик, – сказал Бутлер. – Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!
Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно воззрился на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «ам». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.
– Еще?
– Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» – хороший пароход, очень хороший, – говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась. – Ее спустили со стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне», я видел его вчера в гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что, – говорит Черлей, – у меня счеты неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах, – говорит Ватсон, – да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после… одного дела. Так вот, он сказал: «Зазубрину» не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол! Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда говорил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол…
– Конечно, Комендант, – сказал Ластон, появляясь в дверях кухни, – ты навел бы у них порядок.
– Естественно, – подтвердил Тильс. – Даже очень. Естественно.
Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона – «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны «Боливия», и тогда повар нашел, что пора выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинялся ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:
– Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.
Тильс съежился и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.
– «Пилигрима» я знаю, – залепетал Тильс жалким голосом. – Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса… ход двенадцать узлов… Естественно.
– Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам, – притворно серьезно сказал повар.
Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.
– Я лучше пойду домой, – сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза. – Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел…
– Вот история! – воскликнул Бутлер. – Уже и по шел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!
– Нет, нет, нет! Я должен, должен идти, – торопился Тильс, – потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.
– А отсюда вы куда? – сказал, входя, молодой матрос Шенк.
– Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой…
– Матушки, чтобы вы не сбились, – отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица – Пегги Скоттер.
– Пегги Скоттер? – шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не труся больше перед толстыми канатами «Рекорда». – Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица, клянусь выстрелом в сердце! Я вам говорю, что знаю ее.
– Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что при шел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврика», где сидят наши, и сообщил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете; вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?
– Правда, – решительно сказал Ластон, двинув ногой.
– Правда, – согласился, помолчав, Бутлер.
– Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост. – учил Шенк.
– Да, тянуть хуже, – поддакнул Бутлер. – Отрезал и в сторону.
Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.
– Дело в том, – снова заговорил Шенк, – что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант по-мер от чу-мы в Эно.» Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться.
– Да. Сразу! – хрипло крикнул Тильс и тронул ножкой. – Смело и мужественно. Сердце чертовой девки – сталь. Настоящее морское копыто! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.
II
Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.
Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.
– Смотрите, Мели, пришел Комендант, – сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде. – Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!
Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно таинственному лицу.
– Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда… – начал Тильс, но замигал и тихо докончил: – Надеюсь, рейс был хорош… Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?
– Хотите, Комендант? – сказала Пегги, протягивая ему бисквит. – Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома… без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.
– Благодарю вас, – сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман. – Да… Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! – вдруг вырвалось у него.
Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.
Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.
Тильс не мог решиться договорить, – за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засеменил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.
Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и, наконец, ударила рукой о мраморную доску буфета.
– Дура я, что не остановила его! – проворчала Пегги. – Он чем-то меня встревожил.
– Разве вы не поняли, что Комендант пьяненький? – сказала Мели. – От него пахло, я слышала.
Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок.
– Вот и я, девочка, – сказал Тильс, появляясь, наконец, дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной. – Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте, – говорит мне капитан. – Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это… Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались… слезы, крик… Я ушел.
– Вы ничего не сказали Пегги, братец, – отозвалась Ревекка. – Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.
Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел, – он умер оттого, что закашлялся, поперхнувшись супом. Тильс кашлял и задыхался так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег и через два дня не встал.
– Чего-то не хватает, – сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера. – Кто теперь расскажет нам разные новости?
Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснорожий.
– Здорово! – загремел он, махая дикого вида шляпой. – Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!
– Кто ты есть? – спросил Бутлер.
– Комендант порта! Тильс сдох, ну… я за него.
Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.
– Прощай! – сказал матрос. – Больше не приходи.
– Странное дело! – возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние. – Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить, – воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!
– Нет, нет, – ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон. – Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».
1929 г.
Пари*
I
– Это напоминает пробуждение в темноте после адской попойки, – сказал Тенброк, – с той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки.
Спангид поднял голову.
– Мы приехали?!
– Да. Но куда, интересно знать?!
Тенброк сел на кровати. Спангид осматривался. Комната заинтересовала его – просторное помещение без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор – трудно было сказать.
– Не отравился? – спросил Тенброк.
– Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье, – отозвался Спангид, все еще осматриваясь. – Который час?
– Часов нет, – угрюмо сообщил Тенброк, обшарив ночной столик. – Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари.
– В таком случае, я буду звонить.
Спангид нажал кнопку стенного звонка.
Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Окно было из матового стекла.
– Даже это предусмотрено! – воскликнул Тенброк, бросаясь к второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол. – Слушай, Спангид, я нетерпелив, любопытен; пари непосильны для меня. Кажется я спрошу! Однако… пять тысяч?!
– Как хочешь, но я выдержу, – отозвался Спангид, – хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что, если бы не возможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас спросил бы.
Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта.
– Следовательно, еще нет шести часов утра, – сказал он, с облегчением хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая. – Вероятно, Таулис еще спит.
– Пусть спит, – отозвался Спангид. – У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно можем мы сейчас лежать в одном из прирейнских городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Иоллостон-парка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал 93 пункта? Угадать немыслимо. Нет матерьяла для догадок. В шесть часов вечера, согласно условию пари, Таулис даст нам съесть по серой пилюле, и, спустя какое-то, небудущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсонова кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за пять тысяч глаза, устроим наши дела, и, месяца через три, добрая душа – Томпсон – может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью смотреть и быть ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?..»
– Проклятие! Это так, – сказал Тенброк. – Я понимаю тебя; тебе свалилась на плечи куча сестриц и братцев, которых надо поставить на ноги, но зачем я… У меня солидное жалованье. Знаешь, Спангид, я спрошу. Тогда узнаешь и ты, где мы.
– Ты забыл, что в таком случае нас, по условию, разделят; тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю.
– Я забыл, – тихо сказал Тенброк. – Но я, все равно, не выдержу. Искушение слишком огромно.
– Всю жизнь буду себя презирать, однако стерплю, – вздохнул Спангид. – Ради одного себя.
– Не ругайся, Спангид. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай. Я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя.
– Ну хорошо, что там… Вот и Таулис.
Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на «отъездном» ужине у Томпсона, – в смокинг; климат страны не вошел с ним.
– В долю! в долю! – закричал Тенброк. – Две тысячи долларов за честное слово тайны! Где мы?
– Видите ли, Тенброк, – ответил Таулис, – среди моих многих скверных привычек есть одна, самая скверная: я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Каире, Москве, Сан-Франциско и Будапеште.
Таулис вынул часы.
– Шесть часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?
– Водка, – сказал Спангид.
– Кофе! – сказал Тенброк. – И газету!
– Ту, которую я привез из Лисса? – Невинно осведомился Таулис. – Бросьте, джентльмены. Это очень детская хитрость.
II
5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнуэлем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики.
Согласно условию, каждый из них получал пять тысяч долларов, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия «Мгновенного путешествия», проведет там двенадцать часов, с шести утра до шести вечера, не узнав, где он находился. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии.
Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем.
Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалованья.
Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося «неизвестно где» и узнавшего – «где». С приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон.
Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уверенность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы.
В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся с каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собою в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома. Но не всегда.
Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы – само собой – все изведавший, объевшийся путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив десять тысяч долларов, принимал снотворное средство, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключающего в себе номера девяносто трех пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту, но это был его выигрыш – самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез – день, два, три и более – мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка.
Проходило десять минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил:
– Доброе утро! Вы в…
За десять минут полной работы сознания очнувшийся пассажир, с законным на то правом, мог представлять себя находящимся в любой части света – в городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения.
Отказавшись от предложения написать для фирмы статью-рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу, хотя предлагалась сумма значительно более пяти тысяч, – настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое: девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь.
Идея пари увлекла Тенброка, и одним из условий Спангид поставил фирме: заключение пари одновременно с Тенброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделиться, лишь если один проигрывал.
Итак, начался день. Где?
III
– Да, где? – сказал Тенброк, когда Таулис внес кофе, водку и сандвичи. – Кофе как кофе…
– Водка как водка, – подхватил Спангид, – и сандвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс. Я ни о чем не могу догадаться по виду посуды.
Таулис сел.
– Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы теперь, – сказал он. – Напрасно будете стараться узнать.
Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказало Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис знал; это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путешествиях, и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал.
Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса… Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть.
– Уйдите, Таулис, – сказал Спангид. – Вы богаты, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив пять тысяч, я буду путешествовать целый год.
– Я не выдержу, – отозвался Тенброк. – Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангид, я жаден.
– Крепитесь, – посоветовал Таулис, уходя. – Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано… гм… тому, который контролирует вас и меня.
Пленные путешественники умылись в примыкающей к комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тенброк начал курить сигару; Спангид выпил стакан водки и закрыл глаза.
«Не все ли равно? – подумал он на границе сна. – Узнать… это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома».
Он проснулся.
– Дикая зеленая комната, – сказал Тенброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах.
– Где мы? – спросил Спангид. – О!..
– В дикой зеленой комнате, – повторил Тенброк. – Четыре часа.
Спангид вскочил.
– Низко, низко мы поступили, – продолжал Тенброк. – Я продал себя. Что ты чувствуешь?
– Не могу больше, – сказал Спангид, пытаясь сдержать волнение. – Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узнаю, узнаю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой.
Тенброк бросился к нему, но Спангид уже позвонил.
Вошел Таулис.
– Обед через пять минут, – сказал Таулис и по лицу Спангида догадался о его состоянии. – Два часа пустяки, Спангид… молчите, молчите, ради себя!
– Проиграл! Плачу! – крикнул Спангид, смеясь и выпрямляясь, как выпущенная дикая птица. – Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я, говорите скорей!
Спангид был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал:
– Клянусь честью, тут нет ничего интересного! Вы жестоко раскаетесь!
– Пусть. Но я раскаюсь; я – за себя.
– А вы? – Таулис взглянул на Тенброка.
– Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангид, – сказал Тенброк, пытаясь улыбнуться. – В самом деле… если место неинтересное…
Его замешательство Спангид почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангид, утешая Тенброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся два часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангид быстро оделся.
– Прощай, Тенброк, – взволнованно сказал он. – Не сердись. Я в лихорадке.
Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы.
Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангид был глазами и сердцем там, где был.
На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого, небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра; там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса.
– Город Фельтон на острове Магескан, неподалеку от Мадагаскара, – сказал Таулис.
– Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха, но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмой Томпсона. Аэроплан или пароход?
– Я останусь здесь, – сказал Спангид после глубокого молчания. – Я выиграл! Потому что я сам, своей рукой, вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели… Летели?! Два или три дня?
– Четыре, – ответил Таулис. – Но что будете вы здесь делать?
– У меня будут деньги. Я напишу книгу, – целую книгу о «неизвестности разрешенной». Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом – книга! Бедняга Тенброк!
– Теперь я еще более уважаю вас, – сказал Таулис, – а о Тенброке не беспокоитесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене!
Вор в лесу*
На окраине Гертона жили два вора: Мард и Кароль – с наружностью своей профессии. Мард имел мрачный кривой рот, нос клювом и стриженые рыжие волосы, а Кароль был толстогуб, низколоб и жирен.
Недавно оба приятеля вышли из тюрьмы и еще не принимались ни за какие дела. Кароль пользовался милостями одной базарной торговки, а Мард подрабатывал у вокзалов и театров, всучивая программы представлений или перетаскивая чемоданы. Они нуждались и зверски голодали подчас, но память о плетках надзирателей была еще свежа у них, так что воры боялись пуститься на новое преступление.
Они выжидали выгодный, безопасный случай, но такой случай не представлялся.
Иногда Мард по целым дням валялся на койке, заложив руки под голову и размышляя о жизни. Ему было сорок лет: шестнадцать лет он провел в тюрьмах, я остальное время пил, дрался и воровал. Ему предстояло умереть в больнице или тюрьме.
Скоро овладела им безысходная грусть, и Кароль вынужден был кормить своего приятеля, ругая его при том собакой и дармоедом, на что Мард после страшных проклятий заявлял:
– Не беспокойся. Рано или поздно я заплачу тебе.
Прошла зима, в течение которой Кароль совершил – один – две удачные кражи, но все пропил сам, сам все проиграл в карты и к весне очутился не в лучшем положении, чем Мард. Оба питались теперь гнилыми овощами, что выбрасываются рыночными торговцами, и мечтали о мясе, булках, водке. Все распродав, воры остались босые, в лохмотьях.
От голода и нервности мысли Марда приняли странное направление. У него появилась идея придумать что-нибудь такое заманчивое, хотя бы неосуществимое, вокруг чего можно было бы собрать несколько человек с деньгами, – хорошо поесть, поправиться, отдохнуть.
Однажды, бродя по улицам, Мард нашел четырехугольный листок пожелтевшего пергамента, выпавший, вероятно, из старой книги. Ничего не говоря Каролю, Мард выпросил у прохожих немного денег, купил чернил, перо и забрался в дальний угол грязного трактира за пустой стол. Ему предстояло сочинить план мнимого клада.
Мард развел чернила водой, сделав их совсем бледными, и написал на пергаменте:
«Вверх по реке Ам от Гертона, шестьсот миль от Покета. По устью четыре мили. За скалой озеро; третий песчаный мыс. Два камня возле воды; первый камень в полдень даст тень. Между концом тени и вторым камнем по середине линии вниз пять футов 180 тысяч долларов золотом завязаны в брезент Г.Т.К. и, то же, Д. Ц. Они не знают».
Первый раз за долгое время на мрачном лице Марда растрескалось подобие улыбки, когда он перечитал свое сочинение.
Сложив пергамент несколько раз, вор сунул эту записку в подошву своего стоптанного башмака, надел башмак и ходил так, не разуваясь, неделю, отчего документ сильно слежался, даже протерся по сгибам.
Тогда Мард разбудил рано утром Кароля и сел к нему на кровать.
– Слушай, Кароль, – сказал Мард в ответ на сонную брань сожителя, – я решил поделиться с тобой своим секретом. В тюрьме два года назад умер один человек, с которым я был дружен, и вот этот человек – Валь Гаучас звали его – передал мне документ на разыскание клада. Смотри сам. 180 тысяч долларов.
Кароль ожесточенно сплюнул, но, прочтя записку, поддался внушению искусной затеи, начав, как водится, задавать множество вопросов. Однако Мард хорошо приготовился к испытанию и, толково ответив на все вопросы, окончательно убедил Кароля, что лет десять назад на реке Ам был ограблен пароход, везший большие суммы денег для банка в Гель-Гью; нападающие подверглись преследованию, но успели зарыть добычу, а сами после того были все перебиты, кроме одного Валь Гаучаса. Валь Гаучас вскоре попал в тюрьму, где и умер.
Кароль был недоверчив, но, по роковому свойству людей недоверчивых, раз поверив во что-нибудь, готов был защищать свою уверенность с пеной у рта. Охотнее всего люди верят в неожиданную удачу. Воображение Кароля распалилось: Мард поддакивал, горячился, и воровским мечтам не было конца.
– Один я не мог бы ничего сделать, – признался Мард, – так как я не умею доказывать, увлекать; и нет у меня знакомств на реке. А у тебя есть. Так вот – достань катер или большую лодку; придется владельца судна взять в долю.
Кароль побежал в веселый дом, сгоряча уговорил теток-хозяек дать в долг пять долларов, купил водки, сигар, еды и досыта угостил приятеля, завалившегося после того спать; затем Кароль ушел.
Три дня он не появлялся. На четвертый день Кароль пришел с высоким веселым человеком в тяжелых сапогах – хозяином парового катера, Самуэлем Турнай, согласившимся дать судно для разыскания клада. У Турная водились деньги. Он был человек положительный и рассуждал резонно, что ради воздушной пустоты два опытных вора не устремятся к глухим верховьям реки.
Видя, как быстро, уже без его участия, двигается развитие замысла, Мард немного опешил. Однако, представив всю прелесть спокойной, сытой жизни на катере в течение трех-четырех недель, окончательно положился на свою изворотливость и столько наговорил Турнаю, что тот выкурил подряд четыре сигары.
Поздно ночью три человека решили дело: Турнай давал катер, ехал сам, давал продовольствие, табак, виски и приобретал для воров хорошую одежду, а также оружие: револьверы и винтовки.
На другой же день в пять утра катер «Струя» направился из Гертона вверх по реке Ам. Некоторая путанность записки, составленной Мардом, не обескураживала Турная: он знал хорошо реку, и, по его твердому убеждению, фраза «по устью четыре мили» означала приток Ама, Декульт, – узкую быструю речку со скалистыми берегами.
– Декульт именно в шестистах милях от Гертона, – говорил Турнай, – но не от Покета; зачем упомянут Покет, неизвестно; должно быть, чтобы сбить с толку непосвященных. Меня не проведешь. Если не Декульт, то Мейран, впрочем, мы обследуем, если понадобится, все речки. Карта со мной.
За время путешествия среди живописных берегов реки Мард отдохнул, поправился; он много ел, вдоволь пил водку и спал, как младенец в утробе матери. В разговорах о кладе он приводил тысячи азартных, тонких предположений, рассуждал о предстоящих покупках и удовольствиях. Однако, чем дальше подвигался катер к Декульту, по берегам которого действительно были озера, тем чаще Мард задумывался.
«В конце концов, на что я надеюсь? – спрашивал себя Мард. – Пройдет еще месяц, золота нигде не окажется, и меня изобьют до полусмерти, а может быть, убьют, думая, что я хотел воспользоваться судном лишь для того, чтобы проехать к месту клада, которое скрыл от них».
Итак, ничего не произошло; затея не повернулась как-нибудь неожиданно выгодно; катер плыл; Кароль и Турнай стремились отыскать несуществующее богатство.
«На что я надеялся?» – повторял Мард, сидя ночами у борта и рассматривая дикие темные берега.
За два дня до прибытия в устье Декульта Мард заболел. Ночью он метался, стонал; его рвало и трясло. Чрезвычайно обрадованные случаем избавиться от третьего дольщика, приятели стали уговаривать Марда слезть на берег.
– Так как, – говорил Кароль, – наверное, у тебя тиф или воспаление мозга. Дадим палатку, ружье; все дадим. Ты поправляйся и жди нас. Твоя доля будет тебе вручена, когда вернемся с золотом.
Для приличия Мард впал в угрюмость, заставил компаньонов поклясться, что его не бросят и не обманут, и остался на берегу в лесу, снабженный палаткой, ружьем, одеялом, припасами и топором.
Когда катер удалился, Мард встал, оглянулся и улыбнулся.
– Опять можно жить спокойно, – сказал он, закуривая трубку и выпивая стаканчик рома, – а хину я принимать не буду.
Сняв палатку, Мард перенес свое имущество мили на полторы дальше, к отлогому песчаному берегу, и начал жить, как дачник Робинзоновой складки. Он убивал лосей, коз, уток, ловил рыбу и месяца через полтора стал так здоров, силен, что начал подумывать о возвращении.
Казалось, катер пропал без вести, – Мард более не видел его.
– Наткнулись на камень где-нибудь, – объяснял его исчезновение Мард, – или проплыли обратно ночью, когда я спал.
Лес на берегу состоял из огромных, высоких и прямых деревьев. Мард срубил несколько штук, очистил их от ветвей и скатил рычагами на воду, где увязал стволы вместе отмоченной корой кустарника. Эта работа понравилась ему; медленное падение деревьев, самый звук топора – звонкое, сочное щелканье – и отчетливые линии пристраивающихся один к одному на веселой воде свежих стволов, – вся новизна занятия пленила Марда. Начал он подумывать, что неплохо было бы сбить большой плот, чтобы продать его по дороге долларов хотя бы за двадцать. Назначив себе сто штук, Мард, однако, увлекся и навалил двести, но когда они вытянулись плотом на песке, не стерпел и прибавил еще пятьдесят.
Никто ему не мешал, не лез с советами, не подгонял, не останавливал. Изредка на речной равнине чернел дым случайного парохода или скользил парус неизвестных промышленников, но большей частью было пусто кругом.
Между тем началась дождливая пора. Ам разлился и снял плот Марда с песчаной отмели. Мард сделал из тонкого бревна руль, поставил свою палатку и, отрубив причал, двинулся вниз по течению. Почти беспрерывно лил дождь, ветер волновал реку, течение которой усилилось благодаря прибыли воды, так что Мард три дня не спал, все время работая рулем, чтобы плот несся посередине реки. Питался Мард сушеной рыбой, заготовленной им еще летом, и желудевым кофе.
К вечеру четвертого дня плавания Мард завидел селение и начал подбивать плот к берегу. Вокруг села заметил он другие плоты, готовые для отправки. Едва его плот поравнялся с домами села, как с берега выехала лодка, управляемая тремя бородатыми великанами; они причалили к плоту и взошли на него, тотчас предложив Марду продать плот. Не зная, что его плот состоит из ценных пород, Мард весело подумал, что хорошо бы взять долларов пятьдесят, и, убоясь, не покажется ли цифра очень большой, начал мяться, но один бородач, хлопнув его по плечу, вскричал:
– Что думать! Берите триста, и дело кончено!
Мард согласился, между тем плот стоил вдвое дороже. Плотовщики сосчитали бревна, уплатили деньги и пошли с Мардом в местную лавку, где вор купил приличное платье взамен изношенного и выпил с торговцами. Ему сообщили, что на другой день отплывает в Гертон парусное судно; Мард пошел к хозяину, уговорился с ним и за небольшую плату стал пассажиром.
«Теперь я уплачу Каролю и Турнаю все их расходы на меня, – размышлял Мард, помогая матросам чистить трюм, нагруженный свиньями, – конечно, они меня выругают, но мы попьянствуем, и дело с кладом забудется».
Судно плыло в Гертон двадцать шесть дней. Приехав, Мард снял номер в гостинице, побрился, выпил и отправился гулять по улицам гавани. Задумчиво шел он, не зная, сейчас ли искать Кароля, или отложить на завтра, как вдруг быстрая рука схватила его плечо.
– Мард!
– А! Кароль!
Кароль задохнулся, догоняя Марда. Они стояли улыбаясь; Мард несколько смущенно и весело, а Кароль – колюче и хитро.
– Так вы бросили меня?!
– Едва живые вернулись. Ты нашел золото?
– Дурак ты, Кароль, – сказал Мард, – я нарубил плот и продал его. О, были приключения. Двести пятьдесят бревен!
– Что же мы стоим? Идем в «Чертов глаз»! Угощай.
– Есть, – согласился Мард. – А где Турнай?
– Турнай нас ждет.
Оживленно рассказывая о своих похождениях, Мард с Каролем пришли в грязный притон и заняли, по совету приятеля, маленькую комнату во дворе трактира. Едва они сели, как вошли трое парней. Чувствуя недоброе по их лицам, Мард встал из-за стола, но Кароль ударом в глаз сбил его с ног. Мард упал; четверо сели ему на руки и ноги.
– Сволочи! – сказал Мард.
– Где золото? – начал Кароль допрос. – Ты все подстроил. Высадился, где тебе было надо, под видом, что болен.
– Опять ты дурак! – закричал Мард. – Я хотел сам дать тебе денег – сто долларов. Клада не было! Я выдумал это! Я изголодался, понимаешь? Я чудил от голода! Говорят тебе, что я сбил плот и продал его!
Марда начали бить. Его лицо превратилось в кровавое мясо, сердце хрипело, глаза ничего не видели, сломаны были два ребра, но в передышках, обливаемый водкой, не попадавшей в его рот, для оживления, Мард упорно твердил:
– Клада не было. Вот клад: мозоли мои!
Допрос и истязания длились три часа. Мард обеспамятел, стонал и, наконец, собравшись с силами, плюнул Каролю в лицо.
Его повесили в чулане за комнаткой, продев веревку за потолочную балку. Когда Кароль схватил за ящик, на котором стоял, шатаясь, Мард, умирающий прохрипел:
– Не вовремя убиваешь ты меня, Кароль. Я хотел… делать плоты… хотел… и тебя взять.
Бархатная портьера*
I
Пароход «Гедда Эльстон» пришел в Покет после заката солнца.
Кроме старого матроса Баррилена, никто из команды «Гедды» не бывал в этом порту. Сама «Гедда» попала туда первый раз, – новый пароход, делающий всего второй рейс.
Вечером, после третьей склянки, часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц.
Эгмонт Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Готеру, небольшим зеркалом сгрудились пять голов: матросы брились, завязывали галстуки и, в подражание буфетчику, обмахивали начищенные сапоги носовыми платками.
Баррилен, сидя у конца стола, пил кофе.
Чаттер не знал, что Баррилен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Баррилена, и он искусно стравливал их, тонко клевеща Смиту на Бутса, а Бутсу на Смита. Дело вертелось на пустяках: на украденной фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетне о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутс и Смит схватили ножи, а Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе.
Человек злой и хитрый, Баррилен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал – тем, кто не знал этого, – лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления.
– Чаттер! – сказал Баррилен, подсаживаясь к нему. – Разве ты не пойдешь танцевать в «Долину»? – так назывался квартал известного назначения.
Чаттер подумал и сказал:
– Нет.
– Что же так?
– Сам не знаю. Я, видишь, еще утром припас две банки персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно, должно быть, от этого я и мрачен.
– Ты купил чашку в Сайгоне? – спросил Баррилен, помолчав.
– Купил.
– Покажи!
– Не стоит, Баррилен. Просто фарфоровая чашка с Фузи-Ямой и вишнями.
Матросы, хлопая друг друга по спине и гогоча, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тогда Баррилен приступил к цели.
– Тебе это дело понравится, – сказал он, тщательно обдумав картину, которую собрался нарисовать простодушному человеку. – Я знаю Покет, Лисс и все порты этого берега; я бывал два раза в Покете. Я сам не пойду в «Долину», хоть веди меня туда даром. Двадцать лет одно и то же… везде. Тут есть одна порченая семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их семь душ: четыре сестры и три их приятельницы, – хорошей масти, одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того: ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомство только с моряками. Следующее: они сами не пьют, но любят, чтобы матрос ввалился пьяный, завязав ногами двадцать морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через раззолоченную залу к бархатной портьере из черного бархата с золотыми кистями. Тут должен ты ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь… у них это шикарно поставлено! Фортепьяно, арфы, песни поют; можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина – как морской воды! Все образованны, везде тон: «прошу вас», «будьте добры», «передайте горчицу», и что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там смотри сам, как лучше устроиться. Хочешь сходить?
Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой, Чаттер ответил бы, смеясь, полдюжиной аналогичных легенд; но он безусловно верил Баррилену, и его потянуло к духам, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию.
– Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины, – вскричал Чаттер, – если я пропущу такой случай! Это где?
– Это вот где: от набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, № 19. Стучи в дверь, как к себе домой после двух часов ночи. Будь весел и пьян!
– Пьян… Это хорошо! – заметил Чаттер. – Потому что мы непривычны… Значит, ты там был?
– Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят.
Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Баррилен посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой – все равно: адрес превратится в поле сражения.
Чаттер был молод – тридцать три года! Он переоделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил вторую бутылку. Теперь кубрик напился. Койка поползла вверх, вместо одного трапа стало четыре. По одному из них Чаттер вышел, как ему казалось, прямо на улицу, в тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу, кроме сброшенной в нее якорем цифры «19» и названия улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот, песни, смех, собачий лай, запах чесноку, цветов, апельсинных корок и саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барриленом.
Едва успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения.
Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь:
– Если вы попали сюда раньше меня, – сказал он, – это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос – матрос «Гедды Эльстон». Я верю товарищу. Дом… – номер тот самый. «Прошу вас…», «будьте добры…», «передайте горчицу…» Куда мне идти? Семь лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан. Верно, мы устаем. Баррилен сказал: «Раздвинется, говорит, бархатная портьера». Это про ваш дом. «И там, говорит, – да! – там… как любовь». То есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю, – продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом, – что Баррилен никогда не лжет. И если вы… куда это вы хотите меня?
– Вот вход! – раздался громовой голос, и Чаттер очутился в маленькой комнате – без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа.
«Он силен, чертова борода! – размышлял Чаттер, прислонясь к стене. – Должно быть, сломал плечо».
Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей, дождь! – говорил Чаттер. – Я, верно, задремал, когда шел по улице. Я не боюсь воды, нет. Однако, был ли я в 19 номере?»
Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело, и Чаттер, глубоко вздохнув, угрюмо закричал:
– Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать, а я не губка, чтоб стерпеть этакую водицу!
Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами.
– Выходи! – сказал великан, таща Чаттера за руку. – Посмотри-ка в глаза! Теперь – переоденься. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра.
Дрожа от сырости, Чаттер скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил, сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения.
– Теперь, – приказал мучитель Чаттеру, стоявшему с тихим и злым видом, – читай вот это место по книге.
Он схватил матроса за ноющее плечо, сунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы.
Попятясь к столу, Чаттер сел и прочел:
…Руки моей поэтому. Вот здесь Цветы для вас: лаванда, рута И левкой я вам даю, Цветы средины лета, как всего Приличнейшие вашим средним летам… Приветствую я всех! Камилл Будь я овцой…[6]– Довольно! – сказал бородач. – Попробуй повторить!
– Я понимаю, – ответил, сдерживая ярость, Чаттер. – Вы, так сказать, осматриваете мои мозги. Не хочу!
Бородач молча встал, указывая на душевую кабину.
– Не надо! – буркнул Чаттер, морщась от боли в плече. – «Руки моей поэтому…» Ну, одним словом, как вы старик, то возьмите, что похуже – например: мяту, лаванду, а розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено!» Теперь пустите.
– Пожалуй! – ответил бородач, подходя к Чаттеру. – Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим.
– Хорошо. Кто же вы такой?
– Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос! – сказал капитан, тронутый видом гуляки. – Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать! – Он дернул его за ворот рубашки. – Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору, там тебя выпустят.
– Ладно, ладно! – буркнул Чаттер, направляясь к выходу. – У вас все – загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла. Эх!
Он махнул рукой и вышел на улицу.
II
Коварная выходка Баррилена теперь была вполне ясна Чаттеру, но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса: чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущиеся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец, Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая – испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую, освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом, – она шила.
Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу – так же просто, как заговаривают с детьми.
– Сварите мне, пожалуйста, чаю, – сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине. – Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь.
Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбнувшись, она сказала:
– Присядьте. Вы, верно, моряк?
– Да, я матрос, – ответил, опускаясь на стул, Чаттер как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким, темным от оспы лицом. – Верно, ваш муж? Я заплачу, – продолжал Чаттер.
Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалованье за три месяца, он бросил деньги на стол.
Три покатившиеся монеты, затрепетав, легли посреди клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену.
– Кэрри, – сказал он женщине, – что тут у вас?
– Ты видишь?! Зашел… принес чай и просит сварить, – тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани.
– Приятно! Джемс Стиггинс, – сказал муж, протягивая руку Чаттеру. – Я шорник. Кэрри все сделает. Сидите спокойно. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас.
Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню.
– Много не сыпь, – сказал он ей, – нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому.
Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом, совсем не тот, какой покупала Гертруда, сестра Стиггинса. Кэрри не разрешалось покупать ничего. А она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра.
Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая.
Между тем перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стиггинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак.
Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас подчинить свое жестокое лицо радушной улыбке.
– Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк, – говорил Стиггинс. – Он выпьет чаю, как у себя дома, в семье, не правда ли, Труда? Он дал мне гинею, – видишь? – купить к чаю кекс и орехов. Ты сходишь. На! А сдачу храни, в следующий раз ему снова дадим чаю и кекс.
Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню.
Едва слышно напевая, Кэрри варила чай.
– Как он попал? – спросила Гертруда, показывая монету. – Говоришь – увидел тебя? Так иди же, пусть он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками сходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески.
Не смея ослушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею.
– Ты сам…
Стиггинс вышел, а Гертруда принесла чайник.
– Сейчас, сейчас, – говорила она, расставляя посуду. – Наш гость мучается, но он будет пить чай.
Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт, – она ясно видела, что он силен, сыт и бодр.
Чаттер сказал:
– Я вам наделал хлопот?
– О нет, нисколько, – ответила Кэрри.
– Да, наделал! – повторил Чаттер.
Некоторое время он пил, не отрываясь, свой чай из большой глиняной кружки и, передохнув, увидел Стигинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов.
– Дай же мне чаю! – сказал Стиггинс сестре. – Кэрри, нарежь кекс. Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего.
– Кэрри, ты не объешься? – сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастной кусок кекса. – Ишь! Взяла лучший кусок.
Кэрри положила кекс; глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез.
– Пусть она ест! – сказал Чаттер, подвигая поднос к Кэрри. – «Руки моей поэтому…» Кэрри, это стихи! «Будь я овцой! Я вам дарю цветы средины лета!»
– Интересно! – заявила Гертруда, жуя полным ртом.
Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся; она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.
– Чаю, тетушка Риден! – предложила Гертруда. – Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс!
– Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри, – монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью. – Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?
– Родственник! – вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменилось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели. – Мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют и есть театр. Не правда ли?
Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а затем нашел кепи, Стиггинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу.
– Только смотри! – мрачно шепнул он.
Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед.
На улице она горько расплакалась.
– Четыре года! – говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера. – Четыре года! Но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать! Можете ли вы это? Вы можете… можете!
– Бедняга! Не реви! – сказал Чаттер. – Ведь ты мне дала чаю, Кэрри, ты будешь пить его из чашки с Фузи-Ямой! Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра «Гедда Эльстон» выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет. «Будь я овцой!..»
Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертлявее, но Чаттер обещал ему свое жалованье за два месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимые платье и белье.
За своими вещами Чаттер съездил в дом № 19 на другой день.
Вот все.
Еще надо сказать, как утром Чаттер доконал Баррилена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи.
– Их пела одна красавица, – сказал Чаттер. – Ты слушай!
Руки моей поэтому… Будь я овцой. Дарю я вам цветы. Берите, когда дают, хотя вы есть старик. Приличнейший левкой для ваших лет! Цветы средины лета.После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную портьеру», почесал грудь и лег спать.
Зеленая лампа*
I
В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.
Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.
– Стильтон! – брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. – Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.
– Я голоден… и я жив, – пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. – Это был обморок.
– Реймер! – сказал Стильтон. – Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.
Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб.
Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали – кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.
Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.
Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:
– Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, – я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.
– Если вы не шутите, – отвечал Ив, страшно изумленный предложением, – то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, – как долго будет длиться такое мое благоденствие?
– Это неизвестно. Может быть, год, может быть, – всю жизнь.
– Еще лучше. Но – смею спросить – для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?
– Тайна! – ответил Стильтон. – Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.
– Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!
Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.
Прощаясь, Стильтон сказал:
– Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, – через год, – словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как – я объяснить не имею права. Но это случится…
– Черт возьми! – пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. – Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати, только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина.
Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.
Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:
– Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума… Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!
Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»
– Однако вы тоже дурак, милейший, – сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. – Что веселого в этой шутке?
– Игрушка… игрушка из живого человека, – сказал Стильтон, самое сладкое кушанье!
II
В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.
Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.
По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.
– Так вот как пришлось нам встретиться! – сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. – Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? – Я – Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.
– Тысяча чертей! – пробормотал, вглядываясь, Стильтон. – Что произошло? Возможно ли это?
– Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?
– Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?
– Я несколько лет зажигал лампу, – улыбнулся Ив, – и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.» Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.
К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением. «Ив – классический дурак! – пробормотал тот человек, не замечая меня. – Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежду, а я… я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».
У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…
– А дальше? – тихо спросил Стильтон.
– Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…
Наступило молчание.
– Я давно не подходил к вашему окну, – произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, – давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа… лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня.
Ив вынул часы.
– Десять часов. Вам пора спать, – сказал он. – Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, – быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.
11 июля 1930 г.
Комментарии
Дорога никуда*
(Роман.) Впервые – в издательстве «федерация», М., 1930. Печатается по этому изданию.
В 1926 году в Москве на выставке английской гравюры была представлена работа Джона Гриввуда (род. 1885) «Дорога никуда». Она подсказала Грину новое название и один из эпизодов романа «На теневой стороне», над которым он тогда работал.
Мейсонье, Жан Луи Эрнест (1815–1891) – французский художник.
Хаггард, Генри Рейдер (1856–1925) – английский писатель.
Ричард I, прозванный Львиное Сердце (1157–1199), – английский король.
Шканцы – часть верхней палубы судна, место для парадных построений команды.
Инфернальная женщина (от лат. слова infernalis – адский) – «адская», «роковая» женщина.
Цейхгауз – помещение для хранения запасов обмундирования, снаряжения, оружия, провианта и т. д.
Автобиографическая повесть*
Впервые главы повести были опубликованы: «Бегство в Америку» и «Охотник и матрос» в журнале «Звезда» № 2, 1931, «Одесса» – «Звезда» № 3, 1931, «Баку» – «Звезда» № 4, 1931, «Урал» – «Всемирный следопыт» № 12. 1930 (в сокращении), «Севастополь» – Звезда. № 9, 1931. Отдельным изданием «Повесть» вышла в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1932 году. Печатается по этому изданию.
В середине двадцатых годов А. С. Грин написал несколько автобиографических рассказов: «Случайный доход», «Золото и шахтеры», «По закону», «Смертельный декофт» (пока не найден) и др., но вряд ли можно говорить, что уже в это время писатель задумал «Автобиографическую повесть».
К работе над «Повестью» Грин приступил в начале 1930 года. Первоначально в рукописи он озаглавил ее «На суше и на море», дав подзаголовок «Автобиографические очерки А. С. Грина». Есть сведения, что он также хотел назвать ее «Книга о себе» (по другому источнику – «Легенда о себе»). Название «Автобиографическая повесть» дано «Издательством писателей в Ленинграде».
К «Автобиографической повести» не следует относиться, как к безусловно документальному повествованию. Свидетельства современников и архивные материалы, которыми располагают исследователи, позволяют обнаружить немало фактических неточностей и ошибок, связанных нередко с тем, что автора просто подводила память. Но прежде всего надо иметь в виду, что, работая над «Повестью», Грин не просто вспоминал события прожитой им жизни, а хотел также нарисовать картины своей эпохи. В результате «Повесть» написана как бы в двух планах: с одной стороны, главным героем ее является сам А. С. Грин, она рассказывает о его детстве и юности, о годах его бродяжничества, с другой, – она полна всевозможных отступлений, рассказов о других людях и событиях, в которых писатель сам не участвовал или свидетелем которых не был. Поэтому, как ни камерна книга по своей теме, все же это не автобиография А. С. Грина, а именно «Автобиографическая повеет ь», в которой писатель обобщил увиденное им на рубеже двух веков.
В «Повести» не нашел отражения период жизни Грина между «Уралом» и «Севастополем». По возвращении с Урала Грин некоторое время работал банщиком на станции Мураши, весной уехал под Котлас, но вскоре вернулся, потом работал на барже судовладельца Булычова. Оставшись вновь без работы, Грин решился пойти добровольцем в солдаты. В неоконченном автобиографическом очерке «Тюремная старина» он писал: «Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия… При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги или посыпать опилками пол казармы (кстати – очень чистой), или не в очередь дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставился вопрос о дисциплинарных взысканиях…
Лагерные занятия прошли хорошо. Между прочим, я брал из городской библиотеки книги. Однажды к моей постели подошел взводный, развернул том Шиллера и, играя ногами, зевая, грозно щурясь, ушел. Я был стрелком первого разряда. „Хороший ты стрелок, Гриневский, – говорил мне ротный, – а плохой солдат…“»
В армии Грин познакомился с эсерами, посещал занятия на конспиративных квартирах, разбрасывал во дворе казармы эсеровские листовки. В ноябре 1902 года Грин бежал из батальона и перешел на нелегальное положение.
В. П. Калицкая в воспоминаниях сообщает: «Сначала он (Грин. – В. С.) приехал в Симбирск, оттуда его отправили в Нижний Новгород. По тому интересу, какой Александр Степанович проявлял к подпольной работе, его сочли пригодным для террористической организации. Отправили в „карантин“, в Тверь. Это означало, что он должен просидеть там, ничем не обращая на себя внимания, две-три недели. За это время выяснилось бы, следит за ним полиция или нет. Если бы слежки не оказалось, то партия направила бы его в другой город и указала бы, над кем должен быть совершен террористический акт.
Александр Степанович вернулся в Нижний и отказался от взятой на себя обязанности. Партия решила, что для террористической работы он не годится, и отправила его в Саратов пропагандистом. Из Саратова Александра Степановича перевели в Тамбов, где он познакомился с Наумом Яковлевичем Быховским. Из Тамбова вместе с Быховским Александр Степанович переехал в Екатеринослав, а в августе 1903 года – в Киев. Был послан на один день с каким-то поручением в Одессу, а оттуда переведен в Севастополь».
Работая над «Повестью», А. С. Грин вспомнил легенды, распространявшиеся о нем в литературных кругах, и поэтому решил написать к ней предисловие под названием «Легенда о Грине». Рукопись предисловия он отправил критику Ц. Вольпе, но она так и не увидела свет. В статью Ц. Вольпе о Грине (Александр Грин. Рассказы. 1935) включен небольшой отрывок из предисловия, приведенный во вступительной статье к настоящему изданию (т. 1, стр. 3).
Дрэпер, Джон Уильям (1811–1882) – американский естествоиспытатель и историк культуры. Грин, вероятно, имеет в виду его книгу «История умственного развития Европы», неоднократно издававшуюся в России.
Копф, гунд, эзель, элефант – голова, собака, осел, слон (нем.).
Рекреационная комната – комната для отдыха и игр учащихся во время перемены.
Де-Бароль, «Тайны руки» – книга известного хироманта была издана на русском языке в 1868 году.
«Коллекция насекомых» – имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Собрание насекомых».
Пеммикан – измельченное в порошок и высушенное на солнце мясо, пища североамериканских индейцев.
Впоследствии, в Архангельской губернии… – 27 июля 1910 года А. С. Грин был арестован и отправлен в ссылку в Архангельскую губернию, где находился до 15 мая 1912 года.
Лотерея-аллегри – лотерея с немедленным розыгрышем; название произошло от итальянского allegri – «будьте веселы» – шутливой надписи на билетах лотереи.
Водобоязнь – один из симптомов бешенства.
Эскапада – неожиданная выходка.
Акциз – учреждение, занимавшееся сбором налогов.
Р.О.П. и Г. – Русское общество пароходства и торговли.
Мангустаны – тропические плоды, очень нежные, с тонким ароматом.
Монтекристо – марка распространенного в те годы мелкокалиберного ружья.
Восстание 63-го года – восстание в Польше, направленное против гнета царского самодержавия. Разгромлено летом 1864 года. Руководители его были казнены, а масса участников приговорена к пожизненной ссылке в Сибирь
Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч… – В автобиографическом рассказе «Случайный доход» Грин излагает эту историю несколько иначе: «Самый старый житель карантинного бордингауза Р.О.П. и Т., некий прямой, как палка, хрыч, лет шестидесяти, – Иван Касьяныч (звали его просто Кастратыч). рассказывал об английских „фунтах“. Если ему верить (а я верил безусловно всему, что хоть отчасти напоминало роман), то в парке по сию пору стоит дерево, к вершине которого привязан мешок с золотом. Оно шло почтой из Адена в Одессу. Почтальон был мрачен и пьян, товарищ его – лукав и жаден. Лукавый подбил мрачного вскрыть мешок и слимонить оттуда двести фунтов. После этого мрачный пошел покаялся и был посажен в тюрьму, а лукавый повесил краденое на дерево в парке, но не успел им воспользоваться, так как хотя и скрылся, но умер от холеры. Довольно сказать, что мои поиски этого клада окончились фарсом: заметив вечером что-то белое на вершине одного тополя, я отважно влез и увидел запутавшийся бумажный змей».
Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию… – См. вступительную статью к настоящему изданию (т. 1, стр. 8).
По возвращении из Одессы… – В первом варианте глава «Баку» начиналась так (приводим отрывок из рукописи): «Мало кто знает, как я провел свою молодость, а между тем, она была не легкой. Я был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах; был дровосеком, босяком, писцом в канцелярии, охотником, революционером, ссыльным, матросом на барке, солдатом, землекопом…»
«Весной 1901 года…» – несомненно, описка, следует: «Весной 1899 года».
Лаццарони – босяки.
С.-р. – социалисты-революционеры, эсеры.
С.-д. – социал-демократы.
Быховский, Наум Яковлевич (1876 –?.) – руководитель Грина в партии эсеров. В документах охранки есть такая характеристика Быховского: «…в революционной среде, в которой он был известен под именем „Валерьяна“, пользовался большим обаянием и уважением. […] По агентурным сведениям, убежденный террорист, в этом направлении вел пропаганду и способен выступить в качестве организатора террористического предприятия партии».
«Киска» – Екатерина Александровна Бибергаль (1879–1914?) _ студентка Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге, в 1901 году была выслана в Севастополь за участие в двух студенческих демонстрациях.
Этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой с.-д. – «программа с.-д.», в прямом смысле слова, как программа РСДРП, принятая на II съезде партии (1903 г.), не содержит никаких указаний о терроре, но В. И. Ленин, неоднократно и решительно выступая против индивидуального террора, признавал возможность революционного террора как одного «из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения при известном состоянии войска и при известных условиях» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 7).
…Захватил случайно оказавшегося в городе эсера, семинариста Пятакова из Пензы. – По данным охранки, фамилия эсера – Пятнов.
Вскоре приехал из Петербурга брат сестер, Леонид, студент, со своим приятелем Ровногубом. – В действительности фамилия этого приятеля – Синегуб.
Не успел я спуститься на площадку, как подошли ко мне два солдата: Палицын и его приятель. – Фамилия солдата-доносчика Грином изменена.
Вышел из тюрьмы по амнистии 20 октября 1905 года. – По данным охранки, – 21 октября.
Я отказался давать показания; единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я – беглый солдат. – По данным охранки, Грин свою подлинную фамилию назвал только 25 декабря 1903 года.
…грозили каторгой и даже виселицей. – Следователь, допрашивавший Грина, писал: «Натура замкнутая, озлобленная, способная на все, даже рискуя жизнью. Пытался бежать из тюрьмы, голодал. Будучи арестован с 11 ноября 1903 года, пока не ответил ни на один вопрос».
…ряд очень интересных очерков Евг. Синегуба. – См.: Евг. Синегуб. Из записок невольного туриста. – «Русское богатство» № 9-12, 1910.
На свои прошения я не получал ответа… – Вот одно из прошений Грина: «Прошу военно-морской суд сообщить мне, утвержден ли приговор по моему делу – о пропаганде среди нижн(их) чин(ов) Черноморского флота. Александр Степанов(ич) Гриневский. 1905 года, июнь 5-го дня». Приговор Грину был утвержден и вошел в силу 8 августа 1905 года.
Так долго я был болен тюрьмой… – В. П. Калицкая в воспоминаниях сообщает о днях после освобождения: «После амнистии в Севастополе были дни смятения; ожидали погромов интеллигенции и евреев. Александр Степанович вместе с другими освобожденными просидел вооруженный ночь у какого-то учителя, ожидая, что придется идти воевать с погромщиками, но все обошлось благополучно».
Комендант порта*
Впервые – в журнале «Красная новь» № 5, 1933, в подборке из трех рассказов «Пари», «Бархатная портьера», «Комендант порта» с предисловием М. Шагинян. Печатается по журнальной публикации.
Эспланада – здесь: широкая улица с аллеей посредине. Суперкарго – лицо, ведающее на судне приемом и выдачей грузов; обычно второй помощник капитана.
Пари*
Впервые – в журнале «Красная новь» № 5, 1933 (см. примечание к предыдущему рассказу). Печатается по журнальной публикации.
Вор в лесу*
Впервые – в журнале «Красная нива» № 52, 1929. Печатается по журнальной публикации.
Бархатная портьера*
Впервые – в журнале «Красная новь» № 5, 1933 (см. примечание к рассказу «Комендант порта»). Печатается по журнальной публикации.
Зеленая лампа*
Впервые – в журнале «Красная нива» №№ 23–24, 1930. Печатается по журнальной публикации.
Владимир Сандлер
Примечания
1
Уклейка. Ее местное название. А. Г.
(обратно)2
Четыре удара «склянок». (Прим. автора.)
(обратно)3
То есть ряды. А. Г.
(обратно)4
И в побеге. А. Г.
(обратно)5
После него назначен был нач. тюрьмы П. Светловский – человек жестокий и честный, усмиривший «свободный режим» крутыми мерами, вплоть до избиения по камерам. Но пища арестантов резко улучшилась. – А. Г.
(обратно)6
Из «Зимней сказки» Шекспира.
(обратно)
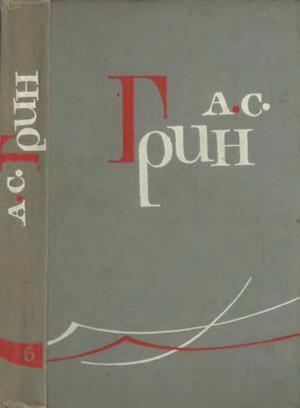

Комментарии к книге «Том 6. Дорога никуда. Автобиографическая повесть», Александр Грин
Всего 0 комментариев