Лев Николаевич Толстой Неделание (1893 г.)
Государственное издательство
художественной литературы
Москва – 1954
Электронное издание осуществлено
компаниями ABBYY и WEXLER
в рамках краудсорсингового проекта
«Весь Толстой в один клик»
Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY
Подготовлено на основе электронной копии 29-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой
Электронное издание
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого
доступно на портале
Предисловие и редакционные пояснения к 29-му тому
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать
в настоящем издании
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru
Предисловие к электронному изданию
Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.
Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая
Перепечатка разрешается безвозмездно
Л. Н. Толстой в Бегичевке.
Фотография 1892 г.
НЕДЕЛАНИЕ
Редактор парижского журнала «Revue des revues», предполагая, как он пишет в своем письме, что мнение двух знаменитых писателей о современном положении умов будет мне интересно, прислал мне две вырезки из французских газет. Одна из них содержит речь Золя, другая – письмо Дюма к редактору «Голуа». Я очень благодарен г-ну Smith за его посылку. Оба документа эти и по знаменитости своих авторов, и по своей современности, и, главное, по своей противоположности представляют глубокий интерес, и мне хочется высказать несколько вызванных ими мыслей.
Трудно нарочно подыскать в текущей литературе в более сжатой, сильной и яркой форме выражение тех двух самых основных сил, из которых слагается равнодействующая движения человечества: одна – мертвая сила инерции, стремящаяся удержать человечество на раз избранном им пути, другая – живая сила разума, влекущая его к свету.
Вот в полноте речь Золя:
ЮНОШЕСТВУ
Господа!
Вы меня глубоко осчастливили и много порадовали, избрав председателем этого годичного собрания. Нет лучшего общества, более милого, и, главное, нет аудитории симпатичнее молодежи, перед которой широко раскрывается сердце, полное желания быть любимым и выслушанным.
Увы! я уже в тех летах, когда наступает сожаление о минувшей молодости и когда заботятся уже о вновь подрастающем поколении. Они будут нашими и судьями, и продолжателями. Я чую в них рождение будущего и часто с тревогой задаю себе вопрос: что из нашего они отбросят и что сберегут, что станет нашим делом в их руках, потому что только в их руках оно станет делом, только тогда оно будет, если они примут его, чтобы расширить и довести до конца. Вот почему я страстно слежу за движением мысли в современной молодежи, читаю передовые газеты и журналы, стараясь узнать новый дух, оживляющий школы, узнать, наконец, куда вы все идете, вы – разум и воля будущего. Правда, господа, тут есть эгоизм, я этого не скрываю. Я похож на работника, кончающего постройку дома, в котором он надеется провести остаток дней своих и который беспокоится, какая будет погода. Не повредит ли дождь его стенам? Или вдруг задует северный ветер и сорвет крышу с дома? А главное, прочно ли он построил дом, устоит ли он против бури? Прочен ли материал, предусмотрены ли несчастные случаи? Я говорю это не потому, чтобы предполагал, что какие-нибудь человеческие произведения могли бы быть вечны и окончательны. Величайшие из них должны примириться с тем, чтобы быть только моментом в непрерывном развитии человеческого разума. Достаточно за глаза и того, чтобы сознавать себя хоть на самое короткое время носителем слова одного поколения. И так как нельзя закрепить литературу, а всё беспрерывно развивается, всё вновь начинается, нужно быть готовым видеть, как рождаются и растут младшие, которые заместят вас, которые, быть может, сотрут даже воспоминание о вас. Я вовсе не хочу сказать, что старый боец, который сидит во мне, не чувствует временами желания сопротивляться, когда он видит нападение на свое произведение. Но, право, в отношении наступающего будущего столетия у меня больше любопытства, чем возмущения, больше горячего сочувствия, чем личного беспокойства, и да сгину я, и да сгинет со мной всё наше поколение, если мы в самом деле годны только на то, чтобы завалить собой ямы и облегчить этим путь к свету тем, кто следует за нами.
Господа! Я слышу постоянные толки о том, что позитивизм кончается в предсмертных муках, что натурализм уже умер, что наука обанкротится того и гляди, потому что не дала нравственного мира и счастия людям, которые обещала. Вы понимаете хорошо, что я не берусь здесь решать великие задачи, затрагиваемые этими вопросами. Я невежда. Я не имею права говорить от имени науки и философии. Если хотите знать, я просто романист, писатель, иногда немного угадывавший, и всё мое значение происходит оттого, что я много наблюдал и много работал. И только лишь в качестве свидетеля я позволю себе говорить вам о том, чем было или, по крайней мере, хотело быть мое поколение, люди, которым теперь пятьдесят лет и которых ваше поколение скоро назовет предками.
Я был очень удивлен на днях, при открытии выставки на Марсовом поле, особенным видом зал. Предполагается, что это всё те же картины. Это заблуждение, – эволюция медленна, но каково бы было изумление, если бы можно было восстановить прежние выставки! Что касается до меня, то я хорошо помню последние выставки академические и романтические в 1863 году. Работа на воздухе («полный свет», plein air) еще не восторжествовала, был общий тон битюма; это была какая-то мания, какие-то зажаренные тона, полумрак мастерских. Потом, лет пятнадцать спустя, после победоносного и так оспариваемого влияния г-на Мане, я вспоминаю новые выставки, где блистал светлый тон полного солнца. Это было как бы наводнение светом, забота о правде, что делало из каждой рамки окно, широко раскрытое на природу, купающуюся в ярком блеске. И вчера, спустя еще пятнадцать лет, я мог усмотреть, как среди этой свежести произведений как будто подымается что-то вроде мистического тумана. Здесь всё та же забота о правдивой живописи, но действительность видоизменяется, фигуры как-то удлиняются, потребность оригинальности и новизны уносят художника за пределы мечты.
Если я говорю об этих трех стадиях современной живописи, то это потому, что они, мне кажется, очень ярко выражают движение идей нашего времени. В самом деле, мое поколение после знаменитых предшественников, которых мы были последователями, старалось широко открыть окна на природу: всё видеть, всё сказать. В нем, даже между самыми бессознательными, завершалось продолжительное усилие позитивной философии и аналитических и опытных наук. Мы были переполнены наукою, которая окружала нас со всех сторон, мы жили ею, вдыхая в себя воздух того времени. Теперь я могу признаться в этом, я лично был даже сектантом, старающимся перенести в область литературы строгий метод ученого. Но где тот человек, который в борьбе не заходит далее того, что нужно, и ограничивается победой, не нарушая выгоды ее? Впрочем, я ни о чем не жалею и продолжаю верить в страстность, которая желает и действует. И потом, какой энтузиазм и какие надежды одушевляли нас! Всё знать, всё мочь, всё победить! Посредством истины сделать человечество более высоким и счастливым! И вот тут-то, господа, вы, молодежь, выступаете на сцену. Я говорю, молодежь – что-то неопределенное, отдаленное и глубокое, как море: потому что где она – молодежь? Чем она будет в действительности? Кто призван говорить во имя ее? Я должен держаться тех мыслей, которые ей приписывают. И если эти мысли не принадлежат многим из вас, я вперед прошу их простить меня. Я обращаю их к тем, которые обманули нас сомнительными сведениями, более согласными, вероятно, с их желанием, чем с действительностью.
Итак, господа, нас уверяют, что ваше поколение разрывает с нашим, что вы не полагаете уже всей вашей надежды в науке, что вы признали такую социальную и нравственную опасность в том, чтобы всё строить на науке, что вы решились возвратиться к прошедшему и из остатков прежних верований создать для себя живое верование. Конечно, речь идет не о полном разрыве с наукою, – предполагается, что вы принимаете все ее последние приобретения и что вы намерены расширить их. Допускается, что вы признаете доказанные истины, и прилагаются старания о том, чтобы приладить их к старинным догматам. В сущности же, наука поставлена в стороне от веры. Ее отталкивают на ее прежнее место. Она – простое упражнение ума и допускаемое исследование до тех пор, пока она не касается до сверхъестественного и загробного. Говорят, что опыт уже сделан, что наука не способна вновь заселить небо, которое она опустошила, и возвратить счастие душам, наивный мир которых она разрушала. Время лживого торжества ее кончено. Она должна быть скромна, потому что не может всего знать, не может сразу всё обогатить, всё исцелить. И если еще не смеют сказать интеллигентной молодежи, чтобы она бросила свои книги и оставила своих учителей, уже есть святые и пророки, которые ходят среди людей, восхваляя добродетель невежества, ясность простоты и необходимость для слишком ученого и состарившегося человечества, необходимость освежения в глубинах доисторической деревни среди предков, едва только отделившихся от земли, до всякого общества и всякого знания.
Я не отрицаю того кризиса, который мы переживаем; это – усталость и возмущение в конце этого века, после столь лихорадочного и колоссального труда, цель которого состояла в том, чтобы всё знать и всё сказать. Казалось, что наука, которая только что разрушила древний мир, должна была живо воссоздать его по тому идеалу, который мы имеем о справедливости и счастии. Ждали 20, 50, даже 100 лет. И потом, когда увидали, что справедливость все-таки не царствовала, что счастие не приходило, многие отдались всё растущему нетерпению, отчаиваясь и отрицая даже то, чтобы можно было посредством знания достигнуть блаженной воли. Явление известное: нет действия без реакции, и мы присутствуем при неизбежной усталости, свойственной длинным путешествиям: люди садятся на краю дороги и, глядя на бесконечную равнину развертывающегося следующего века, отчаиваются дойти когда-нибудь до цели; доходят даже до того, что сомневаются даже в пройденном пути, сожалеют о том, что не легли в поле, чтобы спать в нем целую вечность. К чему идти, если цель будет постоянно удаляться? К чему знать, если нельзя знать всего? Уж лучше оставаться в чистой простоте, в счастливом неведении ребенка. Таким образом людям кажется, что наука, будто бы обещавшая счастие, на наших глазах обанкротилась.
Но наука разве обещала счастие? Я не думаю этого. Она обещала истину, и вопрос в том, можно ли делать счастие из истины? Чтобы довольствоваться ею, без сомнения, нужно много стоицизма, полного отречения от своего «я», ясности удовлетворенного ума, который можно встретить только у избранных. А между тем, какой крик отчаяния раздается среди страдающего человечества! Как жить без лжи и иллюзии! Если нет где-нибудь другого мира, в котором царствует справедливость, где богатые наказаны и добрые вознаграждены, как прожить без возмущения эту отвратительную человеческую жизнь? Природа несправедлива и жестока, и наука как будто приводит нас к уродливому праву сильного, так что разрушается всякая нравственность и всякое общество влечется к деспотизму. И вот в этой происходящей реакции, в этой усталости от излишка знания, о которой я говорил, есть тоже это отступление перед истиной, еще плохо разъясненной и кажущейся жестокой на наши глаза, неспособные еще понять и проникнуть все законы. Нет, нет, воротимся к спокойному сну неведения! Действительность есть школа извращения, надо убить ее и отрицать, потому что действительность есть только безобразие и преступление, и люди бросаются в мечту, и нет другого спасения, как уйти от земли, довериться загробному и надеяться, что там, наконец, мы найдем удовлетворение нашей потребности братства и справедливости.
Этот-то отчаянный призыв к счастию мы слышим теперь. Он меня бесконечно трогает. И заметьте, что он слышится со всех сторон, как жалостный вопль среди грома движения науки, которая не останавливает своих колес и машин. Довольно с нас истины, давайте нам химер! Мы найдем спокойствие только тогда, когда будем мечтать о том, чего нет, когда будем уноситься в бесконечное: там только распускаются те мистические цветы, запах которых усыпит наше страдание. Уже музыка ответила, литература стремится удовлетворить новую жажду, живопись сообразуется с новой модой. Я говорил вам о выставке Марсова поля: вы увидите там расцвет этой флоры древней живописи на окнах, жидких и худых мадонн, видения в сумрачных тенях, окостенелые лица с надломленными жестами примитивистов. Это – реакция против натурализма, который умер и похоронен, как это говорят нам. Во всяком случае движение несомненно, потому что оно захватило все проявления духа, и надо считаться с ним и изучить и объяснить его, если не хочешь отчаяться в завтрашнем дне.
С своей стороны, господа, я, как старый и закоренелый позитивист, вижу в этом только неизбежную остановку в поступательном движении. Остановки, собственно, нет, потому что наши библиотеки, лаборатории, амфитеатры и школы не опустели. Внушает мне доверие и то, что социальная почва не изменилась, а остается всё тою же демократическою почвою, на которой вырос наш век. Для того, чтобы расцвело другое искусство, чтобы новое верование изменило направление движения человечества, надо, чтобы это верование имело и новую почву, в которой оно могло бы произрасти, потому что не может быть нового общества без новой почвы. Вера не воскресает, и из мертвых религий можно делать только мифологии.
Потому следующий век будет только утверждением нашего в том демократическом и научном порыве, который увлек нас и который продолжается. Всё, что я могу допустить, это – то, что в литературе мы слишком закрыли горизонты.
Я лично сожалел уже о том, что был сектантом, желающим в искусстве держаться только что доказанных истин. Вновь пришедшие раскрыли горизонты, захватив неизвестное и тайну, и они хорошо сделали. Между истинами, установленными наукой и потому непоколебимыми, и истинами, которые она вырвет завтра из области неизвестного, чтобы в свою очередь закрепить их, есть неопределенное поле сомнений и исследований, которое принадлежит, как мне кажется, столько же литературе, сколько и науке.
Вот тут-то мы и можем делать наше дело передовых пионеров, объясняя соответственно своему характеру и силе ума действия неизвестных сил. Идеал ведь есть не что иное, как необъяснимое, как силы того бесконечного мира, в котором мы купаемся, не зная их. И если мы можем придумывать решения, объясняющие неизвестное, неужели мы можем позволить себе сомневаться в открытых уже законах, представляя их себе иными и этим самым отрицая их? По мере того, как подвигается наука, несомненно отступает и идеал, и мне кажется, что единственный смысл жизни, единственная радость, которую должно находить в жизни, состоит в этом медленном завоевании, хотя бы нам ясна была грустная достоверность того, что всего мы никогда не узнаем.
В то смутное время, которое мы переживаем, господа, в наше время, столь пресыщенное и столь ищущее, появились пастыри душ, которые озабочены и горячо предлагают молодежи веру. Предложение великодушно, но, к сожалению, эта вера изменяется и извращается соответственно тому пророку, который ее предлагает. Их много различных, но ни одна из них не кажется мне ни очень ясною, ни очень определенною. Вас умоляют верить, не говоря определенно во что. Может быть, этого за и нельзя, a может быть, тоже, что и не решаются этого сделать. Вас приглашают верить для того, чтобы вы имели счастие верить; главное, чтобы вы научились верить. Вопрос сам по себе не дурен: конечно, большое счастие полагаться на достоверность веры, какая бы она ни была; но беда в том, что нельзя руководить благодатью: она дует, где хочет.
Итак, я закончу с своей стороны, предложив вам тоже веру, умоляя вас иметь веру в труд. Работайте же, молодые люди! Я знаю, насколько этот совет кажется банальным. Нет публичного акта, при котором его не повторяли бы среди всеобщего равнодушия воспитанников. Но я прошу вас подумать о нем и позволю себе, я, бывший всё время только работником, сказать вам о том благе, которое я извлек из того долгого труда, который наполнил всю мою жизнь. Мое вступление в жизнь было трудное: я знал и нищету, и отчаяние, я жил потом в борьбе, живу в ней и теперь, разбираемый, отрицаемый, осыпаемый оскорблениями. И что ж? У меня была только одна вера, одна сила – труд. Поддержала меня только та огромная работа, которую я задал себе, передо мной всегда стояла вдалеке та цель, к которой я двигался, – и этого было достаточно, чтобы поднимать меня, придавать мне мужество, когда плохая жизнь подавляла меня. Труд, про который я говорю вам, – это труд правильный, ежедневный, урок, обязанность, которую себе задал, хоть на шаг каждый день подвигаться в своем деле. Сколько раз поутру я садился за свой стол с потерянной головой, с горечью во рту, мучимый какою-нибудь великой болью, физической или нравственной! И каждый раз, несмотря на возмущения моего страдания, мой урок для меня был облегчением и подкреплением. Я всегда выходил утешенным из своего ежедневного занятия, с сердцем, может быть, и разбитым, но еще не падающим и могущим жить до завтра.
Труд! Господа, только подумайте о том, что это единственный закон мира, тот регулятор, который влечет органическую материю к ее известной цели! Жизнь не имеет другого смысла, другой причины быть, мы все появляемся только для того, чтобы совершить нашу долю труда и исчезнуть.
Жизнь есть не что иное, как сообщенное движение, которое она получает и завещает и которое в сущности есть не что иное, как труд, как работа великого дела, совершаемого во все века. И потому как же нам не быть скромными и не принять того урока, который задан каждому из нас, без возмущения и не уступая гордости своего «я», которое считает себя центром и не хочет ступить в ряды?
Как только этот урок принят, мне кажется, что спокойствие должно установиться во всяком человеке, даже самом измученном. Я знаю, что есть умы, мучимые бесконечностью, которые страдают от тайны; к ним я братски обращаюсь, советую им занять свою жизнь каким-нибудь огромным трудом, которого, хорошо бы было, они не видели конца. Это – тот маятник, который даст им возможность идти прямо, это – ежечасное рассеяние, это – зерно, брошенное уму для того, чтобы он молол его и делал из него насущный хлеб с удовлетворенным сознанием исполненного долга. Конечно, это не разрешает никакой метафизической задачи, это только эмпирическое средство для того, чтобы честно или почти спокойно прожить свою жизнь; но разве мало того, чтобы приобрести нравственное и физическое здоровье, избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос о приобретении наибольшего возможного счастия на этой земле?
Я, признаюсь, никогда не доверял химерам. Нет ничего менее здорового как для человека, так и для народов, как заблуждение: оно уничтожает усилие, оно ослепляет, оно составляет тщеславие слабых. Продолжать держаться легенды, скрывать от себя действительность, верить, что достаточно мечтать о силе для того, чтобы быть сильным, – мы видели, куда это ведет, к каким страшным бедствиям. Народам говорят, чтобы они смотрели вверх, чтобы они верили в высшую власть, чтобы они возносились к идеалу.
Нет, нет! Такие речи кажутся мне иногда безбожными. Сильный народ только тот, который трудится, и только труд дает мужество и веру. Чтобы победить, нужно, чтобы арсеналы были полны, чтобы вооружение было самое прочное и усовершенствованное, чтобы войско было обучено, доверяло своим начальникам и самому себе. Всё это приобретается: для этого нужно только доброе желание и метод. Будущий век, беспредельное будущее принадлежит труду. Пусть не сомневаются в этом. И разве мы не видим уже в поднимающемся социализме зачаток социального закона будущего, закона труда для всех, труда – освободителя и примирителя?
Юноши, молодые люди, беритесь же за дело. Пусть каждый из вас берется за свой урок, который должен наполнить его жизнь. Как ни скромно бы было это дело, оно тем не менее будет полезно; в чем бы оно ни состояло, только бы оно поднимало вас. Когда вы его упорядочите без переутомления, давая то количество, которое вы в состоянии произвести каждый день, оно даст вам возможность жить здорово и весело и избавит вас от мук бесконечности. Какое здоровое и великое общество людей было бы то общество, в которое каждый член его вносил бы свою логическую долю труда! Человек, который работает, всегда бывает добр. И потому я убежден, что единственная вера, которая может спасти нас, есть вера в совершенное усилие. Прекрасно мечтать о вечности, но для честного человека достаточно пройти эту жизнь, совершив свое дело.
Г-н Золя не одобряет того, что новые учители молодежи предлагают ей верить во что-то неопределенное и неясное, и он совершенно прав в этом, но, к сожалению, с своей стороны предлагает ей тоже веру и веру в нечто еще более неясное и неопределенное: веру в науку и в труд.
Г-н Золя считает как будто совершенно решенным и неподлежащим сомнению вопрос о том, что есть та наука, в которую надо не переставать верить. Трудиться во имя науки! Но в том-то и дело, что слово «наука» имеет очень широкое и мало определенное значение, так что то, что одни люди считают наукой, т. е. делом очень важным, считается другими и самым большим количеством людей, всем рабочим народом, ненужными глупостями. И нельзя сказать, чтобы это происходило только от необразования рабочего народа, не могущего понять всего глубокомыслия науки: сами ученые постоянно отрицают друг друга. Одни ученые считают наукой из наук философию, богословие, юриспруденцию, политическую экономию; другие ученые – естественники – считают всё это самым пустым, ненаучным делом, и, наоборот, то, что позитивисты считают самыми важными науками, считается спиритуалистами, философами и богословами если не вредными, то бесполезными занятиями. Но мало того, в одной и той же области всякая система среди самих жрецов своих имеет своих горячих защитников и противников, одинаково компетентных, утверждающих диаметрально противоположное. Мало того, в каждой области постоянно являются такие научные положения, которые, просуществовав иногда год, иногда десятки лет, оказываются вдруг заблуждениями и поспешно забываются теми самыми, которые их пропагандировали.
Ведь мы все знаем, что то, что считалось исключительно наукой и делом очень важным у римлян, чем они гордились, без чего считали человека варваром, была риторика, т. е. такое упражнение, над которым мы теперь смеемся и считаем не только не наукой, но пустяками. Мы также знаем, что то, что считалось наукой и самым важным делом в средние века, была схоластика, над которой мы теперь также смеемся. И я думаю, не нужно особенной смелости мысли для того, чтобы и в том огромном количестве знаний, которые в нашем мире считаются важным делом и называются наукой, предугадывать такие, над которыми наши потомки, читая описания той серьезности, с которой мы занимались нашими риторикой и схоластикой, – предметами, признаваемыми в наше время наукой, будут также пожимать плечами.
В наше время люди, освободившись от одних суеверий, не заметив еще этого, подпали под другие, не менее безосновательные и вредные, как и те, от которых они только что избавились. Избавившись от суеверий отживших религий, люди подпали под суеверия научные. Сначала кажется, что не может быть ничего общего между верованиями древнего еврея в то, что мир сотворен в 6 дней, что грехи отцов будут взысканы на детях, что некоторые болезни излечиваются созерцанием змеи, и верованием людей нашего времени в то, что мир произошел от вращения материи и борьбы существ, что преступность происходит от наследственности и что существуют микроорганизмы в виде запятых, от которых происходят такие-то болезни, и т. п. Кажется, что нет ничего общего между этими верованиями, но это только кажется.
Стоит перенестись воображением в умственное состояние древнего еврея, когда ему предлагались его верования его жрецами, чтобы убедиться в том, что основания, на которых принимались им положения о происхождении мира, и те, на которых принимаются людьми нашего времени различные научные положения, не только похожи, но совершенно тождественны.
Как еврей верил ведь собственно не в шестидневное творение и целительную змею, а в то, что есть люди, которые несомненно знают высшую, доступную человеку истину, и что поэтому хорошо верить в них, точно так же и люди нашего времени верят не в дарвиновскую теорию наследственности и запятые, а во всё то, что им выдают за истину жрецы науки, основы деятельности которых остаются для верующих такими же таинственными, какими оставались для евреев основы знания их руководителей.
Позволяю себе сказать даже и то, что я неоднократно замечал, что, точно так же как, не будучи никем, кроме своими же жрецами, проверяемы, древние жрецы смело лгали и выдавали за истину то, что им взбредало в голову, точно так же нередко случается делать то же самое и так называемым людям науки.
Вся речь г-на Золя направлена против учителей молодежи, призывающих ее к возвращению к отжитым верованиям, и г-н Золя считает себя их противником. В сущности же те, против которых он вооружается, т. е. верующие или скорее желающие верить в отжившую религию, и те, за которых борется г-н Золя, т. е. представители науки, – люди одного лагеря, и если им разобраться хорошенько в своих стремлениях, то им спорить не о чем: querelles d’amoureux,1 как говорит Дюма. И те и другие ищут основ жизни, двигателей ее не в себе, не в своем разуме, а во внешних человеческих формах жизни: одни в том, что они называют религией, другие в том, что называется наукой. Одни, те, которые ищут спасения в религии, берут его из предания о древнем знании других людей и хотят верить этому чужому древнему знанию; другие, те, которые ищут спасения в том, что они называют наукой, берут не из своего знания, а из знания других людей и верят этому чужому знанию. Одни видят спасение человечества в исправленном, подновленном или очищенном полуеврейском, полуязыческом христианстве; другие видят его в совокупности самых случайных, разнообразных и ненужных знаний, которые они называют наукой и считают чем-то самобытно-действующим, благодетельным и потому неизбежно долженствующим исправить все недостатки жизни и дать человечеству высшее доступное благо. Одни как будто нарочно не хотят видеть того, что то, что они хотят восстановить и называют религией, есть только пустая кризалида, из которой бабочка уже давно улетела и кладет яички в другом месте, и что восстановление такой религии не только не может помочь бедам нашего времени, но может только усилить их, отводя глаза людей от настоящего дела. Другие не хотят видеть того, что то, что они называют наукой, будучи случайным собранием некоторых знаний, в настоящее время заинтересовавших нескольких праздных людей, может быть или невинным препровождением времени для богатых людей или, в лучшем случае, только орудием зла или добра, смотря по тому, в чьих руках оно будет находиться, но само по себе ничего не может исправить. В сущности же, в глубине души ни те, ни другие не верят в действительность того средства, которое они предлагают: а и те, и другие одинаково хотят только чем-нибудь отвести глаза себе и людям от той пропасти, перед которой уже стоит человечество и в которую, продолжая идти по тому же пути, оно неизбежно должно рухнуться. Одни видят это отвлекающее средство в мистицизме, религии; другие, выразителем которых выступил Золя, в одуряющем действии труда для науки.
Разница между людьми, верующими в религию и в науку, только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже развенчена, а другие в новую, ложь которой еще не развенчена и которая поэтому еще внушает благоговейный трепет некоторым наивным людям. А между тем суеверие в том, что называется наукой, едва ли меньше, чем в том, что называется религией. Разница только в том, что одно – суеверие прошедшего, другое – суеверие настоящего.
И потому, не будет ли также опасно, последовав совету г-на Золя, посвятить свою жизнь служению тому, что в наше время и в нашем мире считается наукой? Что как я посвящу всю свою жизнь на исследование явлений в роде наследственности по учению Ломброзо, или коховской жидкости, пли образования чернозема посредством деятельности червей, или круксовского четвертого состояния материи и т. п., и вдруг узнаю перед смертью, что то, на что я посвятил всю свою жизнь, были глупые, а может быть, даже и вредные пустяки, а жизнь у меня была только одна.
Есть малоизвестный китайский философ Лаодзи (первый и лучший перевод его книги «О пути добродетели» Stanislas Julien). Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее благо как отдельных людей, так в особенности и совокупности людей, народов может быть приобретено через познание «Tao» – слово, которое переводится «путем, добродетелью, истиной», познание же «Тао» может быть приобретено только через неделание, «le non agir», как переводит это Julien. Все бедствия людей, по учению Лаодзи, происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особенности общественных, которые преимущественно имеет в виду китайский философ, если бы они соблюдали неделание (s’ils pratiquaient le non agir).
И я думаю, что он совершенно прав. Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; полковник с обучения людей убийству, фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?
Но, может быть, надо говорить только о людях, работающих для науки?
Я постоянно получаю от разных авторов многочисленные тетради, часто и книги с работами, художественными и научными.
Один в окончательной форме разрешил вопрос христианской гносеологии, другой напечатал книгу о космическом эфире, третий разрешил социальный, четвертый – политический, пятый – восточный вопросы, шестой издает журнал, посвященный исследованиям таинственных сил духа и природы, седьмой разрешил проблему коня.
Все эти люди работают для науки неустанно и усердно, но я думаю, что время и труд не только всех этих писателей, но и многих других, не только пропали даром, но были еще и вредны. Вредны, во-первых, тем, что для приготовления этих писании тысячи других людей делали бумагу, шрифт, набирали, печатали и, главное, кормили, одевали всех своих тружеников науки, и еще тем, что все сочинители эти, вместо того чтобы чувствовать свою вину перед обществом, как бы они чувствовали ее, если бы они играли в карты или горелки, со спокойной совестью продолжают делать свое никому ненужное дело.
Кто не знает тех безнадежных для истины и часто жестоких людей, которые так заняты, что им всегда некогда, главное – некогда справиться с тем, нужно ли кому-нибудь и не вредно ли то дело, над которым они так усердно работают. Вы говорите им: «Ваша работа бесполезна или вредна потому-то и потому-то, погодите, рассудимте дело»; они не слушают вас и даже с иронией возражают: «Хорошо вам рассуждать, когда нечего делать, а я работаю над исследованием того, сколько раз такое-то слово употреблено таким-то древним писателем, или над определением форм атомов, или над телепатией» и т. п.
Но кроме этого меня всегда уже давно поражало то удивительное, утвердившееся особенно в Западной Европе, мнение, что труд есть что-то вроде добродетели, и еще гораздо прежде, чем прочесть это мнение, ясно выраженное в речи г-на Золя, я уже не раз удивлялся на это странное значение, приписываемое труду.
Ведь только муравей в басне, как существо, лишенное разума и стремлений к добру, мог думать, что труд есть добродетель, и мог гордиться им.
Г-н Золя говорит, что труд делает человека добрым; я же замечал всегда обратное: сознанный труд, муравьиная гордость своим трудом, делает не только муравья, но и человека жестоким. Величайшие злодеи человечества Нерон, Петр I всегда были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами с собой без занятий или увеселений.
Но если даже трудолюбие не есть явный порок, то ни в каком случае оно не может быть добродетелью. Труд так же мало может быть добродетелью, как питание. Труд есть потребность, лишение которой составляет страдание, но никак не добродетель. Возведение труда в достоинство есть такое же уродство, каким бы было возведение питания человека в достоинство и добродетель. Значение, приписываемое труду в нашем обществе, могло возникнуть только как реакция против праздности, возведенной в признак благородства и до сих пор еще считающейся признаком достоинства в богатых и малообразованных классах. Труд, упражнение своих органов, для человека есть всегда необходимость, как о том одинаково свидетельствуют телята, скачущие вокруг кола, к которому они привязаны, и люди богатых классов, мученики гимнастики, всякого рода игр: карт, шахмат, lawn tennis’а и т. п., не умеющие найти более разумного упражнения своих органов.
Труд не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть большею частью нравственно анестезирующее средство вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни.
«Когда мне рассуждать с вами о философии, нравственности и религии, – мне надо издавать ежедневную газету с полмиллионом подписчиков, мне надо организовать войско, мне надо строить Эйфелеву башню, устраивать выставку в Чикаго, прорывать Панамский перешеек, дописать двадцать восьмой том своих сочинений, свою картину, оперу». Не будь у людей нашего времени отговорки постоянного, поглощающего их всех труда, они не могли бы жить, как живут теперь. Только благодаря тому, что они пустым и большею частью вредным трудом скрывают от себя те противоречия, в которых они живут, только благодаря этому и могут люди жить так, как они живут.
И именно в качестве такого средства и представляет г-н Золя труд своим слушателям. Он прямо говорит: «Это только эмпирическое средство прожить честную жизнь и почти спокойную. Но разве этого мало, разве мало того, чтобы приобрести хорошее физическое и моральное здоровье и избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос наибольшего доступного человеку счастия?»
Таков совет, даваемый молодежи нашего времени г-ном Золя!
Совсем другое говорит Дюма.
Вот его письмо, написанное к редактору «Голуа».
Милостивый государь!
Вы спрашиваете моего мнения относительно стремлений, которые, кажется, что обнаруживаются среди школьной молодежи, и относительно споров, которые предшествовали и сопровождали происшествия в Сорбонне. Я предпочел бы не давать своего мнения относительно чего бы то ни было, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет. Люди, которые и прежде были одинакового с нами мнения, останутся в нем еще в продолжение некоторого времени; те, которые были противоположного, будут упорствовать в нем всё более и более. Лучше бы было совсем не спорить. Мнения подобны гвоздям, сказал один моралист из моих приятелей: чем более по ним колотят, тем глубже их вколачивают.
Это не то, чтобы я не имел своего мнения относительно того, что называют великими мировыми вопросами, и относительно различных форм, которыми человеческий ум мгновенно одевает те предметы, о которых он рассуждает. Это мнение такое определенное и такое безусловное, что я предпочел бы сохранить его для своего личного руководства, не имея притязания ничего творить, ничего разрушать. Мне должно бы было возвратиться к тем великим политическим, социальным, философским, религиозным вопросам, и это повело бы нас слишком далеко, если бы я последовал за вами в исследовании незначительных внешних явлений, вызываемых этими вопросами в каждом новом поколении. В самом деле, каждое новое поколение приходит с мыслями и страстями, старыми как мир, хотя оно думает, что никто не имел их раньше его, потому что оно в первый раз находится под их влиянием, и оно убеждено, что оно вот-вот преобразует всё существующее.
В то время, как человечество пытается разрешить в продолжение тысячелетий эту великую задачу причин и следствий, которую оно едва ли разрешит и через тысячи веков, если и допустить, чего я не допускаю, возможность ее разрешения, двадцатилетние дети объявляют, что они имеют неопровержимое разрешение ее в их совершенно молодых мозгах. И как первый довод в первом же споре, они начинают колотить по тем, которые с ними не согласны. Должно ли из этого заключить, что это есть признак возвращения целого общества к религиозному идеалу, временно затемненному и оставленному? Или у всех этих молодых апостолов это есть только чистый физиологический вопрос, вопрос горячности крови, силы мускулов, горячности и силы, которые толкали молодежь двадцать лет тому назад на противоположное движение? Я склоняюсь к последнему предположению.
Тот грубо ошибался бы, кто хотел бы видеть в проявлениях возраста, полного силы, доказательство окончательного развития или хотя бы прочного. Тут есть только припадок лихорадки роста. Какого бы рода ни были те идеи, во имя которых молодые люди колотят друг друга, можно пари держать, что они будут противниками этих идей, как скоро они встретят их в своих детях. Возраст и опыт сделают это.
Многие, многие из воюющих и врагов настоящего часа рано или поздно встретятся на проселочных дорогах жизни отчасти усталые, отчасти разочарованные борьбой с действительностью, и вместе рука с рукой вернутся на большую дорогу, с грустью признавая то, что, несмотря на их прежние убеждения, земля осталась круглою и вертится всё в том же направлении и что те же горизонты расстилаются под всё тем же бесконечным и закрытым небом.
Вволю поспорив и подравшись, одни во имя веры, другие во имя науки, столько же для того, чтобы доказать, что есть бог, сколько и для того, чтобы доказать, что его нет, – два утверждения, насчет которых можно драться вечно, если решать не разоружаться до тех пор, пока не докажут, – они согласятся окончательно, что одни не знают об этом больше, чем другие, но что они твердо знают, что в конце концов человеку нужно надеяться столько же, если и не больше, чем знать, и что он страдает ужасно от неизвестности, в которой он находится, о вещах более всего для него интересных, что он постоянно ищет положения лучшего, чем то, в котором он находится, и что ему надо предоставить полную свободу искать в области философии это средство быть более счастливым.
Перед ним был мир, который был до него и останется после него, и он знает, что мир этот вечен и что он желал бы участвовать в этой вечности. Раз он был призван к жизни, он требует своей доли в жизни вечной, которая окружает его, возбуждает его, подсмеивается над ним и уничтожает его. Так как он знает, что он начался, он не хочет кончиться. Он громко призывает, он тихим голосом молит о достоверности, которая постоянно ускользает от него для его же счастия, потому что достоверное знание было бы для него неподвижностью и смертью. Так как сильнейший двигатель человеческой энергии есть неизвестное, так как он не может установиться в достоверности, он носится в неопределенных идеалах, и как бы далеко он ни отклонялся в скептицизм, в отрицания, вследствие гордости, любопытства, злобы, моды, он всегда возвращается к надежде, без которой он не может жить. Это как ссора влюбленных: ненадолго.
Так что бывает иногда затемнение, но нет никогда полного исчезновения человеческого идеала. Через него проходят философские туманы, как облака перед месяцем, но белое светило продолжает свое шествие и вдруг появляется из-за них нетронутым и блестящим. Эта неудержимая потребность идеала в человеке объясняет то, что человек бросался с таким доверием, с таким восторгом, без разумного контроля в различные религиозные формулы, которые, обещая ему бесконечное, предлагали его ему сообразно его природе и ставили его в известные рамки, всегда необходимые даже для идеала.
Но вот уже давно при каждой станции движения человечества новые люди выходят из мрака в всё большем и большем количестве, в особенности за последние 100 лет, и люди эти во имя разума, науки, наблюдения отрицают истины, объявляют их относительными и хотят разрушить те формулы, которые их содержат.
Кто прав в этом споре? Все – до тех пор, покуда все ищут, и никто – как только начинают угрожать. Между истиной, которая составляет цель, и свободным исследованием, на которое всякий имеет право, силе нечего делать, несмотря на знаменитые примеры противного. Сила только удаляет цель, вот и всё. Она не только жестока, она бесполезна, что составляет самый большой недостаток в деле цивилизации. Никакой удар кулака, как бы силен он ни был, не докажет ни существования, ни несуществования бога.
И, наконец, та сила, какая бы она ни была, которая сотворила мир, так как он, как мне кажется, все-таки не мог сотвориться сам, сделав нас своими орудиями, удержала за собой право знать, зачем она нас сделала и куда она нас ведет. Сила эта, несмотря на все намерения, которые ей приписывали, и на все требования, которые к ней предъявляли, сила эта, как кажется, желает удержать свою тайну, и потому (я скажу здесь всё, что думаю) мне кажется, что человечество начинает отказываться от желания проникнуть ее. Человечество обращалось к религиям, которые ничего не доказали ему, потому что они были различны; обращалось к философиям, которые не более того разъяснили ему, потому что они были противоречивы; оно постарается теперь управиться одно с своим простым инстинктом и своим здравым смыслом, и так как оно живет на земле, не зная зачем и как, оно постарается быть настолько счастливым, насколько это возможно, теми средствами, которые предоставляет ему наша планета.
Недавно Золя в замечательной речи, обращенной к студентам, советовал им как лекарство, даже как панацею против всех затруднений в жизни, – труд. Labor improbus omnia vincit.2 Лекарство известно, и от этого оно не менее хорошо, но оно всегда было и продолжает быть недостаточным. Пусть работает человек своими мускулами или своим умом, все-таки никогда не может быть его единственной заботой приобретение пищи, наживание состояния или приобретение славы. Все те, которые ограничивают себя этими целями, чувствуют и тогда, когда они достигли их, что им еще недостает чего-то: дело в том, что, что бы ни производил человек, что бы ни говорил, что бы ему ни говорили, он состоит не только из тела, которое надо кормить, и ума, который надо образовать и развивать, у него несомненно есть еще и душа, которая еще заявляет свои требования. Эта-то душа находится в неперестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине. До тех пор, пока она не получит весь свет и не завоюет всю истину, она будет мучать человека.
И вот – она никогда так не занимала, никогда не налагала с такою силою свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало: они составили таким образом общую, коллективную душу с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неудержимо предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее.
Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячества Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это – последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала.
Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого – эти вооружения, эти угрозы, эти гонения; но, если вы вглядитесь внимательнее, вы увидите, что всё это только внешнее. Всё это колоссально, но пусто.
Во всем этом уже нет души: она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться, и ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже заражающих, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающее их справедливость великое и искреннее сострадание.
Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это оттого, что я скоро уйду из этого мира и что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: «Любите друг друга», без рассуждения о том, кто сказал эти слова: бог или человек.
Спиритуалистическое движение, заметное со всех сторон и которым столько самолюбивых и наивных людей думают управлять, будет безусловно человечно. Люди, которые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены безумием, бешенством любить друг друга. Это сначала, очевидно, не совершится само собой. Будут недоразумения, может быть и кровавые: так уж мы воспитаны и приучены ненавидеть друг друга часто теми самыми людьми, которые призваны научать нас любви. Но так как очевидно, что этот великий закон братства должен когда-нибудь совершиться, я убежден, что наступают времена, в которые мы неудержимо пожелаем, чтобы это совершилось.
А. Дюма
1 июня 1893 года.
Главная разница между письмом Дюма и речью Золя, не говоря уже о внешней разнице, состоящей в том, что речь Золя обращена к молодежи и точно как будто заискивает перед нею (что стало обыкновенным и неприятным явлением нашего времени так же, как и заискивание писателей перед женщинами), письмо же Дюма не обращено к молодежи и не говорит ей комплиментов, а напротив, указывает ей ее всегдашнюю ошибку самонадеянности, и вследствие этого самого, вместо того чтобы внушать юношам, что они очень важные люди и что в них вся сила, чего они никак не должны думать для того, чтобы сделать что-нибудь путное, научает не только их, но взрослых и старых очень многому, – разница главная в том, что речь Золя усыпляет людей, удерживая их на том пути, на котором они стоят, уверяя их в том, что то, что они знают, и есть то самое, что им нужно знать; письмо же Дюма будит людей, указывая им то, что жизнь их идет совсем не так, как она должна идти, и что они не знают того самого главного, что им нужно знать. Дюма так же мало верит в суеверие прошедшего, как и в суеверие настоящего. Но зато и именно потому, что он не верит ни в суеверие прошедшего, ни в суеверие настоящего, он сам наблюдает, сам думает и потому видит ясно не только настоящее, но и будущее, как видели его всегда те, которых в древности называли видящими пророками. Как ни странно это может казаться тем, которые, читая сочинения писателей, видят только внешнюю сторону писания, а не душу писателя, тот самый Дюма, который написал «Dame aux Camelias», «Affaire Clémenceau»3 и др., этот самый Дюма видит теперь будущее и пророчествует о нем. Как ни странно это кажется нам, привыкшим представлять себе пророка в звериной шкуре и в пустыне, пророчество остается пророчеством, несмотря на то, что оно раздается не на берегах Иордана, а печатается на берегах Сены в типографии «Голуа», и слова Дюма – действительное пророчество и носят на себе все главные признаки пророчества: во-первых, тот, что слова эти совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они раздаются; во-вторых, тот, что, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашаются с ними и, в-третьих, главное, тот, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает.
Чем люди больше будут верить в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, религией или наукой, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение. И в этом главный недостаток речи Золя. Но, напротив, чем больше они будут верить тому, что предсказывает Дюма, – тому, что неизбежно и скоро наступит то время, когда люди все будут увлечены любовью друг к другу и, отдавшись ей, сами по своей воле изменят всю теперешнюю жизнь, – тем скорее наступит это время. И в этом главное достоинство письма Дюма. Золя советует людям не изменять своей жизни, а только усиливать деятельность в раз принятом направлении, и этим внушает им неизменение их жизни. Дюма же, предсказывая внутреннее изменение чувств людей, внушает им его.
Дюма предсказывает, что люди, испробовав всё, возьмутся наконец – и в очень скором времени – серьезно за приложение к жизни закона «любви друг к другу» и будут, как он говорит, охвачены «безумием, бешенством» любви. Он говорит, что видит уже среди явлений, представляющихся столь угрожающими, признаки этого нового нарождающегося любовного настроения людей, видит, что поголовно вооруженные народы уже не ненавидят друг друга: видит, что в борьбе богатых классов с бедными проявляется уже не торжество победителей, а искреннее сострадание победителей к побежденным и недовольство и стыд перед своей победой; видит, главное, как он говорит, образовавшиеся центры любовного притяжения, нарастающие, как ком снега, и неизбежно долженствующие привлечь к себе всё живое, до сих пор еще не присоединявшееся к ним, и этим путем изменения настроения уничтожится всё то зло, от которого страдают люди.
Я думаю, что если и можно оспаривать близость того переворота, который предсказывает Дюма, или даже самую возможность такого увлечения людей любовью друг к другу, никто не будет спорить о том, что если бы это случилось, то человечество избавилось бы от большей части всех удручающих его и угрожающих ему бедствий. Нельзя не признать того, что если бы люди делали то, что им предписывали тысячи лет тому назад, не только Христос, но все мудрецы мира, т. е. хотя бы не только любили других, как себя, но не делали бы хоть другим того, чего не хотят, чтобы им делали, что если бы люди вместо эгоизма предались альтруизму, если бы склад жизни из индивидуалистического переменился в коллективистический, как на своем дурном жаргоне выражают ту же самую мысль люди науки, то жизнь людей, вместо того чтобы быть бедственной, стала бы счастливой. Мало того, все признают и то, что жизнь, продолжаемая на тех языческих основах борьбы, на которых она идет теперь, приведет неизбежно человечество к величайшим бедствиям и что время это уже близко. Все люди видят, что чем больше и энергичнее будут они отнимать друг у друга землю и произведения их труда, тем озлобленнее будут становиться они и тем неизбежнее рано или поздно отнимут те люди, у которых более всего отнято, у похитителей то, чего их так долго лишали, и жестоко отплатят еще за все перенесенные ими лишения. Все уже давно видят ту до смешного очевидную нелепость взаимного вооружения народов, которое неизбежно должно кончиться если не ужаснейшими и бесконечными побоищами, то всеобщим совершающимся уже разорением и вырождением всех людей, участвующих в этом круге вооружений. Кроме того, все люди нашего мира признают обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека.
Люди знают всё это и, несмотря на то, устраивают жизнь свою противно и своей выгоде, и безопасности, и закону, который они исповедуют.
Очевидно, есть какая-то скрытая, но важная причина, мешающая людям исполнять то, что им выгодно, что избавило бы их от очевидной опасности и что они признают обязательным для себя, религиозным или нравственным законом. Ведь не для того же, чтобы обманывать друг друга, восхваляется среди них уже столько столетий и теперь с тысяч разных религиозных и светских кафедр проповедуется любовь друг к другу. Ведь давно пора бы людям решить, что любовь к ближнему выгодное, полезное и доброе дело, и на основании ее устроить свою жизнь или, признав, что любовь есть неосуществимая мечта, перестать говорить о ней. Но люди все не делают ни того, ни другого: они продолжают жить противно любви и продолжают восхвалять ее. Очевидно, они верят, что любовь возможна, желательна и свойственна им, но не могут осуществить ее. Отчего же это происходит?
Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли. Какие бы ни происходили внешние перемены в жизни людей, как ни проповедовали бы люди необходимость изменения чувств и поступков, жизнь людей не изменится до тех пор, пока не произойдет перемены в мысли. Но стоит произойти перемене в мысли, и рано или поздно, смотря по важности перемены, она произойдет в чувствах и в действиях и в жизни людей так же неизбежно, как произойдет поворот корабля после поворота руля.
С первых слов своей проповеди Христос не говорил людям: поступайте так или этак, имейте такие или иные чувства; но он говорил людям: μετανοεἰτε – одумайтесь, измените свое понимание жизни. Он не говорил людям: любите друг друга (это уже он говорил после своим ученикам, людям, понявшим его учение); но он говорил всем людям то же, что говорил его предшественник Иоанн Креститель: покайтесь, т. е. одумайтесь, измените свое понимание жизни, μετανοεἰτε – одумайтесь, иначе все погибнете, говорил он. Не может смысл вашей жизни состоять в том, чтобы каждый из вас искал отдельного блага своей личности или блага известной совокупности людей, говорил он, потому что благо это, приобретаемое в ущерб другим личностям, семьям, народам и ищущим того же и теми же средствами, очевидно не только не достижимо, но неизбежно должно привести вас к погибели. Поймите то, что смысл вашей жизни может быть только в исполнении воли того, кто послал вас в нее и требует от вас не служения вашим личным целям, а его цели, состоящей в установлении единения и любви между всеми тварями, в установлении царства небесного, когда перекуют мечи на сошники и копья на серпы и лев будет лежать с ягненком, как выражали это пророки. Измените ваше понимание жизни, иначе все погибнете, говорил он. Но люди не слушали Христа и не изменили своего понимания жизни тогда и до сих пор удержали его. И вот это ложное понимание жизни, удерживаемое людьми, несмотря на усложнение форм жизни и развитие сознания людей нашего времени, и составляет ту причину, по которой люди, понимая всю благодетельность любви, всю опасность жизни, противной ей, признавая ее законом своего бога или законом жизни, все-таки не могут следовать ей.
И в самом деле, какая же есть возможность человеку нашего мира, полагающему цель своей жизни в своем личном или семейном, или народном благе, добываемом только напряженною борьбой с другими людьми, стремящимися к тому же, среди учреждений мира, узаконивающих всякую борьбу и насилие, – действительно любить тех, которые всегда стоят ему на дороге и которых он должен неизбежно губить для достижения поставленных им для себя целей?
Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того же, чтобы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остановиться и обратить внимание на то, что ему нужно понять. Чтобы люди, с криком и грохотом колес несущиеся к пропасти, услыхали то, что им кричат те, которые хотят спасти их, им надо прежде всего остановиться. А то как же человек изменит свои мысли, свое понимание жизни, когда он, не переставая, будет с увлечением, да еще подгоняемый людьми, которые уверяют его, что это-то и нужно, работать на основании того самого ложного понимания жизни, которое ему нужно изменить?
Страдания людей, вытекающие из ложного понимания жизни, так назрели, благо, даваемое истинным пониманием жизни, так стало всем ясно и очевидно, что для того, чтобы люди изменили свою жизнь сообразно своему сознанию, им не нужно в наше время уже ничего предпринимать, ничего делать, а нужно только остановиться, перестать делать то, что они делают, сосредоточиться и подумать.
Люди нашего христианского мира находятся в том же положении, в котором находились бы люди, надрывающиеся над стягиванием с места легкой тяжести только потому, что они спеша не могут сговориться и не переставая тянут в противоположные стороны.
Если в прежнее время, когда еще не до такой степени выяснилась бедственность языческой жизни и благо, обещаемое любовью, люди могли бессознательно поддерживать рабство, угнетения, казни, войны и разумными доводами защищать свое положение, то в настоящее время это стало уже совершенно невозможно: люди нашего времени могут жить языческою жизнью, но уже не могут оправдывать ее. Людям нашего христианского мира стоит только на минуту остановиться в своей деятельности, обдумать свое положение, примерить требование своего разума и своего сердца к окружающим их условиям жизни, чтобы увидать, что вся жизнь их, все поступки их есть постоянное вопиющее противоречие с их совестью, разумом и сердцем.
Спросите отдельно каждого человека нашего времени о том, чем он руководится и считает нужным руководиться в своей жизни, и почти каждый скажет вам, что он руководится если не любовью, то справедливостью, – скажет вам, что для него лично, признающего или обязательность христианского учения, или нравственные светские принципы, основанные на том же христианстве, не нужны ни насилия, ни суды, ни казни, ни война и что подчиняется этим условиям жизни потому, что они нужны для других людей; спросите другого, третьего, и почти все скажут то же. И все они искренни. По свойству их сознания большинство людей нашего времени уже давно должны бы жить между собой, как христиане. Посмотрите, как они живут в действительности: они живут, как звери.
Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческою жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянною суетой людей, не дающей им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию.
Стоит людям перестать хоть только на время делать то, что им советует Золя и его мнимые противники, все те, которые под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок: перестать одурять себя ложными верованиями религии или науки и, главное, неустанным самодовольным трудом над делами, не оправдываемыми их совестью, и они тотчас же увидали бы, что смысл их жизни не может быть в очевидно обманчивом стремлении к одиночному, построенному на борьбе с другими, благу личному, семейному, народному или государственному; увидали бы, что единственный возможный, разумный смысл жизни есть тот, который уже 1800 лет тому назад был христианством открыт человечеству.
Пир уже давно готов, и уже давно все званы на него; но один купил землю, другой женится, третий пробует быков, четвертый строит железную дорогу, фабрику, занят миссионерством в Индии или Японии, читает проповеди, проводит билль «гомруля» или военного закона, или проваливает его, держит экзамен, пишет ученое сочинение, поэму, роман. Всем некогда, некогда очнуться, опомниться, оглянуться на себя и на мир и спросить себя: что я делаю? зачем? Ведь не может же быть того, чтобы та сила, которая произвела меня на свет с моими свойствами разума и любви, произвела меня с ними только затем, чтобы обмануть, только затем, чтобы я, вообразив себе, что для достижения наибольшего блага своей гибнущей личности я могу распоряжаться как хочу своей и другими жизнями, убедился, наконец, что чем больше я стараюсь делать всё это, тем хуже и мне, и семье, и народу, и тем дальше отступаю я и от требований любви и разума, вложенных в меня и ни на минуту не перестающих заявлять свои требования, и от истинного блага. Не может же быть того, чтобы эти высшие свойства моей души были присвоены мне только затем, чтобы они, как колодка на ногах пленника, мешали мне в достижении моих целей. И не вероятнее ли то, что сила, произведшая меня на свет, произвела меня с моим разумом и любовью не для моих случайных, мгновенных, всегда противных целям других существ, целей (чего она и не могла сделать, так как меня и моих целей не было еще, когда она производила меня), а для достижения своей цели, для содействия которой и даны мне эти основные свойства моей души. И потому не лучше ли мне, вместо того чтобы, упорствуя в следовании своей воле и воле других людей, противных этим высшим свойствам и приводящих меня к бедствиям, раз навсегда признав целью своей жизни исполнение воли пославшего меня во всем и всегда, несмотря ни на какие другие соображения, следовать только тем указаниям разума и любви, которые он вложил в меня для исполнения его воли?
Таково христианское понимание жизни, просящееся в душу каждого человека нашего времени. Для того, чтобы осуществилось царство божие, нужно, чтобы все люди начали любить друг друга без различия личностей, семей, народностей. Для того, чтобы люди могли так любить друг друга, нужно, чтобы изменилось их жизнепонимание. Для того, чтобы изменилось их жизнепонимание, нужно, чтобы они опомнились; а чтобы они могли опомниться, им нужно прежде всего остановиться хоть на время в той горячечной деятельности во имя дел, требуемых языческим пониманием жизни, которой они предаются; нужно хоть на время освободиться от того, что индейцы называют «сансара», от той суеты жизни, которая более всего другого мешает людям понять смысл их существования.
Бедственность жизни языческой и ясность и распространенность христианского сознания дошли в наше время до такой степени, что людям стоит только остановиться в своей суете, и они тотчас увидят бессмысленность своей деятельности, и христианское понимание само собой так же неизбежно, как неизбежно на морозе замерзает вода, как скоро перестать шевелить ее, сложится в их сознании. А стоит людям усвоить это жизнепонимание, и любовь их друг к другу, ко всем людям, ко всему живому, находящаяся теперь в них в скрытом состоянии, так же неизбежно проявится в их деятельности и станет двигателем всех их поступков, как теперь при языческом понимании жизни проявляется любовь к себе, к своей исключительной семье, исключительному народу.
А стоит проявиться этой любви христианской в людях, и сами собой, без малейшего усилия, распадутся старые и сложатся те новые формы благой жизни, отсутствие которых представляется людям главным препятствием к осуществлению того, чего уже давно требуют их разум и сердце.
Только бы люди одну сотую той энергии, которую они прилагают теперь к совершению различных материальных, ничем не оправданных и потому затемняющих их сознание дел, употребили на уяснение этого самого сознания и на исполнение того, чего оно требует от них, и гораздо скорее и проще, чем мы можем себе представить это, установилось бы то царство божие, которого он требует от людей, и люди нашли бы то благо, которое обещано им.
Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам.
Лев Толстой.
9 августа 1893 г.
Комментарии Н. В. Горбачева
«НЕДЕЛАНИЕ»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
В газете «Русские ведомости» от 12 мая 1893 г. (№ 128) была напечатана корреспонденция из Парижа: «Золя и студенчество (От нашего корреспондента)». В ней подробно излагалась речь Э. Золя на банкете студенческого союза. По поводу этой речи Толстой писал Д. А. Хилкову 15 мая 1893 г.: «Вчера читал в Рус[ских] Вед[омостях] речь Zola к студентам против проявляющегося в них расположения к мистицизму, как он называет религиозные течения в новой франц[узской] молодежи… И против этого он им рекомендует науку и труд, не объясняя того, что мы должны называть и признавать наукой, и, главное, какой труд».4
Вскоре Толстой получил от редактора французского журнала «La revue des revues» Эрнеста Смита две вырезки из французских газет. Одна из них содержала речь Э. Золя, другая – письмо Александра Дюма-сына к редактору газеты «Gaulois». «Я, окончив свое писанье,5 – сообщал Толстой А. Н. Дунаеву 7 июня 1893 г., – распрягся: статья о науке и искусстве, письмо Dumas в Gaulois, есть такое – превосходное письмо, кот[орое] мне прислали вместе с речью Зола, и об этом надо написать…»6 А 10 июня 1893 г. он писал сыну Льву Львовичу и дочери Марии Львовне: «…Теперь пишу о двух статьях Зола и Дюма, которые мне прислал редактор «Revue des Revues». Очень интересные письма о духе времени и о том, чем это кончится и что делать. Dumas говорит: «я думаю, что теперь наступает время, когда мы серьезно примемся исполнять слова: любите друг друга, не разбирая того, кто сказал их, бог или человек». В этом одном он видит выход из тех противоречий, в к[оторых] мы запутались. А Зола, напротив, очень глупое».7 В тот же день Толстой в Дневнике отметил, что начал статью «О письме Зола и Дюма»,8 а 18 июня 1893 г. сообщал П. И. Бирюкову, что статью кончил и она переписывается. 19 июня с уезжавшим из Ясной Поляны А. М. Кузминским Толстой отослал статью в Петербург некоему Вилло для перевода на французский язык (для французского журнала Жюля Симона «Revue de famille»).9
Одновременно Толстой намеревался напечатать «Неделание» и в России в журнале «Северный вестник». Издательница журнала Л. Я. Гуревич в письме от конца июня 1893 г. благодарила Толстого за обещание прислать статью и просила не задержать ее переделки, о которой ей говорил А. М. Кузминский.
Толстой не считал свою работу над статьей законченной. 27? июня он писал Г. Вилло, что посланная рукопись «находилась в плачевном состоянии», так как его торопили отправить статью с уезжавшим из Ясной Поляны А. М. Кузминским, просил прислать поскорее для просмотра рукопись и перевод. Толстой намерен был, наряду с общей доработкой статьи, «смягчить» имевшиеся в ней «резкости» в отношении Золя.10
Вилло ответил 29 июня (ГМТ), что, получив статью «Неделание», он спешно перевел ее и отослал в «Revue de famille», поэтому Толстому может послать лишь копию перевода.
Получив в начале июля 1893 г. от Вилло русский текст и перевод «Неделания», Толстой снова начал переделывать (и русский текст и французский) и закончил эту работу только 9 августа 1893 г.11
9 августа 1893 г. французский перевод «Неделания», после тщательной переработки Толстым, был возвращен в Петербург переводчику Вилло. В этот же день Толстой, посылая русский текст статьи в «Северный вестник», писал Л. Я. Гуревич: «Статья моя окончена, но она очень изменилась и не к лучшему в отношении цензурном. Не знаю, как вы с ней справитесь».12
В. Г. Чертков советовал Толстому печатать «Неделание» в журнале
Н. Я. Грота «Вопросы философии и психологии», полагая, что там она скорее будет разрешена цензурой. 9 августа 1893 г. Толстой обратился к Н. Я. Гроту с письмом, в котором сообщал, что статью «Неделание» он посылает в «Северный вестник», которому уже обещал ее, но просил Грота: «Если там усумнятся, то позвольте обратиться к вам»13.
При содействии А. Ф. Кони статья «Неделание» 28 августа 1893 г. получила цензурное разрешение и впервые была опубликована на русском языке в «Северном вестнике», 1893, № 9, стр. 281—304.
Редакция «Северного вестника», чтобы провести статью через цензуру, внесла в текст некоторые изменения: «подровняла кое-какие отдельные выражения».14
В письме от 13 сентября 1893 г. Л. Я. Гуревич обещала Т. Л. Толстой прислать корректурный оттиск «Неделания» «с приписками тех словечек, которые пришлось вынуть в угоду цензуре» (ГМТ). Этот оттиск в настоящее время хранится в яснополянской библиотеке. Цензурные поправки и пропуски в нем нанесены рукой Л. Я. Гуревич. Все они устранены в настоящем издании.
Перевод Вилло, переработанный Толстым, не был опубликован в «Revue de famille».
После публикации в «Северном вестнике» статья «Неделание», под заглавием «Le non agir», была напечатана в «Revue des revues», 1893, № 4 (октябрь).
5 октября 1893 г. Толстой записал в Дневнике: «…Revue des Revues напечатала скверный перевод Неделания, и это меня огорчило…»15 Плохой перевод вынудил Толстого обратиться в Париж к своему переводчику И. Д. Гальперину-Каминскому с просьбой опубликовать во французской печати заявление, что в «Revue des revues» он никакой статьи не посылал и что появившийся там перевод полон искажений. Заявление Толстого было напечатано в газете «Echo de Paris» 15/27 ноября. Директору журнала «La revue des revues» Жану Фино (Jean Finot), в ответ на его письмо от 29 ноября нов. ст. 1893 г., Толстой писал 10 декабря 1893 г.: «Что касается перевода, то, особенно дорожа тем, чтобы эта статья, которая отвечала мыслям, высказанным французскими писателями, была хорошо переведена, я сделал его сам и послал в редакцию «Revue de famille», поэтому я был очень поражен теми оплошностями и несообразностями, которыми полон перевод, появившийся в вашем журнале».16
По тексту «Северного вестника», но с незначительными изменениями, статья в 1894 г. была напечатана в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», часть тринадцатая, стр. 793—828. Издательству «Посредник» цензура запретила выпускать статью «Неделание» отдельной брошюрой.17 Впервые «Посредник» опубликовал статью в книге под заглавием: Л. Н. Толстой, «Произведения последних годов» (статьи, вошедшие в тринадцатую часть собрания сочинений), изд. для интеллигентных читателей, М. 1895. Только в 1907 г. статью «Неделание» «Посредник» напечатал отдельной брошюрой, которая потом переиздавалась им.
В настоящем издании статья «Неделание» печатается по тексту журнала «Северный вестник», № 9, с исправлением цензурных искажений (по оттиску Л. Я. Гуревич) и явных ошибок (по сохранившимся рукописям). Необходимо также отметить, что у Толстого в рукописи № 1, л. 1 (автограф), было: «Вот в полности речь Золя…» В последующих рукописях эта фраза переписывалась правильно. Но в рукописи № 15 неизвестной рукой слова «в полности» переправлены на «в полноте». Исправление это, очевидно, не было замечено Толстым и перешло в печатный текст. Однако, ввиду отсутствия наборной рукописи и корректуры «Неделания», исправление в эту фразу не вносится.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
1. Автограф. 3 лл. почтового формата и 1 л. в 4°. Черновая редакция статьи (неполная), без заглавия и без даты. Начало: «Редактор парижского журнала «Revue des revues» прислал мне…»; конец: «Дюма же говорит то, что он думает сам».
2. Копия (частично предыдущей рукописи) рукой Т. Л. Толстой, М. А. Шмидт и двух неизвестных переписчиков, с исправлениями и дополнениями Толстого. 32 лл. (22 лл. в 4°, 2 лл. почтового формата и 8 полос от четвертушек). Заглавия и даты нет. На последнем листе подпись: «Л. Т.». Начало: «Редактор парижского журнала «Revue desrevues» прислал мне…»; конец: «дает только христианство в его истинном, неизвращенном значении».
3. Копия (неполная) с несохранившейся рукописи рукой Т. Л. и М. Л. Толстых, П. П. Кандидова, с исправлениями Толстого. 27 лл. в 4° (из них 2 лл. чистые) и 1 полоса от четвертушки. На последнем листе подпись: «Лев Толстой». На обложке надпись В. Г. Черткова: «Черновые статьи по поводу Зола и Дюма». Начало: «Редактору парижского журнала…»; конец: «христианство в его истинном, неизвращенном значении».
4. Копия предыдущей рукописи неизвестной рукой, с авторскими исправлениями, без заглавия и без даты. 7 лл. F° и две полосы разной величины. Начало: «Редактор парижского журнала…»; конец: «только любить друг друга».
5. Копия части предыдущей рукописи рукой М. А. Шмидт, Т. Л. и М. Л. Толстых, П. П. Кандидова и Е. И. Попова, с авторскими исправлениями и дополнениями. 12 лл. в 4° и 7 полос от четвертушек. На обложке надпись В. Г. Черткова: «Черновые Неделания». Начало: «Редактор парижского журнала…»; конец: «они губят себя».
6. Копия части рукописей №№ 4 и 5 рукой Е. И. Попова, П. И. Бирюкова, П. П. Кандидова, М. А. Шмидт, М. Л. Толстой и С. А. Толстой, с исправлениями Толстого. На последнем листе подпись и дата рукой Толстого: «Л. Т. 12 июля [1893]». 40 лл. в 4° и 6 полос от четвертушек. Начало: «Редактор парижского журнала…»; конец: «величайшая революция в жизни человечества».
7. Копия (разрозненная, без начала) рукой М. Л. Толстой, В. Г. Черткова, Н. П. Кандидова и неизвестного, с исправлениями Толстого, с подписью и датой на последнем листе, перенесенными переписчиком из несохранившейся рукописи: «Лев Толстой. 28 июля 1893 г.». 12 лл. в 4° и 13 полос от четвертушек. Начало: «личное, семейное или народное материальное благо…»; конец: «и остальное приложится вам».
8—16. Рукописи содержат разрозненные черновые материалы, переписанные рукой Т. Л. и М. Л. Толстых, В. Г. Черткова, М. А. Шмидт, Е. И. Попова, П. П. Кандидова, В. С. Толстой, В. А. Кузминской и неустановленных; исправления и дополнения рукой Толстого.
На последнем листе рукописи № 12 подпись (инициалами) и дата рукой Толстого: «Л. Т. 8 августа [1893]». В рукописи № 14 на обложках рукой В. Г. Черткова поставлены даты, свидетельствующие о времени работы Толстого над статьей: «24, 25, 26, 27, 30 июля 1893 г.». Рукопись № 15 – неполная копия статьи, без авторских исправлений. Рукопись № 16, с надписью на первом листе рукой Толстого: «Письмо Дюма» – копия рукой E. И. Попова, без авторских исправлений.
В рукописях – 129 лл. в 4°, 4 лл. почтового формата, 1 л. в 8°, 46 полос разной величины. Начало рукописи № 8: «мне, вместо того, чтобы упорствуя в следовании своей воле…»; конец рукописи № 16: «пожелаем, чтобы это совершилось».
17. Копия (неполная) рукой М. А. Шмидт, М. Л. Толстой и неустановленного, с исправлениями Толстого. 23 лл. в 4°. На первом листе заглавие статьи: «Неделание», перенесенное переписчицей из недошедшей рукописи. На последнем листе дата: «8 августа 1893», перенесенная переписчиком из рукописи, от которой сохранились лишь частичные материалы (см. опис. рук. №№ 8—16). Дата «8 августа 1893 г.» Толстым зачеркнута и поставлено: «9 августа. Л. Т.» Начало: «Редактор парижского журнала»; конец: «а остальное приложится вам».
18. Копия (неполная) с предыдущей рукописи рукой Е. И. Попова, В. Г. Черткова, А. П. Иванова и неустановленных, с исправлениями Толстого. 45 лл. в 4° (некоторые с наклейками). На последнем листе подпись и дата, перенесенные А. П. Ивановым из предыдущей рукописи: «9 августа 1893 г. Л. Толстой». Начало: «Г-н Золя не одобряет…»; конец: «а остальное приложится вам».
19—21. Рукописи, содержащие разрозненные черновые материалы французского перевода статьи «Неделание», переписаны рукой неустановленных, С. А. Толстой, Т. Л. и М. Л. Толстых, с исправлениями и дополнениями Толстого. 34 лл. в 4° (некоторые с наклейками) и 25 полос от четвертушек. Начало рукописи № 19: «Duma. La grande différence…»: конец рукописи № 21: «de nos malheureux fréres. Léon Tolstoy. 15/27 Juillet 1893».
22. Механическая копия статьи на французском языке, с исправлениями Толстого. На первом листе заглавие статьи, перенесенное из недошедшей рукописи: «Du mouvement des idées dans les écoles en France». 16 лл. F°. Начало: «Le rédacteur d’une Revue parisienne…»; конец: «non altèrée du Christ».
23. Копия статьи на французском языке рукой неизвестных, С. А. Толстой и М. Л. Толстой, с исправлениями и с большими дополнениями Толстого. На первом листе заглавие, перенесенное переписчиком из недошедшей рукописи: «Du mouvement des idées dans les écoles en France». 29 лл. в 4° и 11 полос от четвертушек. Начало: «Le rédacteur d’une Revue parisienne…»; конец: «pour mieux voire leur chemin».
24. Копия рукой неустановленного и С. A. Толстой на французском языке из разрозненных черновых материалов статьи. 2 лл. в 4°. Начало: «ils ont vécu…»; конец: «les guerres Napoléoniennes de ne…»
25. Копия с рукописи № 23 рукой С. А. Толстой, T. Л. Толстой и неустановленных, с авторскими исправлениями. На первом листе заглавие статьи: «Du mouvement des idées dans les écoles en France» переправлено Толстым на: «Le travail et l’amour. Arretez vous. Le non agir». На последнем листе подпись и дата Толстого: «Léon Tolstoy. 15/27 Juillet 1893». 38 лл. в 4° (1 л. чистый) и 2 полосы от четвертушек, заключенных в обложку с надписью рукой В. Г. Черткова: «Черновые французской статьи по поводу Зола и Дюма». Начало: «Le rédacteur de la Revue des revues…»; конец: «de nos malheureux fréres».
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891—1894 годы. Среди них – рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идейная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891—1893 годы голодом.
Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности… С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой… Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться»18.
1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен»19.
Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»20. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891—1894 годов.
I
В творчестве Толстого 1891—1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.
Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.
Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом… Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».
Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.
Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет»21. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.
Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых»22, как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».
Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.
В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб – нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещичьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.
Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «…Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»23, – пишет он в это время H. Н. Ге.
Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.
Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна – это статьи «О голоде»24, «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?»25. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.
Другая группа – это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.
В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»26.
Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России. Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все им, не, могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»27.
В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, – пишет Толстой, – всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи – господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».
Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возвратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство28. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью поставленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.
Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа – не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».
Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891—1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.
Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».
90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»29.
В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891—1892 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»: «…полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает – и подозревает совершенно справедливо, – что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезывают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д. »30.
В статье «Голод или не голод?», относящейся к 1898 году, Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без особого обсуждения вопроса о каждой новой столовой с земским начальником. Кроме того, без санкции губернатора запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых. Практически все это означало полное запрещение помощи голодающему народу. «Так что, – пишет Толстой, – несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным».
Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами» – помещиками и «батюшкой» царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается… Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».
И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «…Нужно, не говорю уже уважать, – пишет он, – а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании – разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян».
Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отражали интересы миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства объясняется тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.
Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключается в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром цензура запретила печатание статьи «О голоде» и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушилась на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде».
«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого. «Письма Толстого… являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, – писала газета. – Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков»31.
Газетам было приказано не перепечатывать статьи из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления»32.
Враждебно была встречена правительственными кругами и вторая статья Толстого о голоде – «Страшный вопрос». За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Московские ведомости» предупреждение, как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1896 году за границей.
Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого-обличителя. Сознавая свою глубокую правоту защитника угнетенного многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» в реакционной печати и правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет… То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного я честного во всем мире»33.
II
Социальные противоречия русской жизни, особенно резко обозначившиеся во время голода 1891—1892 годов, определили идейное содержание и художественных произведений Толстого. Изображение контраста жизни народа и господ становится основной темой его творчества в 90-е годы. Это относится к таким произведениям, как рассказы «Кто прав?» (1891) и «Хозяин и работник» (1894—1895), вошедшим в настоящий том, и особенно к роману «Воскресение», который был задуман и начат в конце 80-х годов, но в основном создавался в 1895—1899 годы, под непосредственным впечатлением того, что наблюдал Толстой во время голода 1891—1892 и 1898 годов.
Рассказ «Кто прав?» Толстой начал писать вскоре по приезде в Бегичевку. Страшные картины, резкие контрасты, которые писателю приходилось наблюдать во время голода, определили содержание рассказа. Все персонажи, сцены, диалоги даются в рассказе в резком социальном противопоставлении. Оборванная женщина с сумой, в разбитых лаптях, и барыня, восхищающаяся своими заграничными туфлями. Замученный нищий мужик, продающий последнего барана, чтобы купить детям хлеб, и сытые тунеядцы, развлекающиеся светской болтовней, флиртом и планами предстоящей охоты. Через весь рассказ проходит мысль о глубоком отчуждении господ от народа, о полном их равнодушии к его нуждам и интересам.
Рассказ не был закончен. Судя по эпиграфу и по тому, что в Дневнике Толстой называет его постоянно «О детях», писатель хотел поставить в рассказе вопрос: кто прав – дети, которые забывают о том, что они «господа», беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести все к расчетливой и «приличной» благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о «меньшом брате». Когда С. А. Толстая, прочитав начало рассказа, писала: «Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты, видно, хочешь, чтоб виноватых не было»34, Толстой отвечал: «Ты не угадала… к чему клонит»35. Несомненно, что писатель намеревался ввести в рассказ мотив «виновности» господ.
В 1895 году, обратившись к рассказу «Кто прав?», Толстой решил коренным образом переделать его. Он пришел к выводу, что конфликт детей и родителей – не столь значителен по сравнению с основным конфликтом эпохи – между истощенными от голода, крестьянами и живущими в роскоши и довольстве паразитическими классами. «…Ясно понял, отчего у меня не идет Воскресенье. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ О детях – Кто прав, – записывает Толстой в Дневнике, – я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное»36. Вероятно потому, что картина тяжкого положения народа была во всей полноте развернута в «Воскресении», Толстой, увлекшись работой над романом, оставил мысль о переделке рассказа «Кто прав?».
Зимой 1891/92 года в Бегичевке был задуман и рассказ «Хозяин и работник»37.
Знание народной жизни, деревенского быта позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Трезвый и зоркий наблюдатель жизни русской деревни, Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки». Рабство капиталистическое ложится на плечи трудового народа еще более тяжким бременем, чем крепостное право. Об этом ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника», записал в Дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками в Европе, у нас бечевками. Прежде было рабство – цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть»38.
Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю». И забитый, приученный рабской жизнью к терпению крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, «что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». А другого места нет; да и хозяева всегда и везде одинаковы.
Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.
Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. В рассказе много раз подчеркивается, что он работает весело, охотно, бодро. У него «добрый, приятный характер»; в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин – грубый, самодовольный и неумный человек.
В дороге Брехунов занят мыслью о предстоящей выгодной покупке, о барышничестве и пытается уговорить Никиту купить никуда негодную лошадь.
В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и решительно, и хозяин подчиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».
Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытые благовидной маской: «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябинина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее и циничнее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, с точки зрения интересов многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смиренного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.
Но, как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с «юродивой проповедью «непротивления злу» насилием»39.
Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность – естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.
Центральным является в рассказе заключительный эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее реальности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна… потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать». Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.
Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Писателю-моралисту, проповеднику теории нравственного «просветления», было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была, по мнению Толстого, главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи. Толстой особенно много трудился именно над этими последними главами рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умилительное чудо40.
По мере работы над рассказом все резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие «трезвого реализма» первой части рассказа и надуманности, неубедительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать этого противоречия. Стремясь его смягчить, он в одном из последующих вариантов мотивирует «просветление» Брехунова уже не мгновенным божественным озарением, а гуманным побуждением – желанием спасти замерзающего Никиту. Но добрые чувства были настолько чужды всему облику Брехунова, что и в такой трактовке финал рассказа продолжал звучать неубедительно.
В окончательной редакции Толстой приближается к реалистическому толкованию этого эпизода. Брехунов спасает Никиту, движимый в большой мере эгоистическим чувством самосохранения. Но в описании последних минут жизни Брехунова писатель попрежнему сохраняет торжественно мистический элемент (фантастический сон, божественный голос), нарушающий реалистическую ткань повествования. В угоду своей идеалистической и реакционной идее о том, что человек, познавший бога и христианскую любовь, способен преодолеть свою социальную природу и стать для бедняка «братом во Христе», писатель рисует смерть Брехунова как акт нравственного перерождения.
Брехунов, как и все «прозревшие» герои Толстого, умирает, не переступив порога новой жизни. Изображение дальнейшей жизни этих людей не могло не обнаружить мнимости их перерождения, показало бы победу собственнических отношений над иллюзорной верой писателя, вскрыло всю наивность и неосновательность его социально-философской концепции41.
В рассказе «Хозяин и работник» отчетливо проявляются характерные черты художественной манеры позднего Толстого.
Обыкновенного, заурядного человека писатель исключает из обыденно-прозаической действительности и ставит его в такое положение, которое дает ему возможность увидеть себя и свою жизнь в новом свете. (Неожиданная мучительная и смертельная болезнь чиновника Ивана Ильича, убийство добропорядочным дворянином Позднышевым своей жены, смерть в лесу замерзающего купца Брехунова.) Такая нарочитая драматизация ситуации позволяет Толстому с особой силой и глубиной сорвать «все и всяческие маски» с традиционных, установившихся общественных и личных отношений.
В то же время «исключительное положение» героя нужно Толстому для утверждения, что спасение от противоречий реальной жизни, от социального зла – в нравственном просветлении.
Одна из особенностей таланта Толстого – способность к тонкому психологическому анализу, умение раскрыть «диалектику души». Однако психологический анализ в поздних произведениях Толстого отличается большим своеобразием.
Психический процесс интересует теперь писателя лишь в том случае, если он является следствием душевной неудовлетворенности, борьбы, сомнений, ведущих к коренному перелому взглядов, представлений, поведения героя. Катастрофа, драматическое событие, благодаря которым начинается нравственное просветление героя, становится необходимым, центральным элементом сюжета. Именно поэтому в «Хозяине и работнике» психологический анализ сосредоточен на самом главном, с точки зрения автора, «переломном» эпизоде – последних мгновениях жизни Брехунова.
Повторение характерной детали, свойственное художественной манере Толстого, широко используется в «Хозяине и работнике» как средство типизации характера, выразительности портрета, речи персонажа, психического состояния, явления природы и т. д.
Описание метели, например, достигает необычайно сильного эмоционального впечатления благодаря повторяющемуся упоминанию об отчаянно треплющемся на ветру замерзшем белье, страшно гудевших лозинах, одиноком чернобыльнике.
Постоянно упоминаются в рассказе выпуклые, ястребиные глаза Брехунова, легкая, бодрая походка «гусем ступающих ног» Никиты; в речи Брехунова повторяются слова: «мы по чести», в речи Никиты – «душа милая», являясь примером поразительного умения Толстого удачно найденной деталью раскрывать существенные черты человеческой индивидуальности.
Среди других художественных произведений, вошедших в настоящий том, наибольший интерес представляет незаконченная повесть «Мать» (1891). Замысел ее связан с обострившимся в конце 80-х годов интересом Толстого к проблеме семьи и воспитания детей, которая была поставлена им как часть большого, общего вопроса – о порочности социальных и этических основ буржуазно-дворянского общества. В произведениях на эту тему, прежде всего в «Крейцеровой сонате» (1887—1889), писатель беспощадно обличал паразитическую и аморальную жизнь господствующих классов.
«Мать» – далеко не завершенное произведение, но и в известных нам отрывках начала повести отчетливо видно стремление Толстого показать, что среди привилегированных классов, где отношения между людьми проникнуты лицемерием и обманом, а дети воспитываются в условиях роскоши и праздности, не может быть хорошей семьи, «нет… честного брака».42 Мужу героини повести Толстой намерен был противопоставить самоотверженного труженика – учителя Петра Никифоровича. Петр Никифорович и был единственным человеком, имевшим благотворное влияние на детей.
Мысль о том, что «нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему»43, то есть живущему в праздности, чужим трудом, – определяет идейное содержание повести «Мать», как и большинства произведений Толстого 80—90-х годов. Однако разрешение этого глубокого социального вопроса Толстой видит лишь в следовании отвлеченным «истинам» морали и религии. Именно поэтому в образе Петра Никифоровича, воплощающем его положительный идеал, писатель подчеркивает и поэтизирует прежде всего высокие «христианские» качества: суровый аскетизм, пренебрежение материальными благами, полное самоотречение.
III
Для характеристики эстетических взглядов Толстого в рассматриваемый период большой интерес представляет «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова». Как и в других статьях 80—90-х годов об искусстве, Толстой утверждает в этом предисловии, что искусство должно быть поставлено на службу интересам народа, быть доступным широким народным массам. В период, когда писалось предисловие к рассказам Семенова, Толстой все больше и больше убеждается в том, что подлинная цель искусства – изображать жизнь трудящегося народа, что единственный читатель, для которого можно трудиться с увлечением и с пользой, – это читатель из народа. «Не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей, – пишет он в 1895 году дочери Марии Львовне. – А если подумаю, что пишу для Афанасьев и… для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать»44.
С особенным вниманием и любовью относится в это время Толстой к сочинениям писателей из крестьян – С. Т. Семенова, Ф. А. Желтова, Ф. Ф. Тищенко и др. Он заботится об издании их произведений в «Посреднике», в различных журналах и сборниках, дает им советы и указания. Под непосредственным влиянием Толстого создавались реалистические произведения этих писателей, проникнутые любовью к народу и основанные на знании жизни народа. С другой стороны, не без влияния и поддержки Толстого утверждались в их творчестве и религиозно-моралистические тенденции, обусловленные принципом «описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия…»45
С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 году, когда принес ему «на суд» первое свое произведение – рассказ «Два брата». Толстой одобрил рассказ, и вскоре он был напечатан в издательстве «Посредник». С тех пор Семенов часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне, вел с ним переписку. Толстой принимал живейшее участие в литературной работе Семенова, высоко ценил его литературное дарование, знание и правдивое изображение им крестьянской жизни.
В 1894 году к первому сборнику рассказов Семенова Толстой написал предисловие. Давая оценку «Крестьянским рассказам», Толстой отмечает, что их содержание «всегда значительно… оно касается самого значительного сословия России – крестьянства». Большим достоинством произведений Семенова он считает правдивость, искренность, простоту художественной формы, народность языка, яркость речевых характеристик персонажей. Все это и определяет, по мнению Толстого, силу воздействия этих рассказов на читателя.
С другой стороны, всецело в духе своего религиозно-нравственного учения, Толстой утверждает, что главное в художественном произведении и, в частности, в рассказах Семенова – оценка автором поведения героев с точки зрения «идеала христианской истины». Справедливо требуя от художника не только изображать, но и оценивать людей, их поступки, Толстой считает отвлеченную «христианскую истину» основным критерием этой оценки.
Предисловие к «Крестьянским рассказам» было написано в пору напряженного интереса Толстого к эстетическим вопросам. Как и в ряде статей 1889—1891 годов и в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана»46, Толстой в предисловии к рассказам Семенова утверждает те принципы искусства, которые были обоснованы им позднее в трактате «Что такое искусство?». Беспощадное отрицание лжеискусства, являющегося праздной забавой эксплуататорских классов, оправдывающего их привилегированное положение, и утверждение искусства, которое ставило бы своей целью служить интересам народа, составляют содержание этих статей. Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейски-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в этой мечте Толстого о народном искусстве.
IV
По мере приближения революции 1905 года, обострения в России социальных противоречий у Толстого все чаще возникали сомнения относительно возможности переустройства жизни на основе непротивления и нравственного совершенствования, и он приходил к справедливому выводу, что «господ… ничем не проберешь». Несмотря на это, он настойчиво, до последних дней своей жизни, проповедовал свои «рецепты спасения человечества». В наибольшей мере слабые стороны взглядов Толстого проявились в таких статьях, помещенных в настоящем томе, как «Первая ступень», «Неделание», «Предисловие к дневнику Амиеля».
Содержащаяся в «Первой ступени» критика господ, у которых весь интерес жизни состоит в «жранье», критика, напоминающая обличительные страницы «Плодов просвещения», является в статье второстепенным моментом по сравнению с проповедью вегетарианства – «первой ступени», по мнению Толстого, на пути к «истинному христианству».
Статья «Неделание» (1893) посвящена разбору речи Э. Золя «Юношеству» и письма А. Дюма-сына редактору французской газеты «Голуа». Речь Золя была направлена против распространившегося в конце прошлого века среди буржуазно-дворянской интеллигенции увлечения мистицизмом и фидеизмом. Предостерегая молодежь от этого увлечения, Золя призывал их верить в науку и труд, которые дают, по словам Золя, смысл жизни и служат залогом ее неуклонного совершенствования. Идеалист Дюма, отвечая на статью Золя, напротив, все свои упования возлагал на «христианскую веру», которая якобы объединит всех людей в стремлении к братской любви, избавит их от существующего зла и несправедливости.
Известно, какое конкретно-историческое содержание заключено в призыве Золя верить в науку и труд. Трезвый наблюдатель капиталистического общества, писатель-реалист, беспощадно разоблачавший пороки этого общества, Золя вместе с тем сам не был свободен от буржуазных предрассудков. Его представления о борьбе за справедливый социальный строй сводились, в конечном счете, к программе буржуазного реформизма.
Оценивая все события современной ему жизни с точки зрения интересов многомиллионного патриархального крестьянства, Толстой зорко подметил уязвимые места речи Золя. Он справедливо протестует против отвлеченной постановки вопроса о науке и труде, так как знает, что в буржуазном обществе труд служит, главным образом, обогащению эксплуататоров за счет эксплуатируемых, а буржуазная наука – оправданию существующего строя. «Пусть каждый усердно работает. Но что? – спрашивает Толстой. – Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?»
Однако то, что противопоставляет Толстой призывам Золя, свидетельствует о его собственном бессилии указать подлинные пути изменения жизни. Соглашаясь с А. Дюма, Толстой надеется, что достаточно людям постигнуть евангельскую «истину» о «неделании» (не делай того другим, чего не хочешь, чтобы сделали тебе), как мир преобразуется сам собой. Мечтая о «коллективистическом складе жизни», Толстой высказывает утопическую и реакционную идею, что имущие слои общества способны осознать свой «грех», раскаяться и признать «обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека». Так статья «Неделание» еще раз доказывает, что Толстой не сумел найти подлинный выход из противоречий современной ему действительности. Его «рецепты спасения человечества» не могут быть оценены иначе, как заблуждения, отражающие «незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»47 патриархального крестьянства в период подготовки и проведения первой революции в России.
–
В идейном содержании помещенных в настоящем томе произведений Толстого со всей отчетливостью проявились острые противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе непротивления бедных и добровольного отказа собственников от своих привилегий; разоблачение подлой морали грабителей народа – с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» – с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность и всесилие «христианской любви».
Но при всех свойственных ему «кричащих противоречиях» Толстой выступает в 90-е годы как непреклонный и смелый обличитель помещичье-капиталистического строя, защитник интересов трудящихся масс. «Безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов»48 своего времени свидетельствует о его страстном интересе к народной жизни, о его высоком понимании писательского долга.
Л. Опулъская
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.
Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.
Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.
Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.
В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.
Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.
Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.
После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.
На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.
Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.
Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.
Авторские скобки обозначены круглыми скобками.
Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.
Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.
Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что текст печатается впервые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.
Иллюстрации
Автотипия: Л. Н. Толстой составляет списки нуждающихся крестьян. 1892 г. Фотография. Между IV и V стр.
1
[ссоры влюбленных,]
(обратно)2
[Неутомимый труд всё побеждает.]
(обратно)3
[«Дама с камелиями», «Дело Клемансо»]
(обратно)4
Т. 66, стр. 325—326.
(обратно)5
«Царство божие внутри вас».
(обратно)6
Т. 66, стр. 350.
(обратно)7
Там же, стр. 351.
(обратно)8
Т. 52, стр. 85.
(обратно)9
См. Дневник Толстого от 21 июня 1893 г. (т. 52, стр. 86) и письма к В. Г. Черткову от 22 июня 1893 г. (т. 87, стр. 204) и Л. Л. Толстому от 23…25 июня 1893 г. (т. 66, стр. 358).
(обратно)10
Письмо к В. Г. Черткову от 1 июля 1893 г. – т. 87, стр. 208.
(обратно)11
См. «Описание рукописей», письма Толстого к H. H. Страхову от 13 июля 1893 г. (т. 66), к жене от 13, 15 и 17 июля 1893 г. (т. 84), В. Г. Черткову от 20 июля 1893 г. (т. 87) и в Дневнике запись от 18 июля 1893 г. (т. 52).
(обратно)12
Т. 66, стр. 380.
(обратно)13
Там же, стр. 382.
(обратно)14
Письмо Л. Я. Гуревич к Толстому от 7 сентября 1893 г. (ГМТ).
(обратно)15
Т. 52, стр. 103.
(обратно)16
Т. 66, стр. 442.
(обратно)17
См. цензурное запрещение статьи Л. Н. Толстого «Неделание» от 16 октября 1893 г. за № 1862 (ГМТ).
(обратно)18
В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66—67.
(обратно)19
Т. 66, стр. 224.
(обратно)20
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293—294.
(обратно)21
T. 52, стр. 43.
(обратно)22
Письмо к Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. – т. 66, стр. 12.
(обратно)23
Т. 66, стр. 81.
(обратно)24
Газета «Московские ведомости», перепечатав в 1892 году отрывок из этой статьи в переводе с английской публикации, назвала ее «Письма о голоде», очевидно приняв статью за цикл писем, посланных Толстым в иностранные газеты. Под этим произвольным названием статья перепечатывалась в последующих изданиях. В настоящем томе восстанавливается подлинное название статьи.
(обратно)25
Статья «Голод или не голод?» была написана в 1898 году, когда в России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891—1893 годах, принимал участие в помощи голодающим. Она чрезвычайно тесно связана тематически со статьями о голоде 1891—1893 годов, поэтому помещается в настоящем томе.
(обратно)26
В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.
(обратно)27
В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.
(обратно)28
Несомненно, что в непосредственной связи с мыслями и переживаниями Толстого во время голода находится тот факт, что он принялся в 1894 году, после длительного перерыва, за обработку легенды о Петре Хлeбнике.
(обратно)29
В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 231.
(обратно)30
В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 216—217.
(обратно)31
В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М. – Л. 1934, стр. 261.
(обратно)32
Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, М. – Л. 1936, стр. 465.
(обратно)33
T. 84, стр. 128.
(обратно)34
C. A. Толстая, Письма к Л. H. Толстому, M. – Л. 1936, стр. 468.
(обратно)35
Т. 84, стр. 104.
(обратно)36
Т. 53, стр. 69.
(обратно)37
См. в наст. томе историю писания и печатания «Хозяина и работника».
(обратно)38
Т. 53, стр. 317.
(обратно)39
В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.
(обратно)40
См. наст. том, стр. 304.
(обратно)41
Ярким доказательством этого служит творческая история романа «Воскресение». В конце романа Толстой приводит Нехлюдова, как и Брехунова, к нравственному «воскресению» и заявляет, что с этого момента началась у Нехлюдова иная, новая жизнь. Однако позднее, когда Толстой задумал продолжение «Воскресения» – о «крестьянской жизни» Нехлюдова, он так наметил в Дневнике 1904 года план этой своей работы: «…Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины» (т. 55, стр. 66).
(обратно)42
Из письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову от 24 апреля 1890 г. – т. 87, стр. 24.
(обратно)43
Т. 51, стр. 57.
(обратно)44
Т. 68.
(обратно)45
Л. Н. Толстой, «Предисловие к сборнику «Цветник» – т. 26, стр. 308.
(обратно)46
См. т. 30.
(обратно)47
В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.
(обратно)48
Там же, т. 16, стр. 296.
(обратно)
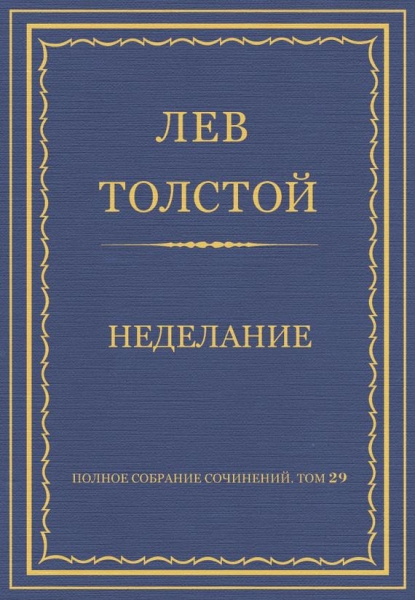


Комментарии к книге «Неделание», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев